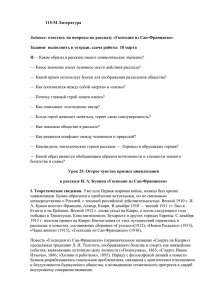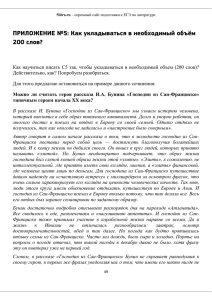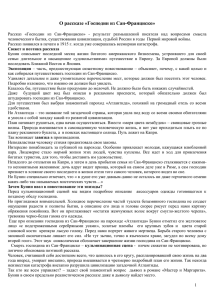И.А. Бунин «Господин из Сан
реклама
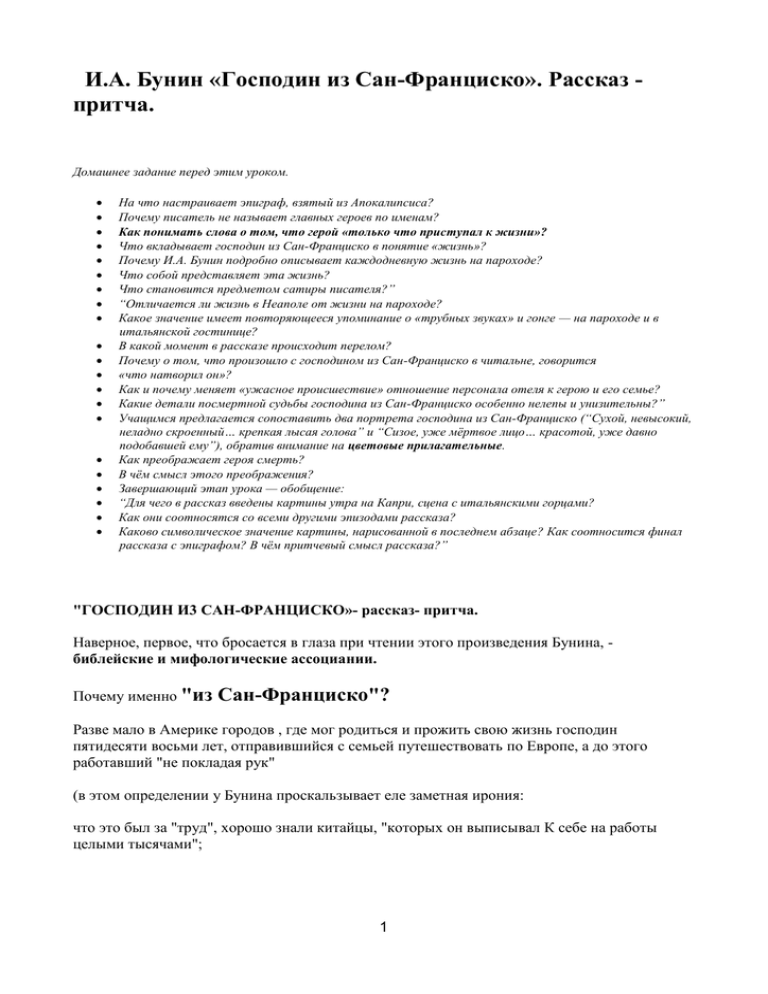
И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Рассказ притча. Домашнее задание перед этим уроком. На что настраивает эпиграф, взятый из Апокалипсиса? Почему писатель не называет главных героев по именам? Как понимать слова о том, что герой «только что приступал к жизни»? Что вкладывает господин из Сан-Франциско в понятие «жизнь»? Почему И.А. Бунин подробно описывает каждодневную жизнь на пароходе? Что собой представляет эта жизнь? Что становится предметом сатиры писателя?” “Отличается ли жизнь в Неаполе от жизни на пароходе? Какое значение имеет повторяющееся упоминание о «трубных звуках» и гонге — на пароходе и в итальянской гостинице? В какой момент в рассказе происходит перелом? Почему о том, что произошло с господином из Сан-Франциско в читальне, говорится «что натворил он»? Как и почему меняет «ужасное происшествие» отношение персонала отеля к герою и его семье? Какие детали посмертной судьбы господина из Сан-Франциско особенно нелепы и унизительны?” Учащимся предлагается сопоставить два портрета господина из Сан-Франциско (“Сухой, невысокий, неладно скроенный… крепкая лысая голова” и “Сизое, уже мёртвое лицо… красотой, уже давно подобавшей ему”), обратив внимание на цветовые прилагательные. Как преображает героя смерть? В чём смысл этого преображения? Завершающий этап урока — обобщение: “Для чего в рассказ введены картины утра на Капри, сцена с итальянскими горцами? Как они соотносятся со всеми другими эпизодами рассказа? Каково символическое значение картины, нарисованной в последнем абзаце? Как соотносится финал рассказа с эпиграфом? В чём притчевый смысл рассказа?” "ГОСПОДИН И3 САН-ФРАНЦИСКО»- рассказ- притча. Наверное, первое, что бросается в глаза при чтении этого произведения Бунина, библейские и мифологические ассоциании. Почему именно "из Сан-Франциско"? Разве мало в Америке городов , где мог родиться и прожить свою жизнь господин пятидесяти восьми лет, отправившийся с семьей путешествовать по Европе, а до этого работавший "не покладая рук" (в этом определении у Бунина проскальзывает еле заметная ирония: что это был за "труд", хорошо знали китайцы, "которых он выписывал К себе на работы целыми тысячами"; 1 другой автор написал бы "( о работе, а об "эксплуатации", но Бунин - тонкий стилист предпочитает, чтобы читатель сам догадался о характере этого "труда"!): Не потому ли, что город назван так в честь известного христианского святого Франциска Ассизского, проповедовавшего крайнюю бедность, аскетизм, отказ от любой собственности? Не становится ли таким образом очевиднее по контрасту с его бедностью неуемное желание безымянного господина (следовательно, одного из многих) наслаждаться всем в жизни, причем наслаждаться агрессивно, упорно, в полной уверенности, что он имеет полное на это право? Как замечает писатель, господина из Сан-Франциско постоянно сопровождала "толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять" его. И "так было всюду ... ". И господин из Сан-Франциско твердо убежден, что так должно было быть всегда. Имя героя Начнём с героя. “Господин из Сан-Франциско” — так представлен он в заглавии, так будут называть и воспринимать его окружающие, под этим знаком он запечалится и в памяти читателя. А почему? Почему вместо имени — опосредованное определение Вынесенное в заглавие и многократно повторённое в рассказе, оно поначалу воспринимается как нейтральная формула, условно-дистанцированное обозначение главного героя. Но если разложить эту формулу на составляющие и вдуматься в их изначальный смысл, то обнаружится её скрытый оценочный характер. В слове “господин” в данном случае зафиксирована вполне определённая социальная роль: 2 герой “был богат” и принадлежал к избранному кругу людей, которые “имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет”; он мог себе позволить отправиться в путешествие “на целых два года, с женой и дочерью, единственно ради удовольствия”. Иными словами, “господин из Сан-Франциско” — хозяин положения, хозяин жизни. К тому же он “господин из Сан-Франциско” — и в его развлекательной поездке в “Старый Свет” есть нечто снисходительно-покровительственное по отношению к этому Старому Свету. Таким образом, господин из Сан-Франциско — это уже характеристика, как характеристикой является тот многозначительный факт, что “имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил”. Тут же возникают вопросы: почему никто не запомнил имени? из-за безликости, бесцветности, невыразительности самого героя? а может быть, всё дело в равнодушии тех, с кем его сводила судьба, в том, что для них он был всего лишь один из выгодных клиентов-богачей, и только? (равнодушие было взаимным) Между прочим, ясной и простой кажется жизнь и самому герою: “Он был твёрдо уверен, что имеет полное право на отдых”, что заслуживает вознаграждения “за годы труда” и что может наконец позволить себе расслабиться и пуститься в путешествие — “единственно ради развлечения”. Во всём этом нет ничего примечательного или предосудительного, но самонадеянная уверенность героя в том, что жизнь пойдёт намеченным курсом, несколько настораживает, так как от неё явно, хотя и очень деликатно, отмежёвывается автор: “И всё пошло сперва прекрасно!” Сперва… 3 Надо сказать, наш герой в своей самоуверенности не одинок. Он и в этом типичен. Как типична его жена, твёрдо знающая, что “все пожилые американки — страстные путешественницы”, и готовая доказать это на собственном примере, хотя вообще-то она “никогда не отличалась особой впечатлительностью”. Что касается остальных пассажиров роскошной «Атлантиды», на которой семья господина из Сан-Франциско совершает переезд из Нового в Старый Свет, то все они поданы исключительно как исполнители раз и навсегда закреплённых за ними социальных ролей: “великий богач”, “знаменитый испанский писатель”, “всесветная красавица”, “принц” — всё это, в сущности, такие же амплуа, как “изящная влюблённая пара”, нанятая “играть в любовь за хорошие деньги”. Счастливые избранники судьбы, пассажиры «Атлантиды» предстают перед читателем не как личности, а как “функции”, а лица их так надёжно скрыты под масками, что, похоже, срослись с ними намертво. Поэтому и в облике, в портретной характеристике героев фиксируется преимущественно типическое. Внешность “Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживлённый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного иоганисберга, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова”. 4 Здесь интересно то, что всё в изображаемом мире кажется сделанным, “скроенным”, “сшитым”: не случайно так часто употребляются слова, называющие материалы — золото, стекло, янтарь, серебро, жемчуг, слоновую кость. Причём эта сделанность объединяет вещи (в широком смысле — даже электрический свет и вино в бутылке) и человека; такие прилагательные, как “янтарный”, “золотой”, “серебряный”, теряют в этом перечислительном ряду свою метафоричность. Господин из Сан-Франциско во всём подобен тем вещам, которые его окружают; за свою долгую жизнь, потраченную на обогащение, он не только получил право ими обладать, но стал похож на них, сам превратился в роскошную, но мёртвую вещь. Он и существует как бы в одной плоскости с ними, включён в их круг. Характерен здесь выбор предлога: если словосочетание “сидеть за бутылкой вина” можно ещё трактовать в смысле “проводить время, употребляя спиртное”, то “сидеть за бокалами и бокальчиками… за букетом…” интерпретируется только в пространственном плане. Господин из Сан-Франциско видится нами через вещи, за которыми, среди которых он и существует как равный. Так писатель делает своих знатных и богатых героев пленниками золотой клетки, в которую они сами себя заточили и в которой они беззаботно пребывают до поры до времени. Удивительно, что Бунин, который всегда славился тем, что не прибегал в отличие от Чехова к повторяющейся детали, 5 в данном случае неоднократно использует прием повторения, нагнетания одних и тех же действий, ситуаций, деталей. Для чего это? Он не удовлетворялся тем, что подробно рассказал о распорядке дня на пароходе. Размеренно-ленивое, беспечно-праздное и в то же время строго регламентированное времяпрепровождение пассажиров «Атлантиды» — это не просто отдых, а торжественный ритуал, демонстрация причастности к избранному кругу. Все многочисленные пассажиры парохода, похожего на “громадный отель со всеми удобствами”, добровольно подчиняются единому жизненному ритму: “вставали рано <…>; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао; затем садились в ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана” и т.д. Отметим очень важное, ключевое слово: “полагалось”. Никто ничего не требовал, тем более не заставлял — полагалось. По статусу, по раз и навсегда усвоенным правилам игры. С тем же тщанием писатель перечисляет все, что делают путешественники, прибыв в Неаполь. Это опять первый и второй завтраки, посещение музеев и старинных церквей, обязательный подъем на гору, пятичасовой чай в отеле, обильный обед вечером... Здесь так же все рассчитано и запрограммировано, как и в жизни господина из СанФранциско, который уже вперед на два года знает, где и что ему предстоит. На юге Италии он будет наслаждаться любовью молоденьких неаполитанок, в Ницце любоваться карнавалом, 6 в Монте-Карло участвовать в автомобильных и парусных гонках и играть в рулетку, во Флоренции и Риме слушать церковные мессы, а потом посетит Афины, Палестину, Египет и даже Японию. Однако нет в этих самих по себе очень интересных и привлекательных вещах подлинной радости для людей, пользующихся ими. Бунин подчеркивает механистичность их поведения. Они не наслаждаются, а имели обычай начинать наслаждение жизнью" с того или другого занятия; у них, видимо, отсутствует аппетит, и его необходимо "возбуждать"; они не прогуливаются по палубе, а им "полагается бодро гулять"; они "должны" взгромождаться на маленьких серых осликов, осматривая окрестности; они не выбирают музеи, а им обязательно демонстрируют чье-нибудь "непременно знаменитое" "Снятие с креста". С каким чувством рассказывает обо всём этом автор? И главное — о чём он хочет сказать? О том, как неправедно и бездуховно живут богатые люди? Но ведь наш герой до своих пятидесяти восьми лет “работал не покладая рук” — разве он не вправе вознаградить себя за годы труда? И чем плох отдых на пароходе в избранном обществе? И, наконец, разве бездуховно такое “наслаждение жизнью”, как путешествие? Что-то мешает встать в позу однозначного осуждения. При всей сдержанности, даже холодности авторской интонации, она не однозначна, не безапелляционна, в ней ощущается какой-то подтекст, а это и читателя предостерегает от скорых поверхностных выводов. 7 Впрочем, может быть, всё позволит расставить по местам противопоставление господина из Сан-Франциско тем, кто своим подневольным трудом помог ему достичь нынешнего привилегированного положения (в частности, “китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами”) и кто сейчас обеспечивает его безмятежное существование — это “по пояс голые люди, багровые от пламени”, в утробе парохода; это замёрзшие и ошалевшие от напряжения вахтенные и вообще все те, “что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, звали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы”. Может быть, именно это — то есть социальный контраст, социальная несправедливость — и есть главная тема, главный нерв бунинского рассказа? Жена писателя, В.Н. Муромцева-Бунина, считала, что «Господин из Сан-Франциско» зародился под впечатлением спора, который Бунин вёл на борту парохода по дороге из Италии в Одессу в 1909 году. Своему оппоненту он тогда сказал: “Если разрезать пароход вертикально, то увидим: мы сидим, пьём вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, чёрные от угля, работают и т.д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на них работает...” (См.: Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Художественная литература, 1987. Т. 4. С. 667). Этот мотив — мотив социальной несправедливости — в рассказе несомненно есть. Но главный ли он? Ради него ли написан рассказ? И как в этом случае понимать дневниковую запись Бунина: “14–19 августа писал рассказ «Господин из Сан-Франциско». Плакал, пиша конец” (Там же. С. 668). 8 Если всё сводится к обнажению социальных контрастов, а герой — всего лишь один из пресыщенных жизнью, растленных богатством “осквернителей земли”, вызывающих у писателя только “брезгливое презрение” (Там же. С. 645) — о чём же тогда плакал Иван Алексеевич Бунин, завершая рассказ? Капитан корабля предстает не как живое существо, а как "огромный идол" в своем шитом золотом мундире. И то, что герои– пленники золотой клетки, в которую они сами себя заточили и в которой они беззаботно пребывают до поры до времени, не подозревая о грядущем ... Это будущее подстерегло среди них пока одного только господина из Сан-Франциско. И это будущее - была Смерть! Мелодия смерти подспудно начинает звучать с самых первых страниц произведения, постепенно становясь ведущим мотивом. Вначале смерть предельно эстетизирована, живописна: в Монте-Карло одним из любимых занятий богатых бездельников является "стрельба в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном, на фоне моря цвета незабудок, и тотчас стукаются белыми комочками о землю". (Для Бунина вообще характерна эстетизация вещей обычно неприглядных, которые должны скорее пугать, чем привлекать наблюдателя, - ну кто, кроме него, мог написать о "чуть припудренных нежнейших розовых прыщиках возле губ и между лопаток" у дочери господина из Сан-Франциско, сравнить белки глаз негров с "облупленными крутыми яйцами" или назвать молодого человека в узком фраке с длинными фалдами "красавцем, похожим на огромную пиявку"!) Затем намек на смерть возникает в словесном портрете наследного принца одного из азиатских государств, милого и приятного человека, усы которого, однако, "сквозили, как у мертвого, а кожа на лице была "точно натянута". И сирена на корабле захлебывается в "смертной тоске", суля недоброе, 9 и музеи холодно и "мертвенно-чисты", и океан ходит "траурными от серебряной горами" и гудит, как "погребальная месса". Но еще более явственно дыхание смерти чувствуется в наружности главного героя, в портрете которого превалируют желтовато-серебристые тона: желтоватое лицо, золотые пломбы в зубах, цвета слоновой кости череп. Кремовое шелковое белье, черные носки, брюки, смокинг довершают его облик. Да и сидит он в золотисто-жемчужном сиянии чертога обеденной залы. И кажется, что от него эти краски распространяются на природу и на весь окружающий мир. Разве что добавлен еще тревожно-красный Понятно, что океан катит свои черные валы, что багровое пламя вырывается из топок корабля, естественно, что у итальянок черные волосы, что резиновые накидки извозчиков отдают чернотою, что толпа лакеев "черна" , а у музыкантов могут быть красные куртки. Но почему прекрасный остров Капри тоже надвигается "своей чернотой", "просверленный красными огоньками", почему даже "смирившиеся волны" переливаются, как "черное масло", а по ним от зажегшихся фонарей на пристани текут удавы"? Так Бунин создает у читателя представление о всесилии господина из СанФранциско, способном заглушить даже красоту природы В поэме "Возмездие" Блок писал о "глухих" годах России, Тогда над нею злой гений Победоносцев "простер совиные крыла", погрузив страну во мрак. Не так ли и господин из Сан-Франциско простирает крылья зла над всем миром? Ведь даже Неаполь не озаряется солнцем, пока там находится Американец, и остров Капри кажется каким-то призраком, "словно его никогда и не существовало на свете", когда богач приближается к нему ... 10 Вспомните, в произведениях каких писателей присутствует "говорящая" цветотоваяя гамма. Какую роль в воссоздании образа Петербурга у Достоевского и Блока играет желтый цвет? Какие еще краски оказываются значимыми у этих писателей? Все это нужно Бунину, чтобы подготовить читателя к кульминационному моменту повествования – смерти героя, о которой тот не задумывается, мысль о которой вообще не проникает в его сознание. Да и какая может быть неожиданность в этом запрограммированном мире, где торжественное одевание к ужину свершается таким образом, будто человек готовится к "венцу" (т.е. счастливой вершине своей жизни!), где существует бодрая подтянутость пусть и немолодого, но хорошо выбритого и еще очень элегантного человека, который так легко обгоняет запаздывающую к ужину старуху! Но — рано или поздно это должно было случиться — размеренно-рациональное, просчитанное на много ходов вперёд течение жизни пересекает и пресекает мощный поток неуправляемой стихии — самой судьбы. Силы, над которыми не властен человек, посылают ему тревожные сигналы: “декабрь выдался не совсем удачный”; “утреннее солнце каждый день обманывало”; в день прибытия на Капри “даже и с утра не было солнца”. Однако герой, укрепляемый в своей самоуверенности заискиванием многочисленной и разнообразной обслуги, в свою очередь убеждённой в том, что “нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско и что всё будет исполнено в точности”, не слышит и не понимает тревожных сигналов извне, не улавливает импульсов неблагополучия, идущих из глубин собственного “я”. В упрямой погоне за запланированными развлечениями, в слепом желании получить от жизни сполна за долгие годы воздержания семья из Сан-Франциско предпринимает мучительное путешествие на роковой для неё остров Капри. По дороге туда, под дождём и ветром, от холода, качки и усталости герой на мгновение прозревает и чувствует себя “так, как и подобало ему, — совсем стариком”. 11 Но остановиться, отдаться этому переживанию, выйти из рамок усвоенной роли, нарушить добровольно взятые на себя обязательства и чужие ожидания он не может и даже не сознаёт, не успевает осознать, что это нужно сделать. На Капри уже наготове была “толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско”. Роли расписаны и распределены, спектакль, как по нотам, разыгрывается послушными исполнителями: “ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперёд, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов” — “и как по сцене (курсив мой. — Г.Р.) пошёл среди них господин из Сан-Франциско”, “и всё было похоже на то, что это в честь гостей из Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывавший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль”. Этот гонг лейтмотивом пронизывает жизнь нашего героя. На корабле “трубными сигналами” возвещали о том, “что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его” — праздничный обед с музыкой и танцами, и господин из Сан-Франциско, едва заслышав призывный сигнал, спешил одеваться. В Неаполе — “снова мощный, властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками и отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой, и красные куртки музыкантов на эстраде, и чёрная толпа лакеев…” И вот опять, едва они вступили на порог каприйского отеля — гонг, зазывавший на обед. Тут, правда, произошла заминка, мгновенный “сбой в программе”, который мог предотвратить, точнее, отодвинуть неизбежный финал, сделать его естественно-печальным, а не беспощадно-жутким. Странное совпадение яви и сна — в хозяине гостиницы герой узнаёт приснившегося ему накануне человека — так удивило господина из Сан-Франциско, что он “даже чуть было не приостановился”, но, поскольку “в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств”, сигнал не был воспринят, удивление погасло, и герой двинулся дальше. 12 Более чувствительная, чем отец, его юная дочь ощутила неладное: “сердце её вдруг сжала тоска, чувство странного одиночества на этом чужом, тёмном острове”. Но многочисленные партнёры по жизненной сцене не позволяют господину из СанФранциско выйти из роли, ждут от него строгого следования сценарию, и он оправдывает их ожидания. Вместо того чтобы отдохнуть после мучительной дороги — пол ещё ходил под ним, “так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко”, — он почти автоматически соглашается на все любезные предложения и начинает тщательно, “точно к венцу”, готовиться к последнему своему выходу. “Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер?” — этот авторский вопрос привносит в холодновато-объективное, бесстрастное повествование неожиданную лиричную, личную ноту, тем самым подсказывает читателю, что сейчас произойдёт нечто важное. Но сам герой ничего не предчувствует, ни о чём не догадывается. Подробное описание процедуры туалета многозначительно красноречиво, а завершается ритуал облачения старческого тела в светскую оболочку деталью откровенно символичной: герою никак не давалась запонка, “но он был настойчив и наконец, с сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло, не в меру тугого воротничка, таки доделал дело” — дело добровольно-принудительного самоудушения принятой на себя ролью... И вот тут-то, вопреки привычной прагматической настроенности героя, из каких-то его тайных душевных глубин вдруг вырывается: “О, это ужасно!” И ещё раз, даже “не стараясь понять, не думая, что именно ужасно”, он повторяет “с убеждением”: “Это ужасно…” Что именно показалось ему ужасным в этом рассчитанном на удовольствия мире, господин из Сан-Франциско, не привыкший задумываться о неприятном, так и не попытался понять. Однако поразительно то, что до этого говоривший преимушественно по-английски или итальянски американец (русские реплики его весьма кратки и воспринимаются как "проходные") _ дважды повторяет это слово по-русски... Кстати, стоит вообще отметить его отрывистую, как бы лающую речь: 13 он не произносит более двух-трех слов кряду. "Ужасным" было первое прикосновение Смерти, так и не осознанной человеком, в душе которого "уже давным-давно не осталось... каких-либо мистических чувств". Ведь, как пишет Бунин, напряженный ритм его жизни не оставлял "времени для чувств и размышлений". Впрочем, некоторые чувства, вернее, ощущения все же у него были, правда простейшие, если не сказать низменные... Писатель неоднократно указывает, что оживлялся господин из Сан-Франциско только при упоминании об исполнительнице тарантеллы (его вопрос, заданный "ничего не выражающим голосом", о ее партнере: не муж ли он _ как раз и выдает скрываемое волнение), только воображая, как она, "смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку, в цветистом наряде < ... > пляшет", только предвкушая "любовь молоденьких неаполитанок, пусть и не совсем бескорыстную", только любуясь "живыми картинами" в притонах или так откровенно заглядываясь на знаменитую красавицу-блондинку, что его дочери стало неловко. Отчаяние же он чувствует лишь тогда, когда начинает подозревать, что жизнь вырывается из-под его контроля: он приехал в Италию наслаждаться, а здесь туман, дожди и ужасающая качка Но в этот момент вновь “зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг”, на который господин из Сан-Франциско реагирует, как полковая лошадь на звук трубы, — послушно и даже радостно: “поспешно встав с места, ещё больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, ещё раз оглядел себя в зеркале...” Последний выход героя обставлен, как всегда, почтительно-торжественно: “Встречные слуги жались от него к стене, а он шёл, как бы не замечая их”; “легко обогнал” запоздавшую к обеду старуху; “холодно осмотрел” какого-то седого немца и в ожидании жены и дочери задержался в читальне. 14 Вот в этот-то момент покойного ожидания, когда ничто, кроме ничтожной мелочи — “душившего его воротничка” (!) — не беспокоило и не угрожало размеренному и расчисленному ходу жизни, когда он “привычным жестом” перевернул газету, содержащую привычную информацию о “никогда не прекращающейся балканской войне”, — в этот подчёркнуто обыденный момент и произошло нечто невероятное по своей неожиданности и нелепости За всю прожитую жизнь, в которой были и самоуверенная деловитость, и жестокая эксплуатация других, и бесконечное накопление богатств, и убежденность, что все вокруг призваны "служить" ему, "предупреждать" его малейшие желания, "таскать" его вещи, за отсутствие какого-либо иного начала казнит его Бунин. И казнит жестоко, можно сказать, беспощадно. Смерть господина из Сан-Франциско потрясает своей неприглялностъю отталкивающим физиологизмом. Теперь писатель в полной мере использует эстетическую категорию безобразного, чтобы в нашей памяти навсегда запечатлелась следующая отвратительная картина: "шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа ... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха _ дико захрипел; нижняя челюсть его отпала < ... >, голова завалилась на плечо и замоталась < ... >, _ и все тело, извиваясь, ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то". Но это был не конец: " ... он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный ... " Хриплое котание продолжало раздаваться из его груди и позже, когда он уже лежал на дешевой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, тускло освещенный единственной лампочкой. Бунин не жалеет отталкивающих подробностей, чтобы воссоздать картину жалкой, неприглядной смерти некогда могущественного человека, 15 которого никакое богатство не может спасти от последовавшего после кончины унижения. И только когда исчезает конкретный господин из Сан-Франциско, а на его месте появляется "кто-то другой", осененный величием смерти, писатель позволяет себе несколько деталей, подчеркивающих значимость совершившегося: "медленно < ... > потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть". А позже мертвому даруется и подлинное общение с природой, которого он был лишен в чем, будучи живым, никогда не испытывал потребности Мы хорошо помним, к чему стремился и на что нацеливался в своей жизни господин из СанФранциско. Теперь же, в холодной и пустой комнате, "звезды глядели на него с неба, сверчок с грустной беззаботностью запел на стене". Но кажется, что, живописуя дальнейшие унижения, которые сопровождали посмертное земное "бытие" господина из Сан- Франциско, Бунин даже вступает в противоречие с жизненной правдой. У читателя может возникнуть вопрос: почему, например, хозяин отеля считает те деньги, которые могли дать ему жена и дочь умершего постояльца в благодарность за перенесение тела в кровать роскошного номера, пустяком? Почему он теряет остатки уважения к ним и даже позволяет себе "осадить" мадам, когда она начинает требовать причитающееся ей по праву? Почему он так торопится "распрощаться" с телом, даже не давая возможности близким приобрести гроб? Красноречивая деталь: 16 на острове невозможно было достать гроб — сюда приезжали развлекаться, а не умирать, и умершего туриста пришлось поместить в ящик от содовой. (как Чехова в -от устриц) Никто, кроме жены и дочери господина из Сан-Франциско, не пожалел покойного, никто не содрогнулся от столь наглядно явленной им бренности человеческого бытия, никто не остановился, не задумался, не отказался от намеченных туристских маршрутов и ресторанных удовольствий, — с отплытием несчастного семейства на острове Kaпри тотчас восстановился “мир и покой”, и всё пошло своим привычным ходом. И вот уже по его распоряжению тело господина из Сан-Франциско помещают в длинный ящик из-под содовои англиискои воды, и его на рассвете, тайком, мчит вниз к пристани пьяненький извозчик, чтобы спешно погрузить на пароходик, который передаст свою ношу одному из портовых складов, после чего оно вновь окажется на "Атлантиде". А там черныи просмоленныи гроб запрячут глубоко в трюм, в котором он и будет находиться до возвращения семьи домой. Но такое положение дел действительно возможно в мире, где Смерть воспринимается как нечто постыдное непристойное неприятное, нарушающее чинный порядок, как mauvais tоп (дурнои тон, плохое воспитание фр.), способный испортить настроение, выбить из колеи. При жизни бывший строгим приверженцем “приличия”, смертью своей он на мгновение прервал гладко текущий спектакль, сбил с ритма привычно-бездумное существование — он напомнил о смерти, о неотвратимости и беспощадности неминуемого конца, о страшной лёгкости, с которой “господин из Сан-Франциско” превращается в “мёртвого старика из Сан-Франциско”, о незримой, но непререкаемой власти судьбы Писатель не случайно выбирает глагол, который в нормальном восприятии не может согласовываться со словом смерть: 17 "натворил". "Не будь в читальне немца < ... > - ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он", господин из Сан-Франциско. “Memento mori” (лат.) — “помни о смерти”, — наставляли древние мудрецы, понимавшие, что только при этом условии можно достойно и полноценно прожить жизнь. Герои бунинского рассказа, всецело погружённые в суетную мишуру повседневности, заслонившиеся этой мишурой от грозного гула океана, не чувствующие под собой бездны и не ведающие неба над собой, не живут, а ведут призрачное, условное, ложное существование, и поэтому они не умеют и не считают нужным с должным уважением относиться к смерти. Это убийственное равнодушие, с которым реагируют на его смерть окружающие, свидетельствует о том, что господин из Сан-Франциско в этой своей отчуждённости от собственного человеческого “я” отнюдь не исключение Следовательно, смерть в восприятии этих людей - нечто такое, что следует "замять", скрыть иначе не избежать "обиженных лиц", претензий и "испорченного вечера. Именно потому так спешит хозяин отеля избавиться от умершего, что в мире, к которому принадлежит господин из Сан-Франциско, искажены представления о должном и недолжном, о приличном и неприличном (неприлично умирать вот так, не вовремя, но прилично приглашать изящную пару "играть в любовь за хорошие деньги ", услаждая взоры пресыщенных бездельников' можно упрятать тело в ящик из- под бутылок, но нельзя, чтобы гости нарушили свой моцион). 18 Писатель настойчиво акцентирует то обстоятельство, что, не будь нежелательного свидетеля вышколенные слуги мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и голову господина из Сан-Франциско куда подальше" и все пошло бы по заведенному порядку. А теперь хозяину приходится извиняться перед гостями за причиненные неудобства: он вынужден был отменить тарантеллу, потушить электричество. Он даже дает чудовищные с человеческой точки зрения обещания говоря что примет "все зависящие от него меры к устранению неприятности". (Здесь мы можем еще раз убедиться в тончайшей иронии Бунина, которому удается передать жуткое самомнение современного человека, убежденного в том, что он может что-то противоставить неумолимой смерти, что в его силах "исправить" неизбежное.) Писатель "наградил" своего героя такой безобразной смертью, чтобы еще раз подчеркнуть ужас той неправильной жизни, которая только и могла завершиться подобным образом. И действительно, после смерти господина из Сан-Франциско мир почувствовал облегчение. Произошло чудо. Уже на следующий день "озолотилось" утреннее голубое небо, "на острове снова водворились мир и покой", на улицы высыпал простой люд, а городской рынок украсил своим присутствием красавец Лоренцо, который служит моделью многим живописцам и как бы символизирует собою прекрасную Италию. Все в нем разительно контрастирует с господином из Сан-Франциско, хотя он тоже старик! И его спокойствие (он может стоять на рынке с утра до вечера), и его бессребреничество ("он принес и уже продал за бесценок двух пойманных ночью омаров"), 19 и то, что он беззаботный гуляка" (его безделье приобретает нравственную ценность по сравнению с суетливой готовностью американца получатъ удовольствия. ) У него царственные повадки, в то время как медлительность господина из Сан-Франциско кажется заторможенностью, и ему не надо специально одеваться и прихорашиваться – его лохмотья живописны, а красный шерстяной берет, как всегда лихо спущен на ухо. Но и здесь целое — отношение двух начал: омертвевшей цивилизации и «живой жизни». Они соположены не только извне (американский миллионер и — Лоренцо, абруццские горцы, живая природа Италии.— Т. 4. С. 326), но и изнутри. Мы уже отмечали «второй», неожиданный и героем неосознаваемый ряд мыслей, перебивающий их привычное течение перед внезапной смертью. Еще в большей степени подтверждает опустившуюся на мир благодать мирное шествие с горных высот двух абруццких горцев. Дороги обыденной жизни простых островитян абруццких горцев сосредоточены вокруг естественных потребностей и желаний. Эти безымянные странники — тоже безымянные, но по-другому, чем господин из Сан-Франциско, Горцы близки к природе, их души не развращены светом, они не знают лицемерия, предательства. — С появлением горцев меняется природа Мрачные тона исчезают, сменяясь тёплыми, нежными. Люди на «Атлантиде» не могли видеть и не видели красоты, казалось, что плывут они ночью. А горцы умеют радоваться жизни и тому, что их окружает. Бунин специально замедляет темп повествования, чтобы читатель мог вместе с ними открыть панораму Италии и насладиться ею – 20 Природа, окружающая их, прекрасна: “...целая страна, радостная, прекрасная, солнечная, простиралась под ними: ...и каменистые горбы острова, и сказочная синева, и сияющие утренние пары под ослепительным солнцем, и туманно-лазурные массивы Италии”. В этом безобразном мире они спасутся, потому что их души чисты, они просты, искренни Важна и остановка в пути, которую делают эти люди: встретили на пути своём гипсовую фигурку Матери Божией, освещённую солнцем и в свою очередь излучающую тепло, обнажили головы, вынули свои нехитрые инструменты — “и полились наивные и смиренно радостные хвалы их солнцу, утру, ей, непорочной заступнице всех страждущих в этом злом и прекрасном мире, и рождённому от чрева её в пещере Вифлеемской, в бедном пастушеском приюте, в далёкой земле Иудиной…” перед озаренной солнцем, в венце, золотистом от непогоды, белоснежной статуей Мадонны. Ей, " заступнице всех страждущих, возносят они смиренные хвалы". Но и солнцу. И утру. Бунин делает этих персонажей полухристианами-полуязычниками, детьми природы, чистыми и наивными ... И эта остановка, превращающая обычный спуск С горы в длительное путешествие, делает его и осмысленным (опять-таки в отличие от бессмысленного накопления впечатлений, которым должно было увенчаться путешествие господина из СанФранциско). Бунин открыто воплощает свой эстетический идеал в простых людях. Уже до этого апофеоза естественной, целомудренной, религиозной жизни, который возникает незадолго до финала рассказа, проглядывало его восхищение естественностью и незамутненностью их существования. Во-первых, почти все они удостоились чести быть поименованными. В отличие от безымянного "господина"; его жены, "миссис" , его дочери, "мисс", а также бесстрастного хозяина отеля на Капри и капитана корабля - у слуг, танцовщиков есть имена! 21 Кармелла и Джузеппе великолепно танцуют тарантеллу, Луиджи хлестко передразнивает английскую речь умершего, а старик Лоренцо позволяет любоваться собою , заезжим иностранцам. Но важно также и то, что смерть уравняла чванного господина из Сан-Франциско с простыми смертными: в трюме корабля он находится рядом с адскими машинами, обслуживаемыми "облитыми едким, грязным потом" голыми людьми! Но Бунин не столь однозначен, чтобы ограничиться прямым противопоставлением ужасов капиталистической цивилизации естественной скромности незатейливой жизни. Кажется, что со смертью господина из Сан-Франциско исчезло социальное зло, но осталось зло космическое, неистребимое, то, существование которого потому вечно, что за ним зорко следит Дьявол. Бунин, обычно не склонный прибегать к символам и аллегориям (исключение составляю егорассказы, созданные на рубеже XIX и ХХ вв., - "Перевал" , "Туман", "Велга" , "Надежда", где возникали романтические символы веры в будущее, преодоления, упорства и т.п.), здесь взгромоздил на скалы Гибралтара самого Дьявола, (противопоставление образу Богородицы) (дьявол в невском проспекте на фонаре) не спускающего глаз с уходящего в ночь корабля, и как бы мимоходом вспомнил о жившем на Капри две тысячи лет тому назад человеке, "несказанно мерзком в удовлетворении своей похоти и почему то имевшем власть над миллионами людей, наделавшем над ними жестокостей сверх всякой меры". возникающая параллель между безымянным господином из Сан-Франциско, от памяти о котором поспешили сразу же избавиться, и знаменитым императором Тиберием - в рассказе у Бунина он назван Тиверием, которого "человечество навеки (! - м.М.) запомнило", причем так основательно, что доныне "многие со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где он жил ... ". По Бунину, социальное зло может быть временно устранено - кто был "всем", стал "ничем", то, что было "наверху", оказалось "внизу", 22 но космическое зло, воплощаемое в силах природы, в исторических реалиях, неустранимо. И залогом этого зла служит мрак, необозримый океан, бешеная вьюга; сквозь них проходит стойкий И величавый корабль на котором по- прежнему сохраняется социальная иерархия: внизу жерла адских топок и при кованные к ним рабы, вверху - нарядные пышные , бесконечно длящийся бал, многоязычная толпа, блаженство мелодий ... Бунин не рисует этот мир социально двумерным, для него существуют не только эксплуататоры и эксплуатируемые. Писатель создает не социально-обличительное произведение, а философскую притчу1, и поэтому он вносит в традиционную иерархию маленькую поправку. Выше всех, над роскошными залами, обитает "грузный водитель корабля", капитан, он "восседает" надо всем кораблем в "уютных и слабо "освещенных покоях". И он единственный, кто доподлинно знает о происходящем, о нанятой за деньги паре влюбленных, о грузе, который находится на дне корабля. Он единственный, кто слышит "тяжкие завывания сирены, удушаемой бури и ( для всех остальных она, как мы помним, не слышна за звуками ), и его это тревожит. Что вы слышали о жанре притчи в литературе? Где истоки этого жанра? для чего используется этот жанр, какова его смысловая нагрузка? Какие еще жанры, обладающие такой же насыщенностью, вы знаете 1 23 Но он успокаивает себя, возлагая надежды на технику, на достижения цивилизации так же, как верят в него плывущие на пароходе люди, убежденные в том, что он имеет "власть" над океаном. Ведь кора ль громаден, тверд, величав и страшен", он построен Новым Человеком (примечательны эти заглавные буквы, используемые Буниным для обозначения и человека и Дьявола!), а за стеною капитанской каюты находится радиорубка, где телеграфист принимает сигналы из любых частей света. Дабы подтвердить "всесилие" "бледнолицего телеграфиста", Бунин создает подобие нимба вокруг его головы: металлический полуобруч. А чтобы дополнить впечатление - наполняет комнату "таинственным гулом, : и сухим треском синих огней, разрывавшихся вокруг . Но перед нами нами лжесвятой, так же как капитан - никакой не командир, не водитель, не бог, а всего-навсего языческий идол , которому привыкли поклоняться. И их всесилие ложно, как и вся цивилизация, прикрывающая собственную слабость атрибутами бесстрашия и силы, настойчиво отгоняющая от себя мысли о конце. Оно так же ложно, как весь этот блеск роскоши и богатства, которые не способны спасти человека ни от смерти, ни от мрачных глубин океана, ни от вселенской тоски, симптомом которой можно считать то, что великолепно демонстрирующей безграничное счастье очаровательной паре "давно наскучило < ... > притворно мучиться своей блаженной мукой". Грозный зев преисподней где клокочут страшные в своей сосредоточенности силы", открыт и поджидает своих жертв. Какие силы имел в виду Бунин? 24 Возможно, это и гнев порабощенных - не случайно Бунин акцентировал презрение, с каким господин из Сан-Франциско воспринимает подлинных людей Италии: "жадные, воняющие чесноком людишки" живущие в жалких, насквозь проплесневелых каменных домишках, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей". Но, несомненно, это и готовая выйти из подчинения техника, только создающая иллюзию безопасности. Недаром капитан вынужден себя успокаивать близостью каюты телеграфиста, которая на самом деле только выглядит "как бы бронированной". Может быть, единственным (помимо целомудрия естественного мира природы и людей, близких к ней), что может противостоять гордыне Нового Человека со старым сердцем, является молодость. Ведь единственным живым человеком среди марионеток, населяющих корабли, отели, курорты, является дочь господина из Сан-Франциско. И пусть она тоже не имеет имени но по совсем другой причине, чем ее отец. В этой девушке для Бунина слилось все то, что отличает молодость от пресыщенности и утомленности, приносимых прожитыми годами. Она вся в предощущении любви, в преддверии тех счастливых встреч, когда неважно, хорош или дурен собой твой избранник важно что он стоит рядом с тобой и ты "слушаешь его и от волнения не понимаешь, что он < ... > говорит", млея от "неизъяснимого очарования", но при этом упорно "делаешь вид, что пристально смотришь вдаль". (Бунин явно демонстрирует снисходительность по отношению к такому поведению: 25 будто бы "не важно, что именно пробуждает девичью душу, - деньги ли, слава ли, знатность ли рода", - для писателя важно, что она способна пробудиться.) Девушка едва не падает в обморок, когда ей кажется, что она увидела понравившегося ей наследного принца одного азиатского государства, хотя доподлинно известно, что он не может находиться в этом месте. Она способна смутиться, перехватывая нескромные взгляды, какими ее отец провожает красавиц. И невинная откровенность ее одежды явно контрастирует с лишь молодящим ее отца облачением и с богатым нарядом ее матери. Только у нее тоска сжимает сердце, и ее посещает "чувство страшного одиночества", когда отец признается ей, что во сне ему привиделся человек, похожий на хозяина гостиницы. И только она горько рыдает, понимая, что отец мертв (у ее матери слезы моментально высыхают, как только она получает отпор со стороны хозяина отеля). Вернёмся на «Атлантиду». Что вы знаете о существовании острова Атлантида? Какие известные вам мифы и легенды использовали писатели в своих произведениях? С какой целью, на ваш взгляд, прибегают они к этому приему? Бунин снял многозначительный эпиграф, ранее всегда открывавший этот рассказ: "Горе тебе, Вавилон, город крепкий". Снял, возможно, потому, что эти слова, взятые из Апокалипсиса, новозаветной книги, пророчащей о конце света, рассказывающей о городе порока и разврата Вавилоне, показались ему слишком откровенно выражающими его отношение к описанному. Но он оставил название парохода, на котором плывет американский богач с женой и дочерью в Европу, "Атлантида", как бы желая лишний раз напомнить читателям об обреченности существования, основным наполнением которого стала страсть к получению удовольствий. 26 — Само название парохода («Атлантида») наводит на мысль о призрачности, нереальности его существования и о неизбежной гибели. — Вспоминается предание о существовании на земле цивилизации, которая бесследно погибла. И по мере того как возникает подробное описание ежедневного распорядка дня путешествующих на этом корабле вставали рано, при трубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, пижамы, пили кофе, шоколад, какао; се палубы были заставлены тогда длинными камышовыми креслами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая; в пятом часу их, повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньями; в семь оповещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель этого существования, венец его ... " – пир возникает такое ощущение, что перед нами описание Валтасарова пира. Ощущение тем более реально, что "венцом" каждого дня действительно являлся роскошный обед-пир, после которого начинались танцы, флирт и другие развлечения. И возникает чувство, что, как и на пиру, устроенном, согласно библеискому преданию, последним вавилонским царем Валтасаром накануне взятия города Вавилона персами, на стене таинственной рукой будут начертаны непонятные слова, таящие скрытую угрозу: "МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН". Тогда, в Вавилоне, их смог расшифровать только иудейский мудрец Даниил, который объяснил, что они содержат предсказание гибели города и раздел вавилонского царства между завоевателями. Так вскоре и случилось. У Бунина же это грозное предостережение присутствует в виде несмолкающего грохота океана, вздымающего гнои громадные валы за бортом парохода, снежной вьюги, кружащейся над ним, мрака, охватывающего все пространство вокруг, сирены, которая поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой". 27 Так же страшны и "живое чудовище" - исполинский вал в чреве парохода и "адские гонки" его преисподней, в раскаленном зеве которых клокочут неведомые силы, и потные грязные люди с отсветами багрового пламени на лицах. Но как пирующие в Вавилоне не видят этих грозных слов, так и обитатели судна не слышат этих одновременно стенающих и лязгающих звуков: их заглушают мелодии прекрасного оркестра и толстые стены кают. До сих пор мы внимательно всматривались в богатых, беззаботных пассажиров, обратили внимание и на тех, кто напряжённым, а то и героическим трудом обслуживал чужую праздность. Но есть ведь ещё одно действующее лицо, ещё один, хотя и неявный, не допущенный на сцену, но едва ли не самый главный участник разыгрывающейся драмы — океан. “Благополучное” плавание проходило “то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом”; в то время как пассажиры лениво пробуждались от сна, “медленно и неприветливо светало над серо-зелёной водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане”; “в танцевальной зале всё сияло и изливало свет, тепло и радость”, а “океан с гулом ходил за стеной чёрными горами, вьюга крепко свисла в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и её, и эти горы”; “в смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена”, но “немногие из обедающих слышали сирену — её заглушали звуки прекрасного струнного оркестра”... Корабль Океан Яркий свет Тёмный, мрачный, чёрные горы, туман Цвет, свет Температура Тепло Холод 28 Звук Взвывала и взвизгивала сирена; струнный оркестр Настроение Свист вьюги, гул Устрашающее, мрачное, тоска Скука, радость (словно по обязанности) Ассоциации Остров, Атлантида, «Титаник», пир во время чумы, преисподняя, чудовище океан — это символ жизни, которая чужда, непонятна пассажирам, даже враждебна им. Они отдыхают, их заливает свет; всё, что на пароходе, изображено яркими тонами. Мы слышим звуки прекрасного оркестра, “изысканно и неустанно игравшего в двухсветной зале, празднично залитой огнями”. Жизнь “людей самого отборного общества”, как назвал их автор, безоблачна, легка. Они отдыхают, развлекаются. А там, за бортом парохода, проходит другая жизнь, бурная и настоящая, ничем не похожая на их праздник. “Океан был страшен”. Но пассажиры не видели и не знали этой страшной жизни. — Приём антитезы помогает Бунину показать несоответствие жизни пассажиров той реальной, от которой они отгородились. В настоящей жизни мы слышим сирены, взывающие с “адской мрачностью” и взвизгивающие с “неистовой злобой”. Исчезает сияние и блеск, сменяясь мрачностью. Радость и довольство уступают место неистовой злобе. — Впервые появляется ощущение конца света. Оно связано со словом-эпитетом “адская”. Не просто мрачность, тьма, а “адская”, непроглядная, та, которая есть только в аду. — Со словом связано представление о вечных муках. 29 — Однако этого предупреждения не слышат пассажиры, зато их испытывают те, кто находится внизу, в машинном отделении. Сейчас они подвергаются этим мукам. Бунин сравнивает пароход и его машинное отделение с “мрачными и знойными недрами преисподней”. Вновь эпитет “мрачный”, и опять встаёт образ ада. Мы видим “преисподнюю, которая напоминает девятый круг дантовского ада. — Картина страшна. Пароход теперь не напоминает “сверкающий отель”, а похож на чудовище с бездонной “утробой”, в которой “гогочут исполинские топки”. — Со словом “утроба” связан фразеологизм “ненасытная утроба”. «Атлантида» напоминает такую ненасытную утробу, а пассажиры становятся её заложниками, время их ограничено, они все обречены сгореть. Их пожрут эти “исполинские топки с раскалёнными зевами”. — Если прочитать только слова, относящиеся к пароходу, то можно с уверенностью сказать, что перед нами ад. — “Адская мрачность”, “неистовая злоба”, “мрачные и знойные недра преисподней”, “последний, девятый круг”, “подводная утроба парохода”, “исполинские топки, пожиравшие своими раскалёнными зевами”. И отступает назад блестящий отель «Атлантида», а вместо него — ад. — Картину неизбежной гибели дополняет описание океана. Он напоминает “чёрные горы” с “пенистыми хвостами”. И вновь мы слышим “смертную тоску удушаемой туманом сирены” Невольно возникает символ смерти, гибели, обречённости Все обитатели корабля — кто барски лениво, кто напряжённо и старательно — играют отведённые им роли, выполняют взятые на себя функции, не выходя за границы очерченного круга, не оглядываясь, не внимая грозному гулу, не думая о зловещей бездне, окружающей со всех сторон. 30 “Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нём не думали, твёрдо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своём мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося из своих таинственных покоев”. Весной 1912 г. весь мир облетело сообщение о столкновении С айсбергом крупнейшего пассажирского судна "Титаник" , страшной гибели более чем полутора тысяч человек. Это событие прозвучало предостережением человечеству, упоенному научными успехами, убежденному в своих безграничных возможностях . Огромный "Титаник" на какое-то время стал символом этой мощи. Но его погружение в волны океана, самоуверенность , капитана, не внявшего сигналам опасности, неспособность противостоять стихии, беспомощность команды еще раз подтвердили хрупкость и незащищенность человека перед лицом космических сил. Может быть, наиболее остро воспринял эту катастрофу И.А. Бунин, увидевший в ней итог деятельности "гордыни Нового Человека со старым сердцем", о чем он и написал в своем рассказе "Господин из Сан-Франциско" три года спустя, в 1915 г. Красноречивая деталь: от бездны отгородились, защитились “идолом”, на которого переложили всю ответственность за собственную жизнь. О ней самой, о жизни, о смысле её не думали, всецело поглощённые одни — заботами о хлебе насущном, другие — прожиганием добытых средств. Вот эту бездумность и беспечность, эту легкомысленную убеждённость самых разных, но в первую очередь, конечно, богатых людей в прочности заведённых ими порядков, в своём праве на отвоёванные жизненные блага, в осуществимости начертанных ими планов и олицетворяет господин из Сан-Франциско. Рассказ возвращается на главную свою колею, обнажённо-беспощадно констатируя непоправимую безысходность случившегося: “Тело же мёртвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света”. 31 Это тело испытало “много унижений, много человеческого невнимания”, прежде чем вновь оказалось на той же «Атлантиде», но теперь уже не в сияющих люстрами залах, а в утробе корабля, в чёрном трюме его, надёжно скрытое от беспечно веселящейся нарядной толпы. Прекрасная «Атлантида» — огромный многоярусный корабль, “созданный гордыней Нового Человека со старым сердцем”, а в трюме его мертвец. (значит корабль должен утонуть- примета) — движется в обратном направлении, и опять путь её лежит “среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном”. С одной стороны, всё повторяется: бушует океан; клокочут “страшные в своей сосредоточенности силы” в машинной утробе корабля; извивается в показной истоме “тонкая и гибкая пара нанятых влюблённых”; блещут шелками и бриллиантами богатые пассажиры. С другой стороны, всё необратимо изменилось, ибо нет больше того единственного господина из Сан-Франциско, который так нелепо умер посреди всеобщего праздника и тем самым остался в памяти не запомнивших его имени встречных. — В этом мире нет искренности. Вспомним отношение слуг к господину из Сан-Франциско. — Они не только развращены сами, но и развращают всех, кто находится рядом. Об этом говорит поведение Луиджи при живом господине и после несчастного случая с ним. То же отсутствие милосердия, сочувствия, а лишь денежный расчёт. — В этом мире всё продаётся и покупается. 32 Купили и любовь, которую изображают двое “влюблённых” под “бесстыдно-грустную музыку”. Им самим уже надоело “притворно мучиться своей блаженной мукой”, но они должны отработать полученные деньги. Как финальная сцена помогает завершить эту тему? Работаем над эпизодом “Был он и на другую, и на третью ночь...”. — Пароход возвращается назад в сопровождении “бешеной вьюги”. Но если в первой части мы видели только предупреждение, то теперь наступает развязка. Океан гудит, “как погребальная месса”, а волны ходят “траурными горами”. Это отпевание не только господина из Сан-Франциско, а всего мира, основанного на бездуховности, жестокости, пошлости и цинизме. — Картина окончательной гибели завершается образом дьявола, который следит за уходящим “в ночь и вьюгу кораблём”. Но чем дальше уходил корабль, тем больше над ним нависал дьявол, оберегая от других, не желая отдавать свою жертву. О чем Бунин плакал, когда писал конец. “Плакал, пиша конец”... О трагической хрупкости человеческого бытия. О бессмысленной трате бесценного дара — жизни. О “тупиковости «материального» человеческого существования, о жизни человека как пути в смерть” (А.Архангельский). Обо “всех страждущих в этом злом и прекрасном мире”. О том, что никто не знает, какая судьба ему уготована, как неведома участь мощного корабля, “тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу”… Многозначность трактовки. 33 Ведь не случайно рассказ завершается неразрешенным соположением пределов — двумя параллельными картинами: шествием абруццских горцев и апокалиптическим видением корабля («Атлантиды»), везущего в своем трюме гроб и провожаемого самим Дьяволом. Учитывая всю важность «живой жизни» в целом рассказа нельзя не увидеть, что она здесь не искомый и единственный выход (Лоренцо при всей своей артистической привлекательности — лишь дополнительная противоположность главного героя), а только другой предел, обнажающий губительную односторонность современности, но не предлагаемый в качестве решения проблем. Почему Бунин в 1915 году поднимает вопрос о неизбежной гибели мира? — Это время войны. Кроме того, Бунин предчувствовал грядущую беду для своей страны и предупреждал о катастрофе. — В это время особенно сильно выразились противоречия в обществе, часто нарушались и грубо попирались нравственные человеческие законы, которые должны составлять основу всякого общества. — А если рушатся нравственные законы, то жизнь общества подвергается опасности. Отсюда и до мировой катастрофы недалеко. 34