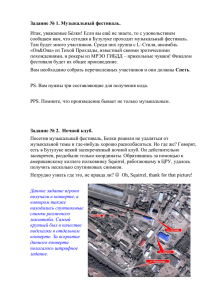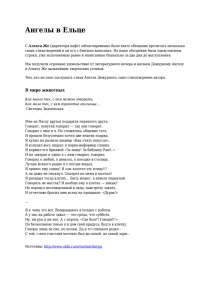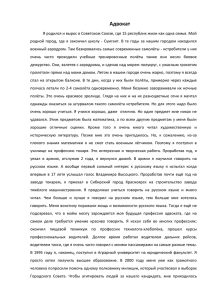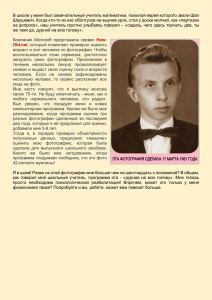Березитовские байки
реклама
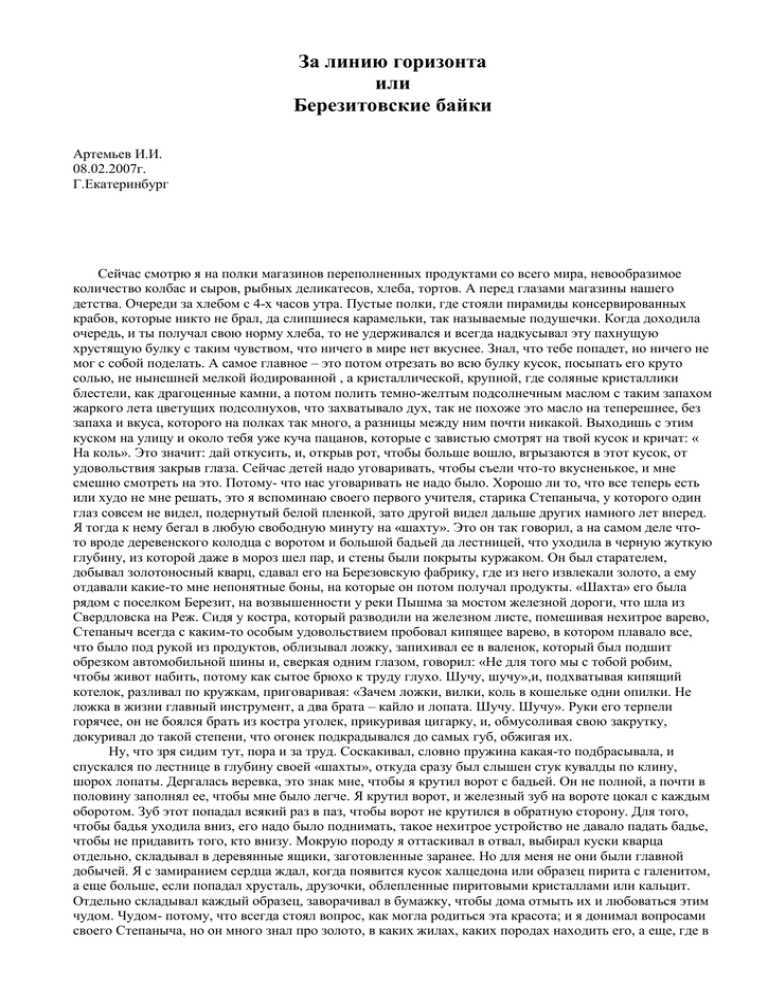
За линию горизонта или Березитовские байки Артемьев И.И. 08.02.2007г. Г.Екатеринбург Сейчас смотрю я на полки магазинов переполненных продуктами со всего мира, невообразимое количество колбас и сыров, рыбных деликатесов, хлеба, тортов. А перед глазами магазины нашего детства. Очереди за хлебом с 4-х часов утра. Пустые полки, где стояли пирамиды консервированных крабов, которые никто не брал, да слипшиеся карамельки, так называемые подушечки. Когда доходила очередь, и ты получал свою норму хлеба, то не удерживался и всегда надкусывал эту пахнущую хрустящую булку с таким чувством, что ничего в мире нет вкуснее. Знал, что тебе попадет, но ничего не мог с собой поделать. А самое главное – это потом отрезать во всю булку кусок, посыпать его круто солью, не нынешней мелкой йодированной , а кристаллической, крупной, где соляные кристаллики блестели, как драгоценные камни, а потом полить темно-желтым подсолнечным маслом с таким запахом жаркого лета цветущих подсолнухов, что захватывало дух, так не похоже это масло на теперешнее, без запаха и вкуса, которого на полках так много, а разницы между ним почти никакой. Выходишь с этим куском на улицу и около тебя уже куча пацанов, которые с завистью смотрят на твой кусок и кричат: « На коль». Это значит: дай откусить, и, открыв рот, чтобы больше вошло, вгрызаются в этот кусок, от удовольствия закрыв глаза. Сейчас детей надо уговаривать, чтобы съели что-то вкусненькое, и мне смешно смотреть на это. Потому- что нас уговаривать не надо было. Хорошо ли то, что все теперь есть или худо не мне решать, это я вспоминаю своего первого учителя, старика Степаныча, у которого один глаз совсем не видел, подернутый белой пленкой, зато другой видел дальше других намного лет вперед. Я тогда к нему бегал в любую свободную минуту на «шахту». Это он так говорил, а на самом деле чтото вроде деревенского колодца с воротом и большой бадьей да лестницей, что уходила в черную жуткую глубину, из которой даже в мороз шел пар, и стены были покрыты куржаком. Он был старателем, добывал золотоносный кварц, сдавал его на Березовскую фабрику, где из него извлекали золото, а ему отдавали какие-то мне непонятные боны, на которые он потом получал продукты. «Шахта» его была рядом с поселком Березит, на возвышенности у реки Пышма за мостом железной дороги, что шла из Свердловска на Реж. Сидя у костра, который разводили на железном листе, помешивая нехитрое варево, Степаныч всегда с каким-то особым удовольствием пробовал кипящее варево, в котором плавало все, что было под рукой из продуктов, облизывал ложку, запихивал ее в валенок, который был подшит обрезком автомобильной шины и, сверкая одним глазом, говорил: «Не для того мы с тобой робим, чтобы живот набить, потому как сытое брюхо к труду глухо. Шучу, шучу»,и, подхватывая кипящий котелок, разливал по кружкам, приговаривая: «Зачем ложки, вилки, коль в кошельке одни опилки. Не ложка в жизни главный инструмент, а два брата – кайло и лопата. Шучу. Шучу». Руки его терпели горячее, он не боялся брать из костра уголек, прикуривая цигарку, и, обмусоливая свою закрутку, докуривал до такой степени, что огонек подкрадывался до самых губ, обжигая их. Ну, что зря сидим тут, пора и за труд. Соскакивал, словно пружина какая-то подбрасывала, и спускался по лестнице в глубину своей «шахты», откуда сразу был слышен стук кувалды по клину, шорох лопаты. Дергалась веревка, это знак мне, чтобы я крутил ворот с бадьей. Он не полной, а почти в половину заполнял ее, чтобы мне было легче. Я крутил ворот, и железный зуб на вороте цокал с каждым оборотом. Зуб этот попадал всякий раз в паз, чтобы ворот не крутился в обратную сторону. Для того, чтобы бадья уходила вниз, его надо было поднимать, такое нехитрое устройство не давало падать бадье, чтобы не придавить того, кто внизу. Мокрую породу я оттаскивал в отвал, выбирал куски кварца отдельно, складывал в деревянные ящики, заготовленные заранее. Но для меня не они были главной добычей. Я с замиранием сердца ждал, когда появится кусок халцедона или образец пирита с галенитом, а еще больше, если попадал хрусталь, друзочки, облепленные пиритовыми кристаллами или кальцит. Отдельно складывал каждый образец, заворачивал в бумажку, чтобы дома отмыть их и любоваться этим чудом. Чудом- потому, что всегда стоял вопрос, как могла родиться эта красота; и я донимал вопросами своего Степаныча, но он много знал про золото, в каких жилах, каких породах находить его, а еще, где в речке надо мыть или, как он говорил «шлихтовать», а вот почему хрусталь то дымчатый, то прозрачный, как слеза, почему халцедон тоже из кристаллов, но очень мелких. Этого он не знал. Объяснял просто: всяк рождается от разных родителей, видать и у камня родители разные. Он с таким житейским восторгом разглядывал интересные образцы, как и я, всегда добавляя: «Да-к мы с тобой тако, может, откопали, что ни один академик очкастый не ответит». И опять добавлял: «Шучу, шучу». Прибаутки сыпались у него, как из дырявой бадьи, и я сожалею теперь, что не записывал их, а запомнить все не смог. Халцедон попадался натечный, похожий на сосульки, или полость заполнялась халцедоном с окисленной пленкой, тогда он переливался в этой пещере всеми цветами радуги. Летом я тоже прибегал к нему, и он со временем уже доверял мне спускаться в забой и опять с шуткой: «Ну, что идем в забой, вызывать породу на бой». Карбидная лампа, чудо горняцкого искусства, кидаешь карбид – это еще негашеная известь, добавляешь воды, и из маленькой трубки идет газ. Поджигаешь, и белое пламя спокойным тихим светом освещает забой. Стены зеленоватого цвета, эта самая золотоносная порода, говорил Степаныч, ее пронизывает кварц, а породу называют «березит» станцию так и назвали по тому месту, где ее открыли. Она, конечно, по всему Березовскому распространена, не токмо тут. Но лучше жила кварца окислена, с малахитом, азуритом, пиритом, с охристым железом, вот в такой жилке золото даже видимое бывает. Иногда и нам видимое попадалось, как кто-то золотыми нитками прошил куски кварца, и то плевком размазал его тонюсенькой пленкой. Отличить его было от пирита, который тоже желтый, просто. Золото мнется, а пирит колется. Степаныч, как с равным, разговаривал со мной и был философ. Работа в забое любого делает философом, и, вылезая из недр земли на свет солнечный, особенно ценишь тепло солнца, зелень травы, шум ветра. Он растягивался в своей робе на траву, ракидывал руки и, задирая ноги, гоготал громко: «Лечу к тебе, Осподи. Лечу». Потом замирал и, глядя на свою «шахту» всегда говорил: «Умирать не страшно, всю жизнь лез под землю, а помру, так туда и опустят – на рабочее место, значит, только без выходных. Шучу, шучу. Не слухай дурака старого. Могила и шахта – это разное». Я становился старше, уже бывал в самоцветной Мурзинке, на Южном Урале, где попадался в Борисовских сопках кианит, а на золотых приисках розовый топаз, и при каждой встрече со Степанычем приносил показать ему те образцы, которые в своей «шахте» он никогда не находил. Он с удивлением их разглядывал и с какой-то грустью говорил: «Всего в мире много, да-к только у каждого своя дорога. Вот и ты меня скоро бросишь. Как тебя манит куда-то, все смотришь: куда бы дальше забраться. Все бежишь за линию гаризонта, а это, брат, вооброжаемая линия, но ты за ней угонишься – больно прыткий». Однажды зимой, возвращаясь от Степаныча, был такой холод, а ноги были напрочь промокшие, что я и не заметил, как они отморозились. Сначала-то «загорели» вроде, а потом перестал чувствовать. Идти не мог и, лежа уже на границе леса рядом с «Эльмашем», я тихо плакал, понимая, что дом рядом, но мне навряд ли дойти. Мне повезло, какие-то лыжники заметили меня. Положили на лыжи и довезли до дома. Что было. Мать с отцом давно уже чувствовали, что мои походы добром не кончаться, ругали, обзывая меня непутевым, чтоб лучше я марки собирал, а не эти камни. Разрезали валенки, налили холодной воды, засунули в тазик мои ноги, и через некоторое время я так выл, что из соседнего дома заглядывали в окно, не понимая, что случилось. Потом гусиное сало, потом повязка. Ну, а дальше кожа слезла, появилась новая малиново-красная, но прошло время – почти месяц. И вот я снова на Березите. Кострище засыпало снегом. Ворот снят. Отвалы похожи на большие сугробы, и я с плохим предчувствием двинул на станцию. На станции мне сказали, что недели две, как Степаныч упал, сломалась перекладина на лестнице, и хорошо, местные железнодорожники-обходчики заметили, что что-то не так. Вытащили его и повезли в Березовский, он не наш не березитовский, и сдали в больницу, но врачи сказали, что поздно. Я вернулся к «шахте», развел костер и просидел до вечера, вспоминая Степаныча, его шутки, прибаутки и, все вспоминая одну философскую байку, что ничто не вечно в этом мире, как в коммунальной квартире: одни приезжают, другие уезжают, одни болеют, другие выздоравливают, но даже порода от времени разрушается, и гранит превращается в дресву, шпат превращается в глину. Но с земли ничто никуда не девается. Из глины сделают миску, и из нее накормят киску. Из руды металлы выплавляют, а потом на них летают. Так что хорошо все, во всем есть смысл. Я затоптал костер, на снегу написал палкой «Прощай, Степаныч» и подписался. Жизнь продолжается, мне хочется дойти до линии горизонта и, сверкая одним глазом, Степаныч всегда рядом, а линия горизонта скоро будет совсем рядом, я уже стал старше Степаныча.