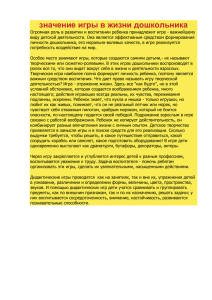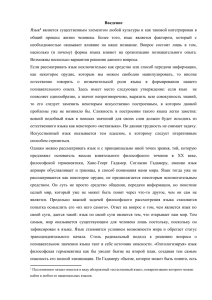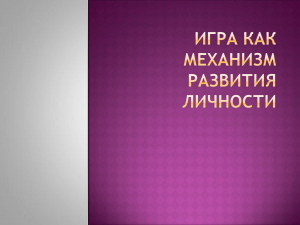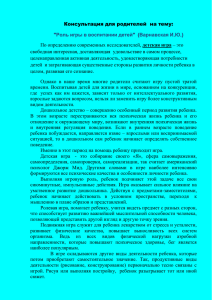Введение к статье Г - Кафедра эстетики и философии культуры
реклама
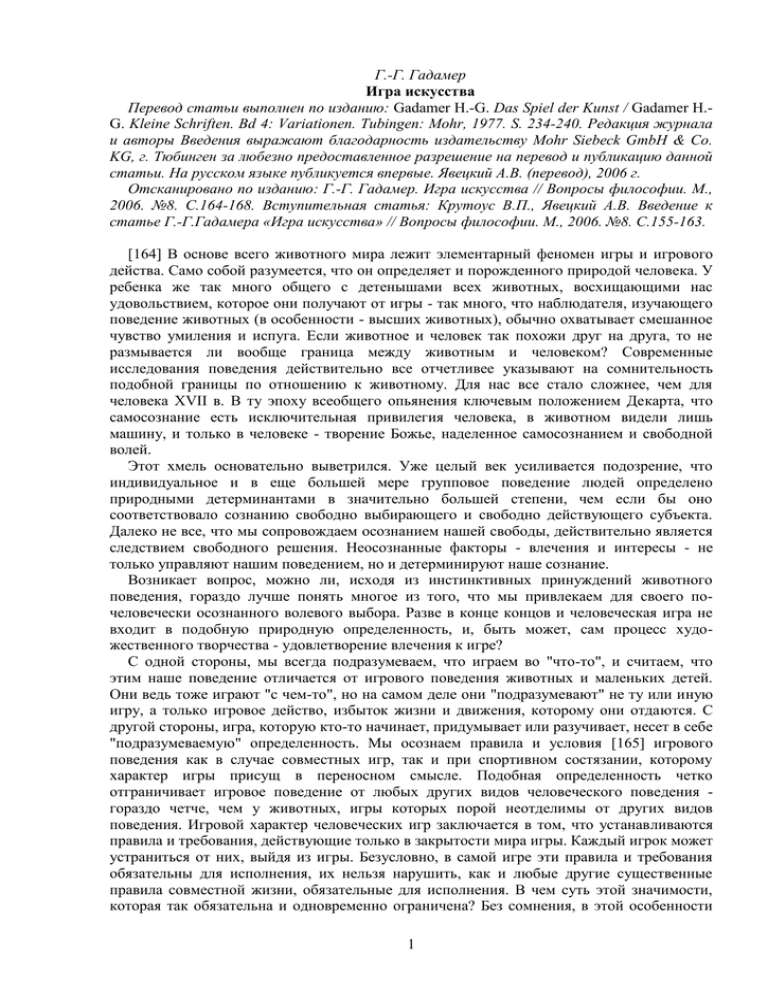
Г.-Г. Гадамер Игра искусства Перевод статьи выполнен по изданию: Gadamer H.-G. Das Spiel der Kunst / Gadamer H.G. Kleine Schriften. Bd 4: Variationen. Tubingen: Mohr, 1977. S. 234-240. Редакция журнала и авторы Введения выражают благодарность издательству Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, г. Тюбинген за любезно предоставленное разрешение на перевод и публикацию данной статьи. На русском языке публикуется впервые. Явецкий А.В. (перевод), 2006 г. Отсканировано по изданию: Г.-Г. Гадамер. Игра искусства // Вопросы философии. М., 2006. №8. С.164-168. Вступительная статья: Крутоус В.П., Явецкий А.В. Введение к статье Г.-Г.Гадамера «Игра искусства» // Вопросы философии. М., 2006. №8. С.155-163. [164] В основе всего животного мира лежит элементарный феномен игры и игрового действа. Само собой разумеется, что он определяет и порожденного природой человека. У ребенка же так много общего с детенышами всех животных, восхищающими нас удовольствием, которое они получают от игры - так много, что наблюдателя, изучающего поведение животных (в особенности - высших животных), обычно охватывает смешанное чувство умиления и испуга. Если животное и человек так похожи друг на друга, то не размывается ли вообще граница между животным и человеком? Современные исследования поведения действительно все отчетливее указывают на сомнительность подобной границы по отношению к животному. Для нас все стало сложнее, чем для человека XVII в. В ту эпоху всеобщего опьянения ключевым положением Декарта, что самосознание есть исключительная привилегия человека, в животном видели лишь машину, и только в человеке - творение Божье, наделенное самосознанием и свободной волей. Этот хмель основательно выветрился. Уже целый век усиливается подозрение, что индивидуальное и в еще большей мере групповое поведение людей определено природными детерминантами в значительно большей степени, чем если бы оно соответствовало сознанию свободно выбирающего и свободно действующего субъекта. Далеко не все, что мы сопровождаем осознанием нашей свободы, действительно является следствием свободного решения. Неосознанные факторы - влечения и интересы - не только управляют нашим поведением, но и детерминируют наше сознание. Возникает вопрос, можно ли, исходя из инстинктивных принуждений животного поведения, гораздо лучше понять многое из того, что мы привлекаем для своего почеловечески осознанного волевого выбора. Разве в конце концов и человеческая игра не входит в подобную природную определенность, и, быть может, сам процесс художественного творчества - удовлетворение влечения к игре? С одной стороны, мы всегда подразумеваем, что играем во "что-то", и считаем, что этим наше поведение отличается от игрового поведения животных и маленьких детей. Они ведь тоже играют "с чем-то", но на самом деле они "подразумевают" не ту или иную игру, а только игровое действо, избыток жизни и движения, которому они отдаются. С другой стороны, игра, которую кто-то начинает, придумывает или разучивает, несет в себе "подразумеваемую" определенность. Мы осознаем правила и условия [165] игрового поведения как в случае совместных игр, так и при спортивном состязании, которому характер игры присущ в переносном смысле. Подобная определенность четко отграничивает игровое поведение от любых других видов человеческого поведения гораздо четче, чем у животных, игры которых порой неотделимы от других видов поведения. Игровой характер человеческих игр заключается в том, что устанавливаются правила и требования, действующие только в закрытости мира игры. Каждый игрок может устраниться от них, выйдя из игры. Безусловно, в самой игре эти правила и требования обязательны для исполнения, их нельзя нарушить, как и любые другие существенные правила совместной жизни, обязательные для исполнения. В чем суть этой значимости, которая так обязательна и одновременно ограничена? Без сомнения, в этой особенности 1 человеческих игр содержать в себе притязание на значимость выражается та свойственная человеческой деятельности предметная содержательность и вещественная соотнесенность, которую философы называют интенциональностью сознания. Это, безусловно, настолько универсальный структурный компонент человеческого здесь-бытия, что именно предметная содержательность игрового действа людей и их способность играть кажутся нам прерогативой исключительно человека. Как известно, об элементе игры говорят, что он присущ всей человеческой культуре. Игровые формы обнаруживаются в самой серьезной человеческой деятельности: в культе, правосудии, социальном поведении, где напрямую говорят о ролевой игре, и т.д. Представляется, что некоторое самоограничение свободной произвольности входит в структуру культуры как таковой. Но значит ли это, что игровое действо объективируется в определенности "подразумеваемого" поведения лишь в человеческой культуре? Похоже, игра и серьезность сплетены друг с другом в еще более глубоком смысле. Не вызывает никаких сомнений, что с любой формой серьезности, как отбрасываемая ею тень, связано возможное игровое поведение. "Делать так, как будто", похоже, выступает в своей частной форме при всякой деятельности, не являющейся простым животным поведением, но которая чтото "подразумевает". "Как будто" (Als-ob) - настолько универсальная модификация, что даже игровое поведение животных порой кажется оживленным дыханием свободы, в особенности когда они делают вид, что нападают, пугают, кусают и т.п. А что означает тот жест подчинения, который мы наблюдаем как разрешение и окончание драки между животными? Судя по всему, здесь также речь идет о следовании игровым правилам. Ни одно животное, победившее в бою, не укусит по-настоящему, если ему будет показан жест подчинения. Это удивительно: символические действия замещают само выполнение действий. Как связать с этим то, что в случае с животными все подчиняется зову инстинкта, а у человека все следует свободному решению? Мне кажется методически необходимым обнаружить именно такие переходные феномены между человеком и животным, чтобы избежать интерпретационных рамок догматического картезианства. Подобные переходные феномены игры и игрового действа позволяют проникнуть в область, доступную пониманию лишь через посредство того, на что она влияет и что она осуществляет. Я имею в виду область искусства. При этом я не считаю убедительным тот переходный феномен, когда в центре внимания находится универсальное стремление природных форм к искусству, в котором, наверное, можно заметить черты избыточности, характерные для выходящей за пределы необходимого и целесообразного формообразующей игры природы. В стремлении к искусству удивителен отнюдь не сам характер влечения, а некое дыхание свободы, присущее его формам. Поэтому подобные символические действия представляют особый интерес. В создании образов человеком решающий момент в искусстве как умении состоит не в том, что получается нечто особенно нужное или слишком красивое, а в том, что человеческая продуктивная деятельность может ставить себе любые подобные задачи и действовать по планам, отмеченным моментом свободной произвольности. Человеческой практике знакомо огромное разнообразие попыток и отказов, удач и неудач. И только там, где можно поступить по-другому, начинается собственно [166] "искусство". Именно там, где мы говорим об искусстве и творчестве в возвышенном смысле, решающим является не получение продукта, а то, что продукт своеобразен. Он "подразумевает" что-то и все же не является тем, что он подразумевает. Это не изделие, которое, как все продукты человеческого труда, предназначено для чего-либо в силу своей полезности. С одной стороны, это - продукт, т.е. нечто, произведенное в человеческой деятельности и существующее здесь и сейчас для того, чтобы им можно было воспользоваться; но произведение искусства как раз не дает использовать себя практически. Оно "подразумевает" не это. У произведения искусства есть что-то от "как будто", которое мы определили как одну из основных черт сущности игры. Это - "произведение" (Werk), 2 потому что оно как бы исполнено. Оно не то, в качестве чего обычно встречается, а замещает что-то. Как и символический жест является не только самим собой, но выражает что-то другое, так и произведение искусства не только оно само в силу факта своего создания. Его можно прямо определить не как сделанный продукт, т.е. не то, что было просто сделано и может быть сделано заново, а как то, что было осуществлено неповторимым путем и стало уникальным явлением. Поэтому мне кажется, что было бы правильнее называть его не произведением, а образом. Ибо в слове "образ" (Gebilde) содержится идея, что это явление оставило позади себя или изгнало в область неопределенного процесс своего возникновения и, полностью замыкаясь на себе, представляет в своей внешней определенности и явлении само себя. Образ не столько отсылает к процессу своего формирования, сколько требует, чтобы его воспринимали как чистое явление в самом себе. Это особенно ощутимо в исполнительских видах искусства. В поэзии, музыке и танце ведь вообще нет ничего от осязаемости вещи в себе, и все же та мимолетная, ускользающая материя, из которой они сделаны, организуется в устойчивое единство неизменного образа. Поэтому мы говорим, что эти образы, тексты, музыкальные композиции, танцы как таковые являются именно произведениями искусства, но сама их сущность невозможна без воспроизведения. Образ - произведение искусства - в воспроизводящих видах искусства нужно постоянно формировать заново. Мусические искусства своей очевидностью на самом деле учат, что репрезентации требуют не только эти исполнительские виды искусства, но в определенном смысле любой образ, который мы называем произведением искусства. Он требует от наблюдателя, перед которым предстает, чтобы тот его выстроил. Образ же не то, чем он является в действительности. Он нечто, чем он не является, к примеру, определенной только своей целью вещью, которую можно применить, или даже материальной вещью, из которой можно изготовить что-то другое. Образ - нечто, что лишь в наблюдателе выстраивается в то, чем он является и саморазыгрывается перед ним. Своеобразный переходный феномен может подкрепить этот тезис - чтение. В строгом смысле это не презентация, характерная для исполнительских видов искусства (если речь идет не о чтении вслух или тем более сценическом чтении). Оно не создает самостоятельной новой действительности, и все же оно во всех отношениях как бы на пути к ней. На этом основании опыт искусства всегда объединяли с понятием игры. Кант описывал незаинтересованность, непрактичность и беспонятийность удовольствия от прекрасного как душевное состояние, в котором наши духовные способности - разум и фантазия играют друг с другом в свободной игре. Спроецировав это описание на фихтевское учение о стремлении, Шиллер отвел роль эстетического поведения побуждению к игре; занимая срединное положение между побуждением к форме и побуждением к материи, оно раскрывает свою собственную свободную возможность. В эстетическом мышлении Нового времени полностью закрепилось такое понимание "доли субъекта" при выстраивании эстетического опыта. Но в опыте искусства представлена и та его сторона, в которой сам игровой характер образа, его "сыгранность", выступает на первый план. Эта особенность по сегодняшний день основывается на древнегреческом понятии мимесиса. [167] Греки различали две формы изготовления вещей: ремесленное изготовление практически нужных вещей и миметическую деятельность, в результате которой не получается ничего "действительного", но нечто только репрезентируется. Последняя форма продолжает жить в том, как мы употребляем язык, говоря о мимическом. Мы ведь используем это слово, не только характеризуя чью-либо мимику, жесты, но в первую очередь говоря о сознательном подражании всему поведению человека, будь то безыскусное передразнивание, либо талантливое воплощение актером своей "роли". В понятии мимического заключена мысль о том, что наше собственное тело является носителем мимического выражения и своего рода искусством в силу того, что оно репрезентирует нечто, чем не является. Роль "играется". Это включает своеобразное 3 притязание на особое бытие. В отличие от сыгранного удивления или сыгранного, лицемерного сочувствия, встречающегося в человеческом общении, миметическая репрезентация не игра-притворство, а игра, которая передается другим как игра, так что ее принимают ни за что иное, кроме того, чем она стремится быть - чистой репрезентацией. В этом - заметное отличие. Лицемерно сыгранное сочувствие, например, хочет, чтобы в него поверили; это притязание остается даже тогда, когда чувствуется его неестественность или вымученность. Напротив, мимическое подражание хочет, чтобы в него не поверили, а чтобы его поняли как подражание. Будучи не ложной, но явно "истинной" видимостью, оно не лицемерно, а "истинно" как видимость. Подражание воспринимается как видимость, что и было задумано. Даже если оставить в стороне сложную проблему о самой сущности видимости, то во всяком случае понятно, что там, где заключена идея сыгранного как бытия, возникающая видимость относится к тому, что называется передачей. Игра искусства-видимости происходит между мной и тобой. Я принимаю образ в его чистом виде, как и ты, и именно это мы называем "передачей": другой приобщается к тому, что я ему передаю, и не просто к части сообщаемого, но он разделяет со мной знание целого так, что мы оба имеем полное знание. Это, очевидно, отличает настоящую передачу от лицемерно сыгранного участия. "Видимость" последнего отнюдь не соединяет меня и тебя; она - ложная иллюзорность, которая создается для другого. Истинная видимость - вот образ искусства. Это настолько общее для всех явление, что даже создатель подобных образов не пользуется преимуществом перед воспринимающим. Именно высказавшись, создатель ничего не утаил, а полностью передал себя. За него говорит его "произведение". Необходимо иметь в виду этот онтологический смысл мимики и мимесиса, чтобы понять, в каком существенном смысле искусству присущ характер игры. Мимика - это повторение (Nach-Ahmung). Это никак не связано ни с соотношением отображения и прообраза, ни тем более с теорией искусства, согласно которой искусство - подражание "природе", т.е. самому из себя сущему. От этого глубокого заблуждения натурализма может уберечь именно рефлексия о сущности мимического. Изначальное мимическое отношение не сводится к отображающему подражанию, при котором стараются максимально приблизиться к прообразу; это скорее демонстрация. Демонстрация означает не показ, например, улики для доказательства чего-то, что иначе недоступно пониманию. Демонстрация вовсе не означает отношения между указывающим и указанным. Она как раз уводит нас от самой себя. Тому, кто смотрит на указывающее, как собака на протянутую ладонь, невозможно ничего продемонстрировать. Под демонстрацией скорее имеется в виду, что тот, кому что-то демонстрируется, должен сам все видеть правильно. Именно в этом смысле подражание является демонстрацией. Ибо в подражании нашему взору всегда открывается немного больше, чем нам предлагает так называемая действительность. Указанное как бы вычитывается из потока многого; ничто другое, кроме указанного, не подразумевается. Только его оценивают как подразумеваемое и таким образом возводят в некую идеальность. Оно больше не имеет тот или иной облик, а является чем-то продемонстрированным и обозначенным. Если видеть то, что один демонстрирует другому, то это неизменно акт идентификации и, следовательно, узнавания. В области искусства это странным образом бросается в глаза, в частности, при репродуктивных повторениях. Удивительно, с какой точностью мы различаем в иллюстрированных [168] журналах при часто великолепном качестве фоторепродукций настоящий фоторепортаж и репродукцию написанного красками портрета или даже в высшей степени реалистичный кадр из фильма. Это не значит, что кадр все-таки в чем-то остался неестественным или реалистический портрет недостаточно выдержан в стиле реализма. Это нечто другое, проступающее даже сквозь газетные репродукции. Аристотель был прав: поэзия в большей степени вскрывает общее, чем это под силу истории как точному описанию фактов и реальных событий. В притворстве поэтической 4 выдумки, скульптурном или художественном конструировании образа, очевидно, становится возможным участие, неодинаково достижимое для случайных действительностей с ограничительными условиями. Фотографическая документация подобной случайной действительности, к примеру, фотосъемка государственного лица, приобретает значение лишь благодаря заранее известной связи. Репродукция художественного портрета выражает свое собственное значение, даже когда изображенный нам незнаком. Она не только дает возможность познать общее, но именно этим объединяет нас вокруг общего для всех. Именно в силу того, что репродуцированное - лишь картина, а не "настоящая" фотография, т.е. лишь "сыгранное", оно включает нас как участников игры. Зная, что подразумевается им, мы так и принимаем его. Исходя из этого, можно оценить, насколько неуместным стало понимание искусства и занятие им в эпоху культурной индустрии, низводящей участников игры до уровня простого эксплуатируемого потребителя. В этой ситуации человеку приписывается ложное самопонимание. Не существует просто зрителя, испытывающего в театре или концертном зале, в музее или при уединенном чтении максимально отвлеченное эстетическое чувство или наслаждение от получаемых знаний. В таком случае он превратно понимает себя самого. Причина кроется в порыве эстетического самопонимания к бегству, чтобы при встрече с произведением искусства увидеть лишь отрешенность или зачарованность, т.е. элементарное освобождение от гнета действительности и наслаждение от подобной иллюзорной свободы. Сравнивая игры, изобретенные и созданные людьми для себя, с игровым движением чистого избытка жизни, лишенным смысловой соотнесенности, мы должны понять именно то, что сыгранное в игре искусства не ставит на место реального мира мир грез, в котором мы забываемся. Игра искусства - это скорее зеркало, на протяжении тысячелетий вновь и вновь возникающее перед нами. В нем мы видим себя - часто в довольно неожиданном или чуждом виде - такими, какие мы есть, какими мы можем быть, что мы собой представляем. Разве в конце концов это не ложная видимость, когда игру и серьезное поведение разделяют так, что игра допускается лишь в отдельных сферах, в пограничных областях серьезного поведения, в свободное время - этот реликт, свидетельствующий о потерянной свободе? В действительности игра и серьезное поведение, движение жизни, вызванное избытком и чрезмерностью, и напряженная сила нашей жизненной энергии теснейшим образом сплетены. Одно вызывает направленную на себя реакцию другого. То, что умение играть в высшей степени серьезная деятельность, не ускользнуло от проницательного ума знатоков человеческой природы. Так, у Ницше мы читаем: "Созреть для мужчины значит снова обрести серьезность, которой он обладал ребенком в игре". Но Ницше, зная и обратное, прославлял в божественной легкости игры творческую мощь жизни и искусства. Настойчиво проповедуемый антагонизм между жизнью и искусством - часть опыта отчужденного мира; это - абстракция, заслоняющая взаимообусловленность искусства и жизни, когда не признается универсальность области действия и онтологическое достоинство игры. Это не столько обратная сторона серьезности, сколько истинное основание живущего естественно духа, обязательство и свобода одновременно. Именно потому, что в создаваемых искусством формах нам является не только чистая свобода произвольности и слепого природного избытка, этот феномен проникает на все уровни нашей общественной жизни, сквозь классы, расы и образовательные институты, ибо эти формы, которые принимает наше игровое действо, суть выражения нашей свободы. В.П.Крутоус, А.В.Явецкий Введение к статье Г.-Г. Гадамера «Игра искусства» [155] Публикуемую ниже статью "Игра искусства" Ганс-Георг Гадамер первоначально прочитал по радио в 1973 г. как доклад и затем опубликовал в так называемом Собрании малых сочинений (1977). В этой небольшой работе он изложил в концентрированном виде 5 некоторые выводы, к которым пришел в своем главном труде «Истина и метод» (1960), а именно - об онтологическом статусе игры как способа бытия произведения искусства. Считается, что в эстетику категорию игры ввели И. Кант и Ф. Шиллер (хотя и до них эстетическая мысль неоднократно обращалась к этому феномену). И это отнюдь не случайно: именно после того, как - с появлением трудов А. Баумгартена - эстетика выделилась в самостоятельную философскую дисциплину (перешла в разряд "эксплицитной" эстетики), и начался процесс ее самоосознания, очерчивания собственной предметной области, а значит, возникла потребность в категориальном аппарате для новой науки, немецкая классическая философия попыталась применить понятие игры в определении эстетического суждения. В чем заключается ценность этого понятия для эстетики? Кант и Шиллер придают игре значение категории, зависящей от субъекта эстетического суждения: для Канта играют познавательные способности субъекта - воображение и рассудок, для Шиллера речь идет об одновременном взаимодействии двух видов побуждений - побуждения чувственного и побуждения к форме. В итоге человек способен выносить эстетическое суждение, основанное не на понятии, а исключительно на представлении. Но ни в том, ни в другом случае мы не выходим за рамки познавательных способностей самого субъекта. Между тем бытие игры - такое, каким оно предстает в действительности выходит за рамки познающего субъекта и человеческого общества в целом. На то, что потребность играть присуща не только человеку, но и животным, обращал внимание и Шиллер, но игру как универсальное, не редуцируемое к познавательной активности человека явление детально рассмотрела лишь психология столетие спустя: во второй половине XIX в. Карл Гроос создал общую теорию игры (работа "Человеческая игра" вышла в 1899 г.). Для Грооса игра - это биологически неоправданный вид деятельности, который выполняет психотерапевтические функции, несет с собой катарсис. В моделировании условного поведения Гроос видит принципиальное сходство игры и искусства: игра создает [156] наравне с реальным миром мир условный, где действуют особые законы, отличные от законов действительности. В процессе игры мы сознаем нашу психологическую двойственность, и сама игровая деятельность сообщает нашей психике тонизирующий импульс. Таким образом, как игра, так и искусство стимулируют психику без эмоциональных потрясений и через моделирование реальности помогают индивиду ориентироваться в различных жизненных ситуациях1. Итак, основное назначение игры кажется ясным: доставлять удовольствие от неутилитарной деятельности, не определенной биологическими потребностями. Понятие игры в дальнейшем затрагивали и марксисты, и фрейдисты. Так, Г.В. Плеханов придерживался противоположной гроосовской точки зрения на происхождение игры: в мире высших животных и в мире человека игра определяется ведущей деятельностью, необходимой для поддержания жизни; она представляет собой функцию утилитарной деятельности2. Его главный, сформулированный в духе исторического материализма, тезис гласит: "Утилитарное предшествует эстетическому [отношению]". Плеханов обращает внимание на общее между трудом, игрой и искусством - на удовольствие, которое человек получает от применения своих сил (на что уже указывал В. Вундт): потребность в игре и, вместе с тем, в искусстве вызвана потребностью вновь пережить удовольствие, испытанное ранее в реальной деятельности. Связь между трудовыми формами деятельности и игрой подтверждается мимическим изображением телодвижений3, выполняющим воспитательную функцию. Фрейдизм, утверждая, что удовольствие коренится в удовлетворении первичных желаний, в первую очередь - сексуальных и деструктивных, которые не совместимы с понятием общественно полезного труда, автоматически выдвигает прямо противоположный взгляд на игру. Вспомним, с каким наслаждением дети топчут песочные замки или снежных баб, сделанных чужими руками, и как уже это проявление влечений осуждается взрослыми. Жестокость выступает оборотной стороной свободы; в 6 отличие от труда деструктивная деятельность бессмысленна (с точки зрения общества) и рационально не оправдана. Тем сильнее наше стремление в редкие часы досуга уйти от утомляющей необходимости тратить свои силы в пользу деятельности, которую общество считает приемлемой. Так можно ли согласиться с тем, что эстетическая функция игры основана исключительно на воспоминании о наслаждении, испытанном при труде? По мнению Г. Маркузе, принцип удовольствия выходит настолько далеко за пределы трудовой деятельности, что вступает с ней в антагонистические отношения. Труд в том виде, в каком он представлен в современной цивилизации, отчуждает человека от собственных инстинктов и желаний, направленных на удовлетворение потребности в наслаждении. Снять растущее напряжение между бессознательным, управляющим влечениями, и репрессивным "Сверх-Я" удается лишь "по ту сторону" принципа реальности - в игре. Рожденная фантазией, она обладает способностью связывать бессознательное с сознанием, вносить гармонию в соотношение "разум-чувственность". Антитезу "игра-труд" Маркузе иллюстрирует с помощью образов Нарцисса и Орфея как символов созерцательности и свободной игры искусства - сферы, где подавленный необходимым трудом индивид может вновь обрести равновесие между "Оно" и "Я" и стать человеком в полном смысле слова4. Вообще, свободе как одному из важнейших атрибутов игры и искусства "эксплицитная" эстетика уделяла особое внимание практически с момента своего возникновения. Если Кант понимал свободу исключительно гносеологически - как не ограниченное понятийными рамками взаимодействие познавательных способностей, присущее субъекту a priori, то Шиллер связал это понятие с деятельностью духа, не ограниченной внешними, материальными рамками. Эстетическая свобода проявляется в том, что для человека становятся самоценными не предметы реального мира, а видимость, образы, которые только в себе содержат собственное основание5. Признавая свободное от внешнего мира бытие образа, который создается (вернее, домысливается) человеком по субъективно значимым основаниям, Шиллер делает шаг в сторону [157] онтологизации игры: не свобода рождает игру, а наоборот - игра является необходимой предпосылкой эстетического расположения духа, дарующего человеку свободу . В таком случае игра выступает в роли одной из важнейших бытийных категорий вообще, действие которой распространяется не только на область эстетического освоения действительности, но и на всю культуру. Согласно Йохану Хейзинге, игра как деятельность, не обусловленная ни биологически, ни физиологически, принципиально одинакова как в мире людей, так и в мире животных: в обоих случаях она является свободным действием, совершаемым без принуждения биологических либо других внешних потребностей. Благодаря тому, что игра перерастает рамки функций жизнеобеспечения, она, как считает Хейзинга, получает совершенно особый смысл, не выводимый рационально. На первый взгляд игра - пустое занятие; однако наблюдатель приходит к такому мнению потому, что игру невозможно обосновать какой-то практической пользой. То напряжение, в котором пребывают играющие, для стороннего наблюдателя-рационалиста неразумно, так как затраченную энергию, с его точки зрения, можно было бы использовать более продуктивно. Однако Хейзинга, как до него Шиллер, видит в свободе игровой деятельности возможность для оправдания ее кажущейся бесцельности. В игре господствуют строго определенные правила, отграничивающие ее пространственное и временное измерение от реального мира. Отклонение от этого порядка равносильно нарушению самой игры, т.е. подчинению имманентной целесообразности игры (о которой упоминал еще Кант) тем утилитарным меркам, которые устанавливаются в реальности. Из рассуждений Хейзинги можно сделать вывод, что замкнутость и порядок четко отделяют обыденное поведение от игрового. Игра выражает особый смысл, "недействительный" в реальном мире. Она строит свою реальность, к которой неприменимы категории мудрости и глупости, истины и лжи, добра и зла 8. Этим 7 объясняется родство игры и эстетической деятельности: создавая произведение искусства в виде образа (по Шиллеру) или воспринимая его, человек конструирует "мир в мире", который не подчиняется ограничивающим требованиям понятий. Подобно игре, произведение относительно автономно по отношению к своим творцам. Как писал Мартин Хайдеггер, оно "восставляет" свой собственный мир - то непредметное метафизическое пространство, где совершается бытие9. Мы неслучайно упомянули об относительной автономности произведения искусства и лежащей в его основе игры. При всей своей погруженности в другой мир участник и зритель никогда не забывают, что находятся в мире видимости - ими овладевает самоценная "иллюзорная реальность". Заканчивается игра - и мы вновь принадлежим этому миру, где правит обыденность. Таким образом, игровое противопоставляется серьезному как модель другого, альтернативного мира. Здесь возникает вопрос: как "реальность" видимости соотносится с реальностью повседневной? Какая из них может считаться онтологически и гносеологически "исходной"? Хайдеггер (а вслед за ним и Гадамер) рассматривает значение искусства не с позиции субъекта, формирующего в процессе познания понятие об объекте; для фундаментальной онтологии бытие и его истина лежат "над всяким сущим и всякой возможной сущей определенностью сущего"10. Тем не менее бытие раскрывается в своей истинности через сущее, или "здесь-бытие" - то, что доступно наблюдению. Сущее самообнаруживается для нас, раскрывается как то, что оно есть, и является в своей истинности и непонятийности. Именно так "ведет себя" художественное творение: оно "восставляет" свой собственный мир, где свершается бытие. Безусловно, в известном смысле любое сущее имеет свой "свершающийся" мир, но именно на примере произведения искусства явственнее всего можно увидеть, как через сущее самораскрывается бытие. Хайдеггер приходит к выводу, что не существует принципиального различия между произведением (добавим: а также игрой), создаваемым им миром и любым другим сущим; каждое здесь-бытие, подобно художественному творению, воздвигает собственный мир. [158] С другой стороны, здесь-бытие не всегда раскрывается как то, чтб оно есть, и тут нам на помощь приходит произведение искусства. В фундаментально-онтологическом плане оно "нагляднее" всего выступает как то, чтб оно есть, т.е., не указывая на нечто другое, раскрывает свою истинную сущность именно в качестве произведения искусства. В таком случае возникает закономерный вопрос: как происходит процесс самораскрытия бытия через сущее? Каков принцип, по которому размыкается истина? Поскольку бытие самораскрывается через сущее, то было бы разумно взять за основу для онтологической экспликации такое сущее, которое порождает максимальное количество смыслов, т.е. максимально расширяется за собственные пределы. Опираясь на идеи Хайдеггера, Г.-Г. Гадамер предлагает рассматривать в качестве такого источника истины произведение искусства. В сущности, он обосновывает новый метод, основанный на онтологическом анализе художественного произведения. При этом возникает необходимость в категории, отражающей тот способ, которым бытие свершается в произведении искусства и тем самым раскрывается как заключенная в нем истина. Таким исходным понятием философской герменевтики Гадамера выступает игра. С одной стороны, прекрасное связано со свободной игрой воображения, создающего образы и не стесненного силой разума, стремящегося к понятийному единству. Но, с другой стороны, играют не столько способности человека, сколько само произведение искусства; вместе с воспринимающим оно включается в игру, которая не зависит от игрока, а, наоборот, обретает над ним господство11 (похожие идеи встречались у Хейзинги). В ней нет ни субъекта, ни объекта; единственный субъект - сама игра, которая есть "саморепрезентация". Как видим, Гадамер помещает феномен игры в основу бытия произведения искусства. Более того, лишая игру субъективной трактовки, свойственной 8 Канту и Шиллеру, он распространяет ее действие на все бытие, придавая тем самым игре онтологический статус. Говоря вообще, игра - это элементарная функция человеческой жизни, ритмическое повторение движения в противоположных направлениях, не связанного с определенной целью. Ее главная особенность - в ней участвует разум, отвечающий за соблюдение определенных правил, однако в ней нет целеполагания, есть лишь иллюзия цели. Это достигается за счет того, что игровые движения самоупорядочиваются, приобретают ритмичность и, таким образом, игра складывается в структуру: происходит качественное изменение, создание новой реальности через преображение. Любопытно, что почти одновременно с публикуемой ниже работой Гадамера (с разницей в несколько лет) вышла статья Ю.М. Лотмана12, в которой глава московско-тартуской школы семиотики искусства и культуры также касается феномена двойственности игры. По его мнению, сущность игровой деятельности заключается в одновременном сосуществовании условного и обыденного отношений к той действительности, которая представлена в мире игры; сознавая, что все делается "понарошку", игрок, тем не менее, относится к происходящему так, как если бы это была реальная ситуация. (Напомним, что о психической двойственности субъектов игры писал еще Гроос; Хейзинга говорит об отличии игрового поведения от обыденного, хотя в "Homo ludens" игра формирует всю культуру в целом, даже обыденное поведение.) Лотман, как и Гадамер, смещает акцент с культурно-антропологических характеристик субъекта игры на структуру самой деятельности, где каждый элемент соотносится, по крайней мере, с двумя структурами: реальной действительностью и воображаемым миром. Играя, человек постоянно сознает, что существует возможность других значений одного и того же элемента; альтернативность, снятие ограничений в выборе значений придает игре ту гибкость, которая особенно характерна для искусства. В сущности, у Лотмана искусство предстает как разновидность игровых моделей, но отличается от последних положительным содержанием: если игра - всего лишь познавательная модель, т.е. аналог действительности, то искусство есть овладение самой действительностью, выражение истины о мире. Таким образом, игра выступает [159] организующим принципом эстетической деятельности, но сама по себе не обладает тем богатством информации, которое несет произведение искусства13. В искусстве, как и в игре, необходима множественность толкований, иначе преобладание одного вида поведения приведет к тому, что любая вещь будет восприниматься либо как нечто чисто утилитарное, либо как знак чего-то другого. Но главное отличие игры от искусства состоит в следующем. Игра - "один из путей превращения отвлеченной идеи в поведение"14, тогда как художественные модели организуют и интеллект, и поведение одновременно. В свете структурального подхода это значит, что игра - аналог деятельности, а произведение искусства - аналог реального объекта. Однако Лотман не противопоставляет игру художественной модели; напротив, игровое начало сообщает произведению искусства то "мерцание смыслов", которое характерно для включения одного элемента в различные структуры и, следовательно, для одновременной актуализации этих поливалентных связей. Расширяя свою значимость, один и тот же элемент порождает несколько смыслов и тем самым делается неравным самому себе, "перерастает" себя. Согласно одному из положений фундаментальной онтологии М. Хайдеггера, выход сущего за собственные пределы означает раскрытие через него самого бытия и, как следствие, возможность познать истину. Переводя Лотмана и Гадамера на хайдеггеровский язык, можно сказать, что именно искусство и есть та сфера, где человеку является совершающаяся в сущем подлинность бытия. При этом Лотман видит в искусстве, прежде всего, аналог действительности, имеющий наравне с "чисто" эстетической (удовольствие) также гносеологическую ценность. 9 То, что элементы "старой" реальности включаются в новые связи и таким образом приобретают новое значение уже в рамках новой структуры, сближает концепцию игры Гадамера со структурным подходом Лотмана. Еще больше сходных моментов мы найдем, если сравним следующие характеристики игры как структуры. а) Повторяемость для Гадамера - возможность повторить структуру игры столько раз, сколько угодно. Это значит, что игра воспринимается и осуществляется как единое целое, несмотря на случайные отклонения, характерные для конкретного исполнения игрового действа. Повторяемость обеспечивает так называемую герменевтическую идентичность, благодаря которой игра, наравне с произведением искусства, всегда остается сама собой. К основному преимуществу повторяемости Лотман относит право игрока повторить неудавшийся ход, переиграть - но только в рамках установленных правил; таким образом, игра отличается высокой степенью определенности по отношению к аморфной, неструктурированной реальности. б) Вариативность: поскольку игра совершается в пространстве (а любое присутствие, согласно Хайдеггеру, пространственно в соответствии со способом бытия сущего15), постольку игровые движения совершаются с определенной долей свободы, что позволяет говорить о своего рода самодвижении и определить игру как "феномен трансцендирования бытия живого"16, признав ее имманентной жизнедеятельности как таковой. Для Лотмана же вариативность - прежде всего, свобода непосредственно при исполнении либо восприятии игрового действа, что гарантирует множественность толкований произведения искусства и тем самым гибкость и высокую информативность системы. в) Сопричастность: игра требует внутреннего участия всех, кто как-либо в нее вовлечен; это качество превращает зрителя в участника и дает возможность дать третье определение игры как коммуникативного действия (которое можно понимать как, к примеру, передачу опыта предыдущих поколений (Плеханов) или как объединение индивидов в культурное сообщество (Хейзинга)). Гадамер понимает сопричастность как усилие со стороны зрителя, направленное на понимание игры в ее целостности. Задача зрителя заключается в активном "достраивании" смысла, следовательно, он должен принимать непосредственное участие в игровом действе. Последовательная разработка этого тезиса приводит к признанию тождества играющего и зрителя: игра [160] становится своим собственным зрителем; игра есть "саморепрезентация игрового действия"17. Последний пункт представляется ключевым для философской герменевтики. Он приводит Гадамера к выводу о том, что художественное творение "воздвигает само себя в своем бытии, принуждая созерцателя быть при нем"1 - оно является его собственным бытием, независимым от его сознания. Зритель "растворяется" в этом бытии, которое становится эстетическим опытом, преобразующим самого зрителя. Противоречие между субъектом и объектом оказывается снятым, и произведение искусства раскрывается как целый мир в своем мире. То, что игра лишает игроков инициативы и выступает как субъект самой себя, подтверждает ее онтологический статус. В то время как Лотман подчеркивает вторичность игры, ее зависимость от сознания субъектов игровой деятельности (которые обеспечивают повторяемость игры и по своему усмотрению могут повлиять на ее протекание, "переходить", чтобы исправить неудачный ход), Гадамер вообще отказывает игрокам в способности управлять игрой. Для него сама игра управляет играющими, достигает через них своего воплощения и воздвигает не вторичный по отношению к реальности мир, а новую действительность. К ней неприменимы понятия прежнего мира она являет собственную истину, имеющую полное право на существование. Благодаря этому произведение искусства живет в веках, и каждый раз оно говорит по-новому, но всегда - свою истину. 10 В сущности, "Игру искусства" можно рассматривать в качестве своеобразного введения в проблему онтологического значения феномена игры. В этом отношении она, как сказано, концептуально приближаясь к фундаментальной онтологии Хайдеггера, логически продолжает эстетическую концепцию игры, выдвинутую в "Истине и методе". С точки зрения метода "Игра искусства", определяя игру как способ самораскрытия бытия в произведении искусства, снимает важную неопределенность хайдеггеровских рассуждений на эту тему. Гадамер не только попытался обосновать категорию игры в рамках философской эстетики, но и представить ее как онтологический феномен, дающий возможность познать истину как играющее бытие. Для Гадамера важно найти такой метод, при котором сам процесс познания не укладывался бы в понятийные рамки, навязанные разумом, а описывался бы адекватно той степени свободы и "неуловимости", с которой он проходит. Наиболее плодотворной в решении этой проблемы оказывается категория игры. Не избежав в своей игровой концепции искусства влияния "классической" кантовской эстетики, Гадамер - как последователь Хайдеггера и создатель "философской герменевтики" - переосмысливает понятие игры в духе последовательной его онтологизации. Для него игра - это универсальная форма существования, которая с определенными видоизменениями проявляется на разных "этажах" реальности: в мире неорганическом, животном, в человеческом обществе (имеются в виду Dasein - "здесьбытие"; феномены культуры - религиозные культы, правосудие и т.п.). Уже на базисных ступенях развития игру характеризует "избыточность" - некоторое превышение форм бытия над уровнем необходимости и целесообразности (в телеономическом, питтендраевском смысле). В этом плане можно говорить - полуметафорически - об "игре света", "игре красок" в природе. У животных, а также у маленьких детей имеет место "игровое действо" - пока еще не игра в высшем смысле, а только деятельно проявляемый избыток жизненных сил, энергии организма. Но уже на этом элементарном уровне дает о себе знать одна из сущностных черт игры - разграничение действий реальных и символических, замена первых вторыми. Так, играя, животные имитируют защиту, нападение и т.п. реальные действия. Следовательно, они различают планы жизненно необходимый и условный, игровой. Игра - проявление свободы. И в какой-то степени ее дыханием осенены даже игровые действа животных. Человек, в отличие от животных, способен к сознательным волевым действиям; он субъект предметно-преобразующей активности. Благодаря этому человеческая игра поднимается на новую ступень. В деятельности человека, в его культуре порыв к свободе [161] сочетается с тенденцией самоограничения. Человеческая игра приобретает определенность, подчиняясь свободно установленным правилам, нарушать которые участники игры не вправе. Так формируется особый, замкнутый в себе "мир игры". Искусство по способу своего бытия есть, согласно Гадамеру, один из наивысших, наиболее сложных видов человеческой игры. Но, утверждая это, философ одновременно стремится не допустить отрыва вершины игровой иерархии от ее основания, базиса. Настоятельное подчеркивание качественного отличия человеческой игры (и художественной игры в особенности) приводит, считает он, к абсолютизации рационального, сознательного компонента в них. В противовес этому Гадамер акцентирует роль инстинктивных, природных детерминант игровой активности человека. По его мнению, истоки художественной игры коренятся глубоко в основаниях природного бытия, в обусловленных им влечениях и инстинктах. Рационалисты со времен Декарта стараются провести самую резкую разграничительную линию между человеком, мыслящим существом, и животными, подвластными якобы лишь зову инстинктов. Время подобных рационалистических упрощений осталось далеко позади, считает философ. В действительности эта грань не столь абсолютна и непроницаема. "Разве в конце концов и человеческая игра не входит в подобную природную определенность, и, быть может, сам процесс художественного творчества - удовлетворение влечения к игре?" 11 Игровой характер искусства проявляется во всех его значимых компонентах: в творческой деятельности, произведении искусства, восприятии творения, наконец, в социокультурном функционировании искусства. Рассматривая каждое из этих образований, Гадамер постоянно разграничивает два плана - серьезный и игровой, утилитарный и неутилитарный. Они противоположны друг другу, но тем не менее связаны и настолько глубоко друг в друга проникают, что выделить свободную, чистую игровую деятельность - а именно такова "игра искусства" - очень непросто. Существует большой соблазн принять за искусство смежные с ним, практические по сути, формы деятельности. В результате тонкого, тщательного анализа философ отделяет и дезавуирует все "суррогатные", неспецифические, псевдохудожественные феномены, открывая путь к постижению искусства в его подлинной сущности. Гадамер начинает свой анализ с художественно-творческой деятельности. (Субъект творческого процесса - художник - пока остается в тени, о нем будет сказано в своем месте, ближе к концу текста.) Творческая деятельность в искусстве охарактеризована как игровая; следовательно - свободная, осененная "духом", сочетающая в себе одновременно произвол и обязательство. Любой серьезной, практической деятельности сопутствует, как тень, ее аналог-антипод: формосозидание по принципу "как будто". Это основополагающий, конституирующий признак человеческой игры. Из нее через посредство целого ряда культурных феноменов - ритуалов, обрядов, зрелищ и т.п. возникает собственно искусство. Все полярности и специфические особенности, присущие художественно-творческому процессу, получают свое развернутое выражение в результативном образовании произведении искусства. Анализ последнего занимает в концепции Гадамера центральное место. И опять в качестве лейтмотива возникает антитеза: утилитарное - неутилитарное. Результатом практически-преобразующей деятельности является изделие. Оно создано для определенного реального употребления, для получения известной пользы. И применив те же формосозидающие приемы, можно создать такое же изделие повторно. Произведение же искусства, создаваемое по особой - свободной, игровой - "технологии", радикально отличается от изделия. К числу его наиболее существенных отличительных свойств Гадамер относит: 1) символически-духовный характер результата творческой деятельности; 2) уникальность произведения как следствие неповторимости творческисозидательного процесса; 3) отъединение, обособление произведения от процесса его порождения. В результате произведение предстает перед нами как завершенная в себе, кристаллизированная (структурированная) целостность, как самоценность. Оно не отсылает к чему-то вне его лежащему (истории [162] возникновения, в частности), а фокусирует все внимание исключительно на себе. (Акцентируя этот "суверенный" момент, философ предлагает заменить наименование "произведение искусства" термином "образ" как более адекватным сути дела.) 4) Следующее свойство образа-произведения это его игровой характер, его "сыгранность". Раскрывая эту особенность, Гадамер обращается к опыту исполнительских искусств и, в частности, актерского творчества. Этот опыт он считает универсальной моделью для искусства как такового. Подобно тому как роль играется актером, выставляется на всеобщее обозрение, так и произведение репрезентирует самое себя. Греки называли это "мимесисом", но фактически речь здесь идет о мимике, мимической способности (актера, творца искусства и любого человека участника общения). Образ-произведение многозначен и обращен к субъектам восприятия, а значит, заранее предполагает множество интерпретаций. 5) Наконец, последняя особенность произведения: оно образует некое устойчивое единство, которые мы различаем во множестве ситуативных модификаций и вариаций. Эту "идентичность", "идентификацию" Гадамер связывает с известным местом из "Поэтики" Аристотеля: "...поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история - о единичном"19. 12 Художественное восприятие, по Гадамеру, такое же активное и игровое, как и авторское творчество. В нем строится образ. В нем реципиент понимает то общее, идентичное, что заключено в произведении (образе). В свою очередь, образ обретает свое реальное бытие только во всем богатстве своих индивидуальных (актуальных и потенциальных) интерпретаций. Произведение искусства и "аура" его интерпретаций, реальных и потенциальных, сливаются в одно целое. "...Неразличение интерпретации и самого произведения выступает в герменевтике Гадамера как необходимое условие его подлинного постижения"20. Игра искусства - это своеобразная форма общения ее участников. Феномен игры объединяет всех - автора, исполнителей, "сыгранный" образ, воспринимающих. Но и здесь следует видеть различие между обычным, практическим общением субъектов и художественно-игровой коммуникацией. Принцип "как будто" действует в любой человеческой игре, помимо художественной; такая "игра" как лицемерие имеет вполне определенную "утилитарную цель" - обман. Когда же актер на сцене создает нечто фиктивное, он не старается кого-то обмануть. Создаваемый им образ - чистая видимость (в шиллеровском смысле), и именно ее он сообщает зрителям. Здесь происходит коммуникация на сугубо идеальном, духовном уровне. Художественная игра передается и транслируется именно и только как игра. В неспецифическом общении передается узконаправленная информация, частная, частичная по своему объему и характеру. Формой подачи такой информации может быть указание. Иная ситуация - в художественной коммуникации. Здесь имеет место демонстрация: участнику игры предъявляется вся полнота образа, которую тот должен охватить и освоить сам. В такой коммуникации автор и реципиент равны - каждому доступна вся полнота того, что передается. Каково предназначение искусства? На этот вопрос - считает философ - тоже можно ответить двояко. Игру искусства можно интерпретировать как создание "мира грез", в котором человек ищет спасения от конфликтов, драм и ужасов бытия; такой подход превращает искусство в утилитарное, по сути, средство - средство утешения. Для Гадамера игра искусства нечто принципально иное: уникальный, ничем не заменимый способ полагания и постижения истины человеческого бытия. Его итоговое суждение на этот счет созвучно - оставляя в стороне имеющиеся различия - тому определению предназначения искусства, которое дано в шекспировском "Гамлете": цель театра "во все времена была и будет: держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное - низости, и каждому веку истории - его неприкрашенный облик" (перевод Б.Л. Пастернака). Призвание искусства- показывать истину бытия в формах художественной игры, столь близкой и гению сцены, и мэтру герменевтической философии. Примечания 1 См.: Кривко-Апинян Т.А. Мир игры. СПб.: Эйдос, 1992. С. 39. 2 Плеханов Г.В. Эстетика и социология искусства. В 2-х т. М.: Искусство, 1978. Т. 1. С. 208. 3 Там же. С. 203, 205. 4 См.: Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: исследование идеологии развитого индустриального общества. М.: ООО Издательство ACT, 2003. С. 79, 149, 168169. 5 Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека / Шиллер Ф. Собрание сочинений в 7 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. Т. 6. С. 343-347; ср. Его же "Отрывки из лекций по эстетике" (Шиллер Ф. Собрание сочинений в 8 т. M.-JL: Гослитиздат, 1950. Т. 6. С. 105). 6 Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. С. 297, 316, 317-319, 321, 342. 13 Хейзинга Й. Homo ludens; Статьи по истории культуры. М.: Прогресс-Традиция, 1997. С. 21. 8 Там же. С. 26. 9 Хайдеггер М. Исток художественного творения / Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 77. 10 Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2002. С. 38. II См.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 148, 152. 12 Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме "Искусство в ряду моделирующих систем" / Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: Искусство-СПб, 2000. 13 Лотман Ю.М. Ук. изд. С. 397, 399. 14 Там же. С. 400. 15 Хайдеггер М. Бытие и время. С. 101. 16 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 288. 17 Там же. С. 289, 291-293. 18 Гадамер Г.-Г. Ук. изд. С. 109. 19 Аристотель. Сочинения. М.: Мысль, 1983. Т. 4. С. 655. 20 Перов Ю.В. Герменевтика и эстетика / История эстетической мысли. В 6-ти т. М.: Искусство, 1990. Т. 5. С.86. I 14