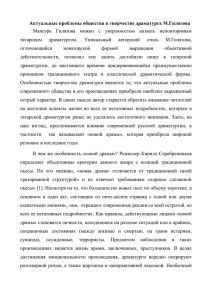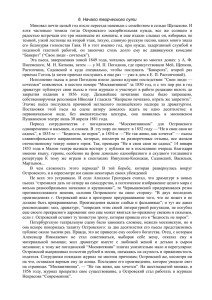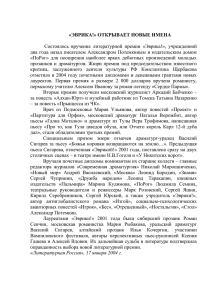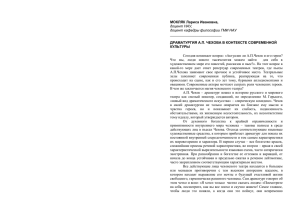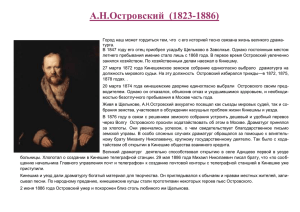Потому что родился в четверг
реклама
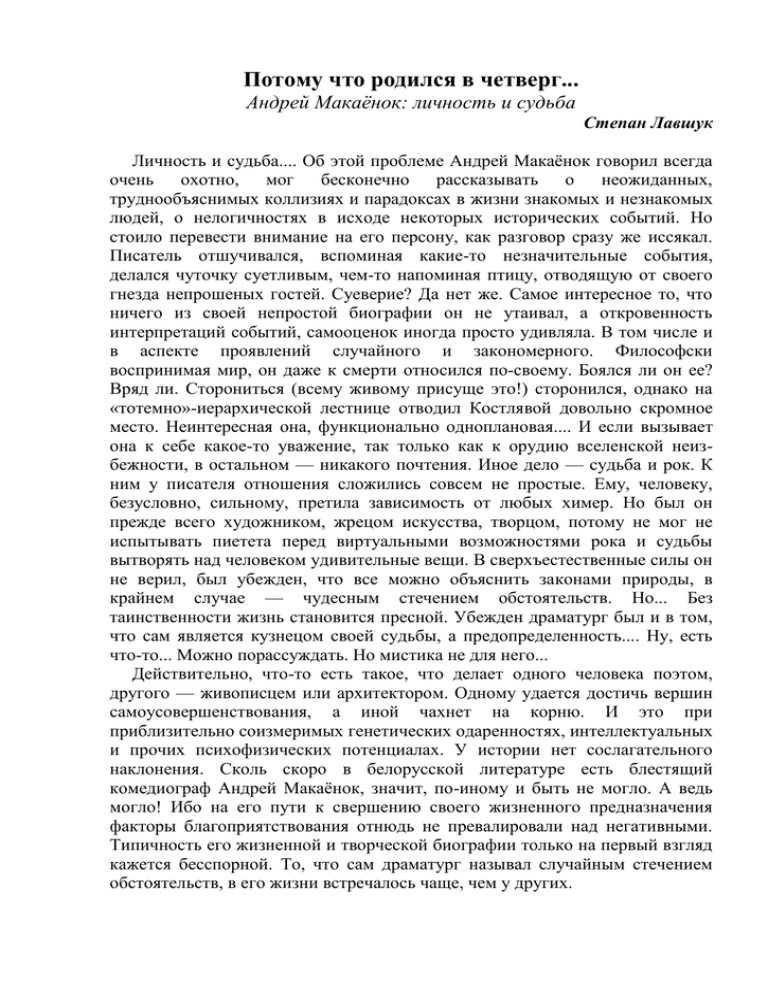
Потому что родился в четверг... Андрей Макаёнок: личность и судьба Степан Лавшук Личность и судьба.... Об этой проблеме Андрей Макаёнок говорил всегда очень охотно, мог бесконечно рассказывать о неожиданных, труднообъяснимых коллизиях и парадоксах в жизни знакомых и незнакомых людей, о нелогичностях в исходе некоторых исторических событий. Но стоило перевести внимание на его персону, как разговор сразу же иссякал. Писатель отшучивался, вспоминая какие-то незначительные события, делался чуточку суетливым, чем-то напоминая птицу, отводящую от своего гнезда непрошеных гостей. Суеверие? Да нет же. Самое интересное то, что ничего из своей непростой биографии он не утаивал, а откровенность интерпретаций событий, самооценок иногда просто удивляла. В том числе и в аспекте проявлений случайного и закономерного. Философски воспринимая мир, он даже к смерти относился по-своему. Боялся ли он ее? Вряд ли. Сторониться (всему живому присуще это!) сторонился, однако на «тотемно»-иерархической лестнице отводил Костлявой довольно скромное место. Неинтересная она, функционально одноплановая.... И если вызывает она к себе какое-то уважение, так только как к орудию вселенской неизбежности, в остальном — никакого почтения. Иное дело — судьба и рок. К ним у писателя отношения сложились совсем не простые. Ему, человеку, безусловно, сильному, претила зависимость от любых химер. Но был он прежде всего художником, жрецом искусства, творцом, потому не мог не испытывать пиетета перед виртуальными возможностями рока и судьбы вытворять над человеком удивительные вещи. В сверхъестественные силы он не верил, был убежден, что все можно объяснить законами природы, в крайнем случае — чудесным стечением обстоятельств. Но... Без таинственности жизнь становится пресной. Убежден драматург был и в том, что сам является кузнецом своей судьбы, а предопределенность.... Ну, есть что-то... Можно порассуждать. Но мистика не для него... Действительно, что-то есть такое, что делает одного человека поэтом, другого — живописцем или архитектором. Одному удается достичь вершин самоусовершенствования, а иной чахнет на корню. И это при приблизительно соизмеримых генетических одаренностях, интеллектуальных и прочих психофизических потенциалах. У истории нет сослагательного наклонения. Сколь скоро в белорусской литературе есть блестящий комедиограф Андрей Макаёнок, значит, по-иному и быть не могло. А ведь могло! Ибо на его пути к свершению своего жизненного предназначения факторы благоприятствования отнюдь не превалировали над негативными. Типичность его жизненной и творческой биографии только на первый взгляд кажется бесспорной. То, что сам драматург называл случайным стечением обстоятельств, в его жизни встречалось чаще, чем у других. Ему часто везло. С самого раннего детства. Повезло появиться в семье незаурядных родителей (свершился сей факт 12 ноября 1920 года в деревне Борхов нынешнего Рогачевского района Гомельской области). Отец будущего драматурга Егор Сергеевич был прирожденным педагогом. Крутой, но справедливый, этот «правоверный активист» и организатор первых колхозов приучал своих детей к раннему труду, к режиму самовыживания. От матери Мелании Михайловны Андрей позаимствовал независимость суждений, ориентацию на здравый народный смысл. Повезло с учебой. Как по заказу, открылась в 1927 году в родной деревне начальная школа. Правда, пришлось сначала поволноваться: до семи лет не хватило семидесяти двух дней, и учительница в класс несчастного мальчишку не пустила. Но увидев, что тот с редким упорством, изо дня в день, появляется под окнами школы, сжалилась, впустила в класс, пригрозив изгнать его оттуда при первой же неудовлетворительной оценке. Обошлось. Прижился Андрей в школе, стараясь не отстать от дружков-товарищей. Вообще-то, и в дальнейшем А. Макаёнок путешествия в так называемую страну знаний осуществлял «самосевом», преодолевая множество препятствий. Конечно же, родители видели его одаренность (прекрасно рисует, лепит, режет по дереву, пишет стихи), но не придавали этому серьезного значения: пускай себе тешится, только не забывает, что главное — хозяйственные хлопоты. Наукой сыт не будешь. Наука может подождать. Потому совершенно нормальным считалось посещение школы через день: попеременно с братом Иваном гонял Андрей свиней в поле. И только когда семья перебралась на жительство в районное местечко Журавичи, ему удалось отвоевать себе какие-то — совсем мизерные! — привилегии: исполнив свою часть хозяйственных работ, он имел право уединиться для подготовки уроков, занятий творчеством и самообразованием. А чтоб ни у кого не возникало иллюзий насчет незыблемости этого права, выставлял на время занятий им же искусно вырезанную руку — фигуру с известной комбинацией пальцев — большой между двумя соседними. Журавичскую среднюю школу Андрей Макаёнок в 1938 году окончил в числе лучших ее выпускников. К такому результату он пришел сам, заплатив за него полновесной «монетой» самостоятельного труда, исключая любые случайности и бесповоротно утвердясь во мнении, что сможет свершить в этой жизни что-нибудь толковое. Иными словами, он поверил в себя, в возможность самому «лепить» свою биографию. Правда, в последующие десять лет эта вера неоднократно подвергалась серьезным испытаниям. По крайней мере все эти годы между желаниямипланами борховского романтика и их свершением все чаще возникали настоящие пропасти, преодолевать которые ему приходилось подобно канатоходцу: один неверный шаг — и... Впрочем, эти «и» — тоже наука, без них постижение смысла жизни, соотношения случайного и закономерного в ней просто невозможно. Жизнь — это, кроме всего прочего, имманентный процесс вживления в глобальную экосоциальную среду все новых и новых взрослеющих индивидов. Жизнь — это чужой монастырь, в котором не ждут чьих-либо уставов, ибо блюдут свой. Все это и является источником той потенции отторжения, с которой сталкивается каждый входящий в жизнь. И горе тому, кто не ставит знак равенства между отторжением и враждебностью. Андрей Макаёнок этого не сделал. Сочетание веры в свои силы с мечтой о свершениях дало ему хороший запас психологической устойчивости, вполне достаточный для того, чтобы достойно держать удары судьбы, не считать всякую неудачу концом света. Присовокупим к этому умение А. Макаёнка в трудных ситуациях прибегать к охранительноживительным силам юмора и сможем вывести достаточно корректную формулу его неистребимого оптимизма. Что касается юмора, то о его целительных воздействиях на организм человека драматург рассуждал как заправский ученый-биолог. Не без юмора, конечно, не боясь прослыть вульгарно-материалистическим фохто-молешоттовцем, мечтал о выделении, синтезировании юморвита — чудодейственного терапевтического средства, способного лечить хандру и враждебность, сквалыжничество и трусость, двурушничество и зависть, мошенничество и прочие социальные гадости. Однако возвратимся к проблеме случайного и закономерного в судьбе А. Макаёнка. Если смотреть на вереницу фактов его биографии вскользь, поверхностно, то какую-то причинно-следственную гармонию в ней заметить очень и очень трудно. Да что там трудно — просто невозможно. Действительно, юноша, который бредил мечтой о творческих свершениях, окончив школу, поступает не в художественный вуз, а в военное училище. Алогично? В принципе, да. Но не надо забывать, что произошло это в 1938 году. Именно к этому времени пропагандистская машина страны, ускоренными темпами готовящейся к неизбежной войне, сумела окружить профессию офицера, защитника Родины, ореолом романтики и поэтичности. В такой атмосфере немудрено было оступиться. Но как же быстро сработало защитное «реле»: и месяца не прошло, как Андрей распрощался с училищем. Вот его объяснение: «Очень уж не по мне была там дисциплина. Рос анархистом-пастухом. Привык к свободе, а там.... Набузил. Поскольку присяги еще не давал — меня по-хорошему отправили домой. И я был благодарен тому помкомвзвода, которому я нахамил, а он «как и положено» доложил по команде». Все это так, но при чем здесь анархия? В последующие годы А. Макаёнок не однажды являл примеры пусть и не идеального, но цивилизованного законопослушания. Не анархия встала на пути к военной карьере, а герои будущих его комедий. Это они «отозвали» его из училища, это они подсказали на следующий год поступать во Всесоюзный государственный институт кинематографии. Да, у истории нет сослагательного наклонения, но все же интересно прикинуть, как сложилась бы творческая судьба А. Макаёнка, к какому берегу прибило бы его житейский челн? Нет никакого сомнения в том, что профессию актера за пять лет вгиковской учебы он освоил бы безупречно, ибо от природы был прекрасным лицедеемимитатором. Еще и теперь писатели старшего поколения с восхищением вспоминают одну из его блестящих мистификаций: целый день под личиной грузинского поэта (минимальный грим, полумаска, какая-то «восточная» хламида) он наносил визиты в редакции газет и журналов, в кабинеты Союза писателей и издательств, договариваясь о переводах произведений белорусских литераторов на грузинский язык, о взаимообмене делегациями и т. д. Описание этого дня без всякой редакторской обработки могло б вылиться в захватывающую, искристую юмореску с интригующей завязкой, курьезно-поучительной основной частью и неожиданным финалом. Что в финале? А в финале «грузин» тепло побеседовал с поэтом Антоном Белевичем, которого буквально очаровал. Еще бы: далекий гость выявил удивительную осведомленность о его творчестве, высоко оценил последнюю поэму, которую решил перевести на грузинский язык. И совсем расчувствовался простодушный Антось, когда «гость», который, оказывается, в Минске очутился проездом из Ленинграда, передал ему привет от Александра Прокофьева и сказал о его намерении перевести на русский язык целый сборник белорусского поэта. Гостеприимство А. Белевича было общеизвестно. Никак не мог он отпустить гостя, тем более такого приятного, не угостив на славу. Низко наклонившись к телефону, он стал названивать жене, предупреждая о визите. Этого времени А. Макаёнку было достаточно, чтобы снять с себя «грузинское» облачение. — А дзе ж таварыш Каўтарадзе? — изумленно пролепетал А. Белевич, когда, распрямившись, увидел вместо гостя безмятежно-серьезного земляка. — Абижаеш, да-арогой, сапсэм никаво не узнаешь, — услышал он очень «кавказский» ответ и понял все. И затрепетал от праведного гнева, взорвался неукротимой яростью. «Если бы не удалось мне, — чуточку смущенно вспоминал позже драматург, — перехватить руки Антося и прижать его к стенке, были бы мне «горячие» аплодисменты за хорошо исполненную роль». Стоит, пожалуй, вспомнить и еще один случай. Минская городская библиотека «Юнацтва» организовала встречу своих читателей с драматургом. Сценарием встречи были предусмотрены включения фрагментов из спектаклей по пьесам А. Макаёнка в театре им. Янки Купалы. И надо ж такому случиться: народный артист Беларуси Геннадий Овсянников напрочь забыл слова своей роли. «Лажа, ах, какая лажа!» — растерянно простонал он. Зал настороженно замер. И тогда на импровизированной сцене появился автор пьесы. Оттеснив незадачливого актера в сторону, он с блеском довел сцену до конца. Каб да кабы, если бы да чтоб... Не приняли А. Макаёнка во ВГИК! И правильно, впрочем, сделали: ведь как бы мы ни акцентировали внимание на его всесторонней одаренности, но — муза словесности его поцеловала первой. Не случайно же свои способности он «примерял» не к фигурам Репина, Хруцкого, Бялыницкого-Бирули; Щепкина, Крыловича, Платонова, а — Толстого, Купалы и Коласа. А разве случайно, вопреки строжайшим (до трибунала!) запретам, он вел военный дневник? Собственно, их было два. В одном велась «летопись» событий, а второй предназначался для чисто литературных записей. К сожалению, в пекле войны все записанное сохранить не удалось. В июле 1941 года (кто ж думал, что война сложится так неудачно) А. Макаёнок лучшие из своих заметок отослал домой. Послал — как в огонь бросил. После войны мог восстановить многое по памяти. Вон как цепко сохранила она мельчайшие подробности: «22 июня 1941 года. Воскресенье. После дождя земля таяла от жары... В воздухе запах бани... Листья березок и шелковицы свертываются... Хочется дышать глубже, шире, на полную грудь, но воздух, насыщенный парами, не вдыхаешь, а глотаешь, зевая, как рыба на берегу. Соленый пот стекает струйками, просачивается в глаза. Тело как бы обвисает. Человек становится безвольным, не человек, а мякиш. В этот день тревожной дрожью пронзило всех сообщение о войне». Эти строки написаны 5 апреля 1944 года. Но и через десять, и через двадцать, и через тридцать лет свою военную одиссею писатель мог воспроизвести, как говорится, один к одному. В нюансах и черточках. У него часто спрашивали, почему война лишь однажды — в трагикомедии «Трибунал» — прорвалась на страницы его произведений. И всегда он старался уйти от этих вопросов. Не мог же он признаться, что писать о войне для него значило вновь и вновь преодолевать мучительный болевой порог, возвращаться туда, куда без душевной дрожи он и взглянуть не мог. Вернувшись в январе 1944 года в Журавичи, он уподобил себя страннику, потерпевшему кораблекрушение и чудом спасшемуся в бушующих волнах океана. Человек, судорожно вцепившийся в обломок доски, — среди взбесившейся водной стихии... Разве не это яркий символ беззащитности, отчаяния, почти полного отсутствия возможности влиять на ситуацию лично?.. На войне — волны огненные, испепеляющие, а обломок доски — твоя изменчивая удача, фарт, везение. Мудрено ли, что самолюбие А. Макаёнка протестовало против возвращения, пусть даже памятью, в эту стихию. И это при том, что военные испытания он прошел более чем достойно. «Затем (после похода в Иран. — С. Л.) попал на Северный Кавказ, а оттуда из Туапсе на корабли — и десантом в Феодосию. Между прочим, я к этому времени уже давно рвался на фронт, и не потому, что хотел кричать «ура» за родину. Я хотел знать, что такое война, что такое человек у смерти и, наконец, опять я... Брал Феодосию. Попал там в окружение. Паника. Я выхожу из окружения. Потом на петлицах появились кубики — я стал политруком. Затем несколько раз водил роту в наступление. Трудности десантных войск. Бои беспрерывные. Мне везло потому, что я родился в четверг (подчеркнуто мною. — С. Л.). Я на этом фронте продержался до 10 апреля 1942 года (с 30 декабря 1941 года), а это — максимум. Наконец 10 апреля. Днем 9-го полк вел тяжелый наступательный бой. Немцы держались крепко — эсэсовцы. Моя рота была в резерве. Наконец и мне подошел черед. И я утром 10-го своей ротой выполнил задачу полка, дравшегося сутки безрезультатно. Но мне это был последний бой. Когда дело подходило к концу, немцы прицелились из миномета. Мне — в ногу. Трах! И мне сделали три дырки в ногах. Но им показалось, что этого мало. И еще — трах! И еще четыре дырки. Опять же в ногах. Они, верно, хитрые: знали, что самое больное место — ноги, и целили по ногам. Две побили. Но ничего, кое-как выбрался, вынесли». Этот фрагмент — из письма другу детства Петру Василевскому — являет лик человека явно амбивалентной самоидентификации. Ну, конечно же, мироощущение, а точнее, восприятие себя на фоне сурового времени у автора письма существенно изменилось, откорректировалось опытом прохождения через все девять кругов кровавого ада Крымского десанта. Не случайно же у него родилось представление о себе как жертве кораблекрушения. Вместе с тем, и тут нет никакого парадокса, именно этот перехлест страданий, мук, душевных, моральных, испытаний и явился причиной того, что А. Макаёнок в противостоянии рока и личности главенствующую роль окончательно отдал последней из них. Он был свято уверен, что из крымского пекла вырвался сам, благодаря своей силе воли и духа. С какой-то даже долей бахвальства описывал П. Василевскому, как с помощью трофейного пистолета отстоял израненные ноги, которые хотели ампутировать, как мужественно переносил многочисленные хирургические операции. Все — правда! Но правда и то, что ему фактически повезло, что слишком уж благожелательно складывалась для него цепочка счастливых случайностей. Вот он, истекая кровью, выползает из-под огня противника. Метров за пятьдесят до своего НП теряет сознание. Конец? Да нет! Накануне раздавали офицерам полка обмундирование, А. Макаёнок к раздаче опоздал, потому ему досталась только одна суконная гимнастерка. Очень даже великоватая, потому пришлось надеть ее поверх телогрейки. Вроде бы курьез, а именно по гимнастерке штабисты узнали своего политрука, послали с носилками санитаров. А мог бы истечь в беспамятстве кровью. В нарушение врачебной этики доктор Алексей Данилович Бугаенко шепнул раненому, что его ноги почернели не от гангрены, а от загрязнения, что можно обойтись и без ампутации. При помещении в госпиталь у раненых отбирали всякое оружие. Табельный пистолет А. Макаёнок безропотно сдал, а трофейный припрятал. ...Из вражеского тыла санитарный самолет вывозит раненого командира партизанского отряда. Горючее кончилось, потому и пришлось для дозаправки приземляться на позиции десантников. Одно свободное место в нем досталось именно А. Макаёнку. Можно было бы припомнить и еще несколько таких счастливых случайностей, которые при желании вполне могут сойти за знаки фатума, предопределения. Но вот что показательно — во всех этих ситуациях А. Макаёнок никогда не был пассивным статистом. По крайней мере, даже в безнадежных обстоятельствах без борьбы он не сдавался. Для самоуважения у него были все основания. Взять хотя бы спасение ног от ампутации. В полевом госпитале под Керчью он упорно отказывался от еды и питья: подсыплют снотворного — и под пилу. Даже потом, когда опасность ужасно- го усекновения вроде миновала, он все операции переносил без наркоза. Адская, нечеловеческая боль... Зато никаких сюрпризов. В последующее время судьба тоже не однажды экзаменовала драматурга на мужество, проверяла его по полному спектру возможных и невозможных испытаний: лишениями и достатком, падениями и взлетами, утеснением и фавором, игнорированием и славой... Через все это пройти достойно помогла ему народная мудрость. А еще — постоянная взыскательность. В одной из записных книжек он замечает: «Представь-ка себе, что жить тебе осталось только год... ровно один год!.. Мало ведь это? Весна, лето, осень, зима — и все! А?.. Очень мало... За такое время и лиц человеческих не успеешь запомнить по-настоящему, имен человеческих... А твое лицо запомнят? Если умрешь через год? Нет... Надо сделать что-то... Надо настоящим человеком быть... Честным, прямым, смелым, принципиальным и... полезным, очень полезным, на всю свою силу полезным для людей. Вот тогда, пожалуй, запомнят твое лицо. Одни любя, а другие — ненавидя». Он очень рано понял, что и жизнь человеческая до обидного коротка. Как один год. Народный опыт учил, что недостойное поведение конкретного человека с его смертью не забывается. Опущенные глаза и стыд — вот удел сыновей и внуков за содеянные грехи предка. В той же записной книжке есть перечень пороков, особенно не воспринимаемых народом. Это прежде всего трусость, угодничество, рабская покорность, фанфаронство, коварство, мстительность, равнодушие к чужой беде, самоуничижение, бездумная исполнительность, эгоизм, лесть, потребительское отношение к обществу, циничное пренебрежение интересами и нуждами соседа и т. д. Сюда же драматург добавлял и гордыню. Не возносись... Вот, пожалуй, тот нравственный императив, который уравновешивал в душе А. Макаёнка весь комплекс эмоций эгоцентрического плана. Вместе с тем, принцип «невознесения» не есть синоним самоуничижения. Кто ж будет каяться, не согрешив? Да, были у А. Макаёнка мечты о высоких художественных свершениях. И как бы скептически ни относился он к понятию предопределения, к тому, что белорусы называют «наканаваннем», все же трудно избавиться от впечатления, что его на литературный Олимп вела сама судьба. Вела, конечно же, не большаками, а извилистыми тропками над безднами, смертельную притягательность которых будущий драматург почувствовал на себе не однажды. Имеется в виду не только физический аспект. А. Макаёнок мог погубить себя как творческую личность, если бы с самого начала не поставил перед собой максимально высоких задач. Можно только удивляться той выдержке, с которой он ждал своего звездного часа. Еще в 1945 году он написал одноактную пьеску «Хорошо, если хорошо кончается», отмеченную на республиканском конкурсе премией. Были у него многоактные драмы «Враги» (1947), «Выигрыш» (1948), «Всходы счастья» (1948), а он не спешил в театр, хоть такая возможность была: последняя из перечисленных пьес тоже была отмечена второй премией республиканского конкурса на лучшее драматическое произведение о современности, что в соответствии с практикой тех лет автоматически открывало ей путь на профессиональную сцену. Но он ждал. Впрочем, до крайностей в этом «воздержании» не дошло: в 1951 году на сцене Театра им. Янки Купалы была поставлена его драма «На рассвете». Еще не та, еще не того художественного уровня, которого желало его творческое самолюбие. Только совсем напрасно самобичевал себя драматург: без опыта работы с выдающимся театром, сотрудничества с корифеями белорусской сцены (режиссер Санников, актеры Г. Глебов, Б. Кудрявцев, В. Дедюшко, Л. Рахленко, С. Станюта, Л. Шинко) ему было бы значительно труднее подняться на такой высокий художественный уровень в следующем своем драматическом произведении — сатирической комедии «Извините, пожалуйста» («Камни в печени»). Впервые поставленная в 1953 году Театром им. Якуба Коласа, она за несколько последующих лет триумфально прошла по многим театрам Советского Союза. И был этот успех абсолютно закономерным. Впрочем, абсолютной была лишь степень заслуженности этого успеха, во всем остальном же.... У комедии «Извините, пожалуйста» шансов попасть на театральную сцену было даже меньше, чем у ее автора выжить в Крымском десанте. 1953 год.... Теория бесконфликтности с ее строгим требованием показа коллизий, противоречий только хорошего с лучшим — подходила к зениту своего могущества. И вдруг появляется Дон-Кихот из Белоруссии, который дерзко порушил привычные схемы, отказался от общепринятых правил «игры в театр». Причем атаковал он не какие-то призрачные ветряные мельницы, а вполне конкретные изъяны государственно-бюрократической системы страны. Конкретные и очень масштабные: ведь порочность калиберовщины виделась автору пьесы не столько в «голом» администрировании, основными методами которого являлось очковтирательство, нажим на подчиненных, «закручивание гаек», стремление «взять работничков за жабры» (все эти штучки некрасивые, но иногда без них не обойтись), сколько в нарушении прав человека, в попрании его достоинства, в культивации модернизированного крепостного права. «Извините, пожалуйста» — знаковое произведение в жизни А. Макаёнка. И если в Крымском десанте фантастическое стечение счастливых случайностей сохранило ему жизнь физическую, то через 11 лет столь же непредсказуемым образом решилась проблема его выживаемости как творческой личности. Во-первых, молодого драматурга послали (вне разнарядки!) на творческий семинар в Дубулты. Во-вторых, руководители семинара оказались людьми взыскательными и неробкими. В-третьих, работа семинара освещалась на самом высоком уровне — Всесоюзным радио и телевидением, газетами «Правда», «Известия», «Труд», что дало сатирической комедии неизвестного широкой театральной общественности драматурга прекрасную рекламу. Перст судьбы — всемогущ, но следует ли считать, что иной исход ситуации обернулся бы для А. Макаёнка полной катастрофой (не случайно же московский театровед И. Вишневская высказала архиспорную, но не лишенную интереса мысль: «Извините, пожалуйста» — первая и последняя пьеса А. Макаёнка: до нее таковых не было, после были только ее варианты»)? Как бы там ни было, а и в этом случае не стоит преувеличивать роль фортуны, везения. Везет — сильным. Прежде чем комедия окунулась в водоворот — в том числе и счастливых — случайностей, ее просто-напросто нужно было написать.... Написать талантливо, свежо, без оглядки на всякого рода запреты, цензуру и саморедактуру. Сенсационный успех сатирической комедии «Извините, пожалуйста» поставил перед ее автором ряд проблем, важнейшей из которых стала проблема выбора. Он прекрасно понимал, что адепты теории бесконфликтности по-прежнему могущественны, что имя им — власти предержащие. Вместе с тем не менее четко осознавал, что отступление с завоеванных позиций — смерти подобно. Писать пьесы, основанные на показе конфликтов хорошего с лучшим, для него не составляло никакого труда. И их бы ставили, коль скоро имя драматурга получило всесоюзную известность. Но — извините, пожалуйста, — подобное творчество не оченьто нужно народу, прошедшему самую страшную в истории человечества войну. Этот народ заслужил лучшую жизнь (кстати, А. Макаёнок и на свои поступки, и на происходящее в стране очень часто смотрел через призму минувших военных испытаний). Нужно делать все возможное и невозможное ради того, чтобы после войны люди не печалились. «Каб людзі не журыліся» — именно так и назвал драматург новую свою сатирическую комедию. Гневно, страстно, бескомпромиссно атаковал он социальные, экономические да и политические недостатки, которые не давали простым труженикам обрести счастье, получить удовлетворение хотя бы элементарных жизненных потребностей. Поставив последнюю точку в конце пьесы, автор даже не сомневался, что проблем с цензурой не избежать. Но и в самом страшном сне не мог предвидеть, насколько они будут сложными. Сначала все складывалось благополучно. Пьеса готовилась к постановке в театре имени Янки Купалы, была принята несколькими другими театрами. Напечатанная в журнале «Полымя» (1958, № 2), она заинтересовала специалистов и за пределами Беларуси, в том числе и за пределами СССР. «Медвежью услугу» оказала А. Макаёнку белорусская эмиграция, опубликовавшая комедию в своей газете «Бацькаўшчына» с весьма тенденциозными комментариями. Вот тут-то все и закружилось, завертелось. Прекрасно подготовленный спектакль в театре имени Янки Купалы с блестящими актерскими работами (Б. Платонов, Г. Глебов, С. Бирилло, В. Дедюшко, 3. Стомма, В. Тарасов, Л. Шинко, П. Пекур, А. Барановский и др.) был снят из репертуара после бурных, ожесточенных споров специалистов. Другие театры тоже не стали рисковать — как бы чего не вышло. Такие удары способны сокрушить кого угодно. Но был А. Макаёнок молод, упрям, военными испытаниями вышколен. Запрет спектакля переживал очень тяжело. И психологически подобную реакцию объяснить не слишком трудно: обласканный удачей человек всегда острее воспринимает любую неудачу. Бессильная ярость, праведный гнев, горькое недоумение через край переполняли его душу. Ну не было же причин для запрета! Ну нет же в литературе плохих и хороших жанров! Самое обидное заключалось в том, что подавляющее большинство общества отлично понимало это. Но все (или почти все) мирились и с запретами, и с идеологическим экстремизмом, и с вмешательством в творческий процесс. Любил, очень любил А. Макаёнок наказ В. Маяковского: «Мы всех зовем, чтобы в лоб, а не пятясь критика дрянь косила, — и это лучшее из доказательств нашей чистоты и силы». Но... Какое там в лоб?! Вон ведь находятся «специалисты», точно знающие, в каких пропорциях может показывать писатель добро и зло, светлые и темные стороны действительности. Не без иронии втолковывает драматург особенно непонятливым в своих устных и письменных выступлениях, что сатира не является исчадием ада. «Сатира, — поясняет он, — так же нужна в нашем обществе, как нужны отделы технического контроля на производстве. Никто не собирается их обвинять в том, что они враги рабочего класса за то, что их профессия, их обязанность — выискивать брак, выискивать недостатки в той или иной продукции, выпускаемой в том или ином цехе. Ремонтники ведь тоже докапываются, выискивают недостатки в машине, чтобы их устранять. А ну-ка представьте себе такого ремонтника, который бы, заметив недостаток в машине, скрывал его! Да его бы под суд отдали. В какой-то мере профессия сатирика напоминает ремонтных рабочих, браковщиц в типографии». Для большей убедительности сочинил притчу с верной, но не очень умной собакой — прямой намек на неистовых ревнителей идеологического «благочестия», — которая не допустила врачей к больному хозяину. И умер он, бедняга, из-за неразумной преданности четвероногого друга. Кстати, притча эта оказалась провидческой: летом 2003 года в российской глубинке, о чем сообщили СМИ, человек скончался именно из-за того, что верный пес не допустил к больному хозяину бригаду скорой медицинской помощи. Нередко привлекал драматург себе на помощь авторитет знаменитых исторических личностей. «Все повторяют, не знаю, насколько искренне, что угодливость гнусна, мерзостна, низка, оскорбительна, вредна и т. д. Но, если верить Бернарду Шоу, Цезарь сказал настоящему, усердному книжнику о бессмертной книге, которую мир получает один раз на десять поколений: «Если она не угождает человечеству, ее сжигает палач». Неужели нужно владеть величием Цезаря, чтоб игнорировать лесть и отдать предпочтение искренности, верности, правде? Даже из маленькой язвы может образоваться большая и перерасти в опасный недуг, если ее не лечить. Неумно же, не на пользу здоровью — прятать эту язвочку под самыми даже яркими, пестрыми, богатыми одеждами-лоскутьями. Утаивать болезнь — содействовать болезни. Утаивать язву может только темный, бескультурный человек или кондовое мещанство». По всему было видно, что от сатиры как эффективнейшего средства обличения пороков драматург отказываться не собирается. По тону его выступлений замечалось и то, что особой боязни перед адептами лакировочного показа действительности он не испытывал. И все же «дразнить гусей», атаковать социальные недуги с открытым забралом, «в лоб» поостерегся. По крайней мере, комедия «Левониха на орбите», написанная им в 1961 году, своей умиротворенно-спокойной эмоциональной тональностью разительно отличалась от прежних драматургических его произведений. Впрочем, отличалась она и многими структурноизобразительными элементами. Изящно, функционально продуманно выстроена сюжетная композиция пьесы, благодаря чему автору удалось, в общем-то, разноплановый материал объединить в целостное сценическое действо. Комедия щедро населена разными характерами. Тут и хозяйственный самостийник Левон, и его антагонист бессребреник Максим, и респектабельный председатель колхоза Буйкевич, и эмансипированная Левониха — Лушка, и молодые прагматики Михал и Соня... Для каждого из них драматург отыскал неповторимо-индивидуальные черты. И если судить по названию пьесы, то наибольшее внимание должна была получить именно Левониха. Но — нет! Сюжетная линия, связанная с развитием характера этой героини, вполне содержательна, даже самодостаточна. Однако не успел еще А. Макаёнок расставить все точки над ,,і” в проблемах, поднимаемых им в предыдущих пьесах, не до конца изобличил силы, вставшие на пути прогрессу. Глубочайшее чувство жизни пронизывает все произведения А. Макаёнка. «Левониха на орбите» исключением не является. Драматург прекрасно видел, что многое в жизни соотечественников улучшилось, но еще больше осталось сделать для того, чтоб люди не печалились. К пониманию жизни как свободы личности, а судьбы как диктата истории он пришел достаточно рано. И как бы жестоко ни крутила его жизнь, он свято верил в основополагающую роль личности в этой жизни. Судьба виделась ему этаким двуликим Янусом, и во многом от конкретного человека зависит, повернется ли она к нему светлым, благодатным ликом Фортуны, или слепо-жестокой личиной Рока. В байке о двух лягушках ему импонировала именно та, которая, попав в крынку со сметаной, барахталась до тех пор, пока не сбила масло, выпрыгнув с его тверди на волю. Воля, свобода.... Для А. Макаёнка это было святое. Перспектива ущемления самостоятельности отвращала его от многих предложений карьерного трудоустройства. Выше уже говорилось о «бунте» в военном училище. Только один день пребывал он в должности главного редактора киностудии «Беларусьфильм»: поняв, что решения будут приниматься кем-то за него, сразу же хлопнул дверью. А что ж литературное творчество? Ведь и тут чужая, неумная воля проявлялась повсеместно. В сердцах — из этого драматург секрета не делал — пробовал «завязать» и с творчеством. Но это только «в сердцах». Ведь не мог же он не понимать, что именно театр является эффективнейшим средством в борьбе за доброе, мудрое, вечное. Устами героев той же «Левонихи на орбите» многочисленной публике (пьесу поставили свыше 80 театров Европы и Азии) высказано немало актуальнейших истин. Высказано ненавязчиво, не категорично, но вполне определенно. Чтоб много не говорить об отношениях к идее тотального перехода сельчан от индивидуальной собственности к общественной, с которой в конце 50-х годов XX столетия носился Н. С. Хрущев, драматург вкладывает в уста одного из героев очень саркастические слова: «Обещали ж они (реформаторы из соседнего колхоза. — С. Л.) и молока реки разливные, и мяса богато, и к мясу хрена вдоволь, а потом проверили и... Э-э-э... Только хреном и пахнет». Но даже если бы реформы были и без червоточинки, нельзя их насаждать силой: загнанный в рай дрыном райской жизни не почувствует. Потому-то и относится с таким пониманием драматург к сомнениям Левона Чмыха, для которого собственное хозяйство — гарантия экономической независимости. От самодурства председателей колхоза, от самовольства бригадиров, от конъюнктуры государственной политики. Иметь надежную пристань — психологически вполне понятное стремление крестьянина. Реформы, новации, пертурбации.... От Столыпина до Хрущева — это только в XX столетии. И все под нажимом, с насилием, с репрессиями. Столыпинские печально известные «галстуки». Сталинские не менее знаменитые Соловки... И никак не приспособиться крестьянину на родной земле, а приходится жить, по образному выражению Левона, как на палубе корабля, — то туда качнет, то сюда наклонит. Демократическое звучание комедии было бы значительно глуше, если бы в ней отсутствовала сюжетная линия, связанная с раскрытием характеров председателя райисполкома Глуздакова, его помощника Тесакова и секретаря обкома Николая Сергеевича. Кстати, эта линия — полностью сатирическая. Фигура Глуздакова, этакого канцелярского робота, который за циркулярами, формулярами и постановлениями давно перестал видеть людей, чувствовать реальные требования времени, отличается гротескной обостренностью. Драматург подробно, с уничтожающей едкостью обрисовывает портрет героя: солидный возраст, с животиком и задышкой, с лысиной во всю голову аж до затылка, лицо пухленькое, розовенькое, как у новорожденного... А чего стоит кабинет, в котором заседает Митрофан Сазонович! Надо всем, вытесняя остальную мебель, высится огромный, громоздкий сейф — олицетворение важности, секретности, таинственности. Только «скромность» Глуздакова, саркастически замечает автор комедии, помешала превратить весь кабинет в сейф или из сейфа сделать кабинет. Можно представить, сколько плодотворных предложений и планов похоронено в этом бездонном ящике-гробу. Своеобразный Беликов в чиновничестве районного масштаба, Глуздаков глушит любую инициативу снизу — как бы чего не вышло. Зато реляции сверху он воспринимает с полным пиететом, готов исполнять их безрассудно, не задумываясь над тем, насколько они умны, насколько соответствуют интересам района. Герою очень хочется удержаться в руководящем кресле, досидеть в нем до пенсии. Ради осуществления этой цели он готов на все: поступиться личным достоинством, заискивать перед начальством. В блестяще выписанной сцене встречи с секретарем обкома Глуздаков превосходит самого себя. Достаточно начальственному гостю заявить, что в кабинете душновато, — и он лезет открывать форточку, расстегивает пиджак, через мгновение начальство замечает, что в кабинете вроде бы холодновато, — и верноподданническое «реле» тут же переключается соответствующим образом. Курьезность фигуры Глуздакова заключается в том, что он — при всей своей никчемности — олицетворяет силу. Силу затхлой герметики, рыхло-застывшей массивности, инертности, под которыми задыхается все здоровое, живое. Наглядный пример тому — помощник Тесаков. Природа не обделила юношу ни умом (высказывается он просто афористично), ни деловитостью (всю рутинную работу Глуздаков переложил на помощника, но хорошим задаткам вряд ли суждено развиться: и на словах, и на делах его лежит выразительный отпечаток омертвелости, зомбирования. Одним словом, А. Макаёнок и в «Левонихе на орбите», в произведении преимущественно мягкой, светлой тональности, блестяще отстоял права сатиры, походя, но очень хлестко высмеяв глуздаковщину. Идеологические церберы промолчали. Но вовсе не обольщался драматург в отношении их «разоружения», миролюбия, когда решился написать одно из самых своих ярких сатирических произведений — трагикомедию «С ярмарки» (1967). В советской литературе к этому времени было написано немало антикультовых творений, но никто с такой пронзительной силой, с такой убедительностью нравственных обобщений не показал мертвящих последствий сталинских репрессий, ночных хапунов. Показ этот зиждется на сопоставлении — контрасте: репрессивный Молох поглотил Бурлакова, вместо него назначили Ухватова. Если первый из них, отходя ко сну, задавался вопросом: все ли возможное сделал для блага людей, не обидел ли кого, то Ухватов (фамилия указывает на суть его характера) озабочен лишь подбором кадров, беспредельно преданных ему, готовых блюсти не интересы общества, народа, а своего шефа. Кадры решают все. Ухватов выхолил кадры еще те. Из примерно такого сонма вышли и Калиберов, и Самосеев, и Моцкин, и Глуздаков, и ... Оттуда же происходили и реальные чиновники, против которых и направил А. Макаёнок сатирические стрелы. Было бы удивительно, если бы они не узнали себя в произведении драматурга бунтаря. Узнали. И сделали все возможное, чтобы пьеса не увидела свет рампы — несмотря на титанические усилия автора, демарши руководства Союза писателей БССР, заступничество некоторых начальников высокого ранга. Вот тут-то и настало для А. Макаёнка самое мерзкое время. Похуже, пожалуй, чем фронтовое. Вопросы, один мучительнее другого, терзали его уязвимую душу. Ответы или не находились, или были крайне неутешительными. Без творчества жить он уже не мог. Но не мог уже писать по чьему-то трафарету. От отчаяния родилась грешная мысль свести счеты с такой жизнью. Избежать непоправимого помог случай, за миг до рокового выстрела приславший соседа по даче. Судьбе было угодно напомнить о своих предначертаниях. От хандры лечился работой. Работой изнуряющей. Работой исцеляющей. Прочитал горы книг. Сделал массу выписок из трудов ученых не только гуманитарного профиля. А сколько творческих замыслов появилось в это время! Такая работа не могла не принести блестящих результатов: почти одновременно, с интервалом в несколько месяцев драматург завершает две трагикомедии — «Затюканный апостол» (1969) и «Трибунал» (1970). Выход этих пьес специалисты оценили очень высоко, заговорили даже о новом Макаёнке. Что ж, преувеличений здесь никаких не было. Обе пьесы стали хрестоматийными, изучаются в курсах истории белорусской литературы средних школ и вузов. Прекрасный прием был оказан им театральной общественностью: около 100 театров СССР и зарубежья поставили «Затюканный апостол», по «Трибуналу» эта цифра превзойдена в два раза. Новый Макаёнок — это прежде всего смелый творческий поиск. И была та смелость динамично раскрепощенной, именно той, которую может себе позволить настоящий мастер. Вместе с тем, была она истово-рациональной, всецело выдержанной в рамках здорового художественного вкуса. Если попробовать определить генеральный вектор творческой эволюции А. Макаёнка этого времени, то бросится в глаза решительный поворот от поэтики традиционной комедии — к комедии гротесковой, от последовательно выдержанной правдоподобности — к ничем не ограниченной фантазии, сценической условности. Названные выше трагикомедии стали началом целеустремленной работы драматурга по «прививке» белорусской комедии разнообразнейших жанровых ответвлений, которая наглядно доказывала, что спектр комедиографического изображения практически неисчерпаем. Показательно, что вся эта работа не была самоцелью. Драматург отыскивал все новые и новые краски, дабы ярче и убедительней воевать со злом. Тем более, что оно весьма многолико. Приспособленчество, филистерство, угодничество, аморальность, некоторые другие пороки в трагикомедии «Затюканный апостол» изобличаются мастерски, виртуозно. В трагикомедии «Трибунал» зло выступает под личиной предательства, жестокости насилия. Правда, в этой пьесе доминирует не обличение зла, а восславление героики и патриотизма. Впервые в белорусской драматургии высокая героика воплощена в комедийном жанре, что многими критиками было воспринято негативно, названо эстетически неоправданным. Но постепенно пришло восприятие пьесы если и не адекватное, то, по крайней мере, объективное. А. Дубинская, например, писала: «Война. Немцы заняли деревню. По-зверски расправляются с людьми. Казалось бы, откуда здесь взяться смеху? Но вспомним неугомонного Василия Теркина, хлесткие народные частушки и карикатуры на фашистов. Юмор, умение завязать горе веревочкой, жизнелюбие — основательные черты характера советского человека. Они помогали выстоять в самые тяжелые дни. Впечатляющи контрасты драматического и комедийного, внешне смешного и воистину героического в «Трибунале». Все это создает огромное эмоциональное напряжение, броскую, острую выразительность». Чем шире становилась география постановок пьес драматурга, тем более лестными делались оценки его творчества. Естественно, ему были приятны теплые слова, похвальные оценки. Однако он хорошо помнил о переменчивости судьбы, о чем говорил вполне откровенно: «Но хочу в связи с этим припомнить историю, которая случилась со мной в раннем детстве. Как-то мне приходилось о ней рассказывать, но, думаю, можно и повториться, ибо она весьма поучительна. Было мне тогда четыре или пять лет от роду. Мой дядя подсадил меня на коня. Эмоциональная память сохранила это ощущение. Верхом на коне! Над всеми! Выше дяди, выше забора! Выше соломенной крыши, даже выше конопли вдоль стежки на гумно. Дядя ведет коня на поводу, а я «вознесся». И вдруг (и откуда ее черт вынес!) из конопли на стежку выскочила рябая свинья. Конь как взовьется на дыбы! И я с такой высоты — да об землю! А когда опомнился, возле меня голосила мамка, кто-то поливал меня из шапки водой, почерпнутой прямо из лужи. Ни коня, ни высоты, лишь конопля, как лес, высокая. С того времени я твердо запомнил: как бы уверенно ни сидел на коне, как бы цепко ни держался за гриву — не забывай, что в любую минуту может выскочить из конопли рябая свинья, перебежать дорогу, а ты шмякнешься оземь, потому как, ухватившись за гриву, не следует думать, что держишь бога за бороду». Завершает эту житейскую притчу драматург красноречивым признанием: «С коня я слез, конопля уже не кажется лесом, и считаю, что за рабочим столом — самая устойчивая позиция». Действительно, за столом — самая устойчивая позиция. А так знаменитый драматург по-прежнему с боем прорывался на сцены белорусских театров. Как-то так получилось, что сначала его пьесы ставились в Москве, и лишь потом на Родине. Из этого он проблемы не делал, а настойчиво и плодотворно писал. Комедия-репортаж «Таблетку под язык» (1972), опасная (определение автора. — С. Л.) комедия «Кошмар» (1976, в театрах шла под названием «Святая простота»), сентиментальный фельетон «Верочка» (1979), трагикомедии «Погорельцы» (1980) и «Дышите экономно» (1982) — каждое из этих произведений становилось ярким событием в театральной жизни страны. Впечатляет диапазон философско-эстетического постижения действительности. Драматург не просто задумывался над нравственноэтическими и духовно-этническими основами жизни родного народа, свою художественную сверхзадачу он видел в создании собирательного образа белоруса, в раскрытии белорусского национального характера. Определенная парадоксальность этого замысла заключалась в том, что за его реализацию брался писатель-комедиограф. Это обстоятельство можно считать и несомненным плюсом: юмористичность оценок предохраняла от непроизвольной идеализации в обрисовке типичного представителя родной страны. Как бы там ни было, а по произведениям А. Макаёнка можно достаточно определенно составить впечатление об особенностях белорусского национального характера. Особенно значительными оказались достижения драматурга в разработке образа белоруса-крестьянина, в характере которого (в отличие от объективно космополитизированного горожанина) наиболее полно сберегаются-конденсируются сокровеннейшие черты народной души. Ганна Чихнюк и Егор Горошко («Извините, пожалуйста»), Роман («Чтоб люди не печалились»), Левон и Максим («Левониха на орбите»), Терешко («Трибунал») — эти персонажи являются не только детьми своего времени, но и детьми своего народа, олицетворяя многое специфично белорусское, неповторимое. А. Макаёнок был яркой, незаурядной личностью, человеком, опередившим свое время. Вместе с тем он был типичным сыном этого времени, принадлежал к тому поколению, которое никогда не отделяло судьбу Отчизны от своей судьбы. Он свято верил, что зло можно не только победить, но целиком искоренить из нашей жизни. Его творчество почти всегда отличалось протестностью. Протестностью не разрушительной, а созидательной. Его талант был провидческим: в комедии «Кошмар» содержится предвидение распада СССР, суверенизации Беларуси, появления в ней президента. Президента крестьянского, искреннего, но не очень опытного, бессильного противостоять козням чиновников и министров. Судьба не слишком-то баловала его. Хотя... Имел он полное право заявить: «Мне везло, потому что я родился в четверг». Спору нет, действительно везло. Но часто ли? И есть тут одна закавыка: 12 ноября 1920 года, когда родился драматург, пришлось не на четверг. Можете проверить.