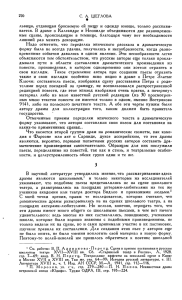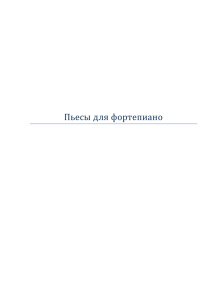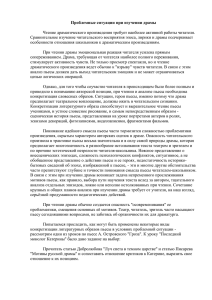[“Хорошо сделанная драма”: Эжен Скриб] Аникст А.А.
реклама
![[“Хорошо сделанная драма”: Эжен Скриб] Аникст А.А.](http://s1.studylib.ru/store/data/003815164_1-a290188fed4c16e4b709f20c60a67f2c-768x994.png)
Аникст А.А. [“Хорошо сделанная драма”: Эжен Скриб] Из книги “Теория драмы на Западе во второй половине XIX века” Эжен Скриб (1791—1861) начал писать в 1811 г. Сначала он поставлял маленьким театрам водевили, затем перешел к писанию многоактных пьес и с конца 1820-х годов стал постоянным драматургом театра французской комедии. Первого значительного успеха он добился комедией “Бертран и Ратон” (1833). Затем последовали “Товарищество, или Лестница славы” (1837), “Стакан воды” (1840), “Адриенна Лекуврер” (1849) и многие другие. Им были написаны либретто таких популярных опер, как “Роберт-Дьявол” (1831), “Гугеноты” (1836), “Жидовка (Дочь кардинала)” (1835) и др. Один и в сотрудничестве с соавторами Скриб написал четыреста пьес. Эжен Скриб вошёл в историю теории драмы как создатель “хорошо сделанной драмы”. Специфика театра того времени как места общественного развлечения требовала от драмы не лиризма, а динамики, действия, отражавшего конфликты современности. Эту задачу взяла на себя, как это ни парадоксально, развлекательная драматургия. Сцену завоевал не вождь романтиков Гюго, а Скриб. Фигура Скриба доминирует в театре Запада не только во второй четверти XIX в., но на протяжении почти всего столетия. Именно Скриб и его последователи, мастера “хорошо сделанной драмы”, овладели репертуаром всех стран Европы, и Россия не осталась в стороне от этого. “Хорошо сделанная драма” подвергалась критике со стороны многих прогрессивных деятелей искусства за ее потворство вкусам буржуазной публики, за ограниченность и, хуже того, пошлость. Но при всем том она обладала качеством, которого были лишены многие пьесы, прекрасные в литературном отношении. Говоря попросту, они были необыкновенно занимательны, пока шел спектакль, хотя после него оставалось ощущение пустоты. Скриб не оставил теоретических высказываний, не зафиксировал правил своей драматургической техники. Но его соавтор Легуве в своем очерке о нем сделал удачный обзор правил, которым следовал Скриб. Пусть не из первых рук, но все же благодаря Легуве мы имеем достоверное свидетельство о принципах, которыми руководствовался Скриб. Тем самым мы получаем достаточно точное представление о методе построения “хорошо сделанной драмы”. С этой драмой зрители ежевечерне встречались в театрах Парижа, Лондона, Берлина, Копенгагена, Христианин (Осло), Петербурга и Москвы. Её любили зрители, и ее осуждали все драматурги и критики, которые хотели, чтобы сцена отражала подлинную жизнь. Но даже противники “хорошо сделанной драмы” вынуждены были признать, что в ней есть безусловная притягательность, заключавшаяся в подлинной театральности. В конце концов даже представители драмы идей почувствовали необходимость использовать средства из арсенала “хорошо сделанной драмы” для завоевания публики. Глубоко рассудочная по духу, драматургия Скриба создавалась механическими способами. Об этом со всей откровенностью рассказал друг и один из соавторов — Эрнест Легуве (1807—1903). Сначала надо было найти интересный сюжет. Когда Легуве рассказал историю Адриенны Лекуврер, Скриб сразу же дал типичную для него оценку сюжета: “Сто спектаклей по шесть тысяч франков!”. Скриб, по определению Легуве, был мастером “нумерации” (numerotage), что на театральном жаргоне обозначало последовательность сцен и, еще точнее, развитие интриги. Последовательность сцен определяла не только ясность, логику, она включала также ход действия, т.е. возбуждение интереса. “Каждая сцена, — поясняет Легуве, — должна не только проистекать из предыдущей и соединяться с последующей, но должна обладать внутренним движением так, чтобы пьеса развивалась без перерыва, этап за этапом по направлению к финальной точке, к развязке. Скриб был не только талантом, он был гением “нумерации”. Стоило только набросать план пьесы, как все ее элементы, словно по мановению волшебства, выстраивались в его руках в своем логическом порядке”. Он рассказывает далее, что, когда они обсуждали фабулу “Адриенны Лекуврер” (1849) и общая ситуация существовала еще только в наброске, Скриб неожиданно бросился за свой стол. “Что вы пишете? — спросил Легуве. — Порядок сцен первого акта. — Но ведь мы еще не решили, что произойдет в первом акте. — Не мешайте! Не мешайте! . . А то я потеряю нить. И он записал: Первая сцена: Княгиня де Буйон, аббат. Вторая сцена: Те же, герцогиня д’Омон. Третья сцена: Те же, князь де Буйон. — Но, дорогой друг, — заметил я, прерывая его, — прежде чем заставить князя де Буйона войти, надо знать... — Я знаю, — возразил он, — что в этом акте князь де Буйон должен появиться два раза и, если я не поставлю его сейчас здесь, я не буду знать, что мне делать. И он продолжал писать, а несколько дней спустя, когда все события и появления этой сцены первого акта были зафиксированы, персонажи почти автоматически заняли свои места, подобно гостям на званом обеде, садящимся там, куда хозяйка положила карточки с их именами. Я изумился. Ничто другое не помогло мне так постигнуть наше искусство”. Благодаря подобным воспоминаниям Легуве перед нами возникает как образ Скриба, так и техника его драмы. Легуве восхищался мастерством Скриба и сам следовал его приемам. Но вот мнение о скрибовской “нумерации”, которое высказал О.Людвиг, внимательно изучавший технику французской развлекательной драмы. По его мнению, французские драматурги работали так: “После того как придуманы сцены экспозиции и внешние очертания действия, автор говорит себе: теперь должен появиться тот, кого менее всего ожидают. Это не трудно сделать, хотя это и неправдоподобно. Затем появляется тот, который зрителю или по меньшей мере персонажам, вызывающим его сочувствие, наименее желателен. Должно произойти то, чего менее всего хотят. Это тоже можно сделать, а затем начало привести в соответствие и связать с последующим. Надо также добиться того, чтобы как в конце акта, так и в конце пьесы все участники действия оказались на сцене. Таким методом не трудно сотворить — отнюдь не произведение искусства (Kunstwerk), а кунстштюк, и такого драматурга надо зачислить не иначе как в разряд фокусников”. Скриб создал ряд приемов, придающих действию занимательность. Сделав занимательность главной задачей драмы, Скриб, естественно, ограничил ее возможности. Нельзя, однако, отрицать, что своей цели он добился и создал тип драмы, настолько прочно утвердившейся на сценах всех европейских стран, что все сколько-нибудь серьезные драматурги вынуждены были считаться с засилием развлекательных пьес. Не приходится отрицать, что своего рода мастерство для создания такой драматургии требовалось. Две способности необходимы каждому драматургу: изобретательность и воображение. Их не следует смешивать, хотя они и связаны друг с другом и одна подкрепляет другую. Изобретательность состоит в определении идеи, нахождении сюжета. Воображение — в том, чтобы эту идею воплотить. Не всегда бывает так, чтобы драматург обладал обеими этими способностями, более того, редко случается, чтобы они ему были присущи в равной степени. Бальзак отличался изобретательностью, был богат идеями, но ему недоставало воображения. Как драматург он не отличался умением наполнять действие своих пьес событиями, не был способен придать живость диалогу. В противоположность ему А. Дюма-отец не был изобретателен по части сюжетов — либо он находил их в истории, либо их подсказывали ему соавторы, либо, наконец, он заимствовал их из других произведений. Но, получив импульс, он умел пустить машину в ход! У Скриба изобретательность и воображение были развиты в одинаково высокой степени. Едва ли Легуве имел в виду, что сюжеты Скриб исключительно изобретал сам. Под изобретательностью Легуве, по-видимому, подразумевает способность выявить драматизм того или иного сюжета, и такой способностью Скриб действительно обладал. Следующая стадия создания пьесы — план. Он есть ее прочная основа, на которой только и можно построить пьесу. “Тщетно покрывать здание богатейшими украшениями, тщетно возводить его при помощи самых прочных материалов: если оно не построено по законам равновесия и по определенному порядку, оно не продержится и не доставит удовольствия. Драматические произведения должны быть прежде всего ясными; а без плана ясности не будет. Они должны развиваться без задержки к точной цели; без плана не будет развития. Каждый персонаж должен быть поставлен на определенное место, каждый факт — иметь свой смысл. Без плана не будет правильной пропорции”. Ссылаясь на Дюма-отца, Легуве подчеркивает, что план пьесы не является просто упорядоченным построением событий пьесы; в первую очередь его цель — подготовить их. “Публика, — пишет Легуве, — существо весьма причудливое, весьма требовательное и совершенно непоследовательное. Она хочет, чтобы в театре все было подготовлено и непредвиденно. Если что-то, как говорят вульгарно, падает с неба, это ее шокирует, но, если о чем-то слишком уж предупреждают, она начинает скучать. Для того, чтобы ее удовлетворить, ее надо одновременно и брать в поверенные, и одурачивать, иначе говоря, в каком-нибудь месте пьесы небрежно дать проясняющее слово, но дать его незаметно так, что оно будет услышано, но не привлечет внимания, а в момент театрального эффекта (coup de theatre) у зрителя вырвется радостное восклицание “А!”, означающее: “Конечно! Нас же предупредили! Как глупо, что мы сами не догадались!”. И зрители очарованы. По этой части Скриб был большим мастером”. Подготовка зрителя — важная составная часть плана, ведущего к развязке. Легуве считает, что только “хорошо сделанная пьеса” решила задачу хорошо подготовленной развязки. При всем его почтении к Мольеру Легуве считает, что пьесы великого комедиографа не имели развязки в точном смысле слова, они просто кончались. Раскрыв характеры персонажей, показав действие их страстей и пороков, Мольер неожиданно вводил в действие отца, находящего сына, появлявшегося невесть откуда, публика приходила в изумление, и занавес падал. Это можно было простить Мольеру потому, что он был Мольером. “Теперь один из первых законов драматического искусства состоит в том, что развязка должна быть логическим следствием характеров и событий. Сначала надо написать последнюю сцену пьесы. Пьеса не сделана, пока не найден ее конец, а когда автор создал развязку, он никогда не должен терять ее из вида и все подчинить ей”. Высоко ценя композиционное мастерство Скриба, Легуве, однако, оставляет апологетический тон, когда переходит к характерам и стилю пьес Скриба. Он с совершенной объективностью признает, что в этих отношениях драматургия Скриба оказывается весьма слабой. “Человеческая жизнь, — пишет Легуве, — почти всегда представала перед ним в свете рампы; он хорошо знал людей, но обычно смотрел на них как на театральные персонажи. Отсюда та особенность, что он написал множество хороших ролей, но создал совсем мало обобщенных и глубоких типов. Нельзя сказать, что лицам, выведенным им на сцену, недостает жизненности и правдивости; благодаря тонкой наблюдательности он выразительно обрисовывал их причуды, их претензии, их страсти; они говорят, как должны говорить, поступают так, как должны поступить в данной ситуации, но они люди только данной ситуации; они соответствуют ей, но не выходят за ее пределы. В противоположность этому, если обратиться к великому образцу, когда вы читаете Шекспира, вы ощущаете вокруг его персонажей веяние всей жизни, они обладают печатью такой характерности, что вы видите их не только такими, какими они предстают в данной ситуации, но и в любых других возможных ситуациях. Это не только роли, но люди, полноценные люди”. Ничего подобного у Скриба нет. Переходя к проблеме стиля, Легуве утверждает, что речь в драме должна быть одновременно разговорной и литературной. Речь Дон Жуана и Гарпагона у Мольера соответствует их характерам, но мы чувствуем, что их написал Мольер. “Скриб обладал только половиной этой способности, — пишет Легуве. — Его стиль обладает всеми качествами разговорной речи, живостью, легкостью, естественностью, остроумием; но, к сожалению, ему слишком часто недостает того богатства красок и той определенности манеры (fermete de dessin), которые присущи только великим писателям”. Другой недостаток стиля Скриба, по мнению Легуве, проистекал из того, что, стремясь быть доступным, он заставлял действующих лиц говорить повседневным языком, включая жаргонные словечки. Если Мольер говорил языком своего времени, то он говорил и языком всех времен, этого второго качества нет в языке Скриба. “Неудержимость, деспотизм его драматического темперамента заставляли его подчинять все театральному действию, все, включая даже иногда грамматику; и это отнюдь не по незнанию, ибо он хорошо знал родной язык; если он грешил против него, то сознательно и преднамеренно”. Однажды, когда Легуве заметил во время репетиции какую-то неправильность в языке и указал на нее, предложив более правильное построение фразы, Скриб возразил: “Нет! Нет, дружище, это слишком длинно, у меня нет времени на это; может быть, моя фраза и неверна, но ситуация короткая и фраза должна соответствовать ей, я называю это экономным стилем!”. Недостатки литературного стиля Скриба вполне искупаются живостью сценического действия. Скриб преодолел торжественность, чтобы не сказать тягучую медлительность длинноречивых пьес. Его комедии, как известно, отличаются богатством занятных происшествий, неожиданными поворотами действия, постоянными переменами в положении персонажей. Сценичность их воплощена в самом тексте. Как замечает Легуве, “в действительности рукопись Скриба содержит только часть его произведения, ту часть, которая произносится; остальное играется; жесты дополняют слова, паузы составляют часть диалога, фразу завершает многоточие”. Опять прибегая к сравнению с Мольером, Легуве подчеркивает, что у великого комедиографа мысль всегда выражена в полной мере, тогда как Скриб прибегает к многоточию, “у него фраза незакончена, чувство подразумевается, мысль выражена лишь наполовину”. Естественно, что Скриб придавал большое значение сценическому воплощению своих пьес и был столь умелым в этом отношении, что Легуве склонен приписать ему введение режиссуры во французском театре. Если это и преувеличение, то несомненно, что Скриб “доводил” свои пьесы до завершения во время репетиций. Он мастерски строил мизансцены, в которых участвовали толпы народа, и был столь же искусен в создании интимных эпизодов. Впрочем, как отмечает Легуве, Скриба интересовала только работа с актерами и он добивался точности и выразительности задуманных им мизансцен. Но при этом его внимание ни в малой степени не привлекали такие важные компоненты спектакля, как декорации и костюмы. “Живописная сторона постановки ускользала от него, как и характерность персонажей. У него не было чувства индивидуальности”. Достаточно сказано о дефектах драматургии Скриба. Не будем, однако, забывать, что при всем том его пьесы имели неимоверный успех. Да, конечно, он потрафлял вкусам буржуазной публики. Но, кто видел его пьесы на сцене, не может не признать, что они потрясающе занимательны. Недаром лучшие из написанных им комедий до сих пор продолжают развлекать зрителей. В частности, это можно сказать о “Стакане воды”, десятки лет, вот уже полтора века, доставляющего неглупое развлечение любителям театра. http://www.iaclub.ru/index.php?mod=articles&op=viewarticle&article_id=68 Текст цитируется по Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. — М.: Наука, 1988. Максим Хлопотов 31 Августа 2006