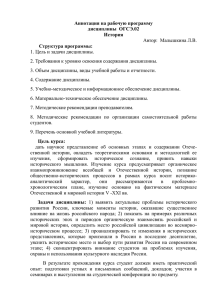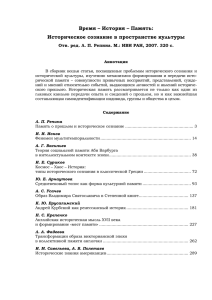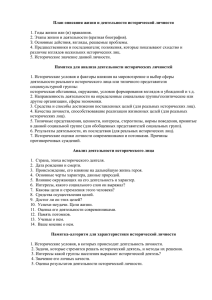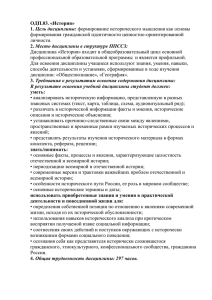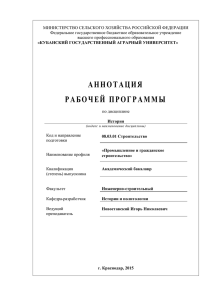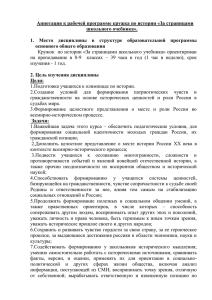Теория и методология истории
реклама
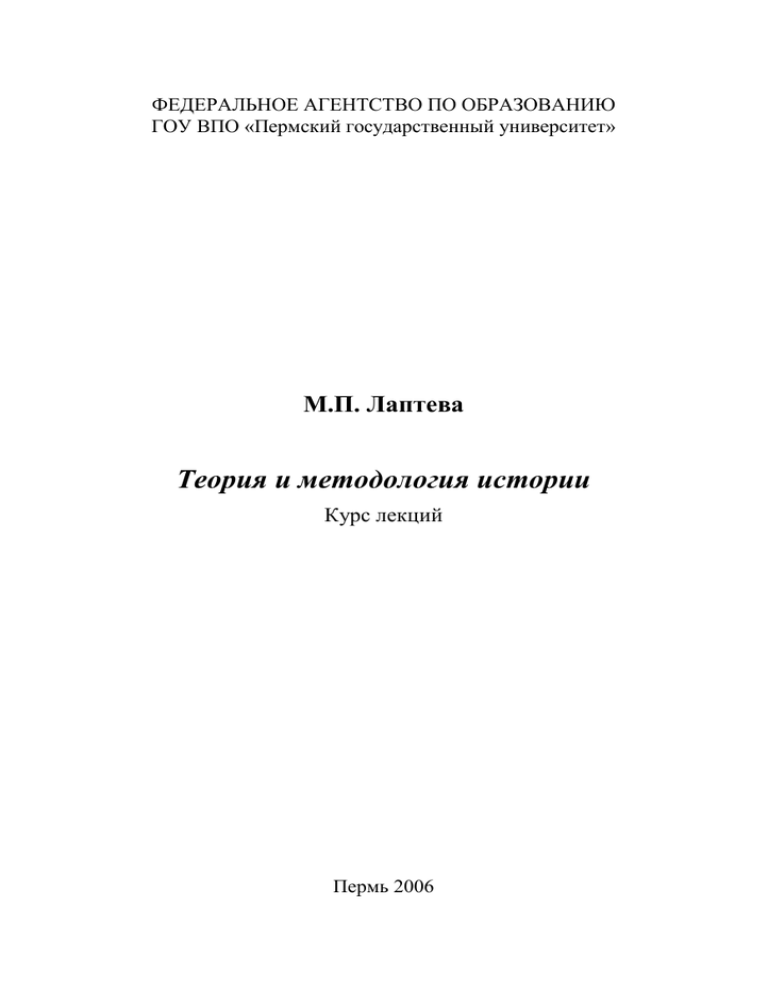
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «Пермский государственный университет» М.П. Лаптева Теория и методология истории Курс лекций Пермь 2006 ББК 63 Л 24 Лаптева М.П. Л 24 Теория и методология истории: курс лекций / М.П. Лаптева; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2006. – 254 с. ISBN 5-7944-0689-5 Издание включает текст лекций, предназначенных для студентов дневного и заочного отделений, обучающихся по специальности «История», а также для специалистовгуманитариев, интересующихся теоретическими проблемами исторической науки. Печатается по решению редакционно-издательского совета Пермского государственного университета Рецензенты: д-р ист.наук, зам.директора Ин-та всеобщей истории РАН Л.П. Репина; д-р ист.наук, проф. Липецкого гос.пед. ун-та А.И. Борозняк ББК 63 ISBN 5-7944-0689-5 М.П. Лаптева, 2006 Оглавление Лекция 1. Вводная .................................................................... 4 Лекция 2. Понимание истории в разные эпохи ........................ 27 Лекция 3. Споры вокруг историзма ......................................... 55 Лекция 4. Российская методология истории XIX – XX веков .. 75 Лекция 5. Европейские методологические поиски XX века ..... 97 Лекция 6. Методологические новации США ......................... 123 Лекция 7. Постмодернизм и микроистория............................ 141 Лекция 8. Исторические законы и альтернативы ................... 158 Лекция 9. Историческое время............................................... 176 Лекция 10. Исторические факты и методы ............................ 195 Лекция 11. История и методы других наук ............................ 214 Лекция 12. История как искусство ......................................... 233 Памяти моего Учителя Льва Ефимовича Кертмана. Лекция 1. Вводная В Толковом словаре русского языка указывается восемь значений слова «история». Оксфордский словарь английского языка фиксирует девять значений этого слова. Однако основное из них восходит к греческому термину, в переводе означающему «расследование», «исследование», «узнавание», «установление», «расспрашивание». Первоначально понятие «история» относилось к любым видам познания окружающего мира. Значение этого понятия варьируется от честолюбивого «войти в историю» до обыденного «попасть в историю». Современные авторы чаще всего выделяют три значения слова – любой процесс развития в природе и обществе; процесс развития человеческого общества; наука, изучающая развитие человеческого общества1. Соотношение двух значений слова «история» – собственно прошлого и рассказа о прошлом, зафиксированного в устной и письменной традиции, – является центральной методологической проблемой, определяющей природу исторической науки2. Поскольку реальность богаче, многограннее и мудрее, чем любые представления о ней, можно усомниться в истинности древнего суждения, согласно которому наука истории выступает наставницей жизни. Одно из таких сомнений высказывал крупный российский историк Р.Ю. Виппер: «… не история учит понимать и строить жизнь, а жизнь учит толковать историю… наши суждения о прошлом, наши исторические мнения приходится… пересматривать, подвергать критике и сомнению, заменять одни положения другими, иногда обратными. История из наставницы стала ученицей жизни»3. Объяснение исторического процесса зависит от понимания методологических установок и логики исторического исследования. История – это скорее вопрос, чем ответ, поэтому ее и приходится постоянно переписывать. Историк обречен на поиск среднего пути между рациональностью и иррациональностью реальности. Историк знает, что одни и те же причины могут вызывать разные явления, а одинаковые явления могут иметь различные причины. История нередко предстает как демоническая сила, которая вторгается в нашу жизнь и вовлекает нас помимо воли в трагические ситуации. Историю понимают как критическое развитие по спирали к более высокому уровню бытия, к свободе от необходимости; как триаду тезиса, антитезиса и синтеза; как борьбу жизни и смерти; как последовательность экспансий и противоречий; как прогрессивное развитие к ноосфере. Историческое знание занято поиском единообразия, сходства и повторяемости. История может выразить несводимое к индивиду личностное начало, осознав человеческую неповторимость и индивидуальность: «Если существует история у твоего народа, ты не случайный каприз судьбы, не результат спаривания, женской оплошности или мужской настойчивости; ты фокус поколений, что жили до тебя, самим своим существованием обеспечив именно твое поколение»4. По мнению Ю. Трифонова, «на каждом человеке лежит отблеск истории. Одних он опаляет жарким и грозным светом, на других едва заметен, чуть теплится. Но он существует на всех. История полыхает, как огромный костер, и каждый из нас бросает в него хворост»5. История обладает огромной значимостью для людей, составляя их родовое наследие, эстафету человеческой сущности. История – это память человечества, она хранит и реконструирует все, что ему дорого и ненавистно. Люди никогда не были безразличны к вопросам: Кто мы? Откуда? Куда идем? История – всегда разведка В былом, но для грядущих лет. Историк загибает ветку, Чтоб не свернул идущий вслед. Историк трудится сутуло, Не разгибаясь по ночам, Чтоб эта ветка не хлестнула Вслед движущегося по очам. Он пролагает путь кружной Через прошедшее в грядущее, Чтобы прошли – пусть стороной, Пусть по обочине – идущие. Б. Слуцкий 5 Историческое знание дает ощущение принадлежности к цивилизованному обществу. «Основной инстинкт» историка – это всепобеждающий интерес к предмету. В какой степени этот интерес ограничен теорией? Не ведут ли теоретические и методологические размышления к феномену сороконожки, запутавшейся в своих ногах, как только она задумалась над проблемой, с какой именно из них ей следует начать движение? Вопрос о том, как писать историю, никогда не будет решен однозначно. По мнению Л.Н. Гумилева, в решении этого вопроса вообще «нет необходимости, потому что рецепты идут здесь скорее во вред, чем на его пользу. Совершенно невозможно представить, чтобы два исследователя-современника, занимаясь одним периодом… изложили предмет одинаково. Именно это разнообразие способствует объективному познанию исторического процесса»6. В жизни общества попеременно доминируют то аналитические, то синтетические процессы. Аналитическому стилю мышления присущ рационально-логический характер, синтетическому – эмоционально-интуитивистский. О периоде таких колебаний есть разные гипотезы7. Широта интересов историков делает границы истории расплывчатыми, особенно, если учитываются при этом достижения иных наук о человеке. С одной стороны, в историческую науку проникли математические методы, с другой – ей брошен вызов постмодернизмом. Однако «расщепленный образ исторической науки… соответствует расщепленному состоянию самой истории» человечества8. У древних греков покровительница истории Клио считалась дочерью Мнемосины, богини с красноречивым именем «Воспоминание». Древние греки исходили при этом из того, что присущая человеческому роду память лежит в основании любой формы осмысления прошлого. Не всякая память является исторической. Для исторической памяти необходим элемент дистанции, необходим выход за пределы жизненного пространства личности или группы людей, к которым она относится. О важности изучения феномена исторической памяти говорит, например, тот факт, что проблемы, связанные с ней, обсуждались в двадцати различных секциях XIX Международного конгресса исторических наук в г. Осло в 2000 году. 6 У реальной истории есть немало точек разрыва, точек забвения исторической памяти. Далеко не всегда профессиональный историк способен соединить разорванное. Иногда он этот разрыв углубляет, вытесняя нежелательные воспоминания о недавнем прошлом9. В итоге информация «вымывается» из коллективной памяти общества. Пытаясь этому противостоять, поляки, например, учредили Институт национальной памяти. Председатель этого института – единственное должностное лицо в Польше, которое подчиняется исключительно парламенту. Для его избрания необходима 60процентная поддержка сейма. Профессор Леон Керес был избран на эту должность после того, как необходимой поддержки не получили 12 кандидатов. Историческая память – устойчивая система представлений о прошлом, бытующих в общественном сознании. Ей свойственна не столько рациональная, сколько эмоциональная оценка прошлого. Исследование проблем исторической памяти осуществляется с разных позиций и на основе разных методологий. При изучении исторической памяти возможны своеобразные историографические революции, научно вторгающиеся в память народа. Анализ исторической памяти предполагает учет взаимоотношений поколений и позиций государственной власти, осуществляющей патриотическое воспитание. Злоупотребления историей особенно чудовищны при авторитарных и деспотических режимах. Однако они практикуются и в обществах, допускающих широкую свободу мнений, но располагающих «особой системой регламентации, включающей скрытые механизмы ограничений и поощрений вполне определенных концепций… Борьба за политическое лидерство нередко проявляется как соперничество разных версий исторической памяти и разных символов ее величия, как спор по поводу того, какими эпизодами истории нация должна гордитфься»10. Будучи политически актуальной и включенной в систему политического сознания, историческая память позволяет делить события на хорошие и плохие, ставить оценки по поведению в прошлом. Являясь частью общественного сознания, историческая память не столько персонифицирована, сколько социальна: 7 ее носителем выступают такие социальные общности, как семья, нация, государство. Формирование исторической памяти связано с самоорганизацией социальной психики, поэтому она имеет сознательный и бессознательный уровни. При искажении истории происходит вытеснение фактов из сознательной памяти в коллективное бессознательное, что приводит к невротизации общества и чревато социальными конфликтами. Многомиллионные туристские потоки к памятникам прошлого напоминают едва ли не массовый психоз. Общечеловеческий современный интерес к прошлому недостаточно объяснить одними техническими факторами (как то скорость передвижения) или возросшим массовым уровнем образования. Интерес к прошлому в какой-то степени является отражением напряженного интереса к будущему. Полемика вокруг минувших событий может приобретать и международные масштабы. Так, представители Ирландии и Исландии при ООН выразили протест, когда по решению ЮНЕСКО в 1992 году проводились мероприятия в честь 500-летия открытия Америки Колумбом. Свой протест они обосновали тем, что викинги в конце X века, а ирландские монахи еще в VII веке опередили испанцев. В обыденной жизни существуют превратные представления о сущности труда историка. Облегченное понимание сути профессиональной деятельности историка демонстрируют даже люди, сами оставившие заметный след в истории. Так, маршал Жуков, пытаясь опровергнуть упреки, связанные с действием главного командования в первые дни Великой Отечественной войны писал: «Нет ничего проще (?! – М.Л.), чем, когда уже известны все последствия, возвращаться к началу событий и давать различного рода оценки»11. «Святая простота» исторических оценок отличает труды разной степени сложности, но в том случае, когда проведенный анализ отвечает критериям профессии, впечатление о простоте оценки, безусловно, обманчиво. В марксистской науке существовало (и существует?) представление о том, что марксистско-ленинская методология – истина, а все прочие – заблуждение. Однако между истиной и заблуждением существует иная, более сложная, диалектическая, связь. Ф. Бэкон считал истину «дочерью времени». Французский 8 поэт-академик П. Валери назвал науку «истиной, помноженной на сомнение». Претензии на объективность и абсолютную истину всегда были блефом, ибо объективность если и достигается, то только субъективными усилиями. На излете советской власти академик И.Д. Ковальченко сетовал на то, что в исторических исследованиях мало учитываются два важных обстоятельства. Во-первых, то, что в научном знании истина и заблуждение сочетаются органично, что и порождает внутренние противоречия, споры и разногласия независимо от теоретикометодологических позиций историков. Во-вторых, «относительный характер получаемых в исследовательской практике знаний исключает право кого бы то ни было претендовать на конечную истинность этих знаний и окончательную завершенность изучаемых явлений и процессов. Наука тем и хороша, что в ней никому не дано сказать последнее слово»12. Истина часто является предметом насмешек до того, как ее признают. Формулируя знаменитый принцип дополнительности, физик Н. Бор подчеркивал, что противоположности не исключают, а дополняют друг друга, что всестороннее освещение предмета требует учета различных точек зрения, препятствующего однозначному описанию. По мнению М. Вебера, «воодушевленное заблуждение часто оказывается для науки плодотворнее, чем бездушный педантизм»13. Путь науки – это путь непрерывного опровержения ее положений. Теория представляется научной постольку, поскольку она может быть опровергнута. Теория, претендующая на объяснение всего, неспособна объяснить ничего. Как и любая человеческая деятельность, наука строится на фундаменте собственных ошибок. Сияющие истины науки – не более чем видимая часть айсберга, состоящего в основном из разного рода ошибок. Обширность исторических знаний объясняет традиционное уважение к исторической эрудии. В эпиграмме по случаю юбилея Е.В. Тарле поэт С. Маршак писал: В один присест историк Тарле мог написать (как я в альбом) огромный том о каждом Карле и о Людовике любом. 9 Но широта исторической эрудиции не может быть беспредельной – она порождает проблему избыточной информации, волновавшую историков еще тысячу лет назад. Так, византийский император и писатель X века Константин VII Багрянородный, дед великой княгини Анны, жены крестителя Руси Владимира, считал, что «материал истории дорос до пределов необъятных и неодолимых». А один из самых образованных людей николаевского времени, друг и почитатель Гете, граф Уваров, предрекал такое время, когда «очертания каждой науки… перейдут пределы ума, и… тогда историки, подавленные бременем предварительных разысканий и грудою вспомогательных средств, скорее будут останавливаемы, нежели поддерживаемы в своих трудах необъятной громадой произведений книгопечатания. Сомнительно, чтобы подобное состояние вещей… послужило углублению точности наших знаний вообще и точности исторической в особенности»14. Действительно, естественным следствием бесконечного накопления конкретно-исторических знаний является усиление их «сопротивления» попыткам исследователей свести эти знания в некую систему. Вероятно, из теоретического источниковедения со временем вычленится дисциплина «гуманитарный сопромат». А пока приходится лишь учитывать то, что избыток информации стал новой формой загрязнения среды, окружающей человека, и привел, в частности, к росту исторического невежества политиков, о чем с горечью писал испанский философ: «… современные руководители европейской политики знают историю гораздо хуже, чем их предшественники в XVIII и даже XVII столетиях… уже в XIX в. историческая культура начала убывать…»15. Исторической эрудиции недостаточно для профессии историка. Продолжение эпиграммы Маршака указывает на необходимость такого элемента, как подлинно историческое мышление, умение видеть последствия и анализировать связи явлений: Не только тем нам дорог Тарле, Что знает он о каждом Карле, Что понят им Наполеон. Нет, показал его анализ, 10 Как из Фуше развился Даллес, Из Талейрана – Ачесон16. Теоретические проблемы исторической науки в отечественной историографии разработаны слабо не только потому, что длительное время этому мешала монополия исторического материализма на историческую истину, но и потому, что занятия теорией требуют определенного балансирования на грани профессии. Теоретическая беспечность историков имеет массу нежелательных социальных последствий: «Активность теоретической и исторической мысли есть просто одна из естественных форм интеллектуального существования развитого общества, свидетельствующая о его полноценности, о наличии в нем жизненных сил»17. Только соединяя теоретический и исторический взгляд, можно объяснить, что такое история, понять, каким образом она превращает утраченные ценности жизни в вечные ценности человеческой культуры. Историку необходимо собственное суждение о природе своей профессии: если он не размышляет над особенностями и методами своего ремесла, то возникает ощущение некоей профессиональной неполноценности. Это тем более важно, что, по сути, историк – это общественный человек, изучающий общественного человека. Описывая картины жизни, историк прокладывает путь общественному самопознанию человека и самосознанию общества: понять самих себя можно лишь в исторической ретроспективе, в сопоставлении с людьми иных эпох и цивилизаций. Российская историческая наука длительное время была одержима абсолютизацией методологических конструкций, своеобразным академическим тоталитаризмом. Искажающий след в ней оставил классовый подход, отождествление историографии с идеологией, противопоставление коммунистической партийности объективности, недооценка всех факторов развития человечества, кроме социально-экономических. Сложные, противоречивые, явления, события, личности пытались измерить с помощью стереотипов «друг – враг», «передовой – реакционный». Чуть ли не все мыслители-идеалисты от Чаадаева до Ганди были названы реакционерами; отрицательно оценивались такие явления, как плюрализм и пацифизм, парламентаризм и социал-демократия, конвергенция и многое другое. 11 В чем суть исторического анализа? Должен ли историк судить или ему достаточно понять? Анализ историографических и исторических текстов показывает, что их авторы выступают в разных ролях. Историк может исполнить роль адвоката, прокурора или судьи. Он может быть бесстрастным летописцем и наглым репортером, жаждущим сенсации. Обвиняя или оправдывая целые эпохи, историк разрывает хронографический свиток на части. Историк может быть и льстецом, и фальсификатором, однако всего предпочтительнее роль вопрошающего собеседника, только тогда изучение истории становится диалогом18. Философы истории утверждали, что история имеет конечную высшую цель. В качестве таковой назывались «гуманность» (Гердер), «правовой порядок и вечный мир» (Кант), «идеальное государство» (Фихте), «самосознание абсолютного духа» (Гегель), «осуществление человеческой сущности» (Фейербах), создание «научно-промышленного общества» (Кант) и др. Современные идеи глобализации, в сущности, возрождают представления об однолинейном и непрерывно развивающемся по восходящей прямой историческом процессе. Даже в линейном варианте историческая реальность предстает очень сложной для познания и определяет некоторые его особенности. Историческая наука не может подтвердить свои выводы экспериментально. Но и биолог, исследующий процесс возникновения видов, не может воспроизвести его в натурном эксперименте. В аналогичном положении находится и геолог, изучающий образование горных цепей. Натурные эксперименты не могут проводить астрофизики, да и физика микромира не располагает данными непосредственного наблюдения за поведением элементарных частиц. Неповторимость и индивидуальность событий не составляют исключительной специфики истории. «Это только издали, да и то людям не очень наблюдательным, кажется, будто одинаковое “лицо” имеют все наводнения, землетрясения, циклоны и другие природные явления, что одинаковы все падающие звезды и все светляки, что все коровы отштампованы природой одним штампом и с минимальными допусками. На самом же деле в науках о земле и в биологии, в астрономии и ядерной физике, в электротехнике и 12 коллоидной химии исследователь сталкивается с не меньшим разнообразием и неповторимостью отдельных явлений, чем в истории…»19. Проблема общего и особенного давно поставлена теорией, но с практической точки зрения она является вечно новой проблемой. А поскольку человеческая деятельность отличается целенаправленностью и целеполаганием, в исторической науке к двум классическим вопросам естествознания «почему?» и «как?» добавляется третий – с «какой целью?» («для чего?»). Особенностью исторической теории является ее большая по сравнению с другими теориями гипотетичность. Факт в исторической науке, обладая самостоятельностью, может поставить под сомнение всю теорию или отдельные ее положения. По поводу относительности исторических воззрений существует немало легенд. Одна из них рассказывает о том, как английский мореплаватель и писатель Ралей Уолтер, будучи заключенным в Тауэр, работал над своей «Всемирной историей». Внезапно под его окном началась ссора. Посмотрев на повздоривших людей и поняв причины ссоры, он продолжил свою работу, а наутро узнал, что один из его друзей, принимавших участие в ссоре, расходится с ним в ее оценке. Задумавшись над тем, как трудно установить истинный ход отдаленных событий, если не можешь точно описать увиденное, он бросил рукопись в огонь. Уникальность исторической науки состоит в своеобразной преемственности исследователей. Если в других науках ученый может быть единственным автором открытия, то в истории это невозможно: «…каким бы ни было уникальным открытие историка, он всегда имеет соавторов – тех известных, а чаще неизвестных составителей летописей, архивных документов, других материалов, послуживших в качестве исторических источников открытия. Даже археолог, открывший курганный могильник, - соавтор тех безвестных для него и науки людей, которые сделали насыпь, соорудили внутри нее склеп… “соавторство” историков – это объективное свойство самого исторического познания»20. Один из путей развития исторической науки – совершенствование внеисточникового знания. Внеисточниковое знание не содержится непосредственно в исторических источниках, это 13 призма, через которую историк смотрит на исторические источники и информацию, в них заключенную. Внеисточниковое знание направляет мышление историков при интерпретации источников. Оно предполагает умение ставить новые вопросы. Это умение зависит от методологической подготовки историка, оно позволяет открывать в прошлом новые, неизвестные ранее ракурсы и пласты. Термин «методология» происходит от греческого слова «методос», что означает «путь исследования», «способ познания». И. Кант, введший в философию термин «методология» (до него употребляли только слово «метод»), отождествлял ее с логикой. В научной литературе XIX века три близких по смыслу термина – методология, метод, методика – употреблялись как синонимы. В древнегреческой философии, откуда они перешли во все европейские языки, слово «метод» означало «путь знания», «учение»; слово «методология» имело значение «учение о методе» или «теория методов»; «Методикой» именовалось не дошедшее до нас произведение Аристотеля. Слово «методика» употреблялось либо как синоним метода, либо в смысле техники исследования (что и стало общепринятым). Важно уяснить, что методология – это не особая наука, а система отдельных теоретических положений, используемых историками как руководящие принципы их работы. При таком понимании, метод исследования становится определенным выводом из методологии. Методология – это своеобразное самосознание исторической науки, она является интегральной областью знания и непосредственно контактирует с частнонаучными дисциплинами. Особенно это относится к историографии. Историография и методология истории изучают один предмет – историческую науку: историография – конкретно-исторически, методология – теоретически. Можно сказать, что методология – это путь познания историографии. По определению современных авторов, методология исторической науки – это «теория научно-познавательной деятельности, направленная на разработку, анализ и критику методов научного исследования. Методология определяет характер постановки научных проблем, выбор адекватных путей и принципов их решения, разработку и критическую оценку методов исследования»21. 14 Ассоциация исследователей российского общества XX века, проведя в 2002 году конференцию по теме «Модели научного познания», выделила несколько основных методологических проблем: историк и общество (историк и массовое сознание); историк и смежные дисциплины; историк и политика; методологический инструментарий историка как лингвистическая проблема; взаимодействие западно-европейского и российского историографических сообществ. Методология определяет границы научности, задает пространство исторического познания, оптимальное для разных жанров. В таком качестве методология истории выделилась в специальную историческую дисциплину на рубеже XIX и XX веков. Граница, отделяющая методологические вопросы исторической науки от конкретно-исследовательских, относительна, подвижна, но она существует, и этот факт трудно игнорировать. После основания в 1960 году журнала «History and Theory» и особенно после успеха этого журнала методология истории отстояла свое право на самостоятельное существование, хотя при этом возрос риск ее отрыва от массы исследований, касающихся узких и конкретных проблем. Число «профессиональных методологов» и поныне невелико. Их достижения практически неизвестны массе историков. К примеру, мало кто знает, что выдающийся методолог польский профессор Е. Топольский ввел деление методологии исторической науки на прагматическую, непрагматическую и объективную. Прагматическая занимается методами изучения прошлого, непрагматическая – анализом результатов этого изучения, а объективная осмысливает предмет исторического исследования в контексте потребностей последнего. Первые два вида носят не столько практический, сколько аналитический характер22. Многие авторы различают методологию в широком и узком смысле слова. В широком смысле методология обозначает совокупность общих установок и философских принципов. А в узком смысле слова методология представляет собой специальную дисциплину, задача которой – теоретическое исследование, 15 реконструкция, оправдание и обоснование методов деятельности историка. Историческая наука страдает не столько от отсутствия широкого, философско-исторического подхода, сколько от недостатка методологических и логических исследований проблем реальной истории. Специалисты различают два варианта понимания предмета методологии истории и ее задач: как специальную теорию методов исторического анализа и как теоретическое отражение практики исторического исследования, его потребностей23. Первый вариант, как описание, разработка и классификация методов анализа исторического материала, преобладает в методологических работах. Иначе говоря, методология истории не сводится к воспроизведению общефилософских понятий в сфере исторической науки, хотя без некоторых философских обоснований или отсылок к авторитетам все же не обойтись. При этом суть методологии истории заключается в поисках адекватного подхода к исследованию конкретного исторического материала. Так как этот материал является многообразным и даже необъятным, основная задача методологии истории состоит в том, чтобы найти критерии его отбора, осмысления и структурирования. Богатство конкретности в развитии общества усложняет задачу исследователя, толкает его на описание неповторимых ситуаций, процессов и явлений прошлого. «Методология истории призвана находить и различать в историческом материале общее, особенное и единичное»24. Историю можно назвать наукой об особенном в историческом процессе – историк вскрывает все то особенное, что имело место в развитии страны, государства, народа. Изучая природу, принципы и методы исторического познания, методология истории акцентирует основные понятия исторической науки, составляющие в своей совокупности ее методологический аппарат. Изучая формы и способы научной деятельности историка, методология помогает ему формулировать идеи, концепции и гипотезы, которые он выдвигает, объясняя исторические явления. Особенно в этой работе важно следовать принципу историзма. Если историк рассматривает прошлое с позиции сегодняшнего дня, то возникает вопрос: насколько важным для людей прошлого было то, что историк считает важным сегодня? 16 Методологию истории нельзя представлять как некий набор абстрактных схем и логических конструкций, существующих над историческим исследованием или вне его. Разработка методологических вопросов истории не может быть монополией профессиональных теоретиков, хотя в далеком будущем, возможно, теоретическая история будет существовать так же полноправно, как теоретическая физика. Впрочем, практика исторического исследования в такой степени отличается от экспериментальной физики, что каждый вдумчивый историк не может не стремиться к теоретическому осмыслению и обобщению того конкретного материала, с которым он сталкивается. Прежде всего потому, что проблемы, объединяемые общим понятием «методология истории» и включающие в себя проблемы периодизации, места и роли задач исторической науки, понятийного аппарата, могут быть разрешены лишь на основе единства теории и практики. Методы познания, исследовательские приемы анализа и обобщения исторического материала, накопленные поколениями историков, постепенно превращаются в систему методов поиска научной истины. Существует тривиальное и весьма распространенное представление о том, что истина якобы лежит посередине между двумя противоположными мнениями. В правильности такого предположения когда-то усомнился И.В. Гёте, заметив, что посередине лежит не истина, а проблема. Трудности поиска истины в историческом исследовании парадоксальным образом подметил британский историк Т. Маколей: «Исторический труд, где все отдельные факты истинны, в целом может быть ложным»25. Поскольку историческое, как и любое иное научное, познание – бесконечный процесс, истина, скорее, возникает на определенных его этапах и не может считаться каким-то финишем познания. Совершенствование методологии истории означает преодоление традиционности, штампа, шаблона, научной отсталости. При шаблонном мышлении логика управляет разумом, при нешаблонном – обслуживает его, помогая находить эвристические решения. Традиционность чаще всего подразумевает эрудицию, ученость и аккуратность. Методологическую невинность считали пороком уже в конце XIX века. Европей- 17 ская цивилизация выработала разные формы теоретического отношения к истории – теологию истории, философию истории и научную историографию. Наиболее значительно поля исследований пересечены у философии истории и теории истории. Философы истории немало сделали для выяснения сущности, содержания и смысла истории. Отстаивая свое преимущественное (а иногда и монопольное) право на анализ этих проблем, философы утверждают, что «для историка прошлое существует как некоторая вне его находящаяся данность… Для философа прошлое существует лишь в связи с настоящим, заключающим в себе новые возможности и тенденции, еще не реализованные в истории… Если историк смотрит на историю глазами тех, о ком пишет, то философский взгляд на нее – это… взгляд современного человека, стремящегося увидеть в истории свое собственное отражение»26. Сомнительность подобных утверждений очевидна хотя бы потому, что любой историк все-таки смотрит своими глазами и из того времени, в котором живет. Тем не менее мы не в праве отказывать философам в попытках размежевания сфер собственно философского и историко-теоретического изыскания, хотя при этом историков не следовало бы лишать права самостоятельных поисков, утверждая, что только философы обнаруживают единое и целое там, где историки видят лишь разрывы и расхождения. Иначе можно договориться и до такой нелепости, будто «философы намного ближе к исторической реальности, чем самые дотошные и скрупулезные, но эмпирически мыслящие историки»27. В речи, посвященной памяти И. Канта, академик В.И. Вернадский подчеркнул, что именно историк «переносит в прошлое вопросы, волнующие современность»28. Методология исторической науки изучает ее предмет, особенности познавательной деятельности историка, отношение истории к другим наукам, искусству и морали. Особое внимание уделяется проблеме исторического сознания. Методологию определяют и как систему основополагающих идей, принципов, из которых исходит и которыми руководствуется исследователь в своей познавательной деятельности29. Включая в свою предметную область проблемы философии, гносеологии, логики, этики и эстетики, история становится в методологическом от- 18 ношении одной из самых сложных наук, где переплетаются самые разнообразные познавательные средства. История – это особая форма мышления, поэтому ее методология должна способствовать не только интерпретации фактических данных, но и познанию сущности предмета: «Методология и логика ничего не предписывают и не изобретают, но они уясняют ученому логическую структуру его собственного мышления и тем самым раскрывают ему сущность приемов его собственной работы, содействуя достижению предельной точности ее результатов»30. Методология не является самостоятельной наукой, она представляет собой часть исторической науки, теорию ее методов, ведь в зависимости от объекта и предмета изучения каждая наука имеет свои собственные методы исследования и правила оперирования ими. Методология изучает возможности и границы применения собственно исторических методов и методов других наук. Методология – это не совокупность методов, а учение о них. Метод является предметом анализа в методологии. К числу специально-методологических проблем истории относятся соотношение исторической реальности и исторического знания, способы исторического объяснения и описания действительности, определение сущности понятий «исторический факт», «историческое время», «историческая закономерность и альтернативность». Методология истории уточняет содержание таких понятий, как «историческая система», «историческая структура», «исторические связи», «исторические отношения» и др. С методологической точки зрения у истории два лица – социологическое и гуманитарное, одно обращено к массовым процессам, другое – к личности. То «лицо истории», которое обращено к массовым процессам, при наличии соответствующих источников может изучаться психологически31. И в общественных, и в естественных науках время от времени происходит переосмысление методологии исследований. Ныне особенно заметно стремление отойти от узкоспециализированных подходов и попытаться использовать комплексные и междисциплинарные. Очень важен учет переменчивости, несбалансированности, открытости исторических систем, позволяющий принять во внимание множество следствий. По 19 мнению современных авторов, «историческое объяснение и понимание представляют собой нарратив, являющийся правдоподобным рассуждением», а плюрализм исторических оценок и выводов подобен плюрализму гипотез в естественных науках32. Исторические высказывания могут быть истинными, ложными, неопределенными, но субъективизм трактовок не означает отсутствия объективного начала в исторических выводах. Об одном и том же вопросе могут быть высказаны различные суждения. Их плюрализм объясняется предметом и объектом исследования, т.е. множественностью исторической реальности во всех ее многообразных проявлениях. Плюрализм исторических оценок связан с мировоззренческими, политическими, моральными нормами того или иного времени. Он проявляется и в полисемантизме понятий. Причина плюрализма связана и с той ролью, которую в историческом исследовании играет исторический источник. Его автор (или авторы) дают свою версию событий, поэтому возможности обращения к одной и той же теме неисчерпаемы33. Одной из общих проблем философии истории и теории истории является проблема смысла истории вообще и смысла отдельных ее событий (конкретика тоже может быть проанализирована в общефилософском контексте). Ключевое значение проблемы смыслов объясняется тем, что история представляет собой открытый, незавершенный процесс, связанный с деятельностью людей. Поэтому и смысл истории является открытой проблемой, требующей постоянного уточнения, ибо не может быть какой-то универсальной разгадки этого смысла. При всей расплывчатости термина «смысл истории» он не может не интересовать историка, изучающего основные и неосновные тенденции общественного развития и видящего этот смысл в становлении и утверждении общечеловеческих ценностей, в торжестве идеи достоинства человека. Акценты исторического изучения разнообразны, но фокусом его все более становится человек. Вне истории человек не может понять сопричастность своему народу и человечеству в целом. Понятие исторического прошлого не имеет смысла вне соотнесенности его с настоящим и будущим. Будучи движением, история обретает смысл в практической бесконечности, в человеческой деятельности, в 20 разрешении конфликтных ситуаций, в поиске эффективных путей развития. Человечество стало цивилизованным благодаря тому, что видело смысл своего существования в труде, любви и творчестве. Гармоничное развитие способностей человека является и предпосылкой, и результатом исторического процесса, поэтому глубочайший смысл истории заключается в ней самой, в беспрерывном совершенствовании человеческой сущности. Вопрос о смысле истории тесно связан с проблемой исторического опыта. Переоценка, как и недооценка, его одинаково опасны. Еще Гегель высмеивал наивно-прагматический взгляд на «уроки истории», согласно которому достаточно знать прошлое, чтобы разумно поступать в аналогичных ситуациях в настоящем. А современный аргентинский писатель Борхес назвал исторический опыт стеной, о которую разбили головы бесчисленные архитекторы будущих счастливых обществ. На его взгляд, если история чему-то учит, то только тому, что со временем люди не меняются и им постоянно приходится заучивать то, что до них уже узнали другие. Значение истории нельзя свести к сумме примеров из прошлого. Проблема исторического опыта – это проблема тенденций развития, помноженная на умеренно-скептическое отношение к возможности ускорения развития этих тенденций. Методологические размышления историков позволяют лучше понять, что же такое историческая наука и каков ее предмет. Может ли историческая наука изучать прошлое человечества во всем его многообразии, или она должна выделять из этого многообразия наиболее значимые явления? Каковы критерии отбора, дающие возможность различать существенные явления и несущественные? По мнению Б.Г. Могильницкого, предметом истории является особенное, которое можно определить как историческую индивидуальность, чье познание, однако, предполагает соотнесение единичного с общим34. Это понимание существенно отличается от тяжеловесного, но отражающего историографическую практику конца XX века определения И.Д. Ковальченко, в соответствии с которым историческая наука в целом должна изучать человеческую деятельность как естественно-исторический и внутренне обу- 21 словленный процесс «во всем его многообразии, пространственной и временной конкретности»35. В работах современного немецкого историка Й. Рюзена, отрицающего тезис о всеобщих закономерностях исторического развития, под предметом исторической науки подразумевается множество частных историй36. Авторы, сомневающиеся в возможности теоретического уровня исторической науки, претендующего на познание закономерностей, и их оппоненты схожим образом оценивают прогностические функции исторической науки, полагая, что прогнозировать можно лишь основные тенденции, направления и самые общие результаты развития. Факты предсказания крупных исторических событий до сих пор были исключением – никакой удовлетворительной методологии и методики исторического прогнозирования не существует. Известны лишь ставшие знаменитыми предсказания А. Токвиля, Ф. Энгельса и маршала Ф.Фоша. А. Токвиль предсказал французскую революцию 1848 года и события, последовавшие за ней во Франции и Европе. Ф. Энгельс предсказал первую мировую войну и ее социальные последствия: «И это была бы всемирная война невиданного раньше размера, невиданной силы… Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, - сжатое на протяжении трех - четырех лет и распространенное на весь континент, голод, эпидемии… Все это кончается всеобщим банкротством: крах старых государств… короны дюжинами валяются по мостовым…»37. Маршал Фош предсказал вторую мировую войну, охарактеризовав Версальский договор как перемирие сроком на двадцать лет. Главнокомандующий войск Антанты умер за десять лет до начала Второй мировой войны, не успев узнать, насколько точен его прогноз (мир подписан в июне 1919 года, мировая война началась в сентябре 1939 года). Американский историк Пол Кеннеди, автор нашумевшей книги о расцвете и упадке великих держав, полагал, что о будущем ничего нельзя сказать с полной определенностью, даже если тенденции уже отчетливо проявились. Непредвиденные события, нелепые случайности, изменяющиеся тенденции могут сделать негодным даже самое правдоподобное предсказание, если же оно оправдалось, то такому историку просто повезло. У 22 В. Гюго был афоризм: помнить, значит предвидеть. В этом афористическом выражении ощущается связь проблемы исторического опыта с прогностической функцией исторического знания, не менее афористично подмеченной в фольклорной фразе о том, что лучший способ заглянуть вперед – это оглянуться назад. История предостерегает потомков, повествуя им о бедах предков. Историческая память несет в себе оценочный момент, она «пронизывается отношениями принятия и непринятия, одобрения и осуждения, удовлетворенности или неудовлетворенности фактом, зафиксированным в памяти»38. Недостаточно исследован вопрос соотношения индивидуального и коллективного исторического сознания, вопрос воздействия исторической науки на их формирование. Социологи применяют термин «личная историческая память», понимая под ней личный срез исторического сознания. С этой памятью связано возрождение интереса к культурному наследию прошлого – к народным промыслам, народной медицине, народным праздникам и ярмаркам. Историческая память избирательна, она делает акцент на отдельные исторические события, игнорируя другие или гиперболизируя какие-то моменты исторического прошлого. Современные авторы понимают под историческим сознанием «совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии»39. Историческая память при этом определяется как «сфокусированное сознание, отражающее особую значимость информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим»40. Историческому сознанию свойственна преемственность, осознание непрерывности истории, при этом некоторые политические и революционные события порождают иную тенденцию – стремление прервать исторический процесс, начать очередной его этап «с чистого листа». По мнению Р.Г. Пихои, в российской истории очевидно наблюдались как минимум два таких «разрыва» – на рубеже XVII и XVIII веков, когда преследовалась «старая вера», а Россия перестраивалась в империю, и в XX веке, который привел к радикальному переосмысливанию истории страны41. Историческая память не существует в чистом виде. Ее всегда формируют либо интеллектуалы с собственными пред- 23 ставлениями о жизни, либо институты власти, влияющие на средства массовой информации. Под их воздействием может происходить коренная деформация исторической памяти, вплоть до полной ее утраты. Историческое сознание исказить труднее, чем историческую память, поскольку оно принадлежит всему обществу, является таким же его ресурсом, как природа и культура. Самым заметным и весьма болезненным для профессиональных историков социальным сдвигом является нарушение связи между научным историческим сознанием и другими уровнями исторического сознания – массовообыденным и художественным. Историческое сознание объединяет ретроспективу и перспективу. По М. Бахтину, историческая наука возникает «на рубеже двух сознаний» – сознания людей, живших тогда, и сознания историка, живущего в другую эпоху. Б.Г. Могильницкий выделяет три уровня исторического сознания: элементарный, систематический и научный. Под первым он понимает эмоционально окрашенные воспоминания о прошлом, полученные благодаря историческим памятникам, художественной литературе, кинематографу и театру. В силу хаотичности и отрывочности исторические представления этого уровня отличаются от систематических исторических знаний, которые призвана дать каждому человеку средняя школа. Научное историческое сознание предполагает профессиональное теоретическое осмысление прошлого во всей его сложности и противоречивости. Сложность феномена исторического сознания объясняется тем, что оно не сводится только к знаниям о прошлом. Историческое сознание связано с определенными представлениями о ценностях и смысле прошлого. Историческая наука далеко не всегда соответствует своему времени. Нередко она становится тормозом в развитии исторического сознания того или иного общества, предъявляющего исторической науке требования, которые она не в состоянии удовлетворить. Для того чтобы историческая наука эффективно выполняла свою социальную миссию, необходимо очень многое: и ответственность историка, и зрелость науки, и зрелость самого общества, обладающего чувством истории, не только способного воспринимать научные сентенции по поводу 24 опыта истории, но и готового осуществлять рекомендации науки. Личное историческое сознание неразрывно связано с чувством исторической гордости и с чувством личной исторической вины (или хотя бы исторического стыда). Еще К. Ясперс ставил этот вопрос применительно к Германии как вопрос об ответственности немецкого народа за гитлеризм42. Означает ли неучастие несопричастность? Чувство личной историчности цементирует национальное чувство. Подлинное национальное чувство несовместимо со стремлением избежать ответственности за свои и чужие несчастья. Национальное достоинство предполагает не только право гордиться своим народом, но и обязанность делить позор своего народа. Если немец гордится творениями Гёте, Гейне и Т. Манна, хотя не он их создал, то он должен испытывать чувство вины за преступления Гитлера, Гиммлера и Геббельса, хотя он лично в них не участвовал. Человек, мыслящий исторически, осознает возможности перемен. Деформации исторического сознания нашли отражение в терминологически-категориальном аппарате историков, следовательно, и в этом отношении они принадлежат к существенным методологическим проблемам исторической науки. Отказ от методологического основания науки бесперспективен. Теория, как и природа, не терпит пустоты. Отсутствие методологического основания ведет историков к эпигонству, эмпиризму или поиску таких объяснительных принципов, которые далеки не только от очевидности, но и от научности. Витухновский А.Л. В гостях у Клио. Петрозаводск, 1986. С. 8 – 9. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989. 3 Виппер Р.Ю. Состояния и события, массы и личности, интересы и идеи // Рубеж. 1995. № 5. С. 69. 4 Васильев Б. И был вечер, и было утро // Октябрь. 1987. № 3. С. 12-13. 5 Трифонов Ю. Отблеск костра. М., 1966. С. 3. 6 Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 1970. С. 18. 7 См.: Бородин Л.И. Квантитативная история в системе координат модернизма и постмодернизма // Новая и новейшая история. 1998. № 5. 8 Федотова В.Г. Методология истории сегодня // Новая и новейшая история. 1996. № 6. С. 61. 1 2 25 Экштут С.А. Битвы за храм Мнемозины // Диалог со временем. М., 2001. Вып. 7. С. 34. 10 Репина Л.П. Историческая память и современная историография // Новая и новейшая история. 2004. № 5. С. 50. 11 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М., 1971. С. 223. 12 Ковальченко И.Д. Роль дискуссии в исторической науке // Всемирная история и Восток. М., 1989. С. 22. 13 Вебер М. История хозяйства. Пг., 1924. С. 36. 14 Уваров С.С. Совершенствуется ли достоверность историческая? Дерпт, 1852. С. 17. 15 Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Вопросы философии. 1989. № 3. С. 152. 16 Маршак С.Я. Собр. соч.: в 8 т. М., 1970. Т. 5. С. 579. 17 Конрад Н.И. Письмо в редакцию журнала «Вопросы философии» // Проблемы истории и теории мировой культуры. М., 1974. С. 46. 18 Экштут С.А. Указ. соч. С. 32 – 33. 19 Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974. С. 66. 20 Косолапов В.В. Методология и логика исторического исследования. Киев, 1977. С. 212. 21 Парфенов И.Д. Методология исторической науки. Саратов, 2001. С. 7. 22 Топольский Е. Методология истории и исторический материализм // Вопросы истории. 1990. № 5. С. 3-14. 23 Смоленский Н.И. О разработке теоретических проблем исторической науки // Новая и новейшая история. 1993. №3. С. 8. 24 Жуков Е.М. Очерк методологии истории. М., 1980. С. 26. 25 Маколей Т. История. Фридрих Великий // Звезда. 1996. № 6. С. 126. 26 Межуев В.М. Философия истории и историческая наука // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 77. 27 Там же. С. 85. 28 Вернадский В.И. Очерки и речи. Пг., 1922. С. 58. 29 Ельчанинов В.А. Методологические проблемы исторической науки. Барнаул, 1990. 30 Неусыхин А.И. Рецензия на кн.: Alexander von Schelting. Max Webers Wissenschaftlehre. Tubingen, 1934 // Новая и новейшая история. 1993. № 3. С. 157. 31 Гулыга А.В. История как наука // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 35. 9 26 Хвостова К.В., Финн В.К. Проблемы исторического познания в свете современных междисциплинарных исследований. М., 1997. С. 16 – 18. 33 Хвостова К.В. История: проблемы познания // Вопросы философии. 1997. № 4. С. 65. 34 Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. М., 1989. 35 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 55. 36 Rüsen J. Rekonstruktion der Vorgangenheit. Göttingen, 1986. 37 Энгельс Ф. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» // Маркс К., Энгельс Ф. Cоч. 2-е изд. Т. 2. С. 361. 38 Егоров В.К. История в нашей жизни. М., 1990. С. 7. 39 Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память // Новая и новейшая история. 2000. № 4. С. 3. 40 Там же. С. 5. 41 Пихоя Р.Г. О некоторых аспектах «историографического кризиса», или о «непредсказуемости прошлого» // Там же. С. 15. 42 Яснерс К. Вопрос виновности // Знамя. 1994. №1. 32 Лекция 2. Понимание истории в разные эпохи Становление представлений о предмете исторической науки происходило постепенно. Культурно-исторические барьеры между различными эпохами в реальной жизни не были такими уж непреодолимыми, как это иногда кажется на расстоянии. Всегда полезно отказаться от своеобразной позиции «радостного невежества» и «хронологического снобизма», предполагающего, что только современный (т.е. последний) взгляд на любой предмет обладает правом на историческую истину. Интерес человечества к собственной истории возник задолго до появления письменности. Исторические представления отразились в эпосе, мифах, преданиях и былинах. Появление государственных форм власти усилило потребность в исторических знаниях, а изобретение письменности открыло возможность для их постепенного накопления. Очень велико было влияние на исторические представления со стороны рели- 27 гиозно-философских учений «осевого времени». Исторические концепции даже в самом примитивном виде были связаны с попыткой человека преодолеть свою смертность, «расширить» индивидуальную память до социальных и исторических масштабов. Конечность человека преодолевалась благодаря формальной бесконечности рода, нации, цивилизации. В государствах Древнего Востока возникли различные системы летоисчисления, зародилось летописание, появились такие формы исторических сочинений, как биография и автобиография. Наиболее авторитетным компонентом Ветхого завета стало Пятикнижие. В нем представлена легендарная история израильтян и их мифических предков – от сотворения мира до исхода из Египта и прихода к границам Палестины. В основе Пятикнижия лежат предания, а в них отражено знание о Вселенной, о коллективном опыте общества, что давало человеку ориентиры в окружающем его мире. Евангелия претендовали на то, чтобы быть биографиями. Из них мы получаем сведения о рождении Христа и его жизни, друзьях, о том, как он питался, одевался, как умер и был похоронен. Мы узнаем, что Иисус мог чувствовать, плакать, испытывать страх смерти, что он был подвержен вспышкам гнева и многое другое, характерное для произведений биографического жанра. В античном мире понятие «история» первоначально применялось к описанию космоса, происхождения и сущности Вселенной, а также редких, далеких и загадочных явлений, таких как магнетизм или затмения. Космос воспринимался непосредственно и визуально. Превалирование в познании визуального восприятия отображалось целой группой понятий, имеющих составляющую istor, что буквально означает «свидетель». Подобно восходу и закату солнца, смене зимы и лета, история представлялась непрерывным круговоротом, вечным возвращением, подчиненным одним и тем же неизменным силам. Термин «историк» (historicos) появился у поздних греческих писателей – Диодора Сицилийского, Плутарха и др. Первых же греческих писателей-историков, предшественников Геродота, называли словом «логограф», что означало «прозаик». 28 Первоначально логографами именовали составителей судебных речей, затем тех, кто, используя в качестве источников эпические поэмы, мифы и предания, излагал происхождение отдельных местностей, городов, храмов и называл свою деятельность историей. Произведения логографов дошли до нас во фрагментах, в виде ссылок и цитат у более поздних авторов. В отличие от логографов, дававших обычно разрозненные описания отдельных местностей и племен, Геродот располагал материал вокруг единой темы, относящейся к недавнему прошлому. Тема эта – борьба между Западом и Востоком, которая привела к греко-персидским войнам. Исторический метод Геродота в наиболее достоверной части его труда, как известно, сводился к опросу очевидцев событий, его интересовавших, т.е. к своего рода «расследованию» того, как все «на самом деле было». Иначе, история для Геродота – это эмпирическое исследование прошлого, установление подлинных фактов и событий. «История» отождествлялась с методом работы историка, т.е. со способом узнавания. Прославляя афинян, Геродот не испытывал враждебности к персам: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом…»1. Геродот выделял в истории народов три стадии – успеха, высокомерия и падения. Фукидид, запечатлевший историю Пелопоннеской войны, более критично, чем Геродот, подошел к данным источников, больше внимания уделил выявлению связей между событиями. Стремясь к достоверности, он поставил проблему истины в историческом знании. Фукидид взял от софистов скептическое отношение к религиозно-мифологическому миросозерцанию и критический подход ко всевозможным традициям и авторитетам. Критическая направленность его мысли сочетается с ясностью и трезвостью суждений в политических вопросах, с интересом к мотивам человеческого поведения. Поскольку предметом изложения у Фукидида является современная история, он выдвигает новое требование к историческому 29 повествованию – максимальной точности и критической проверки каждого факта: «… я не считал достойным писать все, что узнавал от первого встречного… но записывал то, что было при мне самом или о чем я узнавал от других, посильно точно исследовав каждую подробность…»2. Не случайно Фукидида иногда называют основоположником исторической критики. В отличие от Геродота и логографов Фукидид исключает из своего труда все мифическое, не верит преданиям и легендам. С его точки зрения, стремление сильного господствовать над слабым – это закон исторического развития, поэтому борьба партий или война является нормальным состоянием социума3. Фукидид существенно продвинулся в объяснении причин исторических событий. Он отрицал фатальность исторического процесса, верил в возможность человека воздействовать на ход истории, понимал единство человека и общества. Как и многие греческие авторы, философ Платон полагал, что силы, управляющие историей, - это космические силы. Подобно Гесиоду, на которого, вероятно, повлияли восточные мыслители, Платон развил учение о тенденциях исторического развития в пессимистическом духе. Он выдвинул закон исторического развития, согласно которому всякое изменение в обществе ведет к его распаду или вырождению. Закон вырождения предполагал не только политическое, но и моральное вырождение. Искусство политической власти, по Платону, подобно пастушескому искусству, т.е. является искусством управления и усмирения человеческого стада. С этой точки зрения, исторические знания должны были выполнить рациональную роль, их можно было бы использовать для исследования изменчивого мира. Долгое время античные авторы употребляли слово «история» лишь во множественном числе. Только в сочинениях Полибия складывается новый тип всеобщей истории. Полибий был сыном стратега Ахейского союза и сам занимал высокую выборную должность. Будучи дипломатом, побывал в Египте, попал в плен к римлянам, явился очевидцем таких событий, как разрушение Карфагена и Коринфа. В Риме Полибий стал историком, описавшим сложные пути взаимодействия средиземноморских культур. Создавая свой канон написания 30 исторического произведения, Полибий выдвигает требование всеобщности: история должна охватывать события, одновременно происходящие как на Западе, так и на Востоке, причем изложение должно быть синхронным4. Полибий считает, что большинство историков злоупотребляют драматическими эффектами и риторическими приемами, в то время как история не должна носить развлекательный характер. События истории, по его мнению, соединены между собой некой внутренней связью и обусловливают друг друга. Полибий видел в истории вечное возвращение в определенном порядке к одним и тем же политическим формам, что соответствовало и порядку природы. Излагая историю ряда стран средиземноморского региона, он был уверен, что написание истории по частям не даст возможности «уразуметь целое», нужно «сцеплять и сопоставлять» эти части в единую целостность. Ему был присущ интерес к теории и методике исторического исследования. Несмотря на огромную популярность «Всеобщей истории» Полибия у римских авторов, его идеи о задачах научного изыскания полностью оценили лишь европейские историки нового времени. Пытаясь найти критерий проверки исторического знания, Полибий сравнивает историю и медицину. Прагматическая история, на его взгляд, должна строиться на трех возможных методах: на изучении имеющихся исторических трудов; на знакомстве с достопримечательностями тех местностей, городов и стран, которые попали в поле зрения историков; на непосредственном знании политических дел. Полибий сознает, что большинство историков (он называет их «книжниками» или «буквоедами», работающими только в библиотеках) отдают предпочтение первому из перечисленных им методов, вместо того чтобы сочетать все методы. Работа только на основании выписок из чужих сочинений является, по его мнению, порочным способом, ибо не позволяет проверить сведения предшественников. Историки-книжники подобны врачам, не имеющим практических знаний. Наилучшим способом проверки полученных сведений Полибий считает обращение историка к собственному опыту или сопереживание. Практический опыт позволяет избежать ошибок при написании исторических работ. 31 Невежеству никогда не будет конца, если историки не будут иметь навыка в политических делах. Компетентность и мастерство писателя-историка Полибий связывает с образом его жизни. История в понимании античных греков была главным образом политической – историей государства, историей военных и государственных деятелей. Но в ней (особенно у Фукидида и Аристотеля) был отчетливо выражен и философский элемент: размышления о ходе человеческих дел, о направлении и смысле исторических событий – то, что впоследствии будет названо «философией истории». Идея развития, сформулированная Аристотелем, давала сущностное представление об истории, заметно отличавшееся от тогдашних обыденных взглядов на нее. В отличие от Фукидида и Полибия римские историки ставили целью не столько исследование причинно-следственных связей событий, сколько решение литературной задачи в исторических описаниях: «Создам ли я нечто, стоящее труда, если опишу деяния римского народа… твердо не знаю… затея эта и не нова, и даже избита, ведь являются все новые писатели, которые уверены, что либо в изложении событий подойдут ближе к истине, либо превзойдут неискусную древность в умении писать…»5. По мнению британского историка Р. Дж. Коллингвуда, автор приведенных строк, Тит Ливий, «и Тацит стоят рядом друг с другом как два великих памятника бесплодия римской исторической мысли»6. Метод Ливия он считает примитивным, рассказ его – мифическим. Отметив, что Тацит использовал новый, психолого-дидактический, подход к истории, Коллингвуд оценивает его негативно, поскольку тем самым были снижены стандарты исторической добросовестности. Представляется, что стандарты данной критики весьма завышены, если не забывать условий и обстоятельств времени. В сущности, Тацит предвосхитил будущий позитивистский взгляд на историю, полагая, что писать ее надо, не поддаваясь ни любви, ни ненависти, без гнева и пристрастия – «sine irae et odio». Свою историю он писал по следам событий, размышляя над которыми, понимал, что причины крушения институтов римского полиса, ставшего империей, столь глубоки, что их не свести к злодеяниям и ко- 32 варству отдельных исторических деятелей, в руки которых попадали судьбы людей. «Отказ от ненависти не означает равнодушия. Недавние события Тацит изображает, не жалея красок, не скупясь на осуждающие и клеймящие слова, не обеляя преступления и преступников… История преемственна именно потому, что она необратима!»7. Тацит подошел к истории как исторический мыслитель. С его времени в античной историографии преобладает морализаторская тенденция, о чем свидетельствуют сочинения Светония и Плутарха, долго служившие образцом биографического жанра. В 166 году Лукиан из Самосаты написал трактат «Как писать историю». С этого времени берет начало традиция (сохранившаяся до сих пор), по которой философы, не написавшие ни одного исторического труда, берутся поучать историков в их ремесле. Лукиан сожалеет о том, что историки нередко отступают от истины, испытывая страх перед властителями или надеясь на вознаграждение с их стороны. Он считает, что историк искажает прошлое, если испытывает расположение или неприязнь к тем, о ком он пишет. Лукиан советует историку считаться не с его современниками, а с теми, кто впоследствии будет читать его историю. Для убедительности он приводит пример с инженером Состратом, построившим в Александрии в III веке до н.э. знаменитый маяк высотой в 170 метров, с системой вогнутых зеркал, позволявших видеть свет маяка на расстоянии 50 – 60 километров. Закончив постройку, Сострат написал на цоколе маяка свое имя и обращение к мореходам, а затем, чтобы удовлетворить честолюбие правящего монарха, покрыл надпись известью и уже на ней вывел хвалебное посвящение Птолемею. Впоследствии известь обвалилась и обнаружилась правда об истинном строителе. Вот и историю, полагает Лукиан, надо писать подобным же образом. Историк, словно зеркало, должен отражать события такими, какими они были, без искажений. Лукиан мечтал о бесстрашном и неподкупном историке, независимом и справедливом, воздающем всем по заслугам. В целом античная историография отличалась гуманистичностью: «…это было повествование о человеческой истории, истории человеческих деяний, целей, успехов и неудач… любое 33 историческое событие – прямой результат человеческой воли… кто-то всегда ответственен за него…»8. Античные историки искали причины исторических событий в деятельности людей. История была для них своеобразным упражнением в политической иронии, формой размышления о том, как действия человека приводят к результатам, противоположным намерениям. В тех случаях, когда античным авторам не удавалось выявить причинно-следственные связи между отдельными фактами и понять их смысл, они ограничивались ссылками на судьбу и волю богов. Причины удач или неудач политических деятелей нередко объяснялись магической фразой: богам было угодно. Средневековые авторы унаследовали от античных пристрастие к морализированию, усиленное библейской традицией. Ощущение истории в массовом сознании средневековья было более значительным, чем в древности, ведь главными книгами этой эпохи были повествования Ветхого и Нового завета. Сотворение мира, рождение Христа, его смерть и вознесение воспринимались как вехи истории, поэтому и содержание истории становилось понятным. В отличие от циклических представлений античности, средневековая мысль утверждала определенный прогресс человеческого рода. Особенно большое влияние на историческую мысль средневековой эпохи оказали творения Августина Блаженного (354 – 430 гг.). Он родился в г. Тагасте (территория современного Алжира) в семье небогатого римского чиновника. Обучаясь в школе риторики в Карфагене, познакомился с трактатами Цицерона, увлекался философией манихейства, но преодолел еретические сомнения. Более 30 лет служил епископом г. Гиппона. В знаменитой «Исповеди» размышлял об отношении между вспоминаемым прошлым, наблюдаемым настоящим и ожидаемым будущим. Сохранилось почти 400 проповедей Августина, множество писем и около 100 работ. Но самым влиятельным его сочинением стал труд «О граде Божием», где была выдвинута оригинальная концепция исторического движения человечества. Августин рассмотрел в истории человечества единый и закономерный процесс, встроенный в эволюцию мира в целом. История земного человечества, согласно Августину, 34 проходит между двумя событиями: грехопадением Адама и Страшным судом. Смысл истории в концепции Августина заключается в изменении природы человека, избавлении человечества от зла и обретении им свободы и бессмертия. Эти сущностные изменения в жизни человечества должны произойти после второго пришествия Христа. История, по Августину, это постоянная борьба сообщества праведников, составляющих Град Божий, и грешников-себялюбцев, образующих Град Земной. В земной жизни оба града существуют вместе, и праведники смешаны с грешниками. Человеческая и божественная истории при всей противоположности неразделимы. История, в понимании Августина, едина и подобна летящей стреле. В ней есть начало и конец, а значит, и смысл, состоящий в христианизации всего человечества. Наметив философскую триаду: бог – мир – человек, Августин очертил границы духовного пространства на целое тысячелетие. Вопрос о предназначении человека приобретал философское измерение, определявшее интеллектуальную культуру средних веков. Согласно Августину, вечен только бог, история – продукт его творения. В мире все преходяще, между историей и природой нет аналогии. Внедрение христианских идей оказало троякое воздействие на понимание истории: во-первых, исторический процесс стал рассматриваться как реализация не человеческих, а божественных целей: античная гуманистичность была утрачена; вовторых, такой взгляд на историю повысил историческую значимость действий исторических деятелей, реализующих божественные цели, и значимость самого их существования; втретьих, сформировалось универсальное отношение к человеку. «Для христианина все люди равны (нет ни эллина, ни иудея), нет избранного народа или привилегированной расы. Христианин не может удовлетвориться римской историей, древнееврейской историей или любой иной историей отдельного народа: ему нужна история мира в целом, всеобщая история»9. Обрабатывая свой материал с универсалистской точки зрения, средневековый историк видит в истории не просто драму человеческих устремлений, но процесс, которому присуща внутренняя объективная необходимость. Однако поиск 35 сущности истории выходил за рамки самой истории, конкретные факты человеческой деятельности стали чем-то малозначительным, а «маятник мысли качнулся от абстрактного и одностороннего гуманизма греко-римской историографии к столь же абстрактному и одностороннему теократизму средневековой»10. Поскольку созданная Августином историческая картина была канонизирована, она могла меняться только в деталях. Средневековая историография унаследовала от древней утилитарное отношение к прошлому. В XII веке одним из богословов был дан такой перечень функций истории: зрелище прошлого… побуждает людей следовать путями справедливости; чужая жизнь является для нас наставницей; записи хроник служат для… укрепления или ликвидации привилегий11. Тезис Августина о «государстве божием» был отвергнут итальянским мыслителем Иоахимом Флорским (1132 – 1202 гг.). Флорский создал мистико-диалектическую концепцию прогрессивного развития истории, наметив схему трех великих исторических эпох, в течение которых последовательно доминируют члены святой троицы: на смену ветхозаветной эпохе Бога-Отца пришла новозаветная эпоха божественного Сына, которую сменит эпоха Святого Духа. Каждая из эпох обнаруживает в истории новую ипостась божества и тем самым делает возможным прогресс. В третью эпоху, начало которой Флорский относит к XIII веку, человеческий род достигнет абсолютной духовной свободы: религия обновится, люди поймут истинный смысл Евангелия. Если, по Августину, истина истории была установлена раз и навсегда в единственном уникальном событии – воплощении Слова, то, по Флорскому, она обнаруживается в последовательности прогрессивных состояний. Если от Августина идет традиция пессимистического понимания мира, обреченного на упадок и гибель, то для Флорского все преобразуется и возрождается – как человек, так и общество. Концепция Иоахима Флорского не была принята церковью, однако его влияние прослеживается даже в религиозной философии В. Соловьева и Н. Бердяева. Более того, некоторые современные философы полагают, что концепция И. Флорского 36 в конечном счете оказала большее влияние на историческую мысль, чем историческая концепция Августина12. В позднее средневековье в результате борьбы между церковью и государством, благодаря росту торговли и развитию городов наметился некоторый прогресс в светской историографии, хотя, конечно, рассказы о деяниях святых и римских пап в ней преобладали. Если на Западе в средние века интеллектуальная жизнь была сосредоточена в монастырях, то на Востоке развитие мысли было связано с городом. В IX веке возникла арабская историография, представленная в основном жанром «книги походов», где излагалась история завоеваний. Однако знакомство с переводными (античными) памятниками и общее осмысление истории многих народов, подвластных халифату, привело к появлению совсем иного жанра – жанра всемирной истории. Его создателем стал Ибн-Хальдун (1332 – 1406 гг.), родившийся в Тунисе, живший в Алжире, Египте и Испании. Он был улемом, визирем и воином, служившим султанам. Происходил из семьи потомственных правоведов и книжников – интеллектуальной элиты арабского средневековья. Ибн-Хальдун был знаком со всеми науками своей эпохи: знал труды Платона, Аристотеля, Аль-Фараби, Ибн-Сины, всех крупнейших средневековых историков. Историография была едва ли не самым распространенным видом интеллектуальной деятельности арабов. Однако Ибн-Хальдун иронично относился к достижениям «тариха» (букв. «проставление дат» - так историография обозначается в арабском и ряде других языков): Наука истории в чести у наций, И всякий стремится в ней знаний набраться – И всадник ее приторочит к седлу, И умный, и глупый воздаст ей хвалу, Поспорят о ней короли и князья, И люду простому смолчать ведь нельзя. Однако на равных все в области этой – И старец ученый, и дурень отпетый13. Сказав, что в оценке истории единодушны и мудрость, и невежество, подчеркнув, что история выглядит лишь цепью смешных рассказов о том, как непредвиденные обстоятельства путают человеческие планы, Ибн-Хальдун поставил задачу со- 37 здать новую историографию, позволяющую понять внутренний смысл истории, причины и связи событий. Он дал классификацию тогдашних наук, разделив их на философские, к числу которых относились логика, физика, математика и медицина, и основанные на традиции – теология, суфизм, законоведение. История в ту пору считалась вспомогательной религиозной дисциплиной, рассматривавшей биографические, географические, этнографические факты. С IX по XIII век арабские историки написали 1300 оригинальных произведений о жизни пророков и святых, султанов, шахов и халифов, военачальников и отшельников и др. При этом истинные факты сочетались с вымыслом, точнейшие констатации – с описанием чудес. По мнению ИбнХальдуна, истинная история должна изучать все проявления жизни человеческого общества в их взаимной связи. Он хотел причислить историю к философским наукам14. История для него – это исследование, установление достоверного, выяснение основ и начал всего сущего, глубокое знание того, как и почему происходили события. Методологическое обоснование своей исторической концепции Ибн-Хальдун нашел в естественнонаучном представлении об изменяющемся мире. Продолжив платоновско-аристотелевскую традицию исторического теоретизирования, он объяснил круговое чередование общественнополитических форм и волею Аллаха, и положением небесных светил, и особенностями отношений в человеческом обществе. Комбинируя богословскую, магическую и социологическую аргументацию, Ибн-Хальдун обосновал сложное единство исторических аспектов. Природа событий (так он понимал закономерность) определяет постоянное изменение мира. Новая наука о природе человеческого общества была результатом постижения цивилизации, постижения мира человека и законов общественного бытия. Человеческая жизнь, по Ибн-Хальдуну, это активное освоение мира. Человеческое общество возникает из состояния дикости, проходит этап примитивного существования и превращается в цивилизованное. Рост и усложнение городской жизни несут в себе начала разрушения и упадка. Происходит отчуждение власти от общества, усиливается произвол, нарушается принцип справедливости, стремление к 38 роскоши ведет к социальному расслоению. Население привыкает ко лжи, азартным играм, мошенничеству, подлогам, воровству, клятвопреступлению. Учение Ибн-Хальдуна содержит теорию конфликта между общественными группами, теорию круговращения элитных групп15. Любое общество в силу природы самого человека нуждается в «сдерживающем начале», способном противостоять «естественному» стремлению людей к агрессии и взаимному истреблению. Государство подавляет людей, сплачивает их в единое целое, осуществляет принудительную власть. Существование государства, по Ибн-Хальдуну, определяется возрастом трех поколений. В течении этого срока сменяются несколько этапов: возникновение новой власти; ее сосредоточение в одних руках; расцвет государства; переход к насилию и подавлению оппозиции; упадок и гибель государства. Л.Н. Гумилев назвал Ибн-Хальдуна величайшим историко-географом, автором первой этнологической концепции16. Действительно, специфику народов Ибн-Хальдун объясняет климатом. Тепло, по его мнению, ведет к легкомыслию, безрассудности, веселости, а холод располагает жителей к серьезности. Ибн-Хальдун признавал разные формы правления: «естественную» монархию – деспотический режим личной власти; «политическую» монархию, основанную на защите «земных» интересов подданных; халифат, где идеальным образом учитываются все интересы подданных, включая те, что не могут быть поняты рационально. Его мысль двигалась по триаде: человек – часть природы; социальный человек – отрицание природы; человеческое общество и природа едины. Книга Ибн-Хальдуна стала вершиной политической и экономической мысли мусульманской науки. «Вместе с Платоном, Аристотелем, Вико и Контом Ибн-Хальдун, бесспорно, является одним из отцовоснователей социологии… и научной истории»17. Однако его труды не были известны западным ученым вплоть до начала XIX века. Сходство взглядов Ибн-Хальдуна и тех европейских 39 мыслителей, которые не были знакомы с его трудами, подтверждает идею единства человечества. Разделенные веками, пространством и языковым барьером, они, в сущности, говорили на одном языке – языке науки и гуманизма. Эпоха европейского гуманизма – эпоха Возрождения – начиналась в XIV веке. Иногда ее начало указывают предельно точно – 8 апреля 1341 года. В этот день состоялась церемония венчания поэтов, существовавшая еще в античной древности. Возрождение традиции символизировало возрождение интереса к человеку, что не могло не изменить понимания истории. Не меньшее влияние на этот процесс оказало и изобретение книгопечатания, ставшее самым значительным техническим достижением эпохи. Бюргерская среда породила потребность в большом количестве экземпляров идентичного текста, т.е. в массовом фиксированном знании. До Гутенберга в Европе было 30 тысяч рукописных книг, к концу XV века - около 9 миллионов печатных изданий. Книгопечатание резко ускорило распространение информации и прежде всего творений античных авторов. Гуманисты утверждали идею о значительных творческих возможностях человека и его высоком предназначении в этом мире. Менялась система мышления – оно становилось все более антропоцентричным. Гуманисты дали ростки новых воззрений на историю. Они стремились к рациональному объяснению исторических событий. Под пером гуманистов история превращалась в светскую отрасль знания. Петрарка предпринял попытку передать историю Рима в биографических описаниях от Ромула до Цезаря. Леонардо Бруни преподносил читателям историю как театральное действие, а исторических деятелей – как героев трагедии, воплощавших те или иные пороки либо добродетели. Ради эмоционального воздействия на читателя Л. Бруни стремился исключить из изложения все «низменные» сюжеты. Некоторые наиболее глубокие умы не ограничивались простым описанием событий; они хотели выявить внутренние закономерности в истории, видя их в воздействии природных условий на жизнь народов либо в политической борьбе. Н. Макиавелли (1469 – 1527 гг.) почти полтора десятилетия был 40 канцлером Флорентийской республики. В эти годы он выполнял сложные дипломатические миссии и написал правителям Флоренции множество докладных записок. Когда была восстановлена синьория Медичи, Макиавелли бросили в тюрьму, затем сослали в его имение, где он и создал свои главные произведения. Крупной исторической работой считается написанная им «История Флоренции». Один из главных законов истории Макиавелли видел в политической борьбе. Другой закономерностью он считал неизбежное насилие, приводящее к постоянному круговороту политических форм: монархия, аристократия, республика. Политические отношения стали у Макиавелли самостоятельным объектом исследования. Рассуждая по поводу политического опыта, беря исторические примеры, Макиавелли выводил некие закономерности политической жизни: все вооруженные пророки побеждали, все безоружные гибли, - предостерегает он властителей. Самым оригинальным его сочинением стали «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». В них он подчеркивает, что идеальной формой государства все же является республика, а монархия – лишь удобный компромисс, который позволяет прийти к тирании и ослаблению государства, к нищете и упадку. Согласно Макиавелли, закону ритмичности подчинены не только истории отдельных государств, но и вся история человечества. Ход истории состоит в перемещении «хорошего» и «плохого». Возвышение одних государств всегда происходит за счет других. Историческое понимание Макиавелли сложилось под некоторым влиянием астрологических представлений, хотя сам он враждебно относился к астрологии. Его историческая интуиция имела в основе осознание роли среды, учет обстоятельств и факторов исторического становления. Чем значительнее один фактор, например, личность человека, тем слабее влияние всех остальных. «Судьба» в жизни отдельного человека – это все факторы, определяющие течение его жизни, минус его собственный характер, и ничего больше18. Макиавелли дает советы правителям, требует от них не просто способности к великим замыслам и великим решениям, но прежде всего самообладания, последовательности, упорства в 41 достижении цели. Он говорит о сущем, а не о должном, считая, что политика основана не на морали, а на интересе. Исторический пессимизм Макиавелли не породил политического пессимизма, потому что он верил в титанические возможности личности, считал, что знание зла человек способен использовать не во зло, подчеркивал, что самый надежный способ попасть в рай – это запомнить дорогу в ад, чтобы избегать ее. Весьма распространено, хотя и спорно, приписывание Макиавелли высказывания о том, что цель оправдывает средства. Здесь мы сталкиваемся с часто встречающимся расхождением между реальной мыслью какого-либо человека и явлением, обозначаемым словом, образованным прибавлением к имени этого человека суффикса «изм». Макиавеллизм – это философская мысль на службе у политики. Своим происхождением, он, конечно, обязан итальянскому мыслителю, но не тождествен его учению, которое за несколько веков получило противоречивую интерпретацию из-за ошибочных толкований и напластований. Заслуга Макиавелли состояла в освобождении науки не от морали, а от абстрактного морализирования. Флорентийскому канцлеру удалось настолько обнажить корни лицемерия в существовавшей морали, что это подрывало мораль как таковую, приводило к размежеванию морали и политики19. Макиавелли открыл, что политика не может рассматриваться только с моральной точки зрения, если она хочет быть эффективным способом исторического действия. Он «не столько разделил политику и мораль, сколько взглянул со стороны на ценностные ориентиры, которыми проникнута вся политическая жизнь»20. Все фундаментальные положения Макиавелли были связаны с понятием «ситуация». Нет идеального строя вне времени и пространства, есть строй, адекватный ситуации, нет неизменно хороших и неизменно плохих методов управления. При этом политические идеи Макиавелли не были объектом спора. Осуждению подвергалась его необычная моральная позиция, упрощенно истолкованная как требование вседозволенности для государя. И только Гегель подметил несостоятельность критики Макиавелли, приписывающей ему теорию «цель оправдывает средства» на основании утверждений типа «война справедлива, 42 когда необходима». У Макиавелли, любившего народ, родину и честь, гуманные цели сочетались с реальными методами их достижения. Через два с половиной столетия после смерти Макиавелли на его гробнице поставили памятник с эпитафией: «Имя его выше всяких похвал»21. Историки эпохи Возрождения соединяли античный взгляд на человека, творящего историю силой и интеллектом, с христианскими представлениями. В их изложении история становилась историей человеческих страстей, которые рассматривались как проявление человеческой природы. Такой взгляд на историю повышал ее авторитет. Служение истории становилось почетным, а иногда даже выгодным занятием. Очень велики были надежды на практическую полезность исторических знаний. «История наставляет, как жить благополучно и счастливо, поэтому знания ее в равной мере нужны и правителю и подданному, особенно же они важны для того, кто стоит у кормила правления стран и народов», - говорилось в одном из сочинений XVI века. Историю чаще всего писали с «умыслом», имея в виду злободневные интересы династии, стремления правителей, распри знати. Нередко историки проецировали на прошлое свои сословные, групповые, династические привязанности, религиозные убеждения и национальные предубеждения, выдаваемые за уроки «чистейшей истины». Удовлетворяя потребность в политической мудрости, историки предназначали свои сочинения представителям власти. Так, в Англии в 1559 году было опубликовано «Зерцало для правителей» - собрание стихотворных трагедий на исторические темы. Каждая трагедия сопровождалась полезным прозаическим комментарием. История изучалась с утилитарными целями. Для «столпов общества» история была важным сословно-консолидирующим фактором: «родовое право» дворян было «историческим правом». Исторические знания в XVI веке становились предпосылкой изучения остальных наук, условием укрепления титула и нерушимости привилегий. По словам М.А. Барга, джентльмен мог мало смыслить во всех других науках, но его грядущая карьера члена парламента, карьера оратора, советника или мирового судьи требовала хотя бы самых общих знаний по истории22. В истории можно было найти 43 нужные прецеденты, примеры поступков, необходимые изречения и даже целые речи публично-правового характера. Одну из таких речей лорд Лэм произносит в фильме «Леди Каролина Лэм». Исторические книги пользовались большой популярностью, но история еще не стала университетской дисциплиной, она была видом литературы, специальная функция которой заключалась в установлении и фиксировании истины. История служила «школой морали» и «школой политики». Одни историки считали, что сама история дает готовые «образцы» и «уроки», поэтому необходимо лишь в точности их описать. Другие же полагали необходимым интерпретировать прошлое, извлекать из него «уроки». Наиболее крупным представителем интерпретативного подхода помимо Макиавелли был Жан Боден (1530 – 1596 гг.). Он родился в семье портного, владевшего виноградниками, но, будучи седьмым ребенком в семье, не мог рассчитывать на наследство. Образование получил в монастыре, входившем в систему Парижского университета, где изучал философию античных авторов. Позже стал заниматься юриспруденцией и закончил юридический факультет в Тулузском университете. Длительное время посвятил адвокатской карьере, был королевским прокурором. В книге «Метод легкого познания истории», написанной Боденом, история ставится выше всех других наук, поскольку она изучает вечно меняющуюся и необычайно сложную жизнь, протекавшую в прошлом. Цель автора заключалась в том, чтобы изложить, «как следует собирать цветы истории и срывать ее сладчайшие плоды»23. При этом Боден различал три этапа изложения: 1) определение предмета и сбор материалов; 2) расположение материалов в правильной последовательности и в отшлифованной форме и 3) исправление недостатков древних книг. По его мнению, история имеет дело с государством и с изменениями, происходящими в нем, поэтому необходимо объяснить причины зарождения, развития и гибели государств. Боден отрицал божественное происхождение власти – она исторична. Если государь становится тираном, то народ получает естественное право уничтожить его. 44 По поводу предмета исторических занятий Боден замечает: «Человеческая история – это действия, деятельность людей, ясно и правдиво описанная в повествованиях о событиях давно минувших». Предмет истории, согласно Бодену, включает свободную волю людей, их жизненные потребности, естественную природу человека, окружающую природную среду, космос и Бога24. Воздействие географического фактора на исторические судьбы людей, по его мнению, не является фатально непреодолимым, так как разумные законы могут нейтрализовать или даже устранить влияние естественных условий. Большинство историков-гуманистов видели в истории античности недостижимый идеал. В отличие от них Боден подчеркивает превосходство современной ему эпохи не только над варварскими веками, но и над античностью. Он видит это превосходство в развитии научного знания, в расширении географического кругозора человечества, в развитии литературы и искусства, в европейских торговых и военных успехах. Эпоха, в которую жил Боден, была драматична и противоречива. Не случайно сам он, будучи блестяще образованным юристом, служил и Генриху III, и Франциску Анжуйскому, и Генриху Наваррскому. Он пытался воздействовать на властителей, считая себя слугой закона, веря в возможность выхода из политических кризисов25. Метод изучения истории был для Бодена способом теоретического осмысления прошлого. Он предполагал информативность, правдивость, фактографичность, жесткую хронологическую последовательность при доступной и даже увлекательной форме повествования. Боден предъявлял высокие требования к профессии историка – энциклопедичность образования, наличие нравственных добродетелей, таланта и сильного характера, знание древних языков. Он был уверен, что по личности автора того или иного исторического сочинения, по его ценностным и политическим ориентирам можно лучше понять время создания сочинения. Собственно историю Боден делил на человеческую, природную, божественную и математическую. Любая гипотеза должна получить математическое подтверждение, ибо мир сотворен Богом по законам гармонии. Идея гармонии как антитеза идее Хаоса имела тысячелетнюю тради- 45 цию. Термин «гармония» встречался в поэмах Гомера, пифагорейцы видели гармонию в математических соотношениях. Боден принимает и мысль Платона о связи гармонии с прекрасным. Зависимость развития общества от математики, по мнению Бодена, может показаться абсурдом, если математические действия производить беспорядочно. Когда же «симфония измерений» приобретает гармоничное выражение, на ее основе можно рассчитать периоды расцвета и гибели государств. Идеи Бодена о математической истории вызывали споры. Одни называли их «магией чисел» и считали сродни средневековым предрассудкам, другие полагали, что это высшее достижение Бодена в рамках всей историографической модели. Через несколько лет после издания «Метода легкого познания истории» Западная Европа наводнилась подобными трактатами, а в Женеве издали сборник из двух десятков сочинений по теории истории начиная с Лукиана. Осмысление истории происходило и в литературных произведениях. Шекспир как исторический мыслитель превзошел тюдоровских историографов. История, в его понимании, великая сила, полная загадок и трагизма для тех, кто оказался в ее водовороте: Мы видели, как времени рука Срывает все, во что рядится время, Как сносят башню гордую века И рушит медь тысячелетий бремя. Сонет 64 В исторических хрониках Шекспир показал связь между тем, как люди относятся к настоящему, и тем, как они видят прошлое. Зрели условия превращения истории из искусства в науку, обладающую собственной методикой организации материала и правилами корректности исследовательских процедур. Первым веком новой науки стал XVII век: совершены открытия в математике, физике, астрономии, медицине, химии, ботанике. Ф. Бэкон обосновал индуктивный метод как единственный, заслуживающий названия научного. В «Прогрессе знаний» он представил картину систематического их накопления и место исторического знания в этой картине. Подхваченная общим прогрессивным потоком, история превращается в самостоятельную область знания. Творцы научной революции 46 XVII века мало интересовались конкретной историей и редко занимались ею. Скептически относясь к историографии, Декарт отрицал возможность достоверного знания в истории. История оставалась повествовательной, но историков уже не удовлетворяли ни методы исследования, ни способы изложения знаний. Возникло стремление превратить историю в такую же науку, как естествознание, по образцу логики, математики и физики. Томас Гоббс в «Левиафане» и Гуго Гроций в сочинении «О праве войны и мира» делали вывод о том, что принцип общественного устройства схож с принципами механики, а человеческое общество можно разложить на простейшие элементы, подобно атомам в физике. Появились такие понятия, как «социальная физика», «физика нравов». Естественные науки формировали новые категории мышления – прогресс, закономерность, причинность, индивидуальность. Накопление знаний о внеевропейских странах расширяло представление о человеке и его истории. Возникало понимание ее многообразия. Наиболее развернутую концепцию истории на пороге нового времени дал Джамбаттиста Вико (1668 – 1774 гг.). Его отец владел небольшой книжной лавкой и дал сыну юридическое образование в школе при университете Неаполя. Уже в 16 лет Джамбаттиста выиграл дело в суде, защищая собственного отца. Однако его душа «не выносила шума судебных распрей», поэтому он бросил судебную практику и стал домашним учителем. В библиотеке знатных итальянцев он изучил Платона и Аристотеля, Тацита и Августина, Данте и Петрарку. Обучая детей, Вико сочинял оды, свадебные поздравления, хвалебные биографии. В 1697 году он получил должность профессора риторики Неаполитанского университета, а в 1734 году был назначен официальным историографом Неаполитанского королевства. Вико задумал создать «новую науку», которая по достоверности не уступит геометрии. Древние обычаи народов, их легенды и мифы он не считал «предрассудками», не постулировал противоположность варварства и цивилизации, чувства и разума, поэзии и науки. Впервые в Новое время политическая власть, государство и право стали рассматриваться им как закономерно возникающие и развивающиеся естественноистори- 47 ческие явления в контексте человеческой культуры. По мнению современных философов, значимость проблем, поднятых в книге Вико «Основания Новой Науки об Общей природе Наций», и оригинальность их решения были поняты и оценены по достоинству лишь в XX веке26. История для Вико - это не сумма фактов и событий, пусть даже систематизированных по какому-либо принципу. История – это материал, исследование которого позволяет понять путь человечества и сущность исторического процесса. История пока не наука, но может и должна ею стать. Новая наука должна ответить на вопрос «как?». Предметом, объектом и целью исследования должен быть Мир Гражданственности. Он сотворен людьми, а потому научно объясним, гражданский мир познаваем в той же степени, что и геометрические фигуры. Вико высмеивал тех историков, на «кухне» которых главными специями были «ученая спесь» и «национальное чванство». У Геродота, Тацита, Полибия он находил чересчур много любви к родине. Они взахлеб воспевают свою страну, свой народ. Недостатком многих историков Вико считал привычку распространять на отдаленные эпохи представления своего времени. Он исходил из предположения о том, что, пройдя через все изгибы, человеческая история установит некий «гражданский порядок», при котором умеряются страсти, преодолеваются инстинкты, возникают законы справедливости. Пытаясь понять смысл истории, Вико полагает, что необходимо выяснить историю человеческих идей, прошедшую через три века – Век Богов, Век Героев и Век Людей. Нравы божественного века окрашены благочестием, героические нравы гневливы и щепетильны, человеческие нравы связаны с чувством гражданского долга. История развивается качественно, настоящее отличается от прошлого, как желудь от дуба, как ребенок от взрослого. Выделяя этапы истории, Вико полагал, что на каждом этапе люди по-разному воспринимают реальность. Циклы истории откладываются в душе человека. Сохраняя сложность исторического процесса, Вико отказывается видеть в человеке только творение экономики, только политическое животное или только религиозное существо. Для него важны все сферы человеческой активности. История и человек слиты, тож- 48 дественны. Сущность человека, по Вико, составляет мудрость как синтез воли и интеллекта, сознания и души27. «Новая наука» Вико уже при его жизни выдержала три издания. Допустимо ли, вопрошал он, при неуемном рвении к естественным наукам оставлять в небрежении законы человеческого поведения? Наука, наиболее важная для государства, менее других разработана и мало кого интересует. Система взглядов Вико была реакцией на господствующую в науке XVII – XVIII веков мысль о принципиальной тождественности законов развития природы и человеческого общества. В отличие от своих современников Вико искал модель познания исторических процессов в области гуманитарных, а не естественных наук. Исходя из посылки, согласно которой познать мы можем лишь то, что делаем, Вико считал историческую науку сознанием человечества о собственных деяниях. Человека он рассматривал и как продукт исторических условий, и как их творца. Вико заменил статическую модель познания динамической. По его мнению, прогресс в изучении общества и политики невозможен до тех пор, пока ученые не будут исследовать проблему исторических изменений. Он сформулировал некоторые правила, составляющие метод исторического познания. Вопервых, определенные периоды в истории имеют схожие черты, поэтому возможны выводы по аналогии. Во-вторых, сходные периоды имеют тенденцию чередоваться в одном порядке. Втретьих, это циклическое движение оказывается не простым, а спиралевидным движением истории: природа народов первоначально была груба, потом сурова, мягка, кротка и, наконец, сделалась распущенною. Идея Вико не в том, что человеческая история повторяема, а в том, что каждая повторяемость имеет несовпадающие свойства. В XVIII веке формировался и своеобразный «организмический» взгляд на мир, согласно которому для понимания явлений надо выявить их «естественную природу». С этой точки зрения, движение животного понять легче, чем движение камня. Самые сложные явления жизни рационалисты XVIII века объясняли ухищрениями человеческой мысли, полагая, что в основе своей человеческая природа разумна и добра. Большинство про- 49 светителей в отличие от Вико, считая историю единой, предполагали ее единообразие и одинаковость. Монтескье полагал, что закономерность всемирной истории не предопределена богом, а вытекает из природы вещей. Так, в более суровом климате Северной Европы были мягкие формы правления, в странах же с жарким климатом власть вынуждена устанавливать деспотические формы правления, пресекая лень человека, рожденного в условиях щедрой природы. Понимая человеческую жизнь как отражение географических и климатических условий, Монтескье уловил различия между разными нациями и культурами. Гельвеций хотел создать науку об обществе, такую же точную, как физика Ньютона. Исходным пунктом научного объяснения социальной жизни Гельвеций считал признание присущей человеку физической чувствительности. Стремление избежать неприятных ощущений движет человеческими мыслями и поступками. Голод учит дикаря сделать лук и плести сети. Голод заставляет цивилизованные народы возделывать землю и учиться ремеслу. Удовлетворение материальных потребностей, по Гельвецию, движущая сила общественной жизни. Природа человека требует гармонии личного и общественного. Теория разумного эгоизма, выдвинутая Гельвецием, становится объяснительным принципом в познании истории. По Гольбаху, конечными причинами исторических событий оказываются явления биологического свойства: излишек едкости в желчи фанатика, разгоряченность крови в сердце завоевателя, дурное пищеварение монарха. Чтобы спасти от гибели царства, согласно такой логике необходимы диеты и нравственный контроль. Гольбах считал, что «подобно живым организмам общества переживают кризисы, моменты безумия, конвульсии, революции… они рождаются, растут, умирают…»28. По выражению А.С. Пушкина, Вольтер (1694 – 1778 гг.) «первым пошел по новой дороге и внес светильник философии в темные архивы истории». Вольтер призвал изучать дух, нравы, обычаи народов. История должна стать историей цивилизации. История королей должна стать историей людей. При этом сам Вольтер был автором ряда исторических исследований, основанных на кропотливом изучении источников. В их числе 50 «История России в царствование Петра Великого», «История парижского парламента» и др. Введя в научный лексикон термин «философия истории», Вольтер понимал под ним способ самостоятельного исторического мышления - независимого и критического. Идеальным, современным методом исторического исследования он считал тот, что ныне именуется структурным методом: в своем повествовании сначала сосредоточивал внимание на одном ряду событий, затем рассматривал другой ряд и т.д. Вольтер писал, что здравомыслящий читатель истории занят главным образом ее опровержением. Вольтер намного расширил и географические рамки истории. Старая историческая схема, основанная на библейской традиции, предполагала включение в орбиту всемирной истории Египта, Вавилона, Ассирии, Персии, а также Европы. Вольтер же свой «Опыт о нравах» начал с истории Китая и Индии. История, по Вольтеру, имела тенденцию к прогрессу, движущей силой которого он считал идеи. Исторический процесс непрерывен и ведет к торжеству разума. В 1750 году в Сорбонне будущий министр Людовика XVI Тюрго произнес знаменитую речь об успехах человеческого разума. Тюрго различал в истории религиозную, спекулятивную и научную стадии. История, по нему, это рассмотрение успехов человеческого рода и изучение их причин. Он отрицательно отзывался о культуре Римской империи, поскольку деспоты, правившие ею, мало заботились о прогрессе человеческого разума. В отличие от большинства просветителей Тюрго сумел увидеть элементы прогрессивного развития и в истории средних веков, перечислив массу изобретений, неизвестных древним и обязанных своим появлением варварскому веку, таких как ноты, векселя, стекло, бумага, мельница, часы и мн.др. Среди французских историков XVIII века одно из почетных мест принадлежит аббату де Мабли. В сочинении «Об изучении истории» он пытался понять причины могущества и процветания одних народов и причины упадка других. Мабли размышлял над сущностью истории, требовал от историка стремления к истине, понятного стиля, внимания к законам истории и человеческим страстям29. 51 Маркиз Кондорсе, автор более полусотни биографий французских академиков, сам вошедший в их ряды в возрасте 26 лет, более подробно, чем другие просветители, изложил систему их взглядов на историю. В книге «Эскизы исторической картины прогресса человеческого разума» он утверждал, что развитие никогда не пойдет вспять. Потерпев поражение в политической борьбе (он примыкал к жирондистам), скрываясь от якобинского террора, Кондорсе не потерял веры в прогресс и развитие истории, направленное в сторону достижения свободы, счастья и благосостояния человека. Задача историка – изучить преграды на пути человеческого прогресса, указать способы их избежания или преодоления. Предмет исследований Кондорсе – история цивилизации. Он признает неизбежность предрассудков на ее пути и включает их в представление о прогрессе, расчлененном во времени и разделенном на периоды30. В России вместе с созданием Академии наук был впервые поставлен, хотя и не решен, вопрос об учреждении специального «исторического департамента». Разрабатывались планы классификации исторических памятников России. Новый подход к назначению истории выразил известный церковный и политический деятель петровского времени Г. Бужинский: «В истории обрящеши, откуду себе и обществу пользу сотвориши»31. Произошел значительный сдвиг в понимании задач истории: она начала осознаваться как государственное дело, тесно связанное с политическими интересами утверждавшегося абсолютизма. Увеличился объем информации о прошлом, изменились методы ее интерпретации. Исторические сюжеты были популярны в литературном творчестве Феофана Прокоповича и Ломоносова. В.Н. Татищев квалифицировал историю как науку «полезную», утверждал ее ценность как инструмента патриотического воспитания. Будучи уверен в том, что «все деяния от ума или глупости происходят», он оставлял место и для божественного вмешательства в историю: «причины же всякому приключению разные яко от бога или от человека»32. Теоретическая основа его воззрений на историю складывалась под воздействием западноевропейской рациональной мысли. Согласно Татищеву, для изучения прошлого нужно «понятие» – зачаток того, что мы 52 называем теорией. «Понятие» включало и применение к историческим источникам логических приемов мышления, и специальные критические приемы. У Ломоносова преобладали национальные моменты исторического процесса, у Радищева – социальные. Крупный представитель дворянской историографии конца XVIII века И.Н. Болтин считал, что «не все то пристойно для Истории, что прилично для Летописи». Он полагал необходимым очищать историю от сверхъестественных явлений и от массы мелких сведений, имевших значение для летописца, но со временем его потерявших. Английские просветители определяли историю как «философию, которая оперирует примерами». Согласно лорду Болингброку, автору «Писем об изучении и пользе истории», история воспитывает личностную и общественную добродетель, помогает избавиться от национальных пристрастий и предрассудков33. А вот известный философ Д. Юм, напротив, своей восьмитомной «Историей Англии» помогал осознанию национальной принадлежности. Он не рассматривал историографию только в качестве инструмента, дающего читателю «уроки». Юм верил в то, что исторические знания могут служить основой для науки управления общественными событиями34. Предметом истории он считал возникновение, расцвет и гибель великих империй. Юм поставил важные проблемы исторического объяснения. «Ткань» истории, в его восприятии, состояла из двух рядов – исторических фактов и исторических характеров. История, по Юму, это не река, меняющая русло при пересечении разных ландшафтов, это море, состоящее из сотен сверкающих точек. Ему интересны пружины человеческих поступков, страсти, объясняющие поведение исторической личности: «лень» Якова I, «поспешность» Карла I и др. Исторические личности выступают у Юма метафорами своего времени. Ритмы истории выражаются через человеческие действия, но не определяются ими. Причинность истории Юм рассматривает как в конкретноисторическом, так и в философском плане. В отличие от Болингброка Юм стремился найти такие способы понимания прошлого, которые сделали бы историка менее восприимчивым к случайностям. Косвенно он пришел к выводу о том, что не ин- 53 дивиды создают проблемы истории, а стечение обстоятельств, в которых они оказываются. Историческое мировоззрение Просвещения не было историчным. Просветители не учитывали того, что законы истории по-разному проявляются в различные исторические эпохи, что каждой эпохе свойственны свои, особые закономерности. Поскольку средневековье не соответствовало, по их представлению, «разуму», они считали его провалом в истории. Такой подход был лишен историзма, т.е. понимания места каждой эпохи в историческом развитии человечества. Геродот. История // Историки античности. М., 1989. Т. I. С. 33. Фукидид. История // Историки Греции. М., 1976. С. 168. 3 См. об этом: Мусаелян Л.А. Научная теория исторического процесса: становление и сущность. Пермь, 2005. С. 17 – 18. 4 См. об этом: Тыжов А.Я. Полибий и его «Всеобщая история» // Полибий. Всеобщая история. СПб., 1994. Т. I. С. 18. 5 Тит Ливий. История от основания Рима // Историки античности. М., 1989. Т. 2. С. 51. 6 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. М., 1980. С. 41. 7 Гефтер М.Я. В предчувствии прошлого // Век XX и мир. 1990. № 9. С. 31 – 32. 8 Коллингвуд Р. Дж. Указ. соч. С. 41 – 42. 9 Там же. С. 48 – 49. 10 Там же. С. 55. 11 Цит. по: Савельева И.М., Полетаев А.В. Прагматика истории // Диалог со временем. М., 2003. Вып. 10. С. 8. 12 Лобковиц Н. Иоахим Флорский и Миллениум // Вопросы философии. 2002. № 3. С. 55. 13 Цит. по: Игнатенко А.А. Ибн-Хальдун. М., 1980. С. 35. 14 Бациева С.М. Бедуины и горожане в Мукаддиме Ибн-Хальдуна //Очерки истории арабской культуры. М., 1982. С. 323. 15 См. об этом: Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. С. 36. 16 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2004. 17 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. С. 177. 18 См. об этом: Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996. 19 Ганжин В.Т. Нравственность и наука. М., 1978. С. 37. 20 Юсим М.А. Этика Макиавелли. М., 1990. С. 15. 1 2 54 Цит. по: Бурлацкий Ф.М. Никколо Макиавелли. М., 2002. С. 376. Барг М.А. Шекспир и история. М., 1976. С. 20-21. 23 Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000. С. 7. 24 См. об этом: Бобкова М.С. Исторический метод Жана Бодена // Диалог со временем. М., 1999. Вып. 1. С. 87 – 188. 25 Бобкова М.С. Жизненный путь Ж. Бодена // Вопросы истории. 1997. № 9. 26 Мудрагей Н.С. Философия истории Дж. Вико // Вопросы философии. 1996. № 1. 27 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Киев, 1994. С. 124. 28 Гольбах П. Избранные произведения. М., 1963. Т. 2. С. 383 – 384. 29 Мабли Г. де. Об изучении истории. О том, как писать историю. М., 1993. 30 Бадентер Э., Бадентер Р. Кондорсе. М., 2001. С. 149, 342. 31 Цит. по: Шанский Д.Н. Историческая мысль // Очерки русской культуры XVIII века. М., 1988. Ч. 3. С. 122. 32 Татищев В.Н. История Российская. М., 1962. Ч. I. С. 79. 33 Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. 34 Барг М.А. Юм как методолог истории // Новая и новейшая история. 1993. № 1. С. 71. 21 22 Лекция 3. Споры вокруг историзма Современный тип мышления европейца, основной чертой которого считается историзм, стал складываться начиная с Галилея и Декарта, а в своей исторической составляющей проявился в XVIII веке. Появление историзма было величайшей духовной революцией, пережитой западно-европейской мыслью. Историзму суждено было стать составной частью европейского культурного сознания, базисным компонентом философского и социально-научного мышления. Понятие историзма постоянно менялось, но сохраняло огромную эвристическую силу. Ныне историзм – это особый «способ думать историей», определяющий все современное гуманитарное знание1. 55 Историчность мышления в какой-то степени можно считать врожденным свойством человека. Однако историзм подразумевает осознанную связь времен, а следовательно, более высокую ступень в осознании исторического опыта. Суть историзма в том, что любое явление, факт, идея могут получить подлинно научную оценку только тогда, когда их анализируют в контексте определенной эпохи или теоретической системы. Принято различать два значения этого понятия: широкое – это способ мышления, узкое – принцип научного познания. Применить принцип историзма значит проследить пространственновременные связи конкретного взаимодействия2. Историзм стал основополагающим методологическим принципом. При его нарушении факты или идеи, будучи вырванными из контекста или помещенными в другие эпохи или системы, утрачивают свое значение, обретают извращенный смысл. Историзм стал важнейшим методологическим принципом потому, что познание исторических и общественных явлений носит характер процесса. Игнорируя общеевропейские истоки историзма, марксисты пытались абсолютизировать свое понимание этого явления. Классики марксизма настаивали на «единственно правильном» его применении и формулировании. Бесспорно, некоторые их суждения вполне адекватны. Так, К. Маркс подчеркивал, что «люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»3. Энгельс не раз обращал внимание на то, что «на исторические события не сетуют, напротив, стараются понять их причины, а вместе с тем и их результаты…»4. В.И. Ленин полагал, что нужно «смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»5. Термин «историзм» родился в сфере историографических исследований. Австрийский историк Карл Вернер, биограф Вико, употребил этот термин в издании 1879 года применительно к тому положению Вико, согласно которому совершаемая челове- 56 ком история является единственной реальностью общественной жизни. Несколько позже Ф. Энгельс назвал ослом своего современника, профессора Венского университета Карла Менгера за то, что тот пытался дискредитировать «историзм» как научный принцип, доказывая, что, мол, науки развиваются сами по себе без какой-либо органической связи с историей общества. Иначе говоря, если один австриец употребил термин в качестве положительной оценки исторической концепции итальянского мыслителя Дж. Вико, то другой австриец воспользовался тем же понятием, но уже в качестве отрицательной оценки научной продукции другого автора – Густава Шмоллера. Широко употребляться термин «историзм» стал только накануне и особенно после первой мировой войны – сначала в немецкой философско-исторической литературе, затем повсюду. Тем не менее есть основания полагать, что споры вокруг историзма шли задолго до того, как он вошел в научный оборот. По мнению М.А. Барга, историзм как принципиальное методологическое представление уже в середине XIX века стал отслаиваться от философии истории6. Постепенно возникли разные философские определения историзма: идеалистический, марксистский, эстетический, позитивистский, теологический, экзистенциальный. В зависимости от политических взглядов различали реакционный, консервативный и либеральный историзм. А время возникновения и национальные особенности сделали возможным разговор о немецком романтическом историзме начала XIX века. Поскольку понятие развития было выдвинуто теоретическим естествознанием, историческая наука отдала дань и натуралистическому историзму. Истоки историзма восходят к учению Дж. Вико, поэтому важно обратить внимание на его попытки установить фундаментальное различие между явлениями природы и общества, между однообразием природных явлений и непрерывно изменяющимся миром человека. Становление историзма связано с признанием того, что действия и характер человека можно понять только в развитии. Идеальное «царство разума», воспеваемое просветителями, оказалось утопией, нежизненным проектом преобразования общества. 57 Появление историзма, ставшего отличительным признаком научного мышления XIX века, явилось огромным шагом вперед в понимании истории, подготовленным интенсивным экономическим развитием и политическими бурями XVII – XVIII веков. Среди тех, кто много сделал для понимания истории, был и Иоганн Готфрид Гердер (1744 – 1803 гг.). Сухой схематизм историографии Просвещения Гердер дополнил признанием роли саморазвития человека в истории. Разработав положение о множественности культур, Гердер увидел в историзме образ развития общества и способ его изучения. Дух свободомыслия при дворе веймарского герцога Карла-Августа отразился во взглядах протестантского священника, литератора и философа Гердера. Если Вико размышлял над динамикой цивилизаций, то Гердер сравнил национальные культуры разных стран и эпох. Он считал, что различные языки выражают различный национальный «дух». У каждого общества – свой центр тяжести. Скандинавские саги или библейские тексты нельзя трактовать с применением эстетических критериев XVIII века. Образ жизни древних греков отличался от образа жизни немецких лютеран. Немецкий язык воплощает иную, более молодую, цивилизацию, чем, например, французская. По мнению современных американских исследователей, гердеровская «концепция расцвета и гибели множества лингвистически ограниченных европейских цивилизаций была с большим энтузиазмом воспринята в России XIX века и в основной своей части вошла в славянофильскую мысль»7. Гердеровские «Идеи философии истории человечества» опровергали взгляд Вольтера, согласно которому история развивается лишь благодаря счастливым случайностям. Но Гердер не был склонен и к плоскому историческому оптимизму – человечество развивается не потому, что люди стремятся к этому. Прогресс может быть результатом только большого исторического периода. Изгоняя эмоции из исследования, Гердер считал неверным различать факты прошлого по принципу «нравится – не нравится». Именно в этом коренилось его существенное отличие от большинства просветителей. Иногда он был невероятно критичен по отношению к французским просветителям, например, теории Монтескье называл «философией из двух 58 мыслей»8. В любой эпохе есть не только мрачные стороны, любая эпоха соткана из противоречий между субъективными намерениями людей и объективными результатами их действий. В исторических явлениях, по его мнению, надо отыскивать не тайные предначертания, а причины возникновения этих явлений. Русский философ Н.А. Бердяев назвал Гердера последним настоящим гуманистом, видевшим в человечности высшую цель истории9. Главным содержанием исторического процесса Гердер считал развитие культуры. Культура – это «второе рождение» человека, поэтому философия истории Гердера выступает как философия культуры10. Выдвигая на первый план счастье индивида, Гердер противопоставляет его государству, полагая, что любой способ правления через несколько поколений становится людям в тягость. Гневные выпады Гердера против государства как машины, которая со временем будет сломана, во многом направлены и против его когда-то обожаемого учителя И. Канта, видевшего неизбежность этого института. Разочаровавшись в Канте, Гердер назвал его поздние работы «тяжелой паутиной». Действительно, содержание многих произведений И. Канта весьма туманно. Он писал их с большой поспешностью, поэтому стандарты ясности немецкой теоретической литературы с его легкой руки долгое время оставались низкими. Однако суть его размышлений логична, что подтверждали многочисленные слушатели и собеседники великого философа. Он видел некую разумную цель в общем ходе истории, хотя причиной законосообразного порядка в человечестве считал антагонизм людей, их «необщительное общение». Люди глупы, тщеславны, злобны, терпеть не могут своих близких, но и обойтись без них не могут. Страсть к разрушению – один из мотивов человеческого поведения, но если бы люди были кроткими, как овцы, вряд ли их существование стало достойным, они продолжали бы жить в пещерах. История, по Канту, имеет лишь две стадии: «естественное состояние» и «правовое гражданское общежитие». Исторический процесс противоречив, но естественен. Оптимизм Канта выражен в том, что человечество придет к всеобщему правовому обществу при условии правиль- 59 ного понимания государственного устройства. Если Гердер видел в государстве механизм, который надо разрушить, то Кант считал государство тем культурным началом, без которого невозможно человеческое бытие. Он видел цель истории в складывании такого государства, в котором человек мог бы развить все дары, данные ему природой. Идея единства человечества выражена у Канта не столько философски, сколько историко-политически. Всеобщая история, по мысли Канта, предполагает целостность человечества. Двусмысленное название его трактата - «К вечному миру» - давало возможность в ироничной и даже пародийной форме поставить вопросы, продиктованные историческими реалиями рубежа XVIII и XIX веков. Ускорение исторического ритма было осознано Кантом достаточно прагматично: его взор устремился со звездного неба на грешную землю, и идея вечного мира завершила философскую систему кенигсбергского гения. Кант и не пытался обнаружить основной закон в истории человечества, но он видел тенденции исторического процесса в совершенствовании правового порядка, в создании добровольного союза государств на основе федерализма его свободных членов. Через 200 лет после Канта Запад пришел к необходимости европейской интеграции. Кант разграничивал мир природы и мир культуры, тождественный человеческому миру свободы. Началом человеческой истории Кант считал грехопадение, ибо оно стало «выходом изпод опеки природы и переходом в состояние свободы»11. С выходом человека из естественного состояния начинается развитие мировой культуры. Кант отличал культуру от цивилизации. К культуре он относил только те явления, которые служат благу человека, а не все, созданное человеком. Цивилизацией Кант называл тип устройства общества и отмечал, что бурное развитие цивилизации отрывает ее от более медленно развивающейся культуры. Подметив, что прогресс человеческого рода зачастую покупается дорогой ценой – ценой крушения чаяний отдельной личности, Кант сформулировал основную проблему морали рационально: в конфликтных случаях необходимо делать то, что одинаково хорошо для всех. Нравственный закон Канта определяет волю действующего в истории субъекта 60 Прямым последователем Канта в области теории истории был Ф. Шиллер, получивший всемирную известность как поэт и драматург, что оставило в тени его принадлежность к цеху профессиональных историков – он занимал кафедру истории в Йенском университете. Шиллер, следуя за Кантом, отстаивает необходимость изучения всеобщей истории и признает, что это занятие требует философского склада мышления наряду с исторической эрудицией. Согласно Шиллеру, история «не заслуживала бы названия науки, если бы ей на помощь не пришла философия»12. Задача историка-философа в том, чтобы установить связи между фактами, определить главные стадии исторического процесса. Всеобщая история, по Шиллеру, это история прогресса от состояния дикости до современной цивилизации. Если Кант ограничивал область истории исследованием политической эволюции общества, то Шиллер включал в нее историю искусства, религии, экономики. Именно история должна разъяснить людям их настоящее, например, причины свободы на Темзе, причины слабости и нищеты на Висле и за Пиренеями. Историк должен объяснить обилие тронов в Италии и Германии и наличие лишь одного во Франции. Шиллер подчеркивал, что история включает в себя весь нравственный мир, поэтому ввел в изучение прошлого идею ответственности человека перед обществом. В своих исторических трудах он стремился отобразить и объяснить противоречие между целями отдельного человека и результатами его деятельности. В письме к Гете Шиллер указывал, что только «полная активность свободных мыслительных сил вместе с чистейшей и широчайшей активностью чувственной воспри-имчивости ведут к научному познанию»13. Литературные занятия Шиллера не были случайностью. Романтизм и историзм позволили определить XIX век как век «исторический» в противовес «антиисторическому» веку Просвещения. Проявлением торжества историзма в первой половине XIX века было широкое увлечение историей. В европейских странах организовывались исторические общества и исторические музеи, издавались исторические журналы и книги. Для прогресса исторической мысли необходимо было расширить горизонты исторической науки и изменить отношение к 61 тем эпохам, которые Просвещение считало темными или варварскими. Сочувственный взгляд на средние века был выражен в романах В. Скотта. Его успех был феноменальным: тиражи его книг достигали астрономических цифр. Историческая тематика становится модной в поэзии, живописи, театральном искусстве. В США романтизм приобрел характер «культа героев» с республиканским звучанием, позже появилась идея исключительности этого народа. Немецким романтикам важно было воссоздать бытовые детали, «вжиться», «вчувствоваться» в описываемую эпоху. Сопереживание, погружение, интуиция стали ключевыми словами для романтиков. Интуитивный способ познания давал возможность выводить на первый план эмоции автора и его стремление к эмоциональному воздействию на читателя, которого надо было не столько убедить в чем-то, сколько настроить на определенное восприятие. Историк-романтик, пробуждая чувства читателя, предлагал ему пережить исторические события как события собственной жизни. Романтики употребляли художественную риторику: прошлая реальность в их сочинениях эстетизировалась. Романтизм не претендовал на всеобщность: романтики мыслили в этнических пределах. Нация стала главным субъектом истории. Поведение коллективного исторического героя раскрывалось в творчестве народов и наций. Принцип разнообразия дополнялся скепсисом. Известный теолог Ричард Уотли опубликовал сатирический труд «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта», в котором с помощью софистики пытался подвергнуть сомнению существование только что побежденного Бонапарта. Будучи архиепископом Дублина, Уотли стремился оградить от критики религию, доказывая, что сомнению можно подвергнуть любой самый достоверный факт, а не только факты, изложенные в Библии. Глубокое и длительное воздействие на развитие исторической мысли оказывали воззрения французского философа Анри Сен-Симона (1760 – 1825 гг.). Сен-Симон пережил полдюжины политических режимов, был миллионером и нищим, полковником королевской армии и революционером, меценатом и арестантом. Разные люди в разное время называли его сеньором, мэтром, гражданином, санкюлотом, последним дворянином и 62 первым социалистом Франции. Важнейшим вкладом СенСимона в историческую науку была его философскоисторическая система. Он отказывался видеть в истории человечества лишь века заблуждений, невежества и доказывал закономерность последовательного прохождения человечеством всех фаз развития. По Сен-Симону, человеческий род развивается так же, как отдельный человек. Доисторическую эпоху он называет детством человечества: все силы брошены на то, чтобы выжить, противостоять стихии. Затем начинается подростковый период – Древний Восток – эпоха строительства пирамид и оросительных каналов. Далее приходит юность – Древняя Греция – юноша пробует силы в изящных искусствах. За ней наступает зрелость: сначала физическая – Древний Рим, потом интеллектуальная и нравственная – средние века и Новое время. В последнюю эпоху ослабевает работа воображения, зато крепнет способность критического суждения, деятельность становится менее активной и упорядочивается. Сен-Симон признавал множественность критериев прогресса. Это и степень удовлетворения, большинством нации своих потребностей, и возможность социальной карьеры для тех, кто ее достоин, и устойчивость общества, его способность противостоять внешним и внутренним «возмущениям». Критерием общественного прогресса Сен-Симон считал и возможности для развития науки, искусства, философии. Влияние Сен-Симона ощутимо в трудах историков эпохи Реставрации – О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье, поставивших важный для исторической науки вопрос о принципах сведения индивидуальных действий к действиям социально значимым. Если XVIII век в истории исторической науки был преимущественно французским веком, то XIX век стал немецким. Принцип историзма наиболее полно был развит в трудах Гегеля (1770 – 1831 гг.). По мнению А. Шопенгауэра, Гегель был «глупый, скучный, противный, безграмотный шарлатан, который достиг вершин наглости в наскребании и преподнесении безумнейшей мистифицирующей чепухи. Эта чепуха была шумно объявлена бессмертной мудростью… Широчайшее поле духовного влияния, предоставленное Гегелю власть предержащими, позволило ему добиться успеха в деле интеллектуального раз- 63 ложения целого поколения»14. С момента появления этой язвительной характеристики сменилось уже множество поколений, но невозможно отрицать целый ряд методологических уроков Гегеля, небесполезных для исторической науки. Многие идеи Гегеля были результатом университетской революции в немецких землях, когда образование переориентировалось с решения прикладных задач на постановку творческих проблем. Первым тезисом диссертации, защищенной Гегелем, был следующий: «Противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия – критерий заблуждения». Закономерность хода истории представала у него как закон движения мысли и духа. Гегель видел за деяниями исторических героев некое накопление сил, порой ускользающее от внимания историка, но определяющее крутые исторические повороты, кажущиеся случайными и неожиданными, но движимые внутренней логикой исторического разума. Согласно Гегелю, всемирная история есть прогресс в сознании свободы: «Восток знает, что свободен один; греческий и римский мир, что свободны некоторые; германский мир знает, что свободны все». Гегель разработал концепцию «хитрости разума», в соответствии с которой цели истории опосредованы игрой страстей и интересов реальных индивидов. Требования разума выражены в человеческой деятельности, выполняющей ключевую роль в истории. По Гегелю, «каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния. В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельствах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего»15. Гегелевские рассуждения о масштабе и величии исторической драмы подогревали интерес к истории. Его обобщения, периодизации и интерпретации влияли на историков, побуждали их к поиску, тем более что Гегель определял содержание истории не только как формы бытия, но и как категории познания. Свои лекции по философии Гегель начинал с обсуждения различных способов написания истории, т.е. с обобщения историографической практики. Он делил историческую литера- 64 туру на три вида – первоначальную, рефлективную и философскую. Различие между первыми двумя охватывает отношение историка и предмета его исследования. Если это отношение одновременности, то мы имеем дело с «первоначальной» историей, если же автор исторического труда живет в одно время, а пишет о другом, то это уже будет «рефлективная» история, которая таит в себе возможность антиисторизма. Философия истории, по Гегелю, это не философские раздумья над историей, а сама история, поднятая на более высокую ступень и ставшая философской. Простое коллекционирование мертвых фактов истории не могло считаться наукой. Гегелевские рассуждения о духе времени вызывали протесты людей, воспитанных на методах естествознания. Современник Гегеля, великий Гете писал: Не трогайте далекой старины, Нам не сломить ее семи печатей. А то, что духом времени зовут, Есть дух профессоров и их понятий, Который эти господа некстати За истинную древность выдают…16 Набиравших силу позитивистов смущали гегелевские теологические отсылки: «Примирить дух со всемирной историей и действительностью может только понимание того, что свершившееся и свершающееся повседневно не только не произошло помимо Бога, но по существу есть дело его самого»17. Однако трудно было не разглядеть за этим конкретные методологические уроки Гегеля и прежде всего идею развития и идею преемственности. Неоценима для исторического исследования его мысль о том, что каждая историческая эпоха должна быть представлена двояко: в ее собственной, самодовлеющей целостности и как момент общего развития. Гегель полагал, что периодизация исторического процесса должна быть связана с масштабом ценностного измерения исторического прогресса. И, наконец, разработка методологии и методики исследования какой-либо проблемы равносильна, с точки зрения Гегеля, ее решению. Историзм как способ познания мира связан с переходом от абстрактных ко все более конкретным формам освоения дей- 65 ствительности. В Германии эту эстафету от философов приняли историки. Основатель Берлинского университета, филолог, философ, теоретик истории Вильгельм Гумбольдт полагал, что истории не следует навязывать идеи. Причина развития истории – не внешняя сила, а «внутреннее начало жизни». Исследуя механизм формирования исторического взгляда на мир, Гумбольдт связывал его с творческой активностью историка, воссоздающего нечто, что трудно воспринять непосредственно. Обозначив проблему возможностей исторического познания, Гумбольдт настаивал на необходимости разносторонней интерпретации прошлого, препятствующей ситуации, при которой второстепенные детали заслоняют главные события. Бурное развитие науки и техники поддерживало веру в технический и социальный прогресс. Сфера влияния романтизма сужалась, проявлялась склонность к реальному изображению человеческой природы и истории. К середине XIX века сложилось позитивистское понимание историзма. Автором термина «позитивизм» считается Огюст Конт (1798 – 1857 гг.), один из учеников Сен-Симона, абсолютизировавший некоторые его идеи. Человечество, по Конту, проходит в своей истории три фазы: теологическую, метафизическую и позитивную. Он полагал, что политические нелепости его времени будут продолжаться до тех пор, пока политика не превратится в позитивную науку, в которую превратилась, например, астрономия или химия. Огюст Конт получил превосходное математическое образование, изучал биологию, астрономию, физику и химию. Он считал, что умственная анархия порождает политическую анархию, поэтому долг позитивистов – обосновать «здоровые» общественные представления о социальном порядке, семье и собственности. Один из томов его позитивистской философии посвящен «социальной физике», которую позже он назвал социологией. Ввести человечество в позитивную фазу развития можно, по Конту, только создав объективную науку об обществе. По его мнению социология для современного мира должна быть тем же, чем теология была для мира средневекового. Специфическим методом социологии он считал исторический метод – метод исторического сравнения различных последовательных состояний человечества. Согласно Конту, между историей и со- 66 циологией, которую он иногда называл «политической наукой», нет различий. Он хотел доказать, что существуют такие же законы развития человеческого общества, как законы падения камня. Позитивисты полагали, что научность истории исключает ее обусловленность идеологией, политикой или моралью. Убирая из истории мораль, они отказывались оценивать факты. Это привело к тому, что история стала историей внешних событий. Отождествление истории с политической историей означало игнорирование истории искусства, религии, науки. Попытка провести аналогию между естественнонаучным и историческим фактом исключала постановку вопроса о возможностях исторического знания. Позитивизм поднимал методологию естествознания до уровня общенаучной методологии, он утверждал антропоцентризм рационалистического типа, когда в центр исторической картины помещается рационально мыслящий, сознающий свои цели человек, который предполагался неизменным во все времена. Согласно остроумному замечанию английского историка Э. Карра, позитивисты считали, что факты, нужные историкам, содержатся в документах, надписях и других источниках, подобно рыбам на прилавке у торговца. Историк собирает их, несет домой и готовит из них блюдо в соответствии с собственным вкусом. Исторические документы рассматривались позитивистами как «кладовые» фактов и единственная основа исторического познания. «Нет документов, нет и истории» - эта формула утверждала безусловный приоритет источников по отношению к историческому мышлению. Роль интеллекта историка сводилась к пассивной регистрации исторических фактов. Образцом позитивистского историка считается немецкий историк Леопольд Ранке (1795 – 1886 гг.). Очень широко было распространено мнение о якобы равнодушии Ранке к философским проблемам исторического познания. Только в XX веке исследователи, скрупулезно изучавшие его творчество, установили, что он не был ни чистым эмпириком, ни фетишистом фактов. Его критические выпады против философии истории были направлены против стремления уложить живую и проти- 67 воречивую историю в прокрустово ложе умозрительных конструкций. В отличие от Гегеля Ранке настаивал на способности исторической науки исполнить собственную функцию создания теории, он не был «апостолом наивного описательства»18. При этом Ранке отрицал единство всемирно-исторического процесса и полагал, что каждая историческая эпоха может быть понята лишь сама по себе, вне связи с другими эпохами. Критерием исторического исследования он считал несколько принципов: объективность исторической правды, приоритет фактов относительно идей, равноценную уникальность всех исторических событий и главенствующую роль политики. Не совсем глубокий афоризм Ранке: историк должен показать, «как это в действительности было», имел удивительный успех. Для трех поколений немецких, английских и даже французских историков эти магические слова стали боевым паролем. Однако историки-позитивисты очень долго не могли и не желали увидеть иллюзорность и даже двусмысленность этой фразы, не хотели признать, что быть объективными невозможно, что нельзя остаться человеком, отказавшись от субъективности. При всей своей заманчивости формула Ранке несостоятельна. Историк лишь думает, что так было, исходя из своих теоретических и идейных представлений. История, с точки зрения Ранке, это проявление божественного провидения в деятельности выдающихся личностей, в идеях и тенденциях эпохи. Одна из важных категорий его метода – понятие единичного. Оно отражало осознанное убеждение Ранке в неповторимом характере исторических явлений. В познании этой неповторимости он усматривал основную задачу исторической науки. При этом Ранке не отрицал наличия определенного сходства между событиями. Однако это сходство не свидетельствует о существовании закономерности. Закономерность, по Ранке, несовместима со свободой индивидуальной воли в истории и ничем не ограниченной свободой исследователя в познании. Ранке был противником применения гегелевских обобщений к истории. Сами факты, по его мнению, складываются в известные общие группы, и задача историка заключается лишь в том, чтобы отыскать эту естественную группировку и раскрыть 68 ее смысл. При этом обнаружится и непрерывная нить взаимодействий и взаимовлияний. Ранке считал, что каждая нация права сама по себе, что нет избранных народов. Методом Ранке принято называть методику изучения архивных источников, предполагающую выяснение обстоятельств составления документа, компетенцию автора, степень доверия к нему. Полагая, что каждая эпоха имеет свою собственную тенденцию и свой собственный идеал, Ранке называл прогресс «потоком, который по-своему прокладывает себе дорогу»19. Для него несомненен материальный прогресс, но никак не нравственный. Непрерывность исторического развития Ранке понимал как сохранение традиций. В рамках немецкого историзма формировалась и иная традиция, представители которой не хотели быть «евнухами в храме истории», полагая, что беспристрастным историк может быть только «в гробу». Попытка осмысления проблемы своеобразия истории, ее социальных функций и общественной значимости, познавательных возможностей исторической науки стала крупной заслугой представителей так называемой малогерманской исторической школы. Глава этой школы – Иоганн Дройзен – (1808–1884 гг.) был в определенном смысле антиподом Л. Ранке в исторической науке. Дройзен наряду с исследованиями средневековой и новой истории Германии много занимался методологическими проблемами исторической науки. История, по нему, это не сумма всего произошедшего, а знание о нем. Идеи понимания он развил в целостное учение. В историческом познании Дройзен различал субъективность и субъективизм. К субъективности приводят суждения, ориентированные на аплодисменты образованной публики, суждения, основанные на моментных импульсах сегодняшнего дня. А субъективизм он называл условием познания. Историческое познание для него не «слепок» с действительности, но и не фикция. Оно – «репрезентация». Дройзен подчеркивал, что изучать историю вне влияния современности, без гнева и пристрастия, значит обеднять ее, лишать социальной функции. Дройзен писал о неизбежности «односторонности и ограниченности» изображения, считал, что «нужно иметь мужество признать эту ограниченность и утешиться тем, что ограничен- 69 ное и особенное богаче и полнее, чем общее и самое всеобщее»20. По Дройзену, исторично лишь то, что принадлежит времени. Понять нравственный мир в его становлении и последовательности значит понять его исторически. В бесконечном процессе разрушения старого и созидания нового Дройзен видел необходимость исторического развития. Он предложил классификацию форм исторического изложения, выделив исследование (изыскание), повествование (рассказ), поучение (дидактику) и полемику (дискуссию). Целенаправленный выбор формы обеспечит историческому произведению четкость, стройность, красоту композиции и стиля изложения. Дройзен отмечал, что в существующей практике господствует «безвкусица различных комбинаций», нарушающая эстетическое начало в историческом произведении. Уделив большое внимание биографическому жанру, Дройзен полагал, что героем биографии может стать не каждый значительный исторический деятель. Для наиболее выдающихся людей рамки биографии слишком узки, потому что великие исторические свершения являются достоянием эпохи, а не относятся исключительно к сфере деятельности одной личности. Будучи автором известных жизнеописаний, Дройзен видел односторонность жанра, поскольку многие представления, современные автору, невольно переносятся на прежние эпохи и именно в этом жанре особенно ощутимы. Если герой изображается наравне с событиями, на которые он не оказал существенного влияния, то такой жанр Дройзен именовал монографическим, а не биографическим. История, по нему, это самопознание, самоосмысление и самосознание человечества. Эпохи истории – это не возрасты жизни, а стадии самопознания, познания мира, познания Бога. История – это прошлое, которое не кончается. Оно остается с нами, а историк извлекает из него уроки, чтобы использовать наследие прошлого для обеспечения человеку человечных условий существования. Не в объективности цель историка, а в том, чтобы понять историю. Немецкий термин Verstehen (понимание) благодаря Дройзену вошел в понятийный аппарат историков и особое место занял в творчестве Вильгельма Дильтея (1833 – 1911 гг.). С его 70 именем связаны основы современной философской культуры – герменевтика, феноменология, экзистенциализм. В книге «Введение в науки о духе» Дильтей различает объяснение и понимание. Объяснение присуще естествознанию, расчленяющему и растворяющему свои природные объекты. Духовную жизнь, по Дильтею, нельзя объяснить, ее можно только понять. Имея дело с индивидуальным и конкретным, историк стремится к единству и целостности. История тождественна жизни: «опытные науки преобразовали внешний мир, теперь же наступает мировая эпоха, в которой растущее влияние приобретают науки об обществе»21. В их основе лежит «сама жизнь», которая проявляется в связи переживаний, понимания и истолкования выражений жизни. Задача истории – понять скрытый смысл эпох и культур. Мысли Дильтея напомнили известный афоризм Гете: «историю может понять только тот, кто сам ее пережил». Понимание – это проникновение в глубины психической жизни. Историк должен проникнуться настроениями изучаемой эпохи. С презрением относясь к идее Ранке о том, что основным объектом исторической науки является государство, Дильтей был убежден, что история человечества может быть представлена как последовательность психологических мировоззрений, воплощенных главным образом в сочинениях литературных, философских и религиозных гениев. В творческих личностях для него скрещивались различные эпохальные потоки, в результате чего они приобретали структуру, доступную для анализа, включающую их мировоззрение и полноту жизненных переживаний. Жизнь, по Дильтею, это хаос гармонии и диссонансов. Он стал создателем так называемой «философии жизни». Историзм «философии жизни» направлен против позитивизма с его фетишизацией документов и культом фактов. Представители этого направления по-разному трактовали само понятие жизни: метафизически (жизненный порыв) и культурно-исторически. Дильтей понимал жизнь психологически: как исток переживаний. У Ницше жизнь трактуется биологически: как живой организм. Фридрих Ницще (1844 – 1900 гг.) родился в старинной пасторской протестантской семье. Добровольцем ушел на франко-прусскую войну, став санитаром, поскольку был в это время 71 подданным Швейцарии и не имел права сражаться. На войне он серьезно заболел: сильные головные боли и спазмы желудка мучили его всю жизнь. Увидев на войне не героизм, а кровь, грязь и обнаружив хрупкость человеческого существования, Ницще освободился от угара патриотизма. Вопрос о смысле жизни встал перед ним в жестокой реальности. Человек, вынужденный ежедневно бороться с болью, написал гимн физическому здоровью, силе и красоте человека, абсолютизировал идею ценности человеческой жизни. Его философия жизни отбрасывала умозрительные схемы: сверхчеловек, по Ницше, результат культурно-духовного совершенствования человека. Сквозь призму жизни может быть постигнута и история. Эту мысль Ницше изложил в работе «О пользе и вреде истории для жизни», выступив против «исторической болезни» XIX века. Он был против преклонения перед историей как слепой силой фактов. В прошлом видел бремя, отягощавшее память. Насмешливо называл Ранке «умнейшим из умных творений». Историки, по его мнению, рассказывают о делах, которые существовали только в их представлении. Ницше был против гипертрофированного увлечения историей. История – это хаос, угрожающий жизни. Историк пытается изменить настоящее с помощью фактов прошлого. Не история – наставница жизни, а жизнь – учительница истории. По мысли Ницше, мы нуждаемся в истории «иначе, чем избалованный и праздный любитель в саду знания… она нужна нам для жизни и деятельности»22. Ницше критиковал позитивистское отношение к предмету: «Взгляните на студента, изучающего историю, этого наследника скороспелой… пресыщенности и разочарования… “метод” заменяет ему действительную работу, он усваивает себе сноровку и важный тон, манеру своего учителя; совершенно изолированный отрывок прошлого отдан в жертву его остроумию и усвоенному им методу… Добросовестная посредственность становится все посредственнее»23. Ницше различал монументальный, антикварный и критический род истории. Первый позволяет разукрасить факты, увеличить число исторических эффектов, т.е. следствий без достаточных причин. Монументальная история черпает из 72 прошлого примеры великого и возвышенного, но не дает целостного изображения прошлого и вводит в заблуждение при помощи аналогий. Ницше считал ее наиболее устойчивым типом как научного, так и обыденного исторического мышления, особенно в XVIII веке. Антикварная история формируется позже. Задача ее сводится к собиранию фактов о прошлом, что придает неподобающую ценность «мелкому, ограниченному, подгнившему». Наибольшую ценность история приобретает только в критическом варианте, ибо прошлое всегда достойно осуждения. При этом гегелевский путь поиска глобального смысла истории порочен. Ощущение кризиса на переломе веков было острым и устойчивым. Еще один немецкий представитель «философии жизни», Георг Зиммель (1858 –1918 гг.), продолжил начатую Ницше критику основ традиционного немецкого историзма. По его мнению, эмпирическое знание нуждается в философском осмыслении. Зиммель видел выдающуюся роль познающего субъекта в выборе перспективы исследования, во внутреннем переживании прошлого, в практике исторического изображения. Объект истории, по Зиммелю, психическая деятельность людей, их душевная жизнь. Одним из главных представителей «философии жизни» являлся французский философ Анри Бергсон (1859 – 1941 гг.). Ключевой идеей его философии истории была идея свободы как факта человеческого существования. Он определял историю как «плотную ткань психологических фактов». История интересовала Бергсона как процесс развития сознания личности. Принцип историзма в гегелевской форме он не принял, однако неуклонно применял исторический подход к сознанию. Прогресс в истории, по Бергсону, существует благодаря творческой деятельности немногих личностей, достижения которых распространяются в обществе. Особые страсти вокруг позитивизма бушевали все-таки в немецких университетах. Исследовательские методы и историческая концепция Ранке подвергались критике в работах Карла Лампрехта (1856 – 1915 гг.), теоретические взгляды которого называли смесью романтизма и позитивизма. В качестве орудия познания истории он выдвинул коллективную психологию, счи- 73 тая главным действующим лицом истории массу, а не отдельные личности. История для Лампрехта - совокупность явлений материальной и духовной культуры. Его выступления открыли бурную методологическую дискуссию в 90-х годах XIX века. Лампрехт испытывал интерес не только к экономической истории и проблемам культуры, но и к истории права, административного устройства, истории городов и населения24. Принцип историзма нашел свое место и в российской исторической науке, однако его рассмотрение будет более уместным в собственном контексте и на более длительном временном отрезке. Эксле О.Г. Культурная память под воздействием историзма // Одиссей: Человек в истории. М., 2000. С. 7-9. 2 Черненко А.А. Причинность в истории. М., 1983. С. 131. 3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.Т. 8. С. 119. 4 Там же. Т. 21. С. 210. 5 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 67. 6 Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 7 Мак-Нил В. Цивилизация, цивилизации и мировая система // Цивилизации. М., 1993. Вып. 2. С. 18. 8 Цит. по: Кузнецов И.Н. Гердер о цивилизации Просвещения: власть и интеллект // Цивилизации. М., 1995. Вып. 3. 9 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 115. 10 Гердер И. Идеи философии истории человечества. М., 1977. 11 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Соч. М., 1990. Т. 6. С. 10. 12 Шиллер Ф. В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения // Собр. соч. М., 1956. Т. 4. С. 27. 13 Там же. Т. 7. С. 493. 14 Цит. по: Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 2. С. 42. 15 Гегель Г.В.Ф. Наличное бытие. Философия истории // Соч. М., 1935. Т. 8. С. 422. 16 Гёте И. Фауст. М., 1960. С. 63. 17 Гегель Г.В.Ф. Наличное бытие. Философия истории // Антология. М., 1995. С. 74. 18 Wagner F. Der Historiker und die Weltgeschichte. Freiburg, 1965. S. 85. 19 Ранке Л. Об эпохах новой истории. М., 1898. С. 5. 1 74 20 Droysen J. Historik. Berlin, 1958. S. 287. Дильтей В. Сон // Вопросы философии. 1995. № 5. С. 115. 22 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Минск, 2003. С. 4. 23 Там же. С. 74. 24 Патрушев А.И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта // Новая и новейшая история. 1995. № 4. 21 Лекция 4. Российская методология истории XIX – XX веков В конце XVIII – первой четверти XIX века все больше внимания уделяется выяснению практической роли исторических знаний, т.е. возможности использования прошлого как полезного и необходимого опыта решения практических задач, стоявших перед государством. Потребности государственного управления в таких сферах, как дипломатия, мореплавание, военное дело, промышленность, законодательство, вынуждали изучать различные аспекты практики прошлого в этих сферах для принятия обоснованных историческим опытом решений. Высокое развитие российской исторической мысли в XIX веке было связано с общим культурным расцветом в эту эпоху. А.С. Пушкин называл уважение к минувшему чертой, отличающей образованность от дикости. Историческая любознательность Пушкина сочеталась с историзмом его творчества. В.О. Ключевский позже находил у Пушкина связную летопись русского общества в лицах за сто с лишним лет. Сотни тысяч гимназистов и школьников XIX – XX веков напишут сочинения на тему энциклопедии русской жизни, данной Пушкиным. Выступая во время торжеств по случаю 200-летия со дня его рождения на научной конференции «А.С. Пушкин как историк» академик Ю.А. Поляков подчеркнул, что история предстала у Пушкина в своей полихромии и полифонии. Так, Е. Пугачев у него – сложная, противоречивая личность, а Б. Годунов – не только строгий и жестокий правитель, но и человек, преследуемый роком и людской неблагодарностью, страдающий, терзаемый совестью. 75 Эпоха Просвещения породила оптимизм относительно возможности воспитательной роли истории, ее способности примерами прошлого воспитывать гражданские добродетели и высокие моральные убеждения. Н.М. Карамзин (1766 – 1886 гг.) считал, что история утверждает благо и согласие в обществе. Его «Историю государства Российского» читала вся образованная Россия. Труд Карамзина отличался новым языком: он ввел такие слова, как «общественность», «промышленность», «образ», «развитие», «человечный», «общеполезный». Карамзин удвоил источниковую базу, ввел в примечания тонкие профессиональные наблюдения. Отыскивая документальные подтверждения мельчайшим фактам, он в то же время задавался вопросами о природе исторического процесса, о смысле и пользе изучения истории, о философии истории. В записной книжке 1800-х годов появляются заметки, которые войдут в предисловие к «Истории». Среди них: - Что Библия для христиан, то история для народов. - Опытность научает человека благоразумию, история – народы. - Народ, презиравший свою историю, презрителен, ибо легкомысленен – предки были не хуже его. По словам Пушкина, древняя Россия была «найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом»1. Пушкин не раз повторял, что «История» Карамзина есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека. Для большинства западно-европейских, да и русских читателей понятная им история России начиналась с эпохи Петра I. Карамзин доказал, что уже древнерусские летописи содержат материал, достойный пера историка и внимания читателя. Возможно, не без влияния идей Гердера он не ограничивался событиями государственнополитической истории, полагая нужным дать характеристику черт и свойств народа2. Карамзин совместил философский подход к явлениям прошлого, исследовательскую методику и прекрасный стиль. Он ликовал и горевал со своим народом, с грустью передавал все неприятное и позорное в его истории, а о победах и достижениях говорил с радостью и энтузиазмом. Карамзин был интеллектуалом с осознанными философскими влечениями. Вслед за Вольтером и Шиллером он полагал, что 76 современное ему общество можно «исправить» путем распространения идей добра и справедливости. История, по Карамзину, это не то, что произошло, а то, что происходит. Написанный им труд, подобно трудам Фукидида и Тацита, воспринимался не только как пример исторической мысли, но и как образец художественной литературы. Еще при жизни автора тома его «Истории» были переведены на французский, немецкий, английский, итальянский и польский языки и получили десятки отзывов. Член Российской духовной миссии в Пекине З.Ф. Леонтьевский частично перевел их на китайский язык и подарил китайскому императору. Методологически Карамзин исходил из концепции человеческого счастья и гармонии мира. История помогает найти путь к ним. Говоря о том, что отличает историка от летописца, Карамзин подчеркивал, что «последний смотрит единственно на время, а первый – на свойство и связь деяний». Назвав Карамзина «первым историком и последним летописцем», Пушкин полагал, что критическим подходом Карамзин принадлежит истории, а простодушием – хронике. Живописные рассказы Карамзина формировали потребность не только проследить последовательную смену событий, но и открыть причинную связь между явлениями, уловить закономерность исторического хода. За блестящими характеристиками отдельных личностей стояла абстрактная идея монархии. Интуитивное понимание еще не вело к теоретическому объяснению, главной целью было предостеречь и дать поучительные образцы. Карамзин еще не проникся историзмом – у него первые киевские князья – такие же самодержцы, как и последующие московские цари. Нередко в качестве объяснительного принципа выступает личная воля или случайное совпадение. Так, раздробленность Руси он объясняет чадолюбием Ярослава Мудрого, не пожелавшего обделить своих сыновей землями. Овладение российскими историками постулатами историзма в какой-то степени связано с влиянием европейской науки, в частности Гегеля, который, по словам Н.А. Бердяева, сделал небывалую карьеру в России, став вершиной человеческой мысли3. Изучавший Гегеля Белинский утверждал, что успехи исторической науки формируют историческое сознание 77 общества. Он указал на исторический подход к познанию всех сторон действительности как на характерную черту XIX века, появление которой было подготовлено всем ходом предшествующего развития общества. Искусство сделалось историческим: исторический роман и историческая драма интересовали теперь «всех и каждого». Белинский объяснял некоторый застой в живописи начала XIX века тем, что она не прониклась пониманием исторической тематики. Внимание Герцена было направлено на теоретические вопросы исторической науки. Ее значение он видел в уяснении современности и перспектив исторического развития. Основным законом объективного исторического процесса Герцен считал прогрессивное развитие. В основу периодизации всеобщей истории он положил прогрессивное развитие мысли, выделив в нем три эпохи: классическую, романтическую и реалистическую. Первая совпадает с древностью, вторая включает средневековье и значительную часть нового времени, третья эпоха, по его мнению, еще не развернулась в полную силу. В рассуждениях российских мыслителей важное место занимала тема спора о судьбе России. Эта тема была инициирована П.Я. Чаадаевым, обвинившим передовые умы России в отступничестве от западных идей. Чаадаев рассматривал историю как процесс, видел в ней ключ к пониманию народов. У него было даже чрезмерное преклонение перед Клио, ему казалось, что история непременно воспитывает и обучает народы. Чаадаев утверждал, что Россия в отличие от других стран не обладает прочными историческими традициями, что ее история лишена какой-либо общей идеи и закономерного развития. Внятно заявив об антитезе России и Запада, Чаадаев констатировал невозможность реализации западных идеалов на российской почве. В николаевской России преследованиям подвергалась всякая передовая мысль. Власть стремилась поставить под полный контроль университеты. В уставе 1835 года предусматривалось упразднение университетской автономии, подробно расписывались обязанности профессоров и студентов, определялись наказания за их нарушение. В 1849 году Николай I отменил в Московском университете лекции по истории поли- 78 тических учений. На вопрос царя, для чего читается такой курс, министр просвещения С.С. Уваров ответил, что для изучения образов правления в государствах. Царь заявил, что это – чепуха, вовсе ненужная. Преподавание этой дисциплины было восстановлено только через 10 лет. При Николае I резко сократился прием на все факультеты, кроме медицинского, было введено военное обучение, преподавание философии поставлено под контроль духовенства. Некоторые университеты стали подчиняться непосредственно генерал-губернатору. За последние годы николаевского правления число студентов в университетах сократилось почти вдвое4. Один из наиболее образованных попечителей учебных округов, граф Строганов заявил химику и фармацевту Н.Э. Лясковскому: «Извольте учить намазывать пластыри и тереть порошки, а не философствовать». А с историком Т.Н. Грановским Строганов был еще более откровенен и бесцеремонен: «Есть блага выше науки, их надобно сберечь, даже если бы для этого нужно было закрыть университеты и училища». Тимофей Николаевич Грановский (1813 – 1855 гг.), по словам Герцена, думал историей и учился историей. Свою преподавательскую деятельность он начал в конце 30-х годов, когда наука о всеобщей истории находилась в младенческом состоянии. Интерес к истории Западной Европы был меньшим, чем к славяноведению. Грановский стал первым в России университетским профессором, связавшим преподавание истории с потребностями и запросами жизни. Его лекции отличали широта концепции, насыщенность историческим и историографическим материалом, внимание к социальной стороне исторического процесса, яркий, образный язык. Вводная лекция по истории средних веков, прочитанная в сентябре 1848 года, несла на себе печать размышлений о европейских революциях, ключ к пониманию которых Грановский искал в истории. Слушатели называли его «Пушкиным русской истории». А завидовавший ему Погодин зло, но метко записал в дневнике: «Это не профессор, а немецкий студент, начитавшийся французских газет». Действительно, обучаясь в Германии, Грановский испытал сильное влияние немецкой науки. Методы исторической критики, которым Л. Ранке обучал студентов на своих семинарах, 79 были использованы Грановским в работе над диссертацией. Ранке стал кумиром Грановского на долгие годы. Грановский учил теоретическому осмыслению истории, дал краткий очерк попыток – начиная с Геродота – отыскать единый принцип исторического развития человечества. Его занимали проблемы систематизации исторического материала. Историю отдельных народов он рассматривал как «моменты» проявления абсолютного начала в гегелевском духе. В 1849 году за Грановским был учрежден строжайший секретный надзор. Московский митрополит Филарет вызвал его на беседу и отчитал за затемнение умов, за то, что в изложении истории он не упоминал о «воле и руке Божией». Грановский был убежден в том, что наука и просвещение заменили религию в качестве основной движущей силы истории, но предостерегал от фатальной надежды на непрерывный прогресс: «… философская мысль о господствующей в ходе исторических событий необходимости или законности приняла под пером некоторых… писателей характер фатализма… Школа исторического фатализма снимает с человека нравственную ответственность за его поступки, обращая его в слепое… орудие роковых предопределений»5. Грановский оценивал исторических деятелей не с точки зрения вечных понятий добра и зла, а в зависимости от их реакционности или прогрессивности. Грановский не полагал личность целиком свободной в своих действиях даже в рамках исторического закона, он считал позицию исторических деятелей в значительной степени предопределенной объективными обстоятельствами, эпохой и народом, представителями которых они являлись. Великие деятели, по Грановскому, лучше других понимают направление исторического процесса. Новые идеи Грановского были связаны с постоянным поиском новых методов исследования. Он полагал, что применение историко-географических, антропологических, сравнительно-исторических и статистических методов позволит сделать историю по-настоящему точной наукой. Незаурядность Грановского не давала ему возможности замкнуться в узких рамках конкретной, фактологической истории. Он был внимателен к истории исторической мысли и историографии6. Его интересовала проблема сущности и предмета исторической 80 науки, ее места среди других наук, ее «полезности» для человечества. Он рассматривал историю «не как отрезанное от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, в котором прошлое, настоящее и будущее находятся в постоянном между собой взаимодействии». Грановский не возводил в абсолют тезис Л. Ранке об объективности историка. Он признавал неизбежную долю субъективности в подходе историка к прошлому, обусловленную личными пристрастиями и временем, в которое он живет: каждое поколение приступает к изучению истории со своими вопросами. Практическое значение истории Грановский видел в том, что она помогает «угадывать под оболочкой современных событий аналогию с прошлым и постигать смысл современных явлений, только через историю мы можем понять свое место в человечестве, она удерживает нас от отчаяния и позволяет ценить достоинство человека»7. Всеобщая история, по мысли Грановского, отличалась от фактологической всемирной истории и от сухой истории культуры. Всеобщая история была для него высшей формой исторического знания, итогом развития исторической мысли. На лекциях и статьях Грановского воспитывалось несколько поколений отечественных ученых. Еще при жизни Грановского стали выходить тома «Истории России» Сергея Михайловича Соловьева (1820 – 1879 гг.). Этот огромный труд обогатил русскую науку западными идеями8. Стержнем исторической концепции Соловьева была идея исторического прогресса. В ней он видел средство обоснования движения России к правовому государству и европейской цивилизации. Соловьев осознавал социальную функцию исторической науки, полагал, что она только тогда даст верные ответы на вопросы жизни, когда действительно будет наукой о прошлом. Он отвергал взгляд на историю как на сборник анекдотов или ряд отрывочных биографий выдающихся деятелей, якобы творящих своей волей историю. История была для него наукой, раскрывающей этапы исторического развития каждого народа и всего человечества. Историзм Соловьева проявился в том, как он показал преемственность этих этапов, раскрыл связь между историческими явлениями, событиями и фактами. Уподобляя историю человечества развитию живого организма, 81 Соловьев создал оригинальную и стройную концепцию истории России9. Пытаясь понять историю как развивающийся процесс, он считал государство ее главной движущей силой. Если у Карамзина исторические личности поставлены вне условий времени, то у Соловьева внутренняя логика заключена в смене событий. Он выдвинул концепцию непрерывности исторического процесса, несмотря на кажущиеся разрывы. Для Соловьева в русской истории нет случайных явлений, она проходила под знаком борьбы «леса со степью» и определялась стремлением к морю и европеизацией. Русский народ, по Соловьеву, принадлежит к семье европейских народов. При исследовании древнерусской истории Соловьев уделил особое внимание природным условиям и этнографическим особенностям Древнерусского государства. Прибегнув к географическим данным в силу широкого понимания задач исторического изучения, он стал одним из основоположников исторической географии в России. Но еще в большей степени географический фактор был использован в творчестве блестящего представителя плеяды шестидесятников XIX века – Льва Ильича Мечникова (1838 – 1888 гг.). Л.И. Мечников был яркой и колоритной фигурой. Учился в Петербурге в Академии художеств и на двух факультетах университета – физикоматематическом и восточных языков. Был политическим эмигрантом, адъютантом и близким другом Гарибальди, участвовал в польском освободительном движении, сотрудничал в герценовском «Колоколе» и «Современнике» Чернышевского, побывал в Палестине, Турции, Греции и Японии. В Токио вел уроки математики и древней истории на русском отделении Школы иностранных языков. Пять лет занимал кафедру сравнительной географии и статистики в Нефшательской академии Швейцарии. Задумав социологический труд об истории цивилизации, Мечников успел написать лишь введение к нему, изданное под названием «Цивилизация и великие исторические реки». Его учение о роли географической среды в развитии общества отличалось от немецкой антропогеографии и геополитики, в концепциях которых человек выступал в качестве пассивного агента, приспосабливающегося к природе. Он 82 не выводил из географической среды все закономерности исторических событий. Географическая среда, по его мнению, действует на общество не непосредственно, а опосредованно. В географической среде (особенно в древних цивилизациях) он видел силу, способную вынудить людей проявлять солидарность и включаться в коллективный труд для борьбы с неблагоприятными природными условиями и социальными и политическими неурядицами. Мечников ввел в научный оборот понятие «физико-географическая среда», понимая под ней часть «очеловеченной природы», и понятие «культурная географическая среда». Отведя особую роль в истории речным долинам и океану, он выделил в истории три периода – речной, морской и океанический, понимая под первым цивилизации древних веков, датируя второй временем основания Карфагена, связывая с третьим новую историю. Как и в природе, в истории развитие не идет по прямой линии: «…выше всех законов и обобщений, которым древние и современные авторы пытались подчинить историческое движение, выше всех “циклов”, всех исторических “приливов и отливов”, выше всех прямых, спиральных и ломаных линий… по которым якобы движется человечество, стоит… великий закон прогресса»10. С его точки зрения, свобода – главная характерная черта цивилизации. Сравнивая древний Запад и древний Восток, Мечников писал о превосходстве Запада, объясняя активный или пассивный образ жизни географическими особенностями. По его мнению, «японцы обязаны своей национальной обособленностью и целостностью морскому течению Куросиво и подводным камням, делающим доступ к берегам японских островов весьма опасным. Точно так же туманы и морские течения, омывающие Британские острова, оказались во времена непобедимой Армады покровителями пуританской Англии против страшной католической ярости Филиппа II… Альпы послужили колыбелью и защитой свободе швейцарских общин. Наконец, Пиренеи защищали льготы и привилегии горных басков несравненно энергичнее, нежели королевские хартии»11. Таким образом, гидрополитический метод Л.И. Мечникова позволял установить зависимость динамики развития цивилизаций от их отношения к водным системам. 83 После воцарения Александра II опека над университетами была сеята. Устав 1863 года предоставил им самоуправление, право выбора ректоров и проректоров, право получать книги изза границы без цензуры. Однако после покушения Каракозова на царя процесс либеральных преобразований был приостановлен. В этих условиях идеологи демократических движений придавали огромную роль теоретическим вопросам исторической науки. «Законы развития человеческих обществ могут быть неизвестны, - писал Н.В. Шелгунов, - как неизвестны до сих пор вполне законы, управляющие остальным миром, но из этого не следует, чтобы их не существовало или чтобы они зависели от личной воли отдельных людей»12. Н.Г. Чернышевский считал исторический процесс противоречивым и скачкообразным, видел в формах «экономического быта» основу периодизации всемирной истории. Он писал: «Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным человеком; но не любить истории может только человек, совершенно не развитый умственно»13. Он осуждал односторонне-политический характер исторических работ, в которых не делается сколько-нибудь серьезных попыток выяснения материальных основ описываемых политических событий. Эти книги, полагал Чернышевский, скорее похожи на сборники анекдотов, прикрываемых научною формою, чем на науку в истинном смысле слова. С его точки зрения необходимо осмысление и объяснение, выделение существенного и главного в анализируемом материале. Критика позитивистской историографии ярко представлена в рецензии Н.А. Добролюбова на книгу о пророке Мухаммеде. Истинная история, по его мнению, подменяется биографиями великих людей, хотя «историческая личность, даже и великая, составляет не более как искру, которая может взорвать порох, но не воспламенит камней, и сама тотчас потухнет, если не встретит материала, скоро загорающегося»14. Вторая половина XIX века дала России выдающегося историка – Василия Осиповича Ключевского (1841 – 1911 гг.). Его теоретические и методологические воззрения ярко и популярно представлены в многочисленных афоризмах. Среди них такие: 84 для истории соблюдение хронологии есть закон; история не учительница, а назидательница; она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков; мы гораздо больше научаемся истории, наблюдая настоящее, чем поняли настоящее, изучая историю. Следовало бы наоборот; прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий; природа рождает людей, жизнь их хоронит, а история воскрешает, блуждая по их могилам; закономерность исторических явлений обратно пропорциональна их духовности15. Какое-то время Ключевский разделял позитивистское убеждение в том, что суд истории – это приговор могилы, которая все покрывает – и долги, и доблести, а историк – не могильный сторож, его место не на кладбище, а в архиве. Он призывал освободиться от роли исторических судей и оставаться простыми наблюдателями минувшего. Однако в «Курсе русской истории» он отошел от правила не выносить оценок историческим деятелям, отказался от причинного, логического объяснения в истории, поскольку оно скорее пристало естественным наукам. Ключевский переместил акцент на раскрытие соотношения общественных сил, взаимодействие которых проявляется в историческом процессе. Ключевский определяет историю как «науку об общих законах строения человеческих обществ». В его методологии нашли отражение основные компоненты цивилизационного подхода: целостное изучение истории России в контексте мировой цивилизации; сопоставление истории и современности при выяснении глобальных тенденций развития. Предмет исторического исследования у него – это «происхождение, развитие и свойства людских союзов». Людские союзы он делит на первичные, или естественные, и вторичные, или искусственные. К первым относятся семья, род, племя. Ко вторым – государство и церковь. Исторический процесс соткан из элементов: сил и стихий, а его характерные черты возникают из разнообразия их сочетаний. 85 Первым в российских университетах прочитав студентам курс методологии истории, Ключевский объяснил цель изучения методологии необходимостью разработки таких методов, которые соответствовали бы объемам исследованного материала и уровню европейской науки. Историк, по Ключевскому, не может анализировать начало или конец исторического процесса, его задача – изучение движения, течения процесса. Ключевский дал усложненное и дифференцированное определение движущих сил исторического процесса. Однако он не включил в их число «ход внешних дел», специально выделенный С.М. Соловьевым. Идея «народности» у Ключевского не противостояла идее «государственности», а логически дополняла ее. Выяснение характера человека, образа его мыслей, мотивации поступков было для него таким же необходимым компонентом исследования, как описание непосредственных деяний того или иного персонажа. Создание Ключевским исторических портретов по принципу «личность в контексте эпохи» в какой-то степени предвосхищало – в жанре исторической биографии – традицию школы «Анналов»16. Ключевский был глубоким историческим мыслителем стремился постичь закономерности исторического развития, найти смысл изучаемых событий. Его теоретические взгляды лучше всего были изложены в контексте конкретных исторических проблем. Уже в подзаголовке «Боярской думы» он указал, что пишет не политическую и не экономическую историю, а историю общества, историю нации как исторической совокупности. Определив, что история – процесс не логический, а народно-психологический, Ключевский увидел задачу историка в постижении прошлого для правильной оценки исторических событий и процессов. Он считал это нравственным долгом перед предками. Исторические работы Ключевского были написаны выразительным литературным языком и обладали социологической перспективой. Будучи убежден в том, что историческая наука страдает от отсутствия метода, он тем не менее весьма критично относился к уже популярному в его время историкосравнительному методу. В практике использования этого метода Ключевский усмотрел априорность того «однородного», что ис- 86 кали за рядами произвольно подбираемых факторов. Он видел в сравнительном методе опасность обеднения истории и оправдания какого-то симпатичного исследователю вывода вопреки фактам. Ключевский остался равнодушен к знаменитому методологическому спору неокантианцев с позитивистами о природе идиографического и номотетического знания. Он считал, что любая наука, естественная или социальная, номотетична в том случае, когда она объясняет, и идиографична в том случае, когда описывает. Все дело в соотношении этих частей в каждой из наук. Между тем российские авторы все более включались в этот спор. Сын С.М. Соловьева, философ В.С. Соловьев, защитил диссертацию, направленную против позитивизма. А его однокашник по гимназии и университету Николай Иванович Кареев (1850 – 1931 гг.), имевший особый вкус к исследованию теоретических вопросов исторической науки, перенес методологический акцент с проблемы движущих сил исторического процесса на проблему познания этого процесса. В деятельности Кареева выделяют три периода – московский, варшавский и петербургский. Долгие годы он был председателем Исторического общества. Талисманом, хранившим его от нападок советской власти, стал лестный отзыв К. Маркса, не позволивший большевикам выслать Кареева на «философском» пароходе. Ученый полагал, что «историк не может уйти из своего времени»17. Он стремился преодолеть представление о «неполноценности» конкретной историографии и позитивистское пренебрежение философией, хотел достигнуть единства теоретических и конкретно-исторических подходов к историческим явлениям. Кареев делил общество на культурные группы и социальную организацию. Центром, вокруг которого группируются все элементы культуры, он считал человеческую личность – альфу и омегу истории. Историю Кареев подразделял на прагматическую (событийную) и культурную (бытийную). Пружина событийной истории – социальная борьба. Без нее исторический процесс прекращается, как замерзает вода при морозе. Сущность исторического процесса, по Карееву, во взаимодействии прагматической и культурной истории. Мир истории сложен, но познаваем. Техника исторических исследований зависит от того, 87 как исследователь понимает исторический процесс. При этом Кареев считал историческим источником любое свидетельство о прошлой жизни людей, что предвосхищало отношение к источнику французской школы «Анналов», время возникновения которой совпало со временем ухода Кареева из жизни. Согласно Карееву, личность неодинаково действует в событийной и бытийной истории. В бытийной истории особо важен момент подражания: сначала подражание, затем творчество. Теорию Кареева о роли личности в истории исследователи назвали синтезной18. Главной идеей истории он считал идею прогреса, подчеркивая его противоречивость и многообразие форм проявления. В 80-е годы XIX века Кареев выделял такие виды прогресса, как умственный, нравственный, политический, юридический и экономический. В 20-е годы XX века он пересмотрел свой взгляд на прогресс и различал уже такие виды его, как религиозный, под которым понимал процесс секуляризации культуры, технический, экономический, политический, подчеркивая повышение степени осознанности всех процессов в истории. Общество для Кареева – комплексный продукт условий среды, продукт действия биологических и психологических факторов. При этом психологический фактор был, по Карееву, доминирующим. Каждое явление вызывается внутренними или внешними стимулами, и каждое действие зависит от индивидуального психического процесса: герой воспринимает впечатление, полученное от масс, и массы получают впечатление от его действий. Историческую науку Кареев уподобляет некоему древу: корни его извлекают из земли питательные соки, а ветви и листва поднимаются к небу. Корни – это работа над сырым материалом, крона – идейные обобщения. Источниковедческую, почвенную работу Кареев называл аналитической, детальной и изолирующей, теоретическую работу – систематической и объединяющей. Он полагал, что обе работы одинаково нужны, но у каждого исследователя приоритетной может быть одна из них. Термин «философия истории» Кареев понимал комплексно. Для него это и философское обозрение прошлых судеб человечества, и исследование общих законов исторического 88 процесса, и теория исторического знания, и даже практические уроки морального и политического характера, которые могут быть извлечены из истории. Философия истории в целом должна быть судом над историей: «…историки, и не думая об этом, все-таки продолжают судить и рядить… Одни развенчивают, снимают с пьедесталов, записывают на черную доску тех, кому кланялось человечество; другие занимаются реабилитацией, возвышением, прославлением… одни за папу, другие за Лютера, одни за Мирабо, другие за Робеспьера… Где история, там и суд, но часто суд односторонний, пристрастный, неправый… Прогоните его в явной форме, он вотрется к вам невидимкой: в выборе, освещении предмета…»19. Настаивая на необходимости и неизбежности оценочного суждения в исторической науке, Кареев предпринял первую в России серьезную попытку разработки теории исторического познания. При этом он стремился избежать растворения в рамках какого-либо направления: «Мне всегда был не по душе всякий догматизм, соединенный в области чувства с фанатизмом, в области проявления воли – с деспотизмом»20. События 1917 года, по мнению П.Н. Милюкова, отразили те черты, которые наиболее характерны для российского исторического процесса: аморфность и социальную беззащитность общества, навязанный характер государственного начала. Революция в России могла быть только социалистической и тоталитарной. В этом был убежден и Николай Александрович Бердяев (1874 – 1948 гг.). Его дед был героем войны с Наполеоном и атаманом Войска Донского. Отец – кавалергардский офицер, затем председатель правления Земельного банка. Николай обучался в кадетском и пажеском корпусах, был зачислен в Киевский университет на естественный факультет, переведен на юридический, а затем исключен за участие в социалдемократическом движении и выслан в Вологду. Редактировал журналы, основал Вольную академию духовной культуры в Москве, преподавал в Московском университете. После высылки из большевистской России работал в Париже редактором издательства ИМКА-ПРЕСС. В 1947 году стал почетным доктором Кембриджского университета. 89 Бердяев не симпатизировал ни большевикам, ни белогвардейцам. Он пытался осмыслить произошедшее, исходя из религиозных, общечеловеческих и национальных ценностей. Бердяев отрицал линейную интерпретацию исторических процессов, полагая, что прямолинейные теории прогресса несостоятельны с философской, логической, фактической и этической точек зрения. По его мнению, все великие культуры одновременно смертны и бессмертны, так как выживают их вечные ценности: римское право, греческое искусство и философия вошли в культуру средних веков и арабских стран. Главным постулатом философского осмысления истории, согласно Бердяеву, выступает идея творчества как фундаментальной характеристики человека. Предлагая христианско-антропологический подход к истории, Бердяев выделял в ней три главных периода: дохристианский период послушания ветхозаветному Богу, период искупления и период религиозного возрождения, еще только начавшийся. Он видел в истории величайшую духовную реальность. Главная тема истории – судьба человека в земной человеческой жизни. История невозможна без сочетания консервативного и творческого моментов. Исторический процесс, по Бердяеву, имеет двойственную природу: с одной стороны, он есть связь прошлого и будущего, с другой – разрыв с прошлым. Бердяев полагал, что древнему человеку было чуждо антропоцентрическое чувство бытия. Это чувство возникает благодаря христианству и становится основной движущей силой нового времени21. По мнению Бердяева, укрепление человеческой личности произошло в тот период истории, который долгое время считали неблагоприятным, – в период средневековья. В образах монаха и рыцаря он увидел многоценную личность, духовно или физически закованную в латы, достигшую независимости от действия внешних сил. Христианская аскетика помогла концентрации духовных сил человека. Творческий расцвет Ренессанса внутренне был подготовлен в средние века: произошел переход от средневековой религиозной культуры к светской. Такое понимание истории вело Бердяева к отрицанию революционных экспериментов, приводящих к тирании и поруганию человека. В таком контексте Бердяев оценивал и французскую, и русскую 90 революцию. Социализм для него – атеистическое извращение теократической идеи. Сведя историю к христианской драме, Бердяев, в сущности, исказил ее, но его внимание к «жизни духа» сделало его одним из крупнейших философов русского «серебряного века». После 1917 года началась борьба за постепенное подведение под общественные науки марксистского теоретикометодологического фундамента. Этот процесс сопровождался большими интеллектуальными потерями. Марксизм был естественным детищем своей эпохи. Он соответствовал научным критериям середины XIX века, поскольку основывался на тогдашних достижениях в области естествознания и политической мысли. Однако ждать от этой теории решения задач XX века было, мягко говоря, неосмотрительно. Марксизм унаследовал оптимизм эпохи Просвещения и вобрал в себя сциентизм XIX века. Одним из его основных положений была вера в то, что проблемы общества могут быть разрешены человеком. Применительно к историческому исследованию марксизм утверждал принцип холизма, т.е. приоритета целого по отношению к его составным частям, и принцип эсенциализма, т.е. требование вскрывать в объекте исследования самые существенные связи, которые в наибольшей степени определяют облик конкретного «целого». Маркс и его последователи понимали общество в виде развивающейся системы, где главным систематизирующим фактором является способ производства материальных благ. В советской исторической науке возникли облегченные представления о сложных проблемах. От историков требовалось особое мужество, чтобы признать своим учителем кого-либо из «буржуазных» ученых. Сторонник М. Вебера Д.М. Петрушевский предпочел молчать, чем давать клятвы новым вождям. На протяжении 20-х годов XX века еще предпринимались отдельные попытки противостоять догматизации. Так, А.И. Неусыхин пытался «перевести» на марксистский язык некоторые положения М. Вебера. В конце 20-х годов тот же Неусыхин с тревогой констатировал утверждение в советской науке такого подхода, который он называл «властью слов». Суть этого подхода в том, что если «Риккерт – то все с ним связанное – от дьявола. Все, 91 что от Маркса, уже тем самым хорошо не потому, что это хорошо, а потому, что от Маркса»22. Утверждение марксизма в исторической науке не было гладким процессом. Ломались судьбы тех, кто подвергался репрессии, и тех, кто приспосабливался. Характерна для того времени эволюция М.Н. Покровского. Сначала либеральный преподаватель, затем социал-демократствующий интеллигент, друг и соратник А.А. Богданова, левый коммунист, наконец, верноподданный сталинец, историографически обосновавший разгром старой профессуры. В 1933 году в связи с 50-летием со дня смерти К. Маркса прошли последние дискуссии перед окончательной победой марксистской теории и методологии. В учебники проникли социологические схемы и абстрактные определения. Постановление 1934 года, вернувшее в школы предмет истории, в какой-то степени восстановило прерванные традиции исторической науки. Появилась возможность исследовательской работы хотя бы в тех ее областях, где не было «запретных зон». Но в области теории положение было критическим. Восторжествовали антитеоретичность, фактографизм, беспроблемность, цитатничество и упрощение. Сталин фактически остановил работу над теоретическими и методологическими вопросами истории, взяв это дело исключительно на себя. Живой исторический процесс расчленялся на «организованные» потоки, история становилась черно-белой, без оттенков и полутонов. Советская наука была лишена международных контактов. И только в 1955 году в Риме на X Международном конгрессе историков впервые после долгого перерыва присутствовала советская делегация. После XX съезда КПСС начинается изучение фундаментальных проблем методологии, таких как своеобразие исторического познания, природа исторических понятий, методы, пути и принципы исследования. После всесоюзного совещания историков 1962 года стали развиваться краеведческая работа, охрана и изучение исторических памятников. Историки отказались от сталинских вульгаризаций и очевидных упрощений. Однако правильность марксистской концепции истории еще не подвергалась сомнению, сочинения Маркса и Ленина оставались методологическими основами. Исторический 92 процесс по-прежнему понимался как смена социальноэкономических формаций, а его основное содержание сводилось к борьбе классов. В узкой среде специалистов повторять устаревшие положения становилось неприличным, но дальше кулуаров критика не распространялась. Ослабление идеологической узды открыло исследователям массу спецхрановского материала. Возникла необходимость методологического освоения новых фактов и трактовок. В эпоху социально-экономического застоя произошел резкий мыслительный рывок: общая истматовская методология превратилась в завесу, под прикрытием которой стали развиваться культурология, социология, системный анализ, дававшие свежие методологические идеи исторической науке. В январе 1964 года философы и историки собрались на первую дискуссию по проблемам методологии истории. Ее материалы были опубликованы и стали своеобразным ориентиром для методологического поиска23. В Институте истории АН СССР был открыт сектор методологии истории, при нем начали работать творческие группы – теоретического источниковедения под руководством С.О.Шмидта, социальной психологии во главе с Б.Ф. Поршневым. Межинститутский семинар по вопросам структурного анализа и типологии истории вел М.А.Барг. Среди тех, кто начиная с того времени занимается теоретическими проблемами исторической науки, хочется выделить Арона Яковлевича Гуревича. Его работы переведены на два десятка языков и хорошо известны на Западе. Вклад А.Я. Гуревича в методологию истории начинался с переводов трудов школы «Анналов» и пропаганды взглядов историков этой школы. Кроме того, Гуревич разработал ряд проблем исторической психологии и исторической антропологии. Самая знаменитая его работа – «Категории средневековой культуры». В ней исследованы универсальные понятия, составляющие картину мира любого народа. Пафос исторического синтеза, присущий Гуревичу, отразился в задуманном и осуществленном издании «Одиссей: человек в истории». Историческая антропология, в понимании Гуревича, не новая частная наука, а скорее новое видение предмета истории. Признать человеческое содержание исторического процесса значит пересмотреть методологические 93 основы подхода историков к предмету изучения. Историкантрополог расширяет контекст, в который включается изучаемое им явление, его описание становится насыщенным и плотным24. Гуревич рассматривает историческое познание как диалог культур. История – это постоянно возобновляющаяся дискуссия. Особым образом Гуревич обозначил ответственность историка, назвав ее двоякой25. С одной стороны, это ответственность перед обществом, к которому историк принадлежит и в формировании исторического сознания которого он участвует, а с другой - ответственность перед ушедшими поколениями. Историк сопоставляет собственную картину мира с мировосприятием тех людей, историю которых он изучает. В ином ключе методологические проблемы решал и формулировал Михаил Яковлевич Гефтер (1918 – 1995 гг.). Он окончил истфак МГУ в 1941 году. Сразу же ушел добровольцем на фронт, был ранен. В 1964 году Гефтер создал и возглавил сектор методологии истории в Институте истории АН СССР. До 1970 года у него вышло более 100 работ. В 1969 году сектор был закрыт из-за издания сборника, в котором обсуждался ряд дискуссионных проблем26. Властям, взявшим курс на свертывание процесса десталинизации, пришлись не по вкусу две статьи в нем: статья Гефтера о долге Ленина перед народниками и статья Я.С. Драбкина о социальных революциях. Основным грехом Гефтера стало то, что он изобразил Ленина гибким теоретиком и политиком. А поскольку в журнале «Новый мир» появилась еще и статья Гефтера, где он осмелился поставить под сомнение само существование направления философской мысли под названием ленинизм, то его вообще перестали печатать. Добровольно (до срока) уйдя на пенсию, Гефтер основал диссидентский журнал «Поиски». Вновь печатать его стали только с 1987 года. Он учил постигать «былое без вычерков». Ему важнее было понять, чем объяснить. «История, - писал Гуфтер, - требует, чтобы историк задержался там, где она остановилась». В его творчестве доминировала метафора разорванного времени. В интервью швейцарскому радио на вопрос «Что значит для Вас история?» Гефтер ответил: «Это моя профессия и моя жизнь». История стала для него призванием, 94 т.е. профессией, совпавшей с жизнью. Он обладал искусством спокойного отношения к истории: к событиям и людям прошедших эпох относился не самоуверенно-снисходительно, а честно и сострадательно. В его книгах «акцентирована идея истории как интуитивного “схватывания” некоего, еще не прорефлектированного интеллектуального усилия»27. Образ истории, по Гефтеру, это черновик, запись, случай. Он лишает историю статуса закономерно постигаемого причинноследственного целого. Историк обречен на отказ от универсальной методологии. История – это «диалог живых с мертвыми». Она обречена быть гипотезой. Гефтер возражал против причисления истории к точным наукам, напоминая, что до этого ее хотели возвысить «Кратким курсом ВКПб». Тексты Гефтера – это одновременно и исследование, и публицистика, и импровизация художника, и проза мысли. Они – искусство вопрошания. Главный герой Гефтера – вопрос. Он определяет свой взгляд на историю, утверждая ее антропогенность и постоянное стремление преодолеть собственную ограниченность. Гефтер пишет о необходимости «раздвинуть изнутри предел самого историознания». Историки, по его мнению, должны всерьез обсуждать такие методологические проблемы, как предмет истории, ее границы во времени и пространстве, природа ее страстей и характер ее «смирительных рубашек» 28. Гефтеровский дискурс тяготеет к законченности каждого фрагмента, он стремится дать в тексте «все оттенки и все детали смысла». Гефтер не любил простых ответов. Даже на судебные повестки он отвечал трактатами, которые следователи подшивали к делу. Ключевое гефтеровское слово – интонация. Интонация слова, мысли, жеста. По складу ума он был необычайно близок к универсальной природе человеческого мышления. Разгон сектора методологии истории негативно сказался на развитии методологической мысли. Историки были обречены на бесконечное толкование «священных» марксистских текстов. Отдельные события при этом, конечно, происходили. Так, в 1970 году в Москве состоялся XIII Международный конгресс историков, отметивший, что историческая наука имеет свою собственную теоретическую сторону - не привнесенную извне, а 95 обусловленную собственным материалом. Однако лишь спустя два десятилетия пришло полное осознание методологического кризиса, распространившегося на «ремесло» историка. Симптомами упадка исторической науки в СССР стали описательность работ, традиционализм в постановке проблем, догматизм, примитивный экономизм, теоретико-методологическое иждивенчество, одновременно свидетельствующие о падении профессионального уровня историков. Произошло ли преодоление методологического кризиса к рубежу XX и XXI веков? На мой взгляд, кризис миновал. Меняются парадигмы и концепции, российская наука перестала быть изолированной, разработан целый ряд обоснованных моделей объяснения исторических явлений. Совершенствование исследовательской проблематики расширило диапазон исторического анализа, а главное - развивается антропологический подход, позволяющий относиться к людям как творцам истории. Пушкин А.С. Воспоминания // Соч.: в 3 т. М., 1986. Т. 3. С. 412. См. об этом: Шмидт С.О. Путь историка. М., 1997. С. 261. 3 Бердяев Н.А. Русская идея // Вопросы философии. 1990. № 1. 4 Аврус А.И. Власть и университеты в России // Диалог со временем. М., 2003. № 10. С. 212. 5 Грановский Т.Н. О современном состоянии и значении всеобщей истории // Полн. собр. соч. СПб., 1905. Т.2. С.66. 6 Гутнова Е.В. Тимофей Николаевич Грановский об исторической науке // Новая и новейшая история. 1989. № 4. 7 Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. М., 1987. С. 313. 8 Кареев Н.И. Отношение историков к социологии // Рубеж. 1992. № 3. С. 12. 9 См. о нем: Иллерицкий В.Е. Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980. 10 Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. Киев; Харьков, 1899. С. 27. 11 Там же. С. 73. 12 Русское слово. 1863. Кн. 11 – 12. С. 37. 13 Чернышевский Н.Г. Соч. М., 1986. Т. 2. С. 546. 14 Современник. 1858. №2. С. 170 15 Ключевский В.О. Соч. М., 1990. Т. 9. 16 Зубкова Е.Ю., Куприянов А.И. Ментальное измерение истории: поиски метода // Вопросы истории. 1995. № 7. С. 154. 1 2 96 Кареев Н.И. Основные вопросы философии истории. СПб., 1897. С. 137. 18 Золотарев В.П. Общая теория истории в понимании Н.И. Кареева // Новая и новейшая история. 2003. № 2. С. 36. 19 Кареев Н.И. Суд над историей // Рубеж. 1991. № 1. С. 26. 20 Кареев Н.И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 15. 21 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. 22 Диспут о книге Д.М. Петрушевского // Историк-марксист. 1928. № 8. С. 99. 23 История и социология. М., 1964. 24 Гуревич А.Я. История в человеческом измерении // НЛО. 2005. № 5. 25 Гуревич А.Я. Двоякая ответственность историка // Новая и новейшая история. 1997. № 5. 26 Историческая наука и некоторые проблемы современности. М., 1969. 27 Неретина С.С. Михаил Яковлевич Гефтер // Вопросы философии. 1995. № 7. С. 191. 28 Гефтер М.Я. История позади? Историк – человек лишний? // Вопросы философии. 1993. № 9. 17 Лекция 5. Европейские методологические поиски XX века Направление «философия жизни», основанное В.Дильтеем, продолжало влиять на историческое знание и в XX веке. Так, Освальд Шпенглер (1880 – 1936 гг.) полагал, что над картиной истории господствует не причинность, которая ей совершенно чужда, а судьба. Знаменитая книга Шпенглера «Закат Европы» имеет подзаголовок «Опыт морфологии мировой истории». Шпенглер отказался от деления истории по схеме: Древний мир – Средние века – Новое время. По его мнению, эта схема европоцентрична и отражает «тщеславие западноевропейского человека». Она порождает оптический обман, когда, например, китайская и индийская история многих тысячелетий сморщивается до эпизодических случаев, а десятилетия начиная с Лютера и особенно с Наполеона принимают призрачно-раздутый вид. Согласно Шпенглеру, историю высо- 97 ких культур, двигающихся по своим траекториям, следует рассматривать независимо от истории Европы. Шпенглер против применения категории человечества при анализе истории. Культуры суть организмы, а всемирная история – их общая биография. Историческое существование – это «потоки жизни» наций. Шпенглер не только выделил в истории отдельные культуры, но и вычленил в культурах эпохи и, обладая обширными историческими знаниями, наполнил их содержанием. Его схема духовных эпох позволяла по произведениям искусства, литературы и философии определить возраст любой культуры. Шпенглер разделял природу и историю как по предмету, так и по методу. В истории за фактами стоит «душа». Вот ее и нужно обнаружить, увидеть, понять. Для исторического исследования понять «душу» и постигнуть единство фактов будет означать одно и то же. Свой метод Шпенглер называл физиогномическим и определил его так: сочувствие, созерцание, сравнение, внутренняя достоверность и точная чувственная фантазия. «Существует ли логика истории? – спрашивал он, Возможно ли… отыскать те ступени, которые необходимо пройти?.. не лежат ли в основе всякого исторического процесса черты, присущие индивидуальной жизни?»1. Противоположность природы и истории Шпенглер понимал как противоположность различных картин мира, из которых одна основана на законе, а другая – на интуитивном образе. Взяв из биологии понятия гомологии и аналогии, Шпенглер считал гомологичными, т.е. морфологически равноценными, древнегреческую пластику и северную инструментальную музыку, пирамиды IV династии и готические соборы, индийский буддизм и римский стоицизм, походы Александра Македонского и Наполеона. А такие явления, как греческие дионисии и европейская Реформация, он признавал аналогичными, т.е. равноценными по функциям. Абсолютизируя прерывность исторического процесса, Шпенглер тем самым игнорировал непрерывность и поступательность этого процесса. Его взгляды существенно повлияли на представление об ограниченности европоцентризма. С. Аверинцев назвал Шпенглера сомнительным мыслителем и агрессивным дилетантом в области истории, однако 98 оценил его «острый, свежий глаз, какой бывает именно у способных дилетантов». По мнению Л. Февра, Шпенглер был «ловким и пленительным краснобаем», а его книга была «пузырьком политической микстуры с исторической этикеткой», читателями же книги были будущие ярые нацисты2. Это суждение было необоснованным – в политическом плане между Шпенглером и нацистами была глубокая пропасть. Шпенглер отклонил предложение Геббельса о сотрудничестве, порвал связи с архивом Ницше, протестуя против нацистской фальсификации его творчества. В книге «Годы решений» он обрушился на политику антисемитизма и пангерманские мечтания гитлеровцев. Н.И. Бухарин, выступая в Париже в 1936 году с докладом о проблемах современной культуры, утверждал: все, что есть разумного в рассуждениях Шпенглера, прямиком позаимствовано им у Маркса, особенно безусловно позитивная идея взаимозависимости самых различных аспектов общественной жизни, которая и придает морфологическое единство обществу3. Серьезным противовесом психологизму и релятивизму «философии жизни» стал подход баденской школы, в соответствии с которым только логический анализ может дать полное понимание возможностей исторического разума. Представители этой школы рассматривали историю как процесс освоения и осознания этических ценностей. Ее основатель, Генрих Риккерт, утверждал, что в истории нельзя обойтись без общих понятий, но исторические обобщения отличаются от естественнонаучных. «История, - считал он, - начинается там, где прекращается естествознание»4. У них различны познавательные цели, а следовательно, и методы. Историю Риккерт относил к описательным наукам. Он и его школа обстоятельно разработали проблемы ценностного подхода в исторической науке. Только после обоснования принципиальных различий между методами наук о культуре и методами наук о природе стало возможным зафиксировать роль проблемы в историческом исследовании, роль контекста в нем, а следовательно, роль функциональных связей в реконструкции картин мира. Эти аспекты теоретического развития исторической науки получили всестороннюю разработку в трудах гимназического и студенческого товарища Риккерта – Макса Вебера (1864 – 99 1920гг.), не во всем, однако, следовавшего учению баденской школы. Вебер родился в семье активного деятеля националлиберальной партии. В доме часто бывали партийные лидеры, министры, крупные ученые. Дети росли в обстановке политических дискуссий. В университетские годы Макс основательно занимался юриспруденцией, историей и экономическими науками. Серьезное нервное расстройство отлучило его от преподавания в университете на многие годы, но научные занятия не прерывались. Вебер занялся наукой на рубеже веков – время нуждалось в умах, способных к глубокому анализу. Вебер не считал себя теоретиком, он не создал какой-либо строгой системы, его методология далека от однозначности. Однако уже в период Веймарской республики, т.е. задолго до всемирного всплеска интереса к его наследию, совпавшего со 100-летием со дня рождения Вебера, его называли «интеллектуальным гигантом, извергающим ураган гениальности»5. Перечень последователей Вебера включает множество видных имен и производит впечатление справочника «Кто есть кто в социальных науках». Т. Парсонс переводил его книги на английский язык, Р. Арон – на французский. Одни историки рассматривали учение Вебера как альтернативу учения Маркса, другие отмечали их близость. Сам он считал своими духовными учителями мыслителей, прямо противоположных по воззрениям, – Маркса и Ницше6. Вебера не устраивал этатизм немецких историков и отсутствие у них концептуальных идей. Он хотел заменить филологический анализ текстов анализом социальноэкономических процессов и явлений. Понимая историю как историю культуры, Вебер исследовал проявление идеальных образцов, упорядочивающих общество. Он отказывался принять одну из существующих трактовок общества, как это делал Маркс. Вебер рассматривал экономические и неэкономические факторы на равных. Гораздо более важным для него была их синхронизация, которую он предпочитал именовать констелляцией (в астрономии – совпадение орбит планет). Вебер воспринимал теорию Маркса как систему эвристических гипотез, но решительно отклонял материалистическое объяснение истории. Еще более решительно он отрицал любые романтиче- 100 ские интерпретации истории, включая варианты «философии истории» и «философии жизни». Однако, высмеивая примитивный иррационализм Дильтея, он признавал его антинатурализм. Вебер стирает резкие грани, проведенные Дильтеем между объяснением и пониманием, а Риккертом – между индивидуальным и общим. Вебер низводил статус целостного представления об истории с уровня претензии на истинность до уровня претензии на общезначимость. Творчество Вебера было мостом между историографией и социальными науками. Он разработал понятийный аппарат гуманитарных и социальных наук. Понимание для Вебера было мотивационным объяснением поведения субъекта истории. У Дильтея «понять» и «объяснить» оторваны друг от друга. У Вебера «понять, значит объяснить», «объяснимо то, что понятно»7. Он полагал, что сложность и текучесть исторический явлений вполне допускает применение точных понятий. Особенно показательны в этом смысле веберовские типологии. Термин «идеальный тип» не был изобретен им, но только Вебер сумел доказать, что в основание идеальных типов положены вполне определенные ценностные предпочтения исследователей. Ценность для Вебера была способом мышления. История создается «способностью и волей» самого историка. Историческое познание, согласно Веберу, означало не «изображение» действительности, а мысленное ее упорядочение. Идеальный тип – это реальный методологический прием, аналог понятия «абсолютно черное тело», употребляемого в физике, инструмент познания, мысленный образ. Идеальный тип служит ориентиром, который позволил Веберу уменьшить пропасть между историей и социологией, разделявшую эти науки в представлениях Риккерта. Вебер подчеркивал несовпадение социологических понятий и исторической реальности, условность теоретических конструкций. Идеально-типические понятия были средством познания исторически-конкретного. Идеальный тип – это «интерес эпохи», выраженный в виде теоретической конструкции. Вебер выделял три самые общие картины мира – конфуцианское приспособление к миру, буддийское бегство от мира и европейское овладение миром, во многом базирующееся на протестантской этике. 101 Другим примером веберовской типологии является выделение им типов господства (рационально-правовое, традиционное и харизматическое) и типов социального действия (целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и аффективное). Эти типологии, представленные в работе «Хозяйство и общество», позволяли рассматривать историю как культурно-социальное взаимодействие людей. Главной тенденцией исторического процесса Вебер считал рационализацию, «расколдовывание» жизни, ставшее результатом констелляции ряда исторических факторов, по большей части случайных. В определенный период в определенном месте встречаются несколько феноменов, несущих в себе рациональное начало. В работе «Наука как призвание и профессия» Вебер настаивал на необходимости признавать «неудобные» факты, без чего наука не будет удовлетворять требованию общезначимости8. Ученый должен уметь «плыть против течения», если в этом есть необходимость. Недопустимо изолированное рассмотрение отдельных исторических явлений без включения их в обширные причинно-следственные взаимосвязи. При всей симпатии к процессу рационализации мира Вебер не исключал того, что степень иррациональности может увеличиваться на любых исторических этапах в определенных исторических ситуациях. Методологические искания Вебера содействовали поиску исторической истины, который в нацистские времена Германии был изрядно затруднен. Когда М. Вебер умер, траурную речь от имени студентов Гейдельбергского университета произнес Карл Ясперс (1883 – 1969 гг.). Пережив две мировые войны, став «Карлом Великим немецкой философии», Ясперс различал рациональность и историчность. Под рациональностью он понимал всеобщность, под историчностью – уникальность. Ясперс считал, что в истории не только прошлое определяет настоящее, но и настоящее определяет и прошлое, и будущее. Позиция Ясперса противостоит гегелевскому оптимизму. Вера в исторический разум превращает человека в «пленника истории», а не в ее властелина. Целое истории недоступно познанию. Ясперс отвергал претензии на объективность воспроизведения исторического процесса. Объективны только тексты. Они доступны бесконечным и 102 многообразным интерпретациям. Целостность истории домысливается историком через набор исследовательских операций, методологических схем, систем категорий. Для Ясперса, как и для Вебера, историческое самосознание людей имеет своей причиной их историческое существование. Если образ прошлого завершен, то он неверен. Ясперс стремился «сохранить сознание фрагментарности всякого познания… и оставить место для новых концепций, которые мы теперь даже не можем себе представить»9. По мнению Ясперса, важнейший вопрос исторической науки - не ранкеанский «как это в действительности было?», а «где мы в действительности находимся?». Иными словами, цель исторического знания – уяснение нашего настоящего. История – это ряд явлений, познаваемых с целью решения современных проблем. Книга Ясперса «Истоки истории и ее цель» увидела свет в период «холодной войны». Тема свободы была актуальной. Ясперс называл свободу целью истории. Развивая гегелевские идеи об исторической оси, под которой Гегель разумел рождение Христа, Ясперс вводил другой показатель «оси мировой истории» - рождение философской веры, произошедшее в так называемое «осевое время», между 800-ми и 200-ми годами до н.э. Появлению этой концепции способствовали веберовские исследования мировых религий. Осевое время, по Ясперсу, корень всей последующей истории человечества, ее духовное начало. Мир «осевых» идей, согласно Ясперсу, идентичен миру общечеловеческих ценностей. В этой схеме заключено одно из возможных объяснений единства мировой истории. Ясперс хотел понять историю как целое. До 60-х годов XX века в западно-германской историографии преобладал «индивидуализирующий» метод. Затем положение изменилось. Ведущие историки осваивали новые идеи и понятия, появившиеся в результате усложнения исторической науки. Т. Шидер, почти 30 лет редактировавший основной исторический журнал, писал, что сравнительноисторический метод дает возможность обрести чувство принадлежности к человечеству в целом, не потеряв чувства национальности. Его работы пронизывала идея исключительной социально-политической значимости исторической науки. Ис- 103 торическое сознание, подчеркивал он, способно восстановить непрерывность в человеческой истории. Тяга к обобщающей истории стала особенно характерна в 70-е годы XX века. Курсы теории исторической науки были введены в университетские программы. Историю понимали как череду жизненных форм, как самоистолкование человека. Особенное внимание историки ФРГ уделяли проблеме исторических понятий. Многочисленные издания в этой сфере восполняли некоторый «дефицит теории». В 1968 году был переиздан полузабытый труд Норберта Элиаса «О процессе цивилизации», стимулировавший интерес к историко-антропологическим подходам, к малым жизненным мирам. Заметным и перспективным течением стала «история повседневности», воспринятая как «альтернативная историография», как протест против того, что М.Вебер назвал рационализацией общественной жизни. Возник интерес к микроистории, к новым темам и сюжетам. Для историка повседневности микроистория становилась методом, позволявшим понять то «нормальное исключение», мимо которого проходил традиционный историк. Микроистория концентрировала внимание на способе, каким люди воспринимали и интерпретировали окружающий мир. Сужение поля наблюдения позволяло качественно расширить возможности исторического познания. К середине 90-х годы XX века обозначился германский вариант интеграции микро- и макроподходов, предложенный историком М. Дингесом, разработавшим теорию стиля жизни. Появились «дифференцированные модели» объяснения прошлого с последующим синтезом результатов разноуровневых толкований10. Наиболее интересные теоретические разработки с применением культурно-антропологического метода были сделаны Йорном Рюзеном, назвавшим историческую науку «культурно населенным местом обращения к прошлому». В «дисциплинарной матрице» исторической науки Рюзен выделил ряд принципов и стратегий, достаточных для утверждения исторического мышления в качестве рационально выработанной формы исторической памяти. Историческая наука для него – это синтезированное обращение к прошлому в трех различных измерениях: эстетическом, политическом и познавательном11. Под 104 редакцией Рюзена вышла серия книг «Придавая смысл истории». В предисловии к ней он подчеркнул, что сам термин «история» вызывает в уме человека весьма амбивалентные ассоциации. Серия призвана соединить историческую теорию и конкретные исторические исследования, чтобы высветить перспективу феномена «глобальная историческая память». ** * На филологических факультетах французских университетов по-настоящему начали преподавать историю только на рубеже 80-х годов XIX века. Именно тогда во Франции и появилась профессия «историк». Французские профессора переживали по поводу отставания Франции от «немецкой эрудиции», упрекая своих предшественников в том, что они были не столько учеными, сколько художниками. Так, Анри Берр с чувством восхищения и зависти отмечал, что «за Рейном» теоретическими проблемами исторической науки занято более 50 профессоров, читающих в университетах общие и специальные курсы по методологии истории и широко публикующих свою научную продукцию, о чем их французские коллеги не могут даже мечтать. Большинство французских историков, по его мнению, никогда не размышляло о природе исторической науки, ограничиваясь установлением и описанием фактов. А. Берр попытался осуществить собственный исторический синтез. Этому благоприятствовало быстрое накопление фактического материала. Рост количества выявленных источников усложнял проблематику исторической науки. Необходимо было различать основные и второстепенные факты, выработать критерии их отбора. Берр считал главной движущей силой исторического процесса развитие духовного начала в человеке. Он предложил свою классификацию исторических фактов, в которой одни, случайные, по его определению, составляют текущий, неустойчивый элемент истории, другие же, необходимые, создают основу исторического процесса. Берр в то же время не отказывался от исследования факта, признавая необходимость исторической эрудиции. 105 И для обнаружения фактов, и для вскрытия их сущности Берру представлялась целесообразной новая организация науки. На основе личных контактов ученых он планировал сближение истории с другими науками о человеке – антропологией, биологией, демографией, географией, социологией и философией. В 1911 году в работе «Синтез в истории» А. Берр писал: «История в общем и целом – это сама психология, это рождение и развитие психики»12. Задуманная им серия «Эволюция человечества» должна была объяснить способы человеческого поведения. В этой серии вышло более сотни книг, в центре внимания которых находилась социальная и умственная жизнь. В 1924 году Берр организовал Международный центр синтеза, в правление которого входили крупные ученые различных специальностей. С 1929 года им были учреждены «недели синтеза», на которые приглашались ученые разных стран и профессий для обсуждения таких тем, как «Цивилизация», «Индивидуализм», «Толпа», «Понятие прогресса», «Наука и закон», «Материя», «Жизнь» и др. Школа синтеза не могла обрести контуров строгой науки, но способствовала появлению новых подходов и методов. Многие представители французской интеллигенции выражали неудовлетворение состоянием исторической науки, ее неспособностью ответить на запросы современности. Французский поэт и публицист Поль Валери писал, что современным представлениям о развитии человечества больше не соответствуют «старая историческая геометрия и старая политическая механика». У историков нет подлинно научного метода, история – «ужасная мешанина», содержащая в себе все и вся. Она ничему не учит. История, по Валери, это самый опасный продукт, выработанный химией интеллекта. Она заставляет мечтать, опьяняет народы, вызывает у них ложные воспоминания, напоминает о старых ранах, способствует появлению у них мании величия и мании преследования. История делает нации желчными, высокомерными, нетерпимыми и тщеславными. В атмосфере такой теоретической растерянности и пессимизма несколько французских историков не поддались общей панике, сохранили оптимизм и веру в возможности исторической науки. Марк Блок и Люсьен Февр начали в Страсбургском университете издавать новый исторический журнал, название 106 которого несколько раз менялось, но во всем мире известно краткое название «Анналы». С 1999 года «Анналы» имеют подзаголовок «История и социальные науки». Основатели журнала были полны решимости избавить историческую науку «от рутины учености и от эмпиризма в обличье здравого смысла». Блок и Февр повторяли как заповедь: «мыслить проблемами!». Журнал видел опасность в событийной истории, в позитивизме, ориентированном на коллекционирование эффектных исторических фактов – великих битв и важных решений правителей. «Анналы» стали крупнейшим интеллектуальным вызовом XX века, продемонстрировав новое историческое сознание. «Анналы» были связаны с деятельностью А. Берра. М. Блок входил в историческую секцию Международного центра синтеза, а многотомная серия, задуманная Берром, открывалась книгой Л. Февра «Земля и эволюция человечества». В какой-то степени «Анналы» испытали и влияние марксизма. Л. Февр писал о марксистской манере мыслить, проникшей в сознание многих, даже не читавших Маркса. Он и его ученики видели в марксизме мощную систему социального анализа, считали, что «немного марксизма» полезно исторической науке. Школа «Анналов» претендовала на нечто, подобное тому, что Марксом было сделано в XIX веке. XX век ставил новые проблемы: «Читая некоторые книги по истории, - писал Блок, можно подумать, что человечество состоит исключительно из людей с логически построенной волей, для которых причины действия никогда не составляют ни малейшей тайны»13. М. Блок назвал историческую науку «наукой об изменениях», поскольку ее результаты никогда не повторяются идентичным образом. «Анналы» разрушали традиционно жесткую связку, характерную для позитивизма: «историк – источник». Как отметил Л. Февр, познания наши превысили меру нашего разумения. Блок предостерегал от наивно-упрощенного понимания роли фактов в процессе исторического исследования: «…тексты или археологические находки, внешне даже самые и податливые, говорят лишь тогда, когда умеешь их спрашивать». По словам Февра, описать то, что видишь, нетрудно, трудно увидеть то, что должен описывать. Отцы-основатели журнала выдвинули новую концепцию деятельности историка: историк – не раб источника, 107 он действует активно и суверенно. Он ставит проблему, которая определяет отбор материала и угол зрения на него. Возможно, что Блок и Февр были знакомы с учением Риккерта о роли ценностей в истории, в любом случае они исходили из таких же мотивов, определяя свое отношение к истории. Книга Блока «Феодальное общество» стала манифестом в защиту социальной истории. Общество было для него самоценным объектом изучения, история под его пером становилась историей людей в обществе. Февр писал о Блоке, что он «был великим историком не потому, что накопил большое количество выписок и написал какие-то научные исследования, а потому, что всегда вносил в свою работу ощущение жизни, которым не пренебрегает ни один подлинный историк»14. Согласно Блоку, свое обладание временем историк должен сочетать с обладанием пространством, присущим географии. Блок призывал историка постоянно заниматься сравнением и во времени, и в пространстве. Одна из особенностей «Анналов» - внимание к человеческому сознанию, как индивидуальному, так и массовому, присущему «безмолвствующему большинству». В работе Блока «Короли-чудотворцы» были поставлены проблемы изучения политической психологии. Он и Февр ввели в историческую науку понятие «менталитет», ранее употреблявшееся только этнологами, изучавшими первобытное мышление, в котором бессознательное превалировало над сознательным. Впрочем, Блок не был готов к широчайшему применению этого термина – в письме к Февру от 6 мая 1942 года он назвал ментальность посредственным термином, употребление которого приводит «к ошибкам, как явствует из противопоставления этого термина… понятию “чувствительность”»15. Обращение к исторической ментальности было для «Анналов» протестом против засилья экономической и политической истории. С помощью этого понятия ниспровергались прежние, традиционные, представления об истории, синтез противопоставлялся «комодной» истории. Понятие «менталитет» должно было отразить тот пласт сознания, который постоянно ускользал из поля зрения историков. Исследование менталитета не было самоцелью – важно было 108 выявить мотивы поступков, а значит, понять эпоху как бы из нее самой. Многочисленные проекты по изучению истории ментальностей появились и в огромном количестве стран. Но уже в 70-е годы, т.е. на пике популярности, эта модель культурной истории оказалась объектом основательной критики. Встал вопрос о неспособности истории ментальностей различать культуру, навязанную народу, и культуру, непосредственно порожденную низами в результате их собственного социального опыта. К концу XX века теория ментальностей была отброшена серьезными историками во Франции, Европе, мире. Блок и Февр до этого не дожили. Блок был расстрелян фашистами 16 июня 1944 года. Февр возглавлял «Анналы» до середины 50-х годов Он указал на одну из самых больших трудностей, с которой сталкивается историческая психология: действительно ли эмоциональная атмосфера некоторых исторических периодов характеризовалась большей интенсивностью чувств, большей жестокостью и насилием, чем атмосфера других периодов. Февр предостерегал от приписывания другим эпохам психологии, основывающейся на современных формах чувственности. Возможно ли, спрашивал он, применять психологические модели комфортабельного XX века к векам, знавшим долгие периоды страшного голода, эпидемий, к векам, когда люди просыпались и засыпали вместе с восходом и закатом солнца, страдали от избытка жары и холода. Он высмеивал биографии фараонов, изображавших их современными людьми, наряженными в театральные костюмы древних египтян. Февр часто утверждал, что воспроизведение «чувственности» (ментальности) прошлых эпох является главной целью историка, достижению которой должны быть подчинены все его другие усилия. Научная методология Блока и Февра не была идентичной. Блок – социальный историк, его главная категория – общество. Февр – историк культуры и психологии, его основные категории – эпоха и цивилизация. В цивилизации воплощено единство всех сторон материальной и духовной жизни. Каково соотношение разных факторов в историческом процессе? Февр полагал, что в центре интересов историка должен быть человек как су- 109 щество, обладающее психикой, мыслями, чувствами. Он даже критиковал Блока за «социологизм». Блока интересовал человек в обществе, Февра – человек в цивилизации. У Блока - социологический подход, у Февра – эволюционный. И тот и другой подход выражали обостренный историзм основателей школы «Анналов». Второе поколение историков этой школы возглавил Фернан Бродель (1902 – 1985 гг.) – один из крупнейших историков современности. В 1940 – 1945 годах он находился в лагерях для военнопленных. Не имея под рукой никаких материалов, но обладая феноменальной памятью, он много работал, исписывал одну тетрадь за другой и через швейцарский Красный Крест пересылал их Л. Февру. Так было подготовлено одно из увлекательнейших сочинений Броделя16. Книга о мире Средиземноморья включала исследование проблем пространства и власти, пространства и экономики. Самыми сложными и противоречивыми персонажами средиземноморской истории Бродель называет цивилизации – они одновременно и подвижны, и устойчивы. Уже в этой работе Бродель начал разрабатывать теорию многоступенчатой исторической структуры, выделив три слоя: структурный, конъюнктурный и событийный. Основное понятие, введенное Броделем, – длительная временная протяженность (долговременная перспектива), иначе – географическое время. Длительность событий по этой шкале измеряется в эпохах. Шкала социального времени позволяет измерять продолжительность событий в экономике, истории отдельных государств и цивилизаций. Еще мельче шкала индивидуального времени – истории событий в жизни того или иного человека. Любая современность, согласно Броделю, включает в себя все эти ритмы, т.е. «сегодня» началось одновременно вчера, позавчера и «некогда». Высшим достижением школы «Анналов» стал трехтомный труд Броделя «Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVIII веков». Автор осуществил в нем исторический синтез всех сторон жизни общества. В первых двух томах Бродель провел типологическое исследование материальной повседневности и рыночной экономики, в третьем – представил экономическую жизнь человечества в хронологиче- 110 ской последовательности. Эмоциональность и красочность описания сочетались с глубоким анализом. Бродель добился зрительного эффекта полноты и насыщенности «структур повседневности». Его видение мира было материалистическим вариантом объяснения истории. Бродель был близок к марксистскому анализу, но не принимал идею господствующей роли базиса. В отличие от Блока и Февра Бродель пренебрегал идеологией, религией и культурой. Методологически он был сторонником широчайших обобщений, но как историкисследователь оставался «искателем жемчуга», полагая, что событие – это «звонкая новость», и в основу исследования кладя архивы. Бродель заложил теоретические основы геоистории. География переставала играть роль вспомогательной по отношению к истории дисциплины, сливалась с ней. Это создавало ощущение новизны, к которой так стремился Бродель, убежденный в том, что «социальную дичь поймать не так просто»17. В геоистории экономическое, историческое, географическое растворялось в социальном целом. Бродель рассматривал историческое объяснение скорее как ответ на вопрос «как?», а не на вопрос «почему?» Объяснять, согласно ему, значит открывать отношения между пульсом материальной жизни и всеми остальными проявлениями человеческой истории. Диалог историков и социологов он называл «диалогом глухих», отвергал всякую «социологию прогресса, социологию порядка», не принимал понятия «непрерывность общественного движения», ведущего якобы к идеальному состоянию общества. Теории, по Броделю, это инструменты, рабочие гипотезы, не более того. Много споров вызывала броделевская идея глобальной или тотальной истории. Она связана прежде всего с идеей большой длительности, но более всего предполагала объемное изображение. Тотальная история не означала всемирной истории. Она могла быть вполне локальной, но означала наблюдение в разных ракурсах, с максимально возможных точек наблюдения. «Проблемный императив» Броделя заключался в том, что рамки исторического исследования задает не регион, а проблема, избранная историком. Мимоходом и неодобрительно Бродель употребил и слово «микроистория». Однако историки 111 признали этот термин и легко сменили иронический, негативный акцент на позитивный. Современная французская микроистория в какой-то степени усвоила броделевскую тотальность, перенеся ее на малый сюжет или объект. Независимо от масштаба анализа выявляется связь между исследованием индивидуального поведения и изучением институциональных отношений. Признание идеи тотальной истории привело к появлению еще одной модификации – «серийной истории». Это история повторяющихся фактов, настойчиво изгоняющая достатистический материал. Основоположником этой школы, именуемой еще школой количественной истории, стал ученик Броделя Пьер Шоню, профессор Сорбонны. Он понимал цивилизацию как «пространственно-временную локализацию диалога культур». Так, суть европейской цивилизации, по его мнению, составляет «диалог разностей». В историю он включает историческую демографию и историю науки18. С момента принятия христианства Шоню не видит разрывов в европейской истории. Циклический план истории для него второстепенен. История – это постоянное накопление и рост сил: ритм технических инноваций, динамика рождаемости, движение цен, эволюция нравов. Историки школы «Анналов» называли свое творчество «новой исторической наукой». Элемент новизны был не только в новых идеях и новых связях с другими науками. Возникла новая концепция документа как манускрипта, которому необходимо найти его место в археологии знания. Новое отношение к источнику предусматривало его деконструкцию и строилось на представлении о том, что любое свидетельство человеческой деятельности, в том числе медицинские документы, содержащие сведения о группах крови, или формы распаханных и нераспаханных полей могут стать источником для историка. Если основатели школы пренебрегали политической и событийной историей, то со временем, когда «тирания традиционной истории» была повержена, произошел возврат к политической истории, но сопровождавшийся включением в нее проблематики, методов разных общественных наук и привнесением их духа. Характерным примером переоценки методологического багажа «Анналов» стали труды Ж. Ле Гоф- 112 фа. По его мнению, явления культуры составляют большую часть той сферы, которую традиционно называют политикой. Ле Гофф восстановил достоинство политической истории как истории власти19. Говоря о необходимости расширения перспектив политических исследований в сфере разработки методов, терминов и понятий, он называл современную политическую историю, оплодотворенную политической социологией и политической антропологией, «ядром» истории. Постоянным оппонентом школы «Анналов» был французский философ Раймон Арон. Еще в 1938 году он пытался доказать, что никакая историческая школа не может выйти за пределы субъективности. Арон видел в мировой истории «смесь героизма и глупости». Находясь под сильным влиянием М. Вебера, Арон дал анализ категорий понимания, объяснения и интерпретации исторического прошлого, соотношения социальной и исторической причинности. Его интересовали проблемы границ исторического познания. Историческое познание, по Арону, есть реконструкция того, что было, через то, что есть. История для него – единый процесс, но люди все больше отчуждаются друг от друга. История должна понять человека, его замыслы и настроения. Адекватность исторического познания зависит от познающего субъекта. Ученик Р. Арона историк Анри Марру утверждал, что историческая литература содержит много ложной истории, псевдоистории, неистории. В книге «Об историческом познании», выдержавшей около десяти изданий, Марру писал, что время философской невинности для историков миновало. Его взгляды напоминали концепции Дильтея: историческая истина субъективна, историческое познание начинается с поставленного вопроса. Марру писал об интеллектуальной близорукости позитивистской эрудиции, довольствующейся накоплением фактов в блокнотах. Он выразил познание человеческого прошлого формулой h=P/p, где числитель означал прошлое, а знаменатель – настоящее. История, по Марру, есть отношение прошлого, пережитого предшествующими поколениями, и настоящего, когда усиливается стремление восстановить прошлое в пользу современного человека. Историк должен быть 113 человеком, открытым всему человеческому, а не кабинетной крысой или картотечным шкафом. Еще один поклонник Р. Арона – историк Поль Вен. История для него - это вопрос понимания, роман, основанный на реальных событиях, метод – это опыт. Историческое объяснение он называет пониманием20. История, по Вену, рассказ о подлинных фактах, а не о правдоподобных, как в романе, или неправдоподобных, как в сказке. П. Вен считает, что собственно исторического метода не существует – есть критический подход. При следовании ему для одного дня синтеза нужно десять лет анализа. Факты имеют объективную взаимосвязь, но историк свободен в выборе сюжета, внутри которого структура фактов естественна и неизменна. Теория – это краткое изложение интриги. ** * Анализ работ английских историков также позволяет обнаружить противоположные взгляды на теоретические и методологические проблемы исторической науки. Одни считают, что история имеет дело с уникальными событиями, другие отрицают их уникальность. Одни настаивают на объективной истине, другие - на субъективной. Одни видят в истории хаос, другие – закономерность. Одни дифференцируют историю, другие ее интегрируют. Среди тех, кто категорически отрицал возможность уроков истории, наибольшей известностью пользовался нобелевский лауреат, философ и писатель Бертран Рассел (1872 – 1970 гг.). Его относили к ста наиболее влиятельным личностям XX века. Биографы отмечали его сходство с Вольтером по массовости читательской аудитории, блистательности и изящности прозы, восхитительному чувству юмора. К истории он относился с иронией, полагая, что всемирная история – это сумма всего того, чего можно было бы избежать. Там, где господствует случай, науке места нет. Иронизируя, например, над принципом причинности, Рассел построил парадоксальную концепцию причин промышленной революции: индустриализм вызван современной наукой, современная наука восходит к Галилею, Галилей к Копернику, Коперник – к Ренессансу, Ренессанс вызван падением Константинополя, последнее 114 – миграцией турок, а она – засушливым климатом Центральной Азии. Следовательно, считает Рассел, основной научной дисциплиной, необходимой для поиска исторических причин, является гидрография. История, согласно Расселу, сплошной хаос, беспорядочная игра идей и инстинктов. Ее можно только заставить казаться научной с помощью фальсификаций и умолчаний. История, по его словам, только помогает пережить глупость сегодняшнего дня посредством ссылки на такую же глупость вчерашнего. Для исторического повествования важны не точность и объективность, а живость и занимательность. Фундаментальным историческим понятием он считал понятие власти, аналогичное понятию энергии в физике. Только осознав, что стремление к власти движет человеческой деятельностью, можно адекватно объяснить историю, как древнюю, так и современную. Прямое обращение британских историков к проблемам методологии истории было связано с влиянием итальянского мыслителя Бенедетто Кроче, усвоившего идеи Дильтея и Риккерта. Кроче настаивал на единстве исторического процесса, считая, что политика неразрывно связана с культурой. Он полагал, что позитивистская методология находится на уровне культуры учителей начальной школы. Всякая истинная история, по его мысли, есть «современная история». Истинный историк ищет в прошлом ключ к пониманию настоящего. История – это интерпретация прошлого в терминах настоящего. Смысл истории – в ее достоверности. Она должна быть критическим осмыслением документа, основанным на интуиции и размышлении. Если нет проблемы, то нет ни возможности, ни необходимости ее решать. Кроче полагал, что «осмысление истории включает в себя ее периодизацию, поскольку мысль есть организм, диалектика, драма и, как таковая, имеет периоды: начало, середину, конец»21. На английский язык книги Б. Кроче переводил британский историк Робин Коллингвуд (1889 – 1943 гг.). Среди них была и книга о Дж. Вико. Собственные методологические воззрения он выразил в книге «Идея истории», где противопоставил историю естествознанию, определив ее как историю мысли22. История для Коллингвуда - это попытка ответить на вопрос о человече- 115 ских действиях, совершенных в прошлом. История научна, гуманистична, рациональна. Она служит самопознанию человека. По Коллингвуду, вопрос, которым занят историк, должен «возникать», а не задаваться произвольно и бессистемно. Талант ученого проявляется в искусстве задавать не всякие, а именно «надлежащие» вопросы. История, согласно Коллингвуду, проникает в душевный мир других людей. Одним из принципов его философии истории была идея живого прошлого. Прошлое продолжает жить в настоящем, историк имеет дело не с событиями, а с процессами, у которых нет ни начала, ни конца, поскольку они превращаются друг в друга. Начинаются и заканчиваются исторические книги, но не процессы, о которых они рассказывают. Историческая картина, по Коллингвуду, должна быть локализована в пространстве и времени – это первое правило историка. Второе – его история должна быть внутренне согласованной, третье – историческая картина должна быть очевидной. Понятием очевидности Коллингвуд, скорее всего, заменяет понятие истины. Смысл и пафос концепции Коллингвуда – в обосновании познаваемости исторического прошлого. Для английского читателя, в массе своей разделявшего скептическое отношение Рассела к претензии истории на научность, идеи Коллингвуда были необычны и новы. Огромное влияние на историческое познание оказали взгляды английского философа австрийского происхождения Карла Поппера (1902 – 1994 гг.). Он показал, что в истории человечества сменяют друг друга «закрытые» и «открытые» социальные системы. Путь любой науки представлялся ему движением от одной гипотезы к другой, поэтому тотальную историю он называл мифом. Поппер различал два подхода к истории – собственно исторический, оцениваемый им как научный, и историцистский, который искажает реальную историческую картину. Словом «историцизм» Поппер обозначал подход, при котором основной целью исследования является историческое предсказание. Такая цель достигается путем открытия «ритмов», «моделей», законов, якобы лежащих в основе исторического развития23. Поппер полагал, что такие предсказания относительно неповторимого процесса, каковым является история, лишены логического основания: в научном смысле по- 116 нятие закона исторического развития существовать не может. Исторический процесс уникален. Схема попперовской критики закономерностей такова: вопервых, законов исторического развития не существует; вовторых, если они и существуют, то непознаваемы; в-третьих, если они познаваемы, то тривиальны и ничего не объясняют. Опровержение историцизма Поппер строил на следующих принципах: во-первых, ход человеческой истории зависит от роста знания; во-вторых, используя научные методы, мы не можем предсказать, каким будет рост научного знания, следовательно, не можем предсказывать ход истории; в-третьих, необходимо отвергнуть возможность теоретической истории. Разговор о смысле истории Поппер признавал «интеллектуальной ошибкой». Книгу о «Нищете историцизма» Поппер посвятил памяти жертв «фашистской и коммунистической веры в Неумолимые Законы Исторической Неизбежности». Гегеля он считал ответственным за появление марксизма как «наиболее разработанной и опасной формы историцизма». Поппер был убежден, что холистский стиль мышления (идет ли речь об обществе или природе) не представляет собой высший уровень в развитии мышления, а характеризует его донаучную стадию. Он отвергал холистскую идею о том, что общество может двигаться как «нечто целое, скажем, как планета». Поппер не сомневался в существовании тенденций в истории общества, но не соглашался видеть в них законы. Нищета историцизма, на его взгляд, наиболее наглядно проявляется в нищете воображения. Историцист не может представить какихлибо изменений в самих условиях исторического изменения. Отрицая исторические законы, Поппер признавал законы социологические, понимая под ними не «гипотетические законы эволюции» и не «психологические регулярности человеческого поведения», а законы, которыми оперируют экономические теории, например, теория международной торговли или теории экономических циклов24. При этом социологические законы, на его взгляд, «формулируют это в очень смутных терминах и допускают, в лучшем случае, очень приблизительное измерение»25. 117 Задача истории, по Попперу, в том, чтобы анализировать отдельные события и объяснять их причины. Предмет исторического исследования неисчерпаем, поэтому история объяснима лишь на основе «ситуационной логики». Двигателем истории, согласно Попперу, является знание. Смысл бытия – это самоосвобождение посредством знаний, которое приведет к открытому плюралистическому обществу. Поппер не отрицал определенной повторяемости в истории, но полагал, что сравнение повторений не дает закона, а лишь позволяет описать типы. Исторические науки занимаются поиском и проверкой единичных суждений. Существующие доктрины и теории Поппер называл «точками зрения» и не более того: «историческая интерпретация является по преимуществу точкой зрения, ценность которой состоит в ее плодотворности, в ее способности пролить свет на имеющийся исторический материал, побудить к открытию нового материала, помочь осмыслить и обобщить его»26. Исходным пунктом научной работы Поппер считал не сбор фактов, а «проблемосозидающее наблюдение», как результат возникновения «напряжения между знанием и незнанием». Историцистами Поппер называл не только Платона, Гегеля и Маркса, но и своего современника, талантливого историка Арнольда Тойнби (1889 – 1975 гг.), создавшего оригинальную систему цивилизационного анализа человеческой истории. Главную функцию исторической науки Тойнби видел в диагностировании моральных и политических проблем современного общества. Говоря о смене цивилизаций, Тойнби отмечал, что общество, ориентированное только на традиции, обречено на гибель, ориентированное только на сегодняшний день – на застой, и лишь общество, ориентированное на будущее, способно к развитию27. Свой путь в науке Тойнби начинал как историк античности, однако уже первая мировая война внесла существенные коррективы в его научные интересы. Осмысление итогов войны привело его к пессимистическим выводам в отношении перспектив западной цивилизации. По мнению Тойнби, изучение истории каждого общественного образования «требует своего понятийного аппарата и своих подходов»28. По степени читательского внимания с трудами Тойнби в конце 40-х – начале 60-х годов XX века на Западе не могло кон- 118 курировать никакое историческое сочинение других авторов. Работы Тойнби давали западному интеллектуалу то, чего не могли дать узкие специалисты-историки – целостную картину исторического прошлого. В последнем, 12-м, томе своего труда Тойнби назвал более сотни отзывов на предыдущие тома. «Умопостигаемой единицей исторического исследования» Тойнби определил локальную цивилизацию, противопоставив ее истории отдельных государств. Если Шпенглер, создавая схему развития цивилизаций, не выходил за пределы философских обобщений, то Тойнби заявил о себе как об историке, способном на базе обширнейшего эмпирического материала обозначить закономерности мирового исторического процесса. Отвергая жесткий детерминизм, он показал вероятностный характер исторических закономерностей29. Идея единства истории как «истории людей» отличала тойнбианский циклизм от вульгарно-позитивистского циклизма Шпенглера, пытавшегося разрешить сложнейшие исторические проблемы посредством проведения биологических аналогий. У Тойнби значительно более сложное представление о структуре истории, чем у тех сторонников цивилизационного подхода, кто разрывал историю на замкнутые круги. Его стремление создать всеохватывающий синтез истории диктовалось и ситуацией, сложившейся в исторической науке: она плодила шедевры трудолюбия, которым недоставало веяния живого человеческого духа. Тойнби мыслил историю как противоборство тенденций, разъединяющих и объединяющих человечество. Он был против сужения сферы исторического, доказывал, что все в мире исторично, выделял три значения «истории»: в широком смысле – мир в движении во времени; в узком смысле - мир человеческих явлений; еще в более узком смысле – общественная деятельность человека. История, по Тойнби, это коллективный опыт человечества. Цивилизация – это не столько географическая или этническая реальность, сколько духовная общность людей. Характерные признаки цивилизации – особый стиль в искусстве и особые линии активности: в Индии – религиозная, в эллинском мире – эстетическая, в Западной Европе – технологическая. Концепция «вызова и ответа» позволяла объяснить динамику 119 развития цивилизаций. «Вызов» - это и природные катаклизмы, и внешние угрозы, и внутренние конфликты. Каждый «ответ» предполагал новые «вызовы», иначе цивилизация деградировала. «Ответ» дается «творческим меньшинством», при ошибочных решениях «наступает надлом», в ходе которого творческое меньшинство превращается в господствующее. Тойнби казалась неприемлемой и морально ущербной канонизация истории одной страны. Л. Февр иронически назвал мировоззрение Тойнби «космическим оптимизмом». Борьба Тойнби против европоцентризма была чрезмерна для многих историков, увлеченных «национальной историей» или «историческим преимуществом Европы». В 50-е – 60-е годы XX века в Англии набирает обороты движение за обновление теоретико-методологических оснований исторической науки. На вызов оксфордского профессора А. Тойнби ответил кембриджский историк Э. Карр, известный своими советологическими изысканиями, автор многотомной истории советской России, а также работ о Достоевском, М. Бакунине и К. Марксе, учение которого он назвал «учением фанатизма». Карр прочел студентам лекционный курс «Что такое история?» и издал его текст, почти сразу же переведенный на другие европейские языки. Карр не полемизировал с Тойнби, скорее, он продолжил то, что было начато Коллингвудом, а именно разработку теории исторического познания. По мнению Карра, все жалобы на кризис и поиски «новых путей» вызваны тем, что историки во все времена и поныне «поклоняются идолу фактов». По его образному выражению, историк выбирает факты, как рыбу в лавке торговца, и приготовляет их по своему вкусу. Карр выступил против фетишизации источников и фактов. В каждый факт входит субъективный момент – интерпретация. Мы смотрим на прошлое через настоящее. Знаменитую формулу Ранке Карр называл «ностальгическим романтизмом». В природе и обществе, пишет Карр, имеются как сложные явления и вещи, так и простые. И история, и социология должны заниматься и теми, и другими. При этом чем в большей степени история становится социологичной, а социология историчной, тем лучше для обеих. Карр верил в исторический 120 прогресс, был убежден в возможностях исторической науки. Содержанием прогресса, согласно его концепции, становится «экспансия разума», «возрастание человеческих возможностей». Карр внимателен к проблеме соотношения субъективного и объективного в историческом творчестве. Историк – сам продукт истории, он несет на себе печать определенных социальных и политических форм. История, по Карру, - это прежде всего интерпретация: «…историк должен понимать духовное состояние своих персонажей и идей, которые стоят за их действиями… историк только тогда может писать историю, когда он в состоянии вступить в контакт с идеями тех, о ком он пишет»30. По его мнению, даже самые радикальные и мятежные личности были продуктами того общества, в котором существовали. «Трудно, - пишет он, - найти человека, который бы реагировал на современное ему общество ожесточеннее, чем Ницше. Однако Ницше сам был продуктом европейской и еще более специфично немецкой истории, т.е. феноменом, немыслимым для Китая или Перу»31. Карру казалось существенным увидеть в великой личности выдающегося индивидуума, результат и одновременно подручного исторического процесса. С этим связано и его представление о двойной задаче исторической науки: дать человечеству возможность понимать ушедшее общество и улучшать общество существующее. Аргументы Карра в пользу прогностической функции истории сводятся к тому, что любые законы проявляют себя как тенденции: «Гравитационная теория не доказывает, что какое-то определенное яблоко упадет на землю, что кто-то может положить его в свою корзину. Оптический закон о прямолинейном распространении света не доказывает, что определенный луч света не может быть разрушен или рассеян встретившимся объектом»32. Так и в истории – историк не может предсказать специфическое событие, но вывод о вероятности каких-то процессов им может быть сделан. Иначе говоря, для Карра существенна диалектика общего и особенного, универсального и единичного. Изучение истории – это изучение причин. История, для Карра, - это изменение и движение. В последующие десятилетия в английской историографии произошло существенное расширение предметного поля иссле- 121 дования. Историки отказались от примата политической истории. Преимущественное развитие получила социальная история. Историки привлекали методы социальных и гуманитарных наук. Процесс сциентизации истории позволял сместить внимание с особенного на всеобщее, с событий на структуры, с описания на анализ. Повысился уровень понимания исторического процесса и путей его познания. Происходил постепенный поворот «от объективистской к субъективистской концепции науки, от позитивизма к герменевтике, от количественных методов к качественным»33. Шпенглер О. Закат Европы. М.; Л. 1923. С. 1. Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 77 – 78. 3 Бухарин Н.И. Основные проблемы современной культуры // Новая и новейшая история. 1988. № 5. С. 109. 4 Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. СПб., 1903. С. 263. 5 Jaspers K. Max Weber. Tübingen, 1920. 6 Max Weber, der Historiker. Göttingen, 1986. S. 80. 7 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 502. 8 Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 142. 9 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 10 Ким С.Г. Современная немецкая историография о возможностях микро- и макроанализа // Историк в поиске. М., 1999. С. 84 11 Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории // Диалог со временем. М., 2001. Вып. 7. 12 Цит. по: Ревель Ж. История ментальностей // Споры о главном. М., 1993. С. 52. 13 Блок М. Апология истории. М., 1973. С. 79. 14 Февр Л. Бои за историю. С. 504. 15 Цит. по: Диалог со временем. М., 2004. Вып. 13. С. 43. 16 Бродель Ф. Средиземное море и мир Средиземноморья в эпоху Филиппа II. М., 2003. 17 Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая деятельность // Философия и методология истории. Благовещенск, 2000. С. 133. 18 Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. 19 Ле Гофф Ж. Является ли все же политическая история становым хребтом истории? // Тезис. 1994. Вып. 4. С. 182. 20 Вен П. Как пишут историю: опыт эпистемологии. М., 2003. 1 2 122 Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. С. 68. Коллингвуд Р. Указ. соч. С. 10. 23 Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. 1992. № 8. С. 53. 24 Поппер К. Открытое общество. М., 1992. Т. 1. С. 102. 25 Поппер К. Нищета историцизма. С. 64. 26 Поппер К. Открытое общество. Т. 1. С. 216. 27 Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. 28 Там же. С. 38. 29 См. об этом: Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века. Томск, 2001. Вып. 1. С. 170. 30 Carr E. Was ist Geschichte? Stuttgart, 1963. S. 24. 31 Ibid. S. 52. 32 Ibid. S. 67. 33 Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 1998. С. 27. 21 22 Лекция 6. Методологические новации США Многими своими достижениями, особенно научными, США обязаны постоянному притоку иммигрантов. Так, в области социологии, интенсивно влиявшей в XX веке на историческую науку, долгие годы своеобразное лидерство принадлежало выходцу из России – Питириму Александровичу Сорокину (1889 – 1968 гг.). Он являлся первым деканом первого в России факультета социологии в Петроградском университете, но в 1922 году был выслан из страны. Некоторое время провел в Германии, затем в Праге. В 1923 году выехал в США для чтения лекций, а в 1924 году получил должность профессора социологии в университете штата Миннесота. Затем последовало приглашение в Гарвард, где четыре срока подряд Сорокин избирался деканом социологического факультета. Разработанная им теория социальной стратификации и социальной мобильности имела огромное общегуманитарное значение. Центральным понятием его системы было понятие «ценности». 123 Никому до него не удалось показать систематизирующую и методологическую значимость ценностной теории. П. Сорокин полагал, что специализированный подход в любой гуманитарной и социальной науке плодотворен и разумен только тогда, когда «во внимание принимается все социокультурное пространство. В противном случае науке уготована судьба быть неадекватной и ложной»1. Историю он понимал как «процесс переработки культуры мыслью». Его метод базировался на диалектике гармонии и творчества. Для Сорокина была характерна «инаковость» мысли. Он всегда мыслил наперекор, оставался одиноким исследователем во времена, когда все работали группами и «командами». Сорокин был явным пессимистом в годы безудержного послевоенного оптимизма, утверждал концепцию цикличности наперекор господствующему в США увлечению либеральным прогрессизмом, демонстрировал почтение к фундаментальным теориям на фоне тотального скептицизма. Теоретический взгляд Сорокина позволял обнаружить похожесть обществ и общественной жизни, критиковать тезис об уникальности исторических событий, выявить повторяемость общих моментов в тех или иных аспектах человеческого прошлого. Он видел эту повторяемость в различных государственных механизмах и военных кампаниях, юридических законах и революциях. История, по мнению Сорокина, напоминает симфонический оркестр, который каждый раз по-новому исполняет одну и ту же тему. Вечно повторяющийся элемент истории входит в цикл «культурного» изменения, который характеризует жизнь любой цивилизации. Культура, по Сорокину, синоним Общественного, антипод Природы. Отождествляя социальное с культурным, он понимает под ним духовную сторону исторического процесса. Самой общей тенденцией исторического изменения Сорокин называет бесконечную флуктуацию культур. Флуктуация культур в истории напоминает ему смену состояний воды: твердое – жидкое парообразное. Подчеркивая, что историческая наука – это не исторический роман, Сорокин настаивал на том, что она, как и всякая другая наука, нуждается в методах получения достоверного знания. В поиске этих методов Сорокин исследовал не только современную ему гуманитарную науку, но и гуманитар- 124 ную мысль прошлых эпох. Так, совместно с Р. Мертоном он изучал в Гарварде пути интеллектуального развития арабской цивилизации в 700 – 1300 годах Исследователи полагают, что «оценочные суждения при трактовке интеллектуальной истории уже (стали. – М. Л.)… общим местом в методологии»2. С помощью таких оценок, как «гениальный ученый», «эпохальное открытие», «незаурядный вклад» и т.п., они сформировали систему количественных показателей, исходя из которых определили динамику развития конкретной культуры, построили график интеллектуального развития. П. Сорокин считал, что этот метод дает определенные эвристические преимущества в том случае, если данные историков, на основе которых составлен график, окажутся достоверными. «Кривые» линии графического изображения более всесторонне отразят картину фактического развития культуры, чем ряды отдельных суждений и описаний. Сорокина волновала возможность учета личных неподтверждаемых впечатлений при выборе градации тех числовых значений, в которые должны быть переведены такие качественные определения, как «важный», «второстепенный», «величайший» и др. Каковы пределы варьирования числовых значений? Если, например, присвоить численное значение, равное единице, малоизвестному философу, то должно ли это значение быть равным пяти, десяти, сотне или тысяче, скажем, у Ибн-Рушда? Сорокин полагал, что точно такая же проблема встает и перед историком, когда он принимает решение о том, каких деятелей включать в его научный труд и сколько места отводить каждому из них. Источником для определения долгосрочных индексов развития арабской культуры стал труд по истории науки, изданный в Балтиморе. Была составлена сравнительная таблица важности вклада ученых и писателей, творивших на арабском языке. Тот, кого называли «одним из величайших ученых Средневековья», получал 10 баллов; «один из величайших мыслителей исламского мира» – 7; «один из величайших ученых своего времени» – от 4 до 7 в зависимости от общего уровня интеллектуальных достижений того периода; тот, «кто проделал очень важную работу» в определенной области, – 3; тот, кто внес несколько меньший вклад, – 2, тот, кто 125 был просто упомянут, – 1. Таблицы отражали относительную важность успехов разных наук в общем контексте развития общества. П. Сорокин провел похожее исследование в области европейской философии и музыки начиная с VI в. до н.э. и кончая нашими днями. Его широчайшая эрудиция и глубокие познания не позволяли сформулировать какой-либо закон прогресса «по спирали или не по спирали» для всех обществ. Такой прогресс, по мнению Сорокина, в лучшем случае оказывался «местным и временным явлением». Можно признать, пишет он, прогресс разных сторон жизни, однако рост числа самоубийств доказывает, что человечество не стало счастливее. Если же признать счастье критерием прогресса, то само существование последнего становится проблематичным. Стержнем методологических поисков Сорокина была идея существования философско-исторического, культурологическицивилизационного контекста на любом уровне исследования. Главное – не сводить историю к шаблону. История – это постоянная смена одного типа культуры другим. Сорокин считал, что центром новой культуры станет Тихий океан, а участвовать в ней будут народы Америки, Индии, Китая, Японии и России. Даже если Западная Европа объединится и будет играть определенную роль в мировой политике, она уже никогда не восстановит прежнего величия. К концу 30-х годов XX века в университетах и исследовательских центрах США продолжили свою деятельность десятки виднейших немецких ученых – историков, социологов, философов, бежавших от гитлеровских концепций и нацистских лагерей. В Соединенные Штаты переносится из Голландии издание международного журнала «История и теория». В стране организуются симпозиумы по теоретическим вопросам истории, резко возрастают объемы выпускаемой книжной продукции. В такой атмосфере появляются и американские теоретики, не обремененные эмигрантским прошлым. Среди них не последнее место занимал либеральный политический деятель и мыслитель Джон Дьюи (1859 – 1952 гг.), давший анализ природы исторического суждения. Его интересовал вопрос об отношении суждений о прошлом к суждениям о настоящем. Дьюи подчер- 126 кивал, что суждения о прошлом обязательно должны опираться на материал, который существует в настоящем: это вся сумма исторических свидетельств, которые тщательно изучаются целой совокупностью дисциплин – палеографией, нумизматикой, эпиграфией, библиографией, лингвистикой. Однако положения этих наук не являются историческими в строгом смысле слова. Они являются историческими лишь по своей функции, поскольку служат материалом для построенных на их основе конструкций. По мысли Дьюи, когда исторические события и изменения стали соотносить друг с другом и составлять из них периоды и циклы, имеющие начало и конец, тогда и возникла сама идея истории. Эта идея содержит представление о непрерывности и направленности движения. История, согласно Дьюи, пишется с точки зрения настоящего и с точки зрения того, что считается наиболее важным в настоящем. Подобный релятивистский подход получил основательную разработку в американской историографии. По мнению Б.Г. Могильницкого, именно с релятивизмом связаны выход американской историографии на международную арену и преодоление прежнего провинциализма3. Согласно «прагматистскому презентизму» К.Беккера и Ч. Бирда, совершивших своеобразную «релятивистскую революцию», историописание рассматривалось как «акт веры» историка. Бирд стал первым американским исследователем, поставившим вопрос о значительной роли социальных конфликтов в истории США, а также основавшим новую историческую дисциплину – просопографию, посвященную «коллективным биографиям» представителей определенных социальных групп. Рассматривая группу членов филадельфийского конгресса, Бирд поставил вопросы об их социальном происхождении, возрастном составе, религиозной принадлежности, экономическом и социальном статусе. С учетом указанных данных он определял место и роль группы в исторической действительности. Все это было проделано еще в 1913 году – задолго до английского историка Л. Нэмира, которого принято считать отцом просопографии4. В 1926 году Бирд стал президентом Американской ассоциации политических наук, в 1933 – президентом Американской исторической ассоциации. Он считал, что исто- 127 рия – это переплетение интересов и идей во времени. Рецензируя труд А. Тойнби, Бирд писал, что введение аналогий из биологии и физики в историческое познание насилует историческую действительность и приводит скорее к путанице, чем к знанию. Став в 30-е годы самым активным пропагандистом релятивизма, он подчеркивал ограниченность возможностей историка в нахождении объективной истины. Когда его обвиняли в «безграничном релятивизме», Бирд объяснял, что, конечно, не может существовать столько же объяснительных моделей, сколько существует историков: «я утверждаю не то, что историческая «истина» является относительной, а то, что относительны отбираемые факты, дух и замысел каждого исторического сочинения»5. Начиная с середины XX века в США наблюдается чрезвычайное разнообразие направлений, школ и концепций в области осмысления исторического процесса. Благодаря хорошо налаженной службе информации и книгообмена, обширным зарубежным связям американских университетов продукция американских историков широко распространяется по всему миру. США стремились стать «законодателями мод» и в исторической науке. По материалам журнала «История и теория» можно проследить возникновение и развитие самых различных методологических ориентаций, включая неокантианство, неопозитивизм в их вариантах. Американская претензия на лидерство особенно четно проявилась в оформлении так называемой «новой научной истории», состоящей из нескольких разделов, или направлений. В «новой социальной истории» не обошлось без влияния Ф. Броделя и без аналогичных размышлений о ремесле историка. Объекты исследования «новой социальной истории» весьма разнообразны: семья и сообщество, женщины и негры, бедные и преуспевающие, смертность и распределение материальных благ, отношения между группами, деревенские праздники6. На уровне группы и взаимоотношений групп изучались целостные общественные организмы, при этом акценты делались на локальных различиях. «Вторая волна» феминизма, пришедшаяся на 60 – 70е годы XX века, поставила перед наукой вопрос о том, не может ли пол (гендер) служить таким же инструментом социальной 128 детерминации, как класс и этнос. Исследования по «истории женщин» были «сексуально детерминированы», поэтому воспринимались научным сообществом с большой долей скепсиса. В 80-е годы упор делался на культурно-исторические различия полов. В гендерно-ориентированных исследованиях центральным предметом становится уже не история женщин, а история гендерных отношений. Теоретическое переосмысление предмета, пересмотр концептуального аппарата и методологических принципов начались со статьи американки Дж. Скотт «Гендер – полезная категория исторического анализа». Она увидела в понятии «гендер» адекватное средство исторического исследования и эффективное «противоядие» от крайностей постструктуралистских и психоаналитических интерпретаций7. Выстроив синтетическую модель, Дж. Скотт заложила в ее фундамент все возможные измерения социума: системноструктурное, социокультурное, индивидуально-личностное. Особую остроту приобрел вопрос о соотношении социальной и гендерной историй. В трактовке Дж. Скотт гендерная модель исторического анализа включает комплекс культурных символов, доктрины, социальные институты и организации. Развертывая эту модель во времени, можно реконструировать историческую динамику в гендерной ретроспективе. Изучая представления о гендерных ролях и различиях, исследователи этого направления поставили амбициозную задачу – переписать всю историю как историю гендерных отношений, покончив разом и с вековым «мужским шовинизмом» всеобщей истории, и с затянувшимся сектантством «женской истории»8. В «новой экономической истории» центральным элементом анализа являются рыночные отношения. Большую роль в этом исследовании сыграло создание гипотетических, или имитационных, моделей, именуемое также контрфактическим или альтернативным моделированием. Эти модели позволяли сконцентрировать внимание на вариантах исторического развития, не осуществившихся, но возможных при определенных условиях. Гипотетическая ситуация моделировалась обычно без учета какого-либо значимого фактора. Разница между результатом моделирования и реальностью служила характеристикой того фактора, который не был учтен при контрфактическом модели- 129 ровании. Новаторские исследования Р. Фогеля и других авторов дали возможность перенести внимание со случайных иллюстративных таблиц на длинные цепочки сложных уравнений. Термин «клиометрия» стал употребляться как синоним понятия «новая экономическая история». Фогель определял клиометрию как направление, использующее модели, взятые из математической науки, для изучения истории. Математические методы применялись для разработки новых подходов к решению старых проблем американской экономической истории, для изучения экономического роста и обновления институциональной истории. Фогель писал, что клиометрическая история «родилась от брака исторической проблематики с передовым статистическим анализом, причем подружкой невесты была экономическая история, а дружкой жениха был компьютер»9. Многие опасались «парадокса квантификации», т.е. того, что квантитативные исторические исследования окажутся более эффективными при критике старых концепций, чем при формулировании новых убедительных теорий. Однако, поскольку представителей нового направления интересовало в истории не столько случайное и индивидуальное, сколько коллективное и повторяющееся, ими были проанализированы существенные макроэкономические вопросы американской истории. Фогель задавался вопросами, было ли рабство выгодно для отдельного инвестора, было ли хлопковое хозяйство американского Юга самодостаточной системой, развивался ли Юг экономически, каковы были темпы его роста. За работу о рабстве Фогель получил в 1993 году Нобелевскую премию (по экономике). Он доказал, что рабство (при всей безнравственности) экономически было эффективно и выгодно. «Новая экономическая история» развеяла и неверные представления об относительной роли гужевого, водного и железнодорожного транспорта в американской истории. С 80-х годов клиометрия стала междисциплинарной областью, включавшей в себя экономику, историю, социологию, демографию. Клиометристы изучали рынок труда, уровень жизни, здоровья и благосостояния людей, особенности миграции и иммиграции. Анализируя проблемы сегрегации в области занятости по половым, возрастным, расовым категориям, 130 клиометристы все более переходили на микроуровень. Составив себе имя благодаря широкому применению количественных методов, Фогель тем не менее утверждал, что квантификация еще не превращает историю в науку, а лишь расширяет научно обоснованное знание, на которое могут опираться историки. «Новая политическая история» базировалась во многом на методах политической социологии. «Новые» политические историки, или клиополитологи, ввели в употребление анализ тесноты распространения переменных, шкалирование, матрицы с блоками голосов, счетчики политической силы, факторный анализ и многое другое. Была разработана уникальная модель политического образа жизни. При изучении политических режимов проводились сравнительно-исторические исследования. Сопоставление помогало понять причины недолговечности или же жизнестойкости того или иного политического режима. Большую популярность получила теория критических выборов, согласно которой электоральные ситуации делятся на «сохраняющие», «отклоняющие» и «перегруппирующие»10. Американские историки рассматривают схватки на арене провинциальной политики «как часть общенационального политического процесса» Там, где прежде преобладало изучение межличностных противоречий и конфликтов, увеличивается интерес к процессу политизации всех аспектов общественной жизни. Заметны «успешные попытки американских историков исследовать механизм формирования новой политической культуры, комбинируя методы политического и социокультурного анализа»11. Такой подход позволяет учесть все возможные модели политического поведения. Важнейшим фактором генезиса «новой рабочей истории» явился подъем массовых демократических движений в 60-е годы XX века. Эти события дали толчок к размышлениям о функциях социального конфликта в процессе исторического развития. «Новая рабочая история» стала одной из форм долговременной интеллектуальной реакции на социальные протесты. Многие представители американской академической молодежи сами участвовали в этих конфликтах в рядах «нового левого» движения. Труды «новых рабочих историков» существенно расширили представления о сложном и длительном процессе 131 формирования отрядов «синих воротничков». Был проявлен интерес к истории «забытого простого человека» - рядовых рабочих, рядовых членов профсоюзов. Использовались массовые типы источников – переписи, налоговая документация. Изучалось влияние семьи, этнической группы, религиозной общины, школы на субкультуру рабочего класса. В 70-е годы в США заговорили о кризисе исторической мысли, об утрате исторических идеалов, о «кризисе профессии». Было отмечено некоторое перепроизводство кадров историков, обострилась проблема их занятости. Консервативные власти сокращали ассигнования на программы публикации документов и исследовательскую работу. В 80-е годы произошло своеобразное «возрождение нарратива». Профессор Калифорнийского университета Хейден Уайт, руководивший программой изучения «истории сознания», опубликовал фундаментальную «Метаисторию». Книга вызвала большой резонанс, ее сравнивали с коллингвудовской «Идеей истории». По мнению автора, истории присуща «неискоренимая нарративность» или, иначе, повествовательность и описательность. Профессор Принстонского университета Лоуренс Стоун представил системное изложение причин «возрождения нарратива». Главной причиной, по его мнению, стало разочарование в экономической детерминистской модели исторического объяснения. Признаками кризиса исторической профессии Стоун назвал гипертрофированную квантификацию, избыточную приверженность к психоаналитическим штудиям и применение упрощенно-однолинейных систем объяснения. Он писал об очевидных дефектах социальных и культурологических исследований истории: «…существуют признаки как воспарения в эмпиреи (построение гибридных моделей), так и погружения в тривиальность, скуку и несообразность. Структуралистская история, возможно, достигла кульминации в сверхноваторских книгах Фуко по безумию, сексуальности и тюрьмам»12. Стоун убежден в том, что социальная и культурная истории превратились в жертву собственных успехов. При этом он не отрицал, что работы, выполненные в этом ключе, демонстрировали высокий профессиональный уровень. 132 «Возрождение нарратива» усилило интерес к индивидуальному и экзистенциальному пониманию, к субъективным факторам истории. Появился спрос на «сопереживающую» историю. Но это не было простым возвратом к традиционным методам исторического познания. «Возрождение нарратива» произошло на волне серьезных размышлений о необходимости повышения научного уровня исторических исследований. Обращение к нарративу не было отрицанием «новой научной истории». Напротив, предполагалось учитывать в новой нарративной структуре исторического изображения технологические достижения «новой научной истории». Как писал американский историк П. Гэй, «исторический нарратив без анализа тривиален, исторический анализ без нарратива несовершенен»13. Поворот к нарративу не отрицал сциентистскую традицию «новой научной истории», но курс на сближение истории с социальными науками ставил под вопрос ее самостоятельность. В целях «самосохранения» исторической науки требовалось найти критерий ее своеобразия. Таким критерием и оказалась нарративная структура исторических суждений. Историков вновь призвали «рассказывать красиво» и отказаться от абстрактного жаргона. Л. Стоун писал о «большой ошибке» социальных историков – игнорировании роли случайности и личности. По его мнению, центральная тема должна переместиться с «окружающих человека обстоятельств на человека в исторически конкретных обстоятельствах». В XX веке в США особую роль приобрели психоисторические исследования. После путешествия З. Фрейда (1856 – 1939 гг.) в США в 1909 году психоанализ, изобретенный им, становится явлением мирового значения. Фрейд бросил вызов многим сохранившимся предрассудкам викторианской эпохи, он дал науке новые термины и новые способы суждения. Будучи начитанным в области философии, Фрейд имел вместе с тем глубокие познания в области этнографии, культурологии, литературоведения, изучал социологию и социальную психологию. Он отрицал влияние Ницше на свои идеи, однако их воздействие проявилось в противопоставлении природного и культурного начал. С его точки зрения, история представляла 133 собой психодинамический процесс вытеснения и воспоминания, своего рода психическую драму. Фрейд сравнивал метод психоаналитика с работой археолога. Бессознательное похоже на погребенный город. Оно спрятано от сознания, но заявляет о себе через следы и символы. Возникнув как терапевтический метод, психоанализ превратился в теорию общественно-исторического развития. Претензия Фрейда, связанная с признанием методологической функции психоанализа в общественных науках, проявилась уже в 1913 году, когда увидела свет его работа «Тотем и табу» - первый опыт в антропологии и социологии, а наибольшее обоснование получила в одной из последних работ Фрейда «Цивилизация и ее болезни». Если Маркс анализировал отчуждение человека в капиталистическом производстве, то Фрейд попытался обнаружить и описать отчуждение человека в цивилизации. С его точки зрения, культура является для общества тем же, чем невроз для индивида. Через бессознательное Фрейд подходил к социальному в человеке. Общество, по Фрейду, есть продукт взаимодействия многих факторов: необходимости, исходящей от природы; борьбы сил Эроса и Танатоса; социальных влечений человека; трудовой деятельности индивидов и деятельности социальных институтов. Фрейд изучал массу как социальнопсихологический феномен, анализировал психологию человека, включенного в толпу. Психоанализ эффективно использовался историками при изучении выдающихся личностей и культурных традиций. Известны случаи применения психоанализа в ходе исследования социальных групп, например, крестьянских и городских религиозных движений, при изучении которых историк постоянно имеет дело с отклонениями от нормы. Большинство ближайших учеников Фрейда рассматривали сексуальное подавление как один из главных механизмов политического господства. Сам Фрейд сделал из либидо объяснительный принцип коллективной психологии. Он полагал, что человек, жертвующий своей жизнью ради другого человека, декларирует и выполняет акт любви14. О Фрейде историки заговорили как об исследователе, который открыл для них неизведанные края человеческой души. 134 Согласно кредо американских адептов фрейдизма, история – это массовая психология, а ее анализ – чистый психологизм. Психоанализ был в авангарде движения за возвращение человеческого измерения науки. И ранние психоаналитики-клиницисты, и их последователи из числа историков, политологов, социологов ставили в центр своих исследований целостную личность. Американская психоистория получила официальное признание в 1957 году. Психоаналитическое направление сулило историкам редкую возможность не только использовать психологический инструментарий для познания рациональной сферы человеческого поведения, но и заглянуть в глубинные, бессознательные слои той или иной исторической личности. По мнению директора Нью-Йоркского института психоистории Ллойда Демоза, современная психоистория – это наука об исторической мотивации. Ее открытия доказывают, что от динамики стилей воспитания детей зависит ход исторического процесса. Психоистория – это психология больших групп. Историков тревожит предположение Фрейда о том, что целые группы людей могут быть патологичны. Психоистория сводит историю к выяснению личных мотивов, открывает законы исторической мотивации. Следуя Фрейду, психоисторики доказывают, что история – это не победа морали, а победа желания и разума. Они предлагают методику прогнозирования на ближайшую историческую перспективу15. Ссылаясь на письма З. Фрейда, в которых он признавался, что его жизненной целью было не столько лечить больных, сколько решать великие исторические задачи человечества, американский психоисторик Б. Мэзлиш утверждает, что психоистория стала осуществлением мечты Фрейда. Историки обращаются к психоанализу для обнаружения иррациональных, подсознательных сил, влияющих на исторические события, особенно в периоды социальных волнений. Психоисторические публикации появляются в США в десятках журналов самого разного профиля – от исторических до медицинских. Теоретические суждения психоисториков и их практические работы направлены на объяснение исторических реалий. На XVI Международном конгрессе исторических наук представителям психоистории была отведена целая секция. 135 Психоаналитические биографии дают целостное видение личности исторического деятеля. По своей методологии они вписываются в элитаристскую традицию, согласно которой герои, реформаторы и пророки существенно меняли историческое пространство, не всегда осознавая мотивы своих действий. История, по Фрейду, создается в недрах бессознательного, ее загадки – не в разуме, а в желаниях, в любви. Энергию истории составляет подавленный эрос, труд следует рассматривать как сублимированный эрос. Первые психоисторические исследования принадлежат Фрейду. Его очерк о Леонардо да Винчи, написанный еще в 1910 году, почти сразу был переведен на русский язык16. Используя картины Леонардо в качестве источника, Фрейд решился сформулировать смелые психобиографические гипотезы. Нечто подобное он совершил в очерке о Достоевском, где роль источника сыграли романы. Описание исторических персонажей позволяло не сохранять анонимность и увлекало возможностью по-своему объяснить феномен их необычайной одаренности. В соавторстве с известным американским государственным и политическим деятелем У. Буллитом Фрейд в 30-е годы написал книгу об американском президенте Вудро Вильсоне. Авторы попытались понять характер отношений Вильсона со всеми членами его семьи, друзьями и коллегами. Они проанализировали его привычки и поведение в различных жизненных ситуациях, выявили его сексуальные наклонности и интеллектуальные интересы17. Фрейд и его соавтор пришли к выводу, что в раннем детстве для Вильсона было характерно прямое подчинение воле отца и бессознательное стремление к матери. Рождение брата он воспринимал как предательство со стороны матери, однако наряду с враждебностью питал к брату чувство отцовской любви. Все эти чувства и тенденции развития в психике, по мнению авторов, и определили жизненный путь Вильсона. Став сначала священником, позже ученым и, наконец, президентом США, он всегда требовал от близких и друзей преданности и покорности себе, а любое непослушание с их стороны воспринимал как предательство. В книге дана психоаналитическая трактовка отношений Вильсона со своими советниками, его поведения на Парижской мирной конферен- 136 ции, его реакции на провал в сенате предложения об участии США в Лиге наций. Последователи Фрейда значительно умножили число психобиографий. Фрейдовская терминология давала основу для принципиально нового применения психологических понятий к истории. Психоанализ Фрейда позволил накопить сотни тысяч историй личностей. По словам американского этнопсихолога Эрика Эриксона, XX столетие узнало об индивидуальном развитии человека больше, чем все предшествующие столетия. Клинические истории психоанализа предоставили обильный материал, существенно отличающийся от материала философских и литературных размышлений. Классическая психоаналитическая процедура содержит примерно десять миллионов слов, раскрывающих внутреннюю жизнь человека. Американские психоисторики называют историю летописью человеческой души. Только в таком понимании история способна приблизиться к ответу на вопросы о том, что, как и почему было в прошлом. Пытаясь объяснить исторические события большой значимости, американские историки и политологи применили фрейдовскую теорию личности к великим историческим деятелям. Профессор политических наук Гарольд Лассуэл соотносил индивидуальное и коллективное, доказывая, что великие политики переносят личные чувства на социальные объекты. Э. Эриксону принадлежит целый ряд программных статей и два психобиографических исследования религиозных деятелей – М.Лютера и М. Ганди. Движущие мотивы их политических и религиозных действий он обнаружил в потребности сыновей опередить своих отцов. Эриксон обработал сведения о сновидениях, фантазиях, символических актах своих героев с необычайным искусством и богатством воображения. В отличие от ортодоксальных фрейдистов Эриксон исходил из представления о взаимовлиянии личности и общества в процессе социальной эволюции. Говоря о «метаболизме поколений», он стремился показать историческую обусловленность деятельности Лютера и Ганди. Норман Холланд из университета штата Флорида не согласен с подходом, предложенным Эриксоном и предполагающим установление причинно-следственных связей 137 между детским состоянием и взрослым. Вслед за Холландом, психоисториков стали обвинять в «сжимании истории», в сведении содержания взрослой личности (или конфликта между взрослыми) к отношениям ребенка и его родителей. Однако трудно опровергнуть влияние психоанализа на критику таких источников, как дневники или письма. В частности, историки начали учитывать факт психологической потребности авторов в фантазиях. Отдельной темой стало изучение дневниковых записей о снах. «Психоистория переосмысливала старые темы, поднимала новые и возбуждала дебаты о том, что такое история вообще»18. Психоисторики анализировали состояние так называемой «эйфории жестокости», питаемой чувством безнадежного одиночества, стремлением освободиться от «резервуара разрушительности», подогреваемого ничтожностью человеческих деяний. В этом контексте создавались психоистории Мюнцера и Кромвеля, И. Грозного и Петра I, Сен-Жюста и Робеспьера. Войны и агрессии нередко объяснялись накоплением психосексуальной энергии. В начале 40-х годов XX века по инициативе Управления стратегических сил США было осуществлено исследование личности Гитлера с целью прогноза политического характера. Ученые во главе с В. Лангером в качестве наиболее вероятных исходов его жизни назвали столкновение Гитлера с военными и его самоубийство. Результаты исследования были засекречены, их получили только главы стран-союзников, и, хотя они вскоре полностью подтвердились, книга В. Лангера была опубликована только в начале 70-х годов. Психологизация фашистской диктатуры встречала сопротивление историков других методологических ориентаций, не желавших рассматривать нацизм как «эпилептический припадок немецкого народа». Профессор Калифорнийского университета Даниел Ранкур-Лаферрьер, в подражание Лангеру провел психоаналитическое исследование личности Сталина19. Автор обратил внимание на сталинский акцент при произношение формулы «бытие определяет сознание». Сталин говорил «битие». Дорога от побоев пьяного отца до массовых репрессий оказалась недлинной. В книге анализировались отношение Сталина к 138 окружению, его способность к ведению политических интриг. Автор исходил из того, что психоанализ не тождествен психоистории, поэтому не столь важно, был ли Сталин здоровым человеком или страдал психическими расстройствами. Более важно понять, благодаря каким психологическим механизмам и в какой степени он перенес свои примитивные влечения, личностные амбиции и интересы на жизнь общества, существенно повлияв тем самым на социально-экономическое, политическое и культурное развитие страны. Американского исследователя интересовала не столько поверхностная структура психики тирана, сколько бессознательные пласты его психики. С этой целью он и обратился к рассмотрению детско-родительских взаимоотношений в семье Джугашвили, которое позволило выявить многие особенности формирования у Сталина защитных механизмов, будь то проекция собственных страхов и агрессивных желаний на других людей или идентификация с агрессором, в частности с Гитлером. Сталин сохранил на всю жизнь страх быть битым, и его защитные реакции вылились в разнообразные формы, включая любовь к сапогам, которыми он пинал своих детей, или использование изощренных средств надругательства над людьми, где пинки имели метафорическое значение. В среде психоисториков не угасают дискуссии о теории фетальных (фетус – зародыш) источников истории, предложенной Л. Демозом. Суть этой теории можно выразить в трех основных идеях: ментальная жизнь человека начинается с внутриутробного развития; дискомфорт зародыша в утробе матери (фетальная драма) после рождения предопределяет основную психологическую травму человека; фетальная драма наравне с моделями воспитания во многом определяет не только личную жизнь человека, но и всю историческую эпоху. Теория фетальных источников истории строилась американским ученым не на пустом месте. Еще в 1923 году созвучную идею высказал ученик Фрейда Отто Ранк. Он заметил, что некоторые приступы невротической тревоги взрослых людей 139 сопровождаются физиологическими изменениями, очень похожими на те, которые наблюдаются в процессе рождения человека. По мнению Ранка, всей человеческой жизни сопутствует бессознательное желание вернуться в утробу матери. Этим он объяснял выбор древними людьми глубоких пещер в качестве жилья, а также многочисленные мифы о золотом веке и о возрождении души после смерти. Демоз утверждал, что первой любовью фетуса являются плацента и пуповина, поэтому человеку суждено постоянно ощущать фантом плаценты, подобно тому как после ампутации человек ощущает фантом потерянного органа. На протяжении жизни человек ищет замену плаценты, находя ее в мягких игрушках, в идее Бога – хранителя жизни, в лидерах, дающих силу окружению. Последователи Демоза полагали, что бессознательные символы плаценты и пуповины широко представлены в различных памятниках архитектуры: лабиринты, спиралевидные надгробия кельтских жрецов, египетские пирамиды, афинский Парфенон. Во всех этих сооружениях воплощен единый принцип внутренних пропорций: «центр – пуповина – плацента». Многие сооружения имеют форму пуповины, соединяющей наземную постройку с небом – символическим лоном матери. Конечно, теория фетальных источников истории признается далеко не всеми психоисториками, однако подобные экзотические концепции расширяют представление об особенностях мышления и научного поиска американских историков. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992. С. 170. Мертон Р.К., Сорокин П.А. Путь интеллектуального развития арабской цивилизации, 700 –1300 гг.: опыт изучения одного метода // Социс. 2005. № 11. С. 116. 3 Могильницкий Б.Г. Между объективизмом и релятивизмом: дискуссии в современной американской историографии // Новая и новейшая история. 1993. № 5. 4 Дементьев И.П. Чарльз Бирд // Новая и новейшая история. 1995. № 3 5 Цит. по: Носков В.В. «Метаистория» Хейдена Уайта // Диалог со временем. М., 2004. Вып. 12. С. 43. 6 Ратмэн Д. «Новая социальная история» в США // Новая и новейшая история. 1990. № 2. 1 2 140 Репина Л.П. Гендерная история: проблемы и методы исследования // Новая и новейшая история. 1997. № 6. 8 Там же. С. 47. 9 Цит. по: Кахк Ю.Ю. Математические методы в исторических исследованиях // Вопросы истории. 1989. № 2. 10 Гаджиев К.С., Соловьев Н.В. Проблемы международного подхода и «новой научной» истории в современной американской буржуазной историографии // Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1978. Вып. 2. С. 136. 11 Репина Л.П. Комбинационные возможности микро- и макроанализа: историографическая практика // Диалог со временем М., 2001. Вып. 7. С. 68. 12 Стоун Л. Будущее истории // Thesis. 1994. Вып. 4. С. 161. 13 Цит. по: История СССР. 1989. № 3. 14 См. об этом: Московичи С. Век толп. М., 1998. С. 295. 15 Демоз Л. Психоистория. Ростов н/Д, 2000. 16 Фрейд З. Леонардо да Винчи. М., 1912. 17 Фрейд З., Буллит У. Томас Вудро Вильсон – 22-й президент США. М., 1992. 18 Могильницкий Б.Г. Американская «психоистория»: претензии и реальность // Новая и новейшая история. 1986. № 1. С. 58. 19 Ранкур-Лаферрьер Д. Дух Сталина. М., 1988. 7 Лекция 7. Постмодернизм и микроистория То, что ныне принято называть постмодернизмом, напоминает итальянский маньеризм XVI века. Маньеристы утверждали неустойчивость бытия, власть иррациональных сил, субъективность искусства. Художественные произведения маньеристов отличались усложненностью, напряженностью образов, изощренностью формы, пронизанностью ощущением двойственности всех вещей. Некоторые современные методологические и эстетические формы исторического познания, отражающего парадоксальность и нестабильность исторической реальности, сводятся к своеобразному историософскому маньеризму как методу изображения прошлого1. 141 Общество и история связаны идеей прогресса, выдвинутой в эпоху Просвещения. В XIX веке идея прогресса была воспринята исторической наукой, в XX веке оформилась в концепцию модернизации. Вообще-то понятие «модерн» значительно древнее, чем об этом принято думать. Впервые его использовали христиане, противопоставляя себя язычникам. Альфой и омегой модернизации стала наука. Для постмодернистов наука (а еще более - информация) – лишь объект исследования. Появление термина «постмодерн» относят к началу XX века. В 1917 году он был употреблен в работе о кризисе европейской культуры, в 1947 году использован А.Тойнби для описания современного состояния западной культуры. Понятием «постмодерн» обозначают ситуацию, когда противопоставление старого и нового теряет смысл, когда приходит понимание ценности и самодостаточности многого из того, что было создано в прежние эпохи. По мнению теоретика постмодерна Ж. Дерриды, мышление должно отказаться от использования традиционных понятийных оппозиций, таких как субъект – объект, целое – часть, внутреннее – внешнее, реальное – воображаемое. Следом уйдут и другие противопоставления: Восток – Запад, капитализм – социализм, свои – чужие и даже мужское – женское. Позитивная программа постмодерна предполагает переход от законодательного разума к интерпретирующему2. Признаком посмодерна считают стирание границы между элитарным и обыденным вкусами, интеллектом и эмоциями, реальностью и фантазией. Ему свойственна разноплановость и многозначность. Постмодернисты уверяют, что модернизацию нельзя считать финальным этапом истории. Становление индустриального общества привело к сдвигу в базовых ценностях. Уменьшается относительная значимость рационального, акцентируется качество жизни. Нормы индустриального общества с их нацеленностью на дисциплину и достижения уступают место постмодернистской свободе индивидуального выбора жизненных стилей и индивидуального самовыражения. Общество постмодерна не доверяет иерархическим институтам и жестким социальным нормам, уменьшает значимость любых видов вла- 142 сти и авторитета, меняет религиозные и сексуальные ориентации. По мнению французского постмодерниста Ж.-Ф. Лиотара, слово «постмодерн» появилось на свет на американском континенте из-под пера социологов и критиков, обозначавших состояние культуры после трансформаций в науке и искусстве, отразивших недоверие в отношении метарассказов3. Если модернисты считают наиболее значительной бесспорную информацию, то для постмодернистов именно спорные факты являются истинными. То, что модернист называет «несомненными научными фактами», для постмодерниста – лишь многочисленные вариации парадокса лжеца, или парадокса критянина, утверждавшего, что все критяне лгут. Подвергнув критическому анализу теории модерна, постмодернисты увидели их порок в конструированном поиске истины. Ущербность марксизма, позитивизма, структурного функционализма и других модернистских разновидностей, на их взгляд, заключается в предположении о наличии объективной реальности, которой не существует, в отрицании вариативности исторического процесса, в европоцентризме, в признании объективного характера фактов и законов. Постмодернизму свойственно внимание к повседневной жизни, где протекают процессы, ускользающие от рационального анализа. Повседневность трактуется как социальная и духовная реальность, проявляющаяся в культурнобессознательном бытовом аспекте жизни. Постмодернизм заменяет теорию анализом текста: «чтобы текст заговорил, его нужно ранить… Мы наносим ему рану своим намерением обнаружить смысл»4. Постмодернистский термин «дискурс» (рассуждение) призван заменить термин «исследование». Отрицая систему и метатеорию, постмодернизм предполагает методологический и теоретический плюрализм. Одним из его достижений можно считать расширение внимания к культурному наследию прошлого. Постмодернизм сближает историю с искусством, используя исторические материалы в художественном творчестве. Благодаря этому происходит своеобразное обновление истории, историки находят новые стимулы и перспективы, перед ними открываются междисциплинарные границы. По определению Ф. Анкерсмита, постмодернизм есть 143 радикализация историзма, несмотря на то что в отличие от историзма постмодернизм познает исторический объект в «сверхъестественной» независимости от него самого5. Некоторые авторы полагают, что в американском варианте постмодернизм решает прикладные задачи, в то время как европейский постмодернизм осуществляет глобальный мировоззренческий переворот6. Возможно, что такое впечатление сложилось на основе дискуссий, которые в американской академической среде шли на повышенных тонах. Однако оно противоречит тому факту, что признанным лидером постмодернистского теоретического и методологического обновления историографической критики стал все-таки американец Хейден Уайт. Его тропологическая теория истории концептуально повлияла на анализ исторических произведений. Тропы, т.е. употребление слов в образном смысле, из художественного мышления были перенесены в научное, позволив расширить возможности слов и образов, обратить внимание на сходство и различие явлений, на парадоксы и метафоры в историческом обличье. Историческое понимание парадоксально по природе. Х. Уайт считает, что историография иронична по своей сути. Это дает возможность расширить эстетическую сферу исторических размышлений и соответствует признанию стилистического измерения исторического произведения. Постмодернизм в истории означает другой способ ориентации в изучении человеческой жизни, предлагает возвращение прошлому его собственного достоинства. Постмодернистская историография благоволит к жертвам модернизации – маргиналам, меньшинствам, женщинам. Некоторые исследователи полагают, что постмодернизм – это не новая эпоха и не парадигма, сменившая модернизм, а лишь определенный стиль, форма, манера, способ организации материала, своеобразный двойник культуры, извечно ей сопутствующий. При таком взгляде на постмодернизм его представителями можно назвать древнегреческих софистов и скептиков, а также Ницше, Гоголя, Малевича, Хармса, С. Дали7. Постмодернизм с такой точки зрения – это вызов устоявшемуся общественному мнению, разрушение привычной системы ценностей, смена логики в развитии культуры, иначе говоря, новая модификация вечных 144 проблем. Идейная эклектика и фрагментарность составляют пафос полного плюрализма. У историков меняется восприятие времени и пространства, разрушается уверенность в адекватности научных и моральных суждений, эстетика занимает место этики, визуальное изображение оттесняет словесное описание. По мнению польского социолога З.Баумана, возникновение постмодернизма связано с утратой интеллектуалами уверенности в себе, с потерей интеллектуальных ориентиров. Вот почему постмодернисты отрицают устойчивые эпистемологические основы, неоспоримые теоретические посылки и закономерности8. В 60-е годы XX века постмодернизм сложился как направление в литературной критике, искусстве и философии. С 70-х годов его влияние начинает сказываться на трудах по этнологии, историософии, а позднее и истории. Читать, по мнению постмодернистов, значит выявлять смыслы, а выявлять смыслы значит именовать их. Отличительным признаком постмодернизма все более становится неприятие фундаментальных нарративов, недоверие к универсальным нормам. Отвергая положение о социальной целостности и причинности, постмодернизм утверждает герменевтический подход к истории. Огромную популярность приобрели книги французского философа и историка М. Фуко, в которых исследуются сумасшествие, тюрьма и сексуальность, а также предпринята попытка понять, как знание взаимодействует с властью. Он полагал, что сам предмет герменевтической интерпретации во многом фиктивен, поскольку в самом начале исследования историку еще нечего интерпретировать. Исторический факт, по Фуко, - это интерпретация интерпретаций. Фуко сравнивал процесс познания с рассматриванием тусклого изображения в старом зеркале, лишенном деревянной основы и приспособленном вместо оконного стекла. Метафора зеркала, использованная Фуко, напоминает выражение В. Набокова: на истину ложится тень инструмента. Зеркало Фуко отражает преимущественно черты самого исследователя, его стиль, манеру и подход, и только там, где амальгама стерлась полностью, возникают отдельные элементы реальности, неопределенные и раздробленные, нуждающиеся в интерпретации, в смысловом 145 контексте. Дискурс становится и мыслью, и смыслом, и ментальностью. Начало использованию постмодернистского подхода в исторической науке помимо М. Фуко положили французский историк Ш. Рансьер и английский историк Г. Стедмен. В книге «Ночь пролетариата» Рансьер рассмотрел классовое сознание как результат отчуждения рабочих, стремившихся получить образование ради того, чтобы выбраться из угнетающего окружения. Г. Стедмен написал эссе, посвященное пересмотру истории чартизма, где отверг традиционную интерпретацию чартистского движения - как вызванного гневом, нищетой и социальным упадком. Оба автора поставили под сомнение концепцию опыта, настаивая на том, что «пережить опыт» класса можно только при условии определения его дискурса. Таким образом, была подчеркнута роль языка в формировании новых реалий классового общества. Если язык науки затрудняет восприятие реальности, то его следует усовершенствовать и прояснить. Историк-модернист приходит к выводам на основании анализа источников и скрытых за ними свидетельств исторической реальности. С точки зрения постмодерниста, свидетельство представляет не само прошлое, а другие интерпретации прошлого. По словам Ф. Анкерсмита, «для модерниста свидетельство – это плитка, которую он поднимает, чтобы увидеть, что находится под ней, постмодернист же, напротив, ступает на плитку, чтобы пойти дальше по другим плиткам: горизонтальный метод вместо вертикального»9. Применяя горизонтальный метод, историк не будет относиться к свидетельству как к увеличительному стеклу, оно будет для него взмахом кисти, позволяющим художнику достичь определенного эффекта. Свидетельство не будет отсылать в прошлое, оно даст возможность поставить вопрос о его использовании в том или ином конкретном случае, ибо свой смысл и значение приобретет только в столкновении с ментальностью того времени, в котором живет историк. Постмодернистский вариант исторического портрета эпохи пишется на основе того, что не было высказано вовсе или было высказано только шепотом, либо выражалось лишь в незначительных деталях10. 146 Работая только с текстом, постмодернист переосмысливает его так, что возникает новый текст. Постмодернистская культура жива многоязычием и разнообразием идей. Мозаичное мышление постмодернизма формируется в контексте телевизионной и компьютерной культуры. Отсутствие жестких принципов компенсируется гибкостью, способностью к компромиссам. Постмодернистское пространство насыщено игрой цитат, откровенных подражаний, заимствований и вариаций на чужие темы. Отрицая универсальные ценности, постмодернизм провозглашает полное приятие всего, что существует. Ценности, по мнению теоретиков постмодернизма, перестают быть предметом спора. Постмодернизм антиэлитарен, он уничтожает оппозицию высокой и массовой культуры, отказывается от политизированного взгляда на историю. Возникает возможность понимать историю с точки зрения культуры. Постмодернизм утверждает открытость исторического познания, свободу от догматизма. Историки-постмодернисты показали, что язык исторических документов всегда использовался для оправдания власти. Применение методологии постмодернизма ведет к децентрализации мировой истории: множество точек зрения на историю нельзя свести к единому знаменателю. Всеобщая история становится совокупностью «частных» историй. Некоторые авторы полагают, что и в рамках постмодернистской методологии историю можно трактовать как нечто единое и неделимое, поскольку разные культуры и цивилизации – это инварианты одного и того же человечества. И, таким образом, сильная сторона постмодернистского мышления заключается в признании культурного полифонизма. Другие же пугают историков «дурной бесконечностью мелкотемья», которая якобы агрессивно навязывается в силу постмодернизации истории. Согласиться с этим обвинением невозможно: постмодернизм чужд агрессии, ибо терпим ко всем точкам зрения. По мнению Л.П.Репиной, главный вызов постмодернизма истории направлен ее представлению об исторической реальности, поскольку размывается граница между фактом и вымыслом в источнике11. Рассматривая язык не как средство отражения и коммуникации, а как главный смыслообразующий фактор, де- 147 терминирующий мышление и поведение, постмодернизм требует от историка пристальнее вглядываться в тексты. Трактуя текст как знаковый код, как условное обозначение предмета, предполагающее множество толкований, постмодернизм должен быть внимателен к дешифровке текста и способам передачи информации. Историк переводит свои впечатления в слова, читатель переведет слова историка в образы. Исключительная роль, которой постмодернисты наделяют препарирование текста, связана с особым пониманием ими соотношения мира языка и внеязыковой реальности. Приоритет отдан анализу отношения между мышлением и языком. Такой подход помогает историкам осознать, как прошлое отражается в письменных источниках и каковы представления о прошлом в исторических исследованиях. Постмодернисты считают, что источник – это не окно в прошлое, не только хранилище документальной информации. Источник – это текст, созданный в определенной смысловой системе, нередко далекой от однозначности и бесспорности. Постмодернисты настаивают на том, что прошлое сконструировано самими историками, что исторические тексты содержат в себе социальный мир и сами являются его порождением: нет ничего вне текста. Согласно постмодернистской концепции истории, ее цель заключается не в интеграции и не в синтезе, а в выявлении исторических деталей. История перестает быть реконструкцией того, что происходило с человечеством, она становится вечно продолжающейся игрой с памятью об этом. Осмысление получает приоритет по отношению к реконструкции или поиску генезиса. В итоге стирается грань между искусством, гуманитарными науками и социальным исследованием. По мнению Л.Ньюмана, постмодернизм уходит корнями в философию экзистенциализма, нигилизма и анархизма, в идеи Хайдеггера, Ницше, Сартра12. Рассматривая познание как нечто уникальное, присущее единичному человеку, постмодернисты отрицают истину как цель познания, полагая, что поиск истины связан с порядком, правилами и ценностями, сковывающими разум. На мой взгляд, постмодернистский отказ от претензии на истину не означает отказа от претензии на научность, ибо наука – это поиск и нахождение нового, не более того. Поэтому сни- 148 мается основной упрек в адрес постмодернизма. Но все же неоднозначность интерпретации не означает произвола. Субъективность историка в его суждениях о прошлом подчинена нормам исторического ремесла и ограничена контролем со стороны научного сообщества. Проникновение постмодернизма в историю привело к существенным сдвигам в современной историографии. Нацелив историка на поиск тех редких мгновений прошлого, которые сохранились в обрывочных и редких источниках, постмодернизм заставил историка перенести научные интересы из сферы макроисторических структур в область микроисторических ситуаций и повседневных отношений. Микроистория позволила значительно увеличить число «параметров» человеческого поведения, анализируемого исследователями. Уменьшив масштаб анализа, историк получил возможность более конкретно рассказать о поведении своих объектов. Обращение к микроистории нельзя считать следствием прямого воздействия постмодернизма. В постмодернистской парадигме историческое повествование почти полностью заполняется рефлексией познающего субъекта, а в поле зрения микроисторика оказывается и сам познаваемый субъект. По мнению итальянского микроисторика К. Гинзбурга, первым слово «микроистория» использовал американский ученый Джордж Р. Стюарт в 1959 году в книге о решающем сражении Гражданской войны в США. Он рассмотрел один эпизод сражения при Геттисберге, длившийся в реальном времени двадцать минут. Это была неудачная атака южан. Если бы она закончилась успехом, то всемирная история была бы иной13. Независимо от Стюарта мексиканский исследователь Луис Гонсалес ввел слово «микроистория» в подзаголовок монографии, где проследил изменения в маленькой деревне на протяжении четырех столетий. Гонсалес настаивал на своем авторстве термина, не забывая упомянуть о том, что у Броделя микроистория была синонимом событийной истории. Теперь же она становится еще одной парадигмой кроме структурной, эволюционной и событийной. В итальянских дискуссиях конца 70-х годов XX века о микроистории говорили как о некоей этикетке, наклеенной на 149 историографическую шкатулку, которую предстоит наполнить. А в 80-е годы наблюдался всплеск интереса к микроистории, обусловленный поиском альтернативы макросоциологической теории, истощением эвристического потенциала макроисторической версии социальной истории и необходимостью ответить на постмодернистский вызов. Ответ заключался в том, что микроистория отвергала постмодернистское сведение истории к дискурсу. Так, в работах сторонников микроистории разных стран – Италии, Франции, Англии, США – гораздо сильнее, чем в трудах постмодернистов, ощущается интерес к антиномии частного и целого, единичного и массового, что ориентировало на поиск комбинаций микро- и макроанализа, т.е. на выход из «микрокосмического пространства локального социума на более высокие орбиты»14. Локальные исследования стали приобретать характер тотальных, не выходя за пределы микроуровня, о чем когда-то и мечтал Бродель. Построение социологических и антропологических моделей сетевого анализа личностных взаимодействий дало импульс развитию контекстуальной исторической биографии. В Англии опубликованы десятки работ по политической истории до 1640 года, где прослеживается повседневное течение политических процессов, исследуются провинциальные и локальные институты, система управления и политическая жизнь на местах15. Не без влияния постмодернизма отвергается жесткое противопоставление народной и элитарной политической культуры, выясняется политическая составляющая проблемы соотношения локального и национального. Наиболее заметно ключевая методологическая проблема соотношения микро- и макроанализа ставится в истории индивида, в истории личности. Это обнаруживается при соединении микроподхода с персональной историей, при изучении творческой лаборатории историков, а также в автоисториографическом жанре. Изучение биографий позволяет иначе измерить исторический процесс, дать многоуровневое видение социокультурного пространства16. Один и тот же объект может стать предметом и макро-, и микроисторического анализа, формулирование цели исследования зависит от позиции наблюдателя и от его теоретической платформы. Микроистория – это одна из 150 форм конкретно-исторического анализа внутреннего мира человека и мотивов его поведения. Только с помощью микроанализа можно понять, как конкретные персонажи реализовывали возможности общественного развития. Каким образом и почему они выбирали формы повседневных связей и интересов17. Историки школы «Анналов» утверждали, что реинтеграция низших классов в историю происходит только «количественно и анонимно» через демографические и социологические изыскания. Низшие классы, по их мнению, обречены оставаться «немыми». Представители микроистории с этим не согласны: «если источники представляют нам возможность воссоздать не только безликую массу, но и личность отдельных индивидов, то отказываться от этого было бы абсурдным»18. Опасность скатиться до уровня забавного исторического анекдота не кажется им неизбежной. В работе «Сыр и черви» К. Гинзбург не ограничивался реконструкцией истории индивида. Он полагал, что лакуны и искажения в документах должны превратиться в часть рассказа. Историк не может, подобно Л. Толстому, преодолевать пропасть между фрагментарными или искаженными следами события и самим событием с помощью воображения. Постмодернистские фрески, посредством которых передается иллюзия исчезнувшей реальности, находятся за границами исторической профессии. В этом состоит существенное отличие микроисторического подхода от постмодернистского, признаваемое прежде всего итальянскими адептами микроистории, хотя, например, Ф. Анкерсмит совсем не против понимания микроистории постмодернистски, т.е. как изучения мельчайших фрагментов прошлого изолированно друг от друга, независимо от контекста19. К. Гинзбург, напротив, видит специфику микроистории в установке на познавательность. Биографические исследования доказывают, что в заурядном, ничем не знаменитом человеке (и именно потому репрезентативном) можно, как в микрокосме, найти черты, характерные для целого социального слоя в определенный исторический период – будь то австрийская знать либо английский низший клир XVII века. Уверенный в том, что человек не может «выскочить» из культуры своего класса и своего времени, не впав в безумие или в полную самоизоляцию, 151 Гинзбург пытается преодолеть как «внеклассовое» представление о культуре (связанное с понятием «ментальность»), так и «классовое» (так называемая «народная культура»). Он выдвигает идею «подчиненных», или множественных, культур, отбросив идиллическое и ложное представление о ментальности, общей для Ю. Цезаря и последнего солдата его легионов. Итальянские микроисторики, ориентируясь в своих исследованиях на контекст, подошли к проблеме сравнения не через аналогию, как в традиционных исторических работах, а через аномалию. Потенциально более значимыми являются самые невероятные документы, сообщающие о «нормальном исключении». Частный случай, который необычайно индивидуален, трудно подвести под определенные правила и нормы. С учетом специфики контекста при микроисторическом подходе используются косвенные свидетельства, симптомы и приметы. Внимание к «нормальному исключению» связано с необходимостью учитывать непоследовательность нормативных систем, их фрагментарность и противоречивость, которые в состоянии сделать подвижной и открытой любую систему (за исключением тоталитарных). Изменения в обществе происходят благодаря выбору огромного числа «маленьких людей», а не только по милости их просвещенных и реформистски настроенных начальников или же одиозных диктаторов. Микроистория не жертвует познанием индивидуального ради обобщения: в центре ее интересов остаются поступки людей или единичные события. При этом микроисторики не склонны отрицать возможность абстрактных заключений поскольку выявление малозаметных признаков или отдельных казусов может содействовать выявлению более общих феноменов. Именно такая позиция и была названа вниманием к нормальному исключению. Микроисториков не устраивает и альтернатива принесения в жертву индивидуального ради обобщения или преклонения перед неповторимостью индивидуального. Такой выбор неконструктивен, необходимо такое познание индивидуального, которое бы не позволяло отбросить его как нечто несущественное. Сосредоточив внимание на поведенческих типах, микроисторики обогатили социальный анализ, увеличили число его переменных. 152 С помощью традиционных источников и подходов зачастую невозможно обосновать повседневные поступки и мысли человека, его сомнения и колебания. Характер личности формируется под противоречивым воздействием. Микроистория стремится разрушить иллюзию цельности, непротиворечивости личности, показывая, что стиль эпохи, будучи следствием коллективного опыта людей, сочетается со стилем поведения какой-либо группы и дифференцируется в пространстве свободы отдельного индивида. Именно поэтому микроистория не является ни научной школой, ни автономной дисциплиной, она неотделима от практики историков и порождена определенным состоянием социальной истории. Изменив масштаб анализа, микроистория дистанцировалась от общепризнанной модели социальной истории, однако предпочтение индивидуального не означало оппозицию социальному, напротив, была поставлена цель – найти иной способ подхода к социальному, через частную судьбу. За этой судьбой проступает все единство пространства и времени, т.е. микроисторический подход обогатил социальный анализ, обеспечив многообразие его вариантов. Некоторые микроисторики отказываются от обычной манеры письма и прибегают к иной технике повествования. Работа Гинзбурга «Сыр и черви» написана в форме отчета о судебном расследовании, книга о пьемонтской армии XVIII века создана по модели японского «Расёмона», когда один и тот же эпизод описан в трех разных рассказах. Поиски формы имеют не столько эстетический, сколько эвристический смысл. Читатель приглашен к конструированию объекта исследования и приобщен к его толкованию. Способ изображения помогает познанию и открывает новые возможности восприятия самого исторического сочинения20. Критическое отношение к микроистории позволяет различать два варианта микроисторического дискурса: интерпретацию-нарратив и интерпретацию-микромодель21. При этом первый вариант приветствуется, второй вызывает сомнения профессионального характера. Чтобы не допускать упрощения сложных проблем, микроисторик должен принимать во внимание глубинные взаимосвязи феноменов, создавшие тот или иной исключительный случай – казус. Одни понимают казус как дан- 153 ность, другие - как методику вычленения объекта исследования. И в том и в другом случае микроисторический анализ особенно эффективен при наличии богатой историографической традиции, когда возникает определенная перегруженность стереотипами. Именно тогда исследование казуса позволяет расставить новые акценты и найти нюансы, способные изменить стереотипное восприятие данного феномена. Кроме того, микроанализ более «сходен с черчением, где задан масштаб, правила изображения, чем с живописной импровизацией… казус можно считать как бы проекцией на плоскость объемной фигуры исторического явления»22. Микроанализ особенно плодотворен при изучении переломных эпох. Индивиды, живущие в такие эпохи, получают больше возможностей для проявления индивидуальных качеств личности, тем более, если они плохо вписываются в рамки традиционного мировосприятия и стиля жизни. Ценности и жизненные позиции таких персонажей меняют старое сознание и подготавливают элементы нового общества23. В микроистории можно выделить несколько направлений, таких как локальная история, микроисторическая интерпретация эпизода, персональная история и др. Персональная история не решает социальных проблем, будучи склонна к анализу экзистенциальных проблем, что сближает ее с психоисторией. Иногда микроисторию именуют историей повседневности, так как она дает возможность понять культурную ментальность длительных исторических этапов и этику повседневного поведения. Подобная методология позволяет историку приблизиться к людям минувших времен и понять механизмы их воздействия на ход исторического процесса. Элементы микроистории перестали третироваться как мелкотемье. Микроистория и макроистория воспринимаются не столько в конкурирующих, сколько в коррелятивных отношениях, т.е. в отношениях взаимообусловленности. Поскольку единичные явления иногда более показательны, чем повторяющиеся, против микроистории бессмысленно возражать. А вот постмодернистская методология, которой отчасти и вдохновлялась микроистория, встречает очень серьезные возражения. Так, А.Я. Гуревич обратил внимание на то, что в обстановке роста 154 национализма возникают или возрождаются всякого рода псевдоисторические мифы и измышления. По его мнению, интеллектуально безответственные гуманитарии «расшатывают» понятие исторической истины, общество утрачивает историческую память. Постмодернистское безразличие к истине разрушает основы исторической науки. Гуревича беспокоила настойчиво повторяемая историками мысль об изобретении собственного предмета. Он полагал, что упор на риторические приемы заслоняет контуры прошлого, делает их расплывчатыми. В то же время Гуревич почти благодарен постмодернистам за то, что именно они подчеркнули своеобразную «непрозрачность» исторического источника, указали на необходимость анализа его «иррационального остатка». Иначе говоря, «постмодернизм сослужил историкам добрую службу, несмотря на перехлесты»24. Постмодернизм заставил историка более усердно и последовательно обращаться к саморефлексии, самокритике и самоиронии, вынудил поставить знаки вопроса там, где раньше стояли утвердительные точки или ликующие восклицательные знаки. Тем не менее критика постмодернизма не прекращается. По словам профессора экономической истории Миланского университета Дж. Сапелли, для постмодернизма характерна болезнь бесплодия. Возражая против постмодернистского намерения свести всю действительность к тексту и языку, он напоминает, что текст и язык – лишь инструменты анализа реальности, которую нельзя исчерпать научным дискурсом25. Многие историки встретили «наступление постмодернистов» в штыки, увидели в нем угрозу социальному престижу исторического образования и статусу истории как науки. Британский историк Р.Эванс объявил поход против постмодерна в историографии. Его коллега, профессор Открытого университета Великобритании А. Марвик, заявил, что метаистория – это вздор, раздражающий его профессиональное достоинство. Он назвал постмодернизм «опасной и вредной формой мышления», современной фазой «метафизического подхода» XIX века, когда история и литература не были отделены друг от друга. По мнению А. Марвика, постмодернизм – это «гремучая смесь гегельянства, марксизма и ницшеанства»26. 155 Отметив важность конструктивной критики постмодернизма, руководитель Научного центра теоретических исследований Института всеобщей истории РАН В.Л. Мальков назвал его «ненормативной историографией». Он полагал, что постмодернисты породили «изрядную энергию заблуждений», превратили историографию в поле для импровизаций, в эстетическую игру. Мальков обвинил постмодернизм в разрушительном воздействии на попытки воссоздания целостной картины истории, в отказе от диалога, способного определить макроисторическую перспективу27. Умберто Эко писал, что в музыке постмодернистские установки «ведут от атональности к шуму, а затем к абсолютной тишине». К чему ведут постмодернистские поиски в историографии, покажет время. И все же «ученый как творческая личность вправе ориентироваться на любые угодные ему образцы и выбирать те сферы, методы и способы исследования (творчества), которые ему по душе, которые соответствуют его психологическим, нравственным, творческим особенностям, его опыту и образованию»28. Трудно не согласиться с этим мнением российского историка А.А. Сванидзе, включая те оговорки, которые она делает, подчеркивая, что критерием выбора неплохо бы иметь «научно аргументированные итоги и нравственную безупречность». Большая подборка статей в «Американском историческом обозрении» была пронизана сочувствием к постмодернистским идеям. Особенное внимание авторы уделили тому факту, что постмодернизм утверждает открытость исторического познания, освобождает его от догматизма. Именно с этим связана возможность радикального обновления исторической дисциплины29. Постмодернизм вызвал «лингвистический поворот» в исторической науке и тем самым повлиял на язык историков, далеких от стилистики и проблематики постмодернизма. А что касается его опасностей, то они явно преувеличены. Не случайно число работ, выполненных в постмодернистском ключе, совершенно незначительно. Так, на кафедре новой и новейшей истории Пермского университета была написана только одна диссертация, стиль и метод которой отвечает духу постмодернистского подхода30. 156 В заключение хотелось бы обратить внимание на нравственные и креативные последствия постмодернистского вызова – воспитание научной скромности, осознание многозначности и относительности исторической истины. См. об этом: Елисеева О.И. Историософский маньеризм как метод познания реальности // Отечественная история. 2000. № 5. 2 Междисциплинарные подходы к изучению прошлого: до и после «постмодерна». М., 2005. С. 6. 3 Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. С. 9 – 10. 4 Деррида Ж. Рана истины или единоборство языков // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 334. 5 Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. 6 Феллер В. Введение в историческую антропологию. М., 2005. С. 95. 7 Клишина С.А. Русская идея в постмодернистском пространстве // Россия XXI. 1998. № 1 – 2. С. 146. 8 Смит С. Постмодернизм и социальная история на Западе: проблемы и перспективы // Вопросы истории. 1997. № 8. 9 Анкерсмит Ф.Р. Историография и постмодернизм // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 152. 10 Там же. С. 153. 11 Репина Л.П. Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // Одиссей. М., 1996. 12 Ньюман Л. Значение методологии: три основных подхода // Социологические исследования. 1998. № 3. С. 133. 13 Современные методы… С. 207 – 208. 14 Репина Л.П. Комбинационные возможности микро- и макроанализа // Диалог со временем. М., 2001. Вып. 7. С. 62. 15 Там же. С. 67. 16 Там же. С. 83 – 85. 17 См. об этом: Бессмертный Ю.Л. Проблема интеграции микро- и макроподходов // Историк в поиске. М., 1999. С. 294. 18 Современные методы… С. 47. 19 Там же. С. 225. 20 Там же. С. 122 – 124. 21 Селунская Н.А. В поисках утраченной микроистории // Диалог со временем.. М., 2004. Вып. 12 22 Там же. С. 79. 23 Абрамсон М.Л. О некоторых проблемах микроистории // Историк в поиске. С. 265. 1 157 Гуревич А.Я. Историк у верстака // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 100. 25 Сапелли Дж. Методология социальных наук: новые подходы // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. С. 102. 26 Высокова В.В. Полемика Хейдена Уайта и Артура Марвика // Альманах исследований всеобщей истории. Екатеринбург, 2001. С. 55. 27 Мальков В.Л. Весь век на ладони // Вопросы истории. 1997. № 5. С. 146. 28 Сванидзе А.А. Строгости и свободы музы истории // Историк в поиске. С. 250. 29 Могильницкий Б.Г. Дискуссии о постмодернизме в американской историграфии // Американские исследования в Сибири. Томск, 2000. С. 109. 30 Дегтярева М.И. Консервативная адаптация Жозефа де Местра: Дис… канд. ист. наук. Пермь, 1997. 24 Лекция 8. Исторические законы и альтернативы В. Набоков безжалостно высмеял идею поиска законов истории: «Глупо искать закона, еще глупее его найти. Надумает нищий духом, что весь путь человечества можно объяснить каверзною игрой планет или борьбой пустого с туго набитым желудком, пригласит к богине Клио аккуратного секретарчика из мещан, откроет оптовую торговлю эпохами, народными массами, и тогда несдобровать отдельному индивидууму, с его двумя бедными «у», безнадежно аукающимися в чащобе экономических причин. К счастью, закона никакого нет – зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, - все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и брюзгливый буржуа… написавший темный труд “Капитал” - плод бессонницы и мигрени»1. В современной науке превалирует идея о том, что случайное и необходимое – равноправные партнеры во Вселенной, что законы в естественнонаучном понимании история не открывает. Она может разработать лишь процедуры для распознавания 158 подлинных исторических фактов и отделения их от наслоений, сохранившихся в источниках. Переосмысление предмета истории, возникновение тенденции к его фрагментации ведут к тому, что случайность рассматривается как закономерность, а не как ее антипод. Множественность смыслов не угрожает исторической науке так, как ей угрожает утверждение безусловности одного толкования и объяснения. Е. Евтушенко писал, что у слова «случайность» есть имя иное – судьба. Совпадение случайностей в судьбах известных исторических деятелей иногда выглядит совершенно поразительно. А.Линкольн и Дж.Кеннеди были убиты в пятницу, выстрелами в затылок, оба оставили по двое детей. Тот и другой были избраны в конгресс соответственно в 1847 и 1947 годах, а президентами стали в 1860 и 1960-м. Их невестам в момент замужества было по 24 года. Секретарь Линкольна по фамилии Кеннеди не советовал ему ехать в театр на представление, ставшее роковым. Секретарь Кеннеди по фамилии Линкольн отговаривала шефа ехать в Даллас. Преемниками обоих стали Джонсоны – в 1808 году родился Эндрю, в 1908 году – Линдон2. Американский историк А. Шлезингер, размышляя над ролью личности в истории, напоминает о том, что безработный каменщик покушался на Ф. Рузвельта за две недели до его вступления на пост президента, а У.Черчилль чуть было не погиб под колесами автомобиля в Нью-Йорке в 1931 году: «А каким бы стал наш XX век, если, допустим, Ленин умер бы в Сибири от тифа в 1895 году, а Гитлер погиб бы на Западном фронте в 1916 году?»3. К числу забавных относится и обнаружение сходства в судьбах Гитлера и Наполеона: одни и те же события происходили с разницей в 129 лет – и даты рождения, и даты прихода к власти, и даты поражений. История – это наука о людях, об их деятельности и устремлениях. Научный поиск историка связан с выяснением единства, в котором реализуются объективная и субъективная грани исторического процесса. Именно в этом историческое знание сближается с социологическим. Однако было бы странным ограничивать деятельность историка подбором иллюстраций к действию социологических закономерностей, не пытаясь выяснить хотя бы механизм их функционирования в тех 159 или иных конкретно-исторических условиях. Глубокое изучение прошлого неизбежно обнаруживает повторяемость в ситуациях, событиях и явлениях. При этом очевидна ограниченность этой повторяемости, так как даже схожие ситуации и явления имеют в разных условиях принципиально разные причины и следствия. За сходством формы нередко обнаруживается различие содержания. Повторяемость не означает шаблонного воспроизведения того, что было раньше. Битва при Ватерлоо и Сталинградская битва неповторимы и не могут быть воспроизведены в какойлибо экспериментальной лаборатории. Однако и в природе не существует двух абсолютно подобных электронов, тем не менее естествоиспытатели формулируют законы, общие для ансамблей электронов, не ставя себе задачей описать траекторию каждого электрона. Повторяемость в истории связана с преемственностью процессов и в то же время позволяет обнаружить специфическое и индивидуальное в явлениях. В историческом процессе различают повторяемость возможностей и вариантных путей развития исторических ситуаций, повторяемость условий различных событий. Абсолютной повторяемости и полной тождественности не существует и в природе. Только в математике три равно трем полностью и без остатка. Это равенство есть не что иное, как тождество абстракций, поскольку три лошади, атома, клетки не равны трем другим лошадям, атомам, клеткам. Предмет не равен абсолютно даже самому себе. Каждое повторение тождественно лишь относительно и содержит в себе момент различия. Прошлое человечества необозримо многообразно, событий в нем происходило в бесчисленном количестве. Рассказать обо всем – немыслимая, да и бесполезная задача. В связи с этим вспоминается старинная восточная притча. Новый шах, вступивший не персидский престол, поручил ученым составить полный свод всемирной истории, чтобы учиться на ее примерах. Двадцать лет спустя ученые привели шаху караван из 12 верблюдов, каждый верблюд был нагружен ношей из 500 томов. Шах поблагодарил ученых за усердие, но сказал, что слишком занят государственными делами и не надеется прочесть столь длинную историю. Над сжатым изложением ученые трудились 160 еще несколько десятков лет, и каждый раз получали приказ сократить сей труд. Когда всемирная история была сокращена до размеров одного тома, шах уже лежал на смертном одре. Посетовав на то, что так и не узнал историю людей, шах услышал от ученого секретаря ее сжатое до трех слов изложение: «Люди рождались, страдали и умирали». Смысл притчи указывает на банальность любого обобщения, при этом очевидна ее поучительность: историки никогда не отразят всего, что происходило в истории. Наше мышление в состоянии охватить прошлое лишь в общих чертах и в определенных пределах. Материал, которым приходится оперировать историку, нередко пугает своей грандиозностью. Гигантское скопление исторических событий самого различного масштаба и значения представляется хаосом и требует систематизации. Неисчерпаемость исторического материала не означает его непознаваемости. Абстрагирование и обобщение эмпирики связано с поиском закономерностей. Пробираясь в своем поиске через чащу индивидуальных фактов, историк ставит вопрос о их смысле. Представление о том, что ход истории подвластен определенным закономерностям, - такое же древнее, как и допущение об абсолютном произволе в ней фортуны4. Уже в седой древности возникло понимание того, что исторические факты и события требуют объяснения. Зародыши закономерности исторического процесса можно обнаружить у Фукидида. Полибий обратил внимание на присутствие в истории повторений, которые он не считал случайными. В древних миропредставлениях разных народов сформулирован своеобразный «железный закон» истории, в силу которого все происходит в положенное время: рождение и разрушение, приобретение и утрата, встреча и расставание, война и заключение мира. Библейский образ разбрасывания и собирания камней – разновидность этого общечеловеческого представления. Античные стоики, выдвинувшие тезис о закономерном происхождении событий, понимали эту закономерность фаталистически. Средневековые хилиасты развивали теологическое представление о законах истории. Кампанелла продолжил линию стоиков, а Макиавелли, отказавшись от мистического 161 толкования законов истории, провозгласил закономерную смену форм государственного управления, основанного на насилии и интересе. Марксистское понимание законов истории было изрядно догматизировано и упрощено многочисленными толкователями. Между тем сам Маркс был далек от однозначности в этом сложном вопросе. «Творить мировую историю, - писал он, - было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только под условием непогрешимо благоприятных шансов. С другой стороны, история имела бы очень мистический характер, если бы случайности не играли никакой роли. Эти случайности входят, конечно, сами составной частью в общий ход развития, уравновешиваясь другими случайностями. Но ускорение и замедление в сильной степени зависят от этих “случайностей”, среди которых фигурирует и такой “случай”, как характер людей, стоящих вначале во главе движения»5. М.А. Барг утверждал, что в марксизме есть и формальнологические, и теоретические противоречия, касающиеся вопроса о законах истории. С одной стороны, положение о том, что люди сами творят историю, преследуя свои осознанные цели. С другой стороны, немало сентенций о железной необходимости возникновения тех или иных тенденций. Ситуации, отраженные в фольклорных шутках типа «за что боролись, на то и напоролись» или «хотели как лучше, а получилось как всегда» современные политологи считают действием «закона непреднамеренных последствий». По мнению Энгельса, в истории общества «повторение явлений составляет исключение, а не правило; и если где и происходят такие повторения, то это никогда не бывает при совершенно одинаковых обстоятельствах»6. Позитивистами открытие законов рассматривалось как задача, посильная лишь для социологии. Поскольку вопрос о законах истории сводился к теоретической абстракции, их открытие мыслилось как задача «теории», находящейся где-то над историографией, но не вытекающей из нее. Историческая наука в позитивистском понимании оставалась «наукой факта», собирательницей и хранительницей всего, что было примечательно в прошлом. Иначе 162 говоря, истории отводилась роль вспомогательной науки при социологии. Швейцарский историк и философ культуры Якоб Бурхардт, с сомнением относившийся к идее исторического прогресса, полагал повторяемость отдельных типологических фаз наиболее характерной особенностью исторического процесса7. Немецкий историк Г. Зиммель, признавая в качестве объекта истории не изолированного индивидуума, а личность, помещенную в систему исторически обусловленных взаимоотношений, исследовал понятия исторической связи и закономерности и предложил свое понимание исторического закона. Он считал историческими законами те умственные конструкции, которые каждый историк создает для систематизации единичных фактов и ориентации в хаосе событий. Иначе говоря, исторические законы, по Зиммелю, это модели, основанные на отражении реально существующих элементов. Произволен при этом лишь способ соединения элементов. Понятие исторического закона у Зиммеля аналогично понятию идеальных типов М. Вебера8. Сам же Вебер утверждал, что «для познания исторических явлений в их конкретных условиях наиболее общие законы, в наибольшей степени лишенные содержания, имеют, как правило, наименьшую ценность… “объективное” исследование явлений культуры, идеальная цель которого состоит в сведении эмпирических связей к «законам», бессмысленно»9. Российский представитель критической школы И.И. Кареев был против употребления термина «исторические законы», считал их «химерой вроде философского камня», но признавал, что в истории действуют социологические и психологические законы. В книге «Историология: теория исторического процесса» Кареев посвятил две главы законам общественного развития и их проявлению в истории, поскольку, отрицая существование каких-то специальных исторических законов, он не отрицал законосообразности, действующей как в природе, так и в обществе. В.О. Ключевский считал, что случайное явление есть нечто немыслимое, что термином «случайность» мы только прикрываем собственное незнание причин, вызвавших случайное явление. Любое явление имеет какую-то причину. 163 Ключевский полагал, что исторические законы – это законы взаимодействия исторических сил. Рассматривая разные виды исторических объяснений и обобщений, он сравнивал историческую схему и исторический закон. Если при обобщении обнаружена только последовательность или связь хронологических смен явлений, значит получена историческая схема. Если историку удалось установить причину, по которой эта смена совершается, значит он обнаружил исторический закон. Схема позволяет ответить на вопрос, в каком порядке сменяются явления, а закон объясняет, почему они сменяются в таком порядке10. Ученик Ключевского П.Н. Милюков считал, что закономерности исторических явлений нужно принимать независимо от того, может ли историческая наука открыть их. У Ключевского учился и знаменитый историк Г.В. Вернадский, слушавший вдобавок лекции Г. Риккерта во Фрайбурге. Он сформулировал закон соотношения исторического времени и пространства: «Социальное явление для данной местности изменяется во времени. Для данного времени социальное явление различно при перемене пространства… Тысяча верст на север или восток от социального центра могут иметь для исследователя такое же значение, как сто лет в глубь времен»11. В действии этого закона Вернадский видел одну из важнейших причин своеобразия российской истории. Профессор Пенсильванского университета Э. Чэйни в трудах по английской истории XVI века вывел несколько исторических законов, полагая, что они применимы ко всему процессу развития всех стран и народов. Это закон преемственности, закон непрочности («все преходяще»), закон взаимозависимости личностей, классов, наций, закон роста демократизма, закон необходимости свободного согласия и закон морального прогресса12. Критикующий Г. Риккерта М.Н. Покровский был уверен, что «на русской почве закономерность исторического процесса принадлежит к “среднешкольным” вопросам… Если человек есть часть природы, то и человеческая история может быть лишь частью общего мирового природного процесса. И если этот процесс закономерен, то должны существовать и законы истории: нельзя себе представить внезаконной части закономер- 164 ного целого»13. При этом Покровский замечал, что такое отношение к законам истории, вероятно, составляет «наш национальный предрассудок», который отчасти свойствен французам и англичанам, но совершенно не характерен для большинства немцев. Соратники М.Н. Покровского по выработке большевистской идеологии активно утверждали и пропагандировали идею закономерности. Одни делали это даже талантливо, как, например, Лев Троцкий, другие – топорно и прямолинейно, как Сталин. Описывая и объясняя историю русской революции, Троцкий, в частности, подчеркивал, что «историческая закономерность не имеет ничего общего с педантским схематизмом». Наиболее общим законом исторического процесса он считал неравномерность развития, доказывая, что отчетливее и сложнее всего она обнаруживается в судьбе стран, запоздавших на пути социального прогресса: «под кнутом внешней необходимости отсталость вынуждена совершать скачки». Из универсального закона неравномерности Троцкий выводил другой закон, называя его «законом комбинированного развития, в смысле сближения разных этапов пути, сочетания отдельных стадий, амальгамы архаических форм с наиболее современными»14. Мне представляется интересным отметить, что в этих рассуждениях Троцкого угадываются идеи конвергенции, сформулированные гораздо более отчетливо П. Сорокиным, Р. Ароном и другими западными мыслителями, но гораздо позднее, чем это сделал Троцкий. Подход Сталина был совершенно догматическим. Законы для него были аксиомами, жестко зафиксированными и действовавшими почти в автоматическом режиме. Так, Сталин утвердил в качестве закона постоянный рост возмущения трудящихся условиями жизни при капитализме. Советским историкам приходилось искать и находить доказательства существования этого «закона». По страницам учебной и научной литературы стала гулять как заклинание фраза «положение рабочих (крестьян, рабов) было тяжелым». Признаки его ухудшения пытались найти даже во времена благоприятной экономической конъюнктуры разных стран, эпох и народов. 165 В современном научном познании возрастает роль категории вероятности. Без нее уже невозможно постигать мир и выстраивать научные теории. С тех пор, как австрийский монах Г. Мендель сформулировал законы наследственности, действие их было подтверждено на множестве организмов – от слона до трески, от водорослей до дуба. Вместе с тем законы Менделя обладают чертой, которая отличает их от таких законов физики, как законы Ома, Бойля - Мариотта и др. Они лишь позволяют предположить наступление тех или иных событий, поскольку ген передается с вероятностью 50%. Вероятность какого-либо события, в том числе исторического, есть степень необходимости в возможном. Если не учитывать реальных возможностей того или иного изменения хода событий, то легко прийти к фатализму. Необходимость не просто трудно, а скорее невозможно обнаружить в истории отдельного события. Отдельное событие случайно, оно могло произойти, а могло и не произойти. Необходимость можно обнаружить в некоторой цепи событий, в их связи. Уверенность, с которой можно предсказать поведение человека, будет совершенно иной, чем та, с которой, например, рассчитывают период колебания маятника или угол преломления светового луча при переходе из одной среды в другую. Немецкий просветитель Т. Лихтенберг еще в XVIII веке привел показательную аналогию: 3 июня 1769 года планета Венера должна была пройти через солнечный диск. Астрономы и любознательные граждане увидели ее в положенное время. А 8 июня через Геттинген должна была проследовать прусская принцесса, но ее напрасно ожидали до глубокой ночи – она появилась лишь на следующий день. Примеров, указывающих на важность использования категории вероятности при исследовании действий субъектов исторического процесса, можно привести великое множество. По мнению М.А. Барга, социологические законы действуют в рамках дилеммы «возможно – невозможно», а палитра действия исторических законов иная: «вероятно – маловероятно – невероятно». Академик Е.М. Жуков подчеркивал, что исторический закон в отличие от естественно-исторического проявляется не прямолинейно, а лишь как тенденция. Конкрет- 166 ное действие исторического закона модифицируется в зависимости от специфических условий той социальной среды, в которой он действует. При благоприятных условиях исторический закон – тенденция действует с наибольшей определенностью, приближаясь к прямолинейности. При наличии тормозящих факторов действие исторического закона замедляется, прямая линия развития заменяется зигзагообразной формой движения. По Б.Г. Могильницкому, исторический закон от социологического отличает законообразующая деятельность субъективного фактора. Социологические законы безусловны, исторические – условны, т.е. реализуются в определенных условиях, с учетом исторических случайностей. Историческая случайность – не антитеза исторической закономерности, а компонент, ее формирующий. Историческая случайность входит в предмет исторической науки в той мере, в какой влияет на ход истории. Она может быть порождена деятельностью человека или оказаться проявлением стихийных сил природы, как, например, божественный ветер XIII века, спасший Японию от монгольского завоевания. Могильницкий не считает закономерность простой суммой случайностей, так как множество случайностей гасит друг друга, не оказывая какого-либо заметного влияния на движение истории15. Философ А.В. Гулыга также подчеркивал статистический характер общественных законов. Они проявляются как суммарное действие огромного множества случайных факторов. При этом он полагал, что отличие статистических законов от динамических следует искать не в степени их достоверности. Различие их состоит в том, что статистические законы не обнаруживаются в единичном явлении в любой момент времени, а действуют там, где проявляется суммарное воздействие огромного множества однородных случайностей. Выводы, сделанные на основе анализа действия статистических законов, тем точнее, чем больше число единичных явлений данного процесса16. Профессор Пермского университета Лев Ефимович Кертман, одним из первых в годы «оттепели» начавший читать студентам курс методологии истории, выдвинул гипотезу, согласно которой в исторической науке существуют законы, принципиально отличающиеся по типу и характеру от законов 167 других наук, в том числе гуманитарных. Под собственно историческими законами он понимал законы исторических ситуаций. Сущность исторической ситуации Кертман определял особенностью данного социального взаимодействия. Понимая под ситуацией взаимоотношения классов, сложившиеся в данной стране в определенный период ее истории, он предлагал типологическое обобщение не систем, а именно ситуаций. По мнению Кертмана, законы исторических ситуаций устанавливают не неизбежность следствия, а его возможность или невозможность при ситуации данного типа. Законы ситуаций, на его взгляд, выражают не только зависимость возможности следствия от ситуации, но и степень этой возможности, обусловленной зрелостью ситуации данного типа. Наконец, использование законов этого типа должно носить конкретноисторический характер17. Многие исследователи считали правомерной постановку вопроса о разделении законов истории на уровни по степени абстрагирования. Некоторых смущало выражение «конкретноисторические законы», ибо законы – всегда абстракция. Оппоненты Кертмана обращали внимание на то, что, ограничение предмета исторической науки только одним уровнем теории – уровнем «особенного» не позволяет исходя из концепции особых исторических законов преодолеть негативные последствия устойчивого представления о том, что дело историка добывать факты, а не формулировать законы, ибо этим должен заниматься социолог18. Споры по поводу вероятностного характера исторических законов приобрели в 70 – 80-е годы XX века весьма интенсивный характер в советской исторической науке. Выступая на заседании Президиума АН СССР, академик И.Д. Ковальченко сказал, что не отрицает такого подхода к пониманию исторических закономерностей, но возражает против того, чтобы закономерность и ее осуществление рассматривались только как вероятностные. По его мнению, историческая необходимость может реализовываться как вероятностный процесс, как неизбежность и как случайность. Философ М.Н. Руткевич возразил против использования категории «необходимость» и «случайность» абстрактно: то, что сегодня необходимо, завтра может 168 стать случайным, поэтому нужна привязка этих понятий к конкретно-историческим условиям19. С точки зрения авторов коллективного труда по теории исторического процесса, исторические законы оказываются либо социологическими законами, действующими на протяжении не всех, а лишь некоторых исторических периодов, либо же специальными законами, изучаемыми такими частными общественными науками, как история права, этики, эстетики и т.п.20 Но особое распространение на современном уровне исторических знаний получило представление о том, что методология исторических исследований остается все-таки на уровне гипотез, а не на уровне законов. Единственным «законом истории» признается борьба идей и интересов, поэтому историческая наука в большей степени конкретизирует и объясняет, чем теоретизирует. Не устанавливая закономерностей, историческая наука предлагает определенную систему оценки, классификации и обобщения фактов21. Многолетние поиски исторических законов открывали дорогу вульгарно-натуралистическим представлениям об историческом процессе, не оставлявшим места для понятия исторической альтернативности. Канонизированной в «Кратком курсе истории ВКПб» жесткой детерминистской схемой общественного развития предусматривались его однолинейность, тождественность таких понятий, как «историческая закономерность», «историческая необходимость» и «историческая неизбежность». Однако историческая необходимость сама является историчной. Демифологизировать понятие исторической необходимости позволяет использование категории альтернативности. С ее помощью можно раскрыть механизм действия исторической необходимости в конкретной социальной действительности. Представим себе некое «поле вероятности». Например, вероятность того, что некое общество XX века будет систематически игнорировать закон стоимости, теоретически была невелика. Однако Советский Союз довольно долго следовал по этому пути, реализуя один из наименее вероятных вариантов развития, что требовало огромных политических усилий22. 169 Некоторые историки настаивают на том, что альтернативен не сам исторический процесс, а процесс его познания. Однако и в этом смысле историк обречен на сослагательность, на осмысление реализовавшейся исторической действительности как островка в океане неосуществившихся возможностей. Вопрос «что было бы, если бы…?» вполне правомерен, так как в истории было много возможных вариантов развития. Много, но не бесконечно много. Когда-то Гегель утверждал, что все, не противоречащее самому себе, может произойти, следовательно, римский папа формально может стать турецким султаном, и наоборот. В природе тоже могут произойти события бесконечно маловероятные. Физикам известно так называемое «чудо Джинса», когда может замерзнуть вода в раскаленной печи. Подсчитано, что вероятность выигрыша шахматной партии у чемпиона мира игроком, незнакомым даже с правилами игры, равна 1:10122. Согласно «теории вероятности» даже шимпанзе имеет какой-то шанс отстукать на клавиатуре компьютера всю британскую энциклопедию. Возможности, подобные названным, почти равны невозможности. Естествоиспытателя не интересует «своеобразие» каждой частицы и ее пути. А в истории такой «частицей» оказывается и Гомер, и Данте, и Эйнштейн, и просто человек со своей неповторимой судьбой. Без Пушкина, скажем, или декабристов история России осталась бы историей России, но это была бы уже другая история. Каждое историческое событие в отличие от событий естественной истории таит в себе необходимость иного свершения с какой-то степенью вероятности. Сослагательная история антитоталитарна и высокоморальна по своей сути. Изучая альтернативный характер истории, мы можем упрочить свои представления о нравственных ценностях человечества. Обсуждение проблемы «несвершившейся истории» не может быть изолировано от изучения культуры и психологии участников исторического процесса. А.Я. Гуревич писал об «избыточности истории», имея в виду то, что она изобилует вариантами и возможностями, из которых реализуются лишь немногие23. Историк должен стремиться к учету всех тенденций, чтобы показать полноту исторического развития, иначе он превращается в певца победителей, «больших батальонов, которые всегда пра- 170 вы». Если Гуревич был уверен в существовании множества противоречивых тенденций «в каждый момент истории», то Ю.М. Лотман различал те сферы истории, где люди играют роль частиц, включенных в движение гигантских сверхличностных процессов, и те ее области, в которых человек благодаря интеллекту и воле совершает выбор возможностей. В первом случае законы причинности предстают в простой форме, а во втором необходимы поиски новых и более сложных формул причинности24. Немецкий писатель А. Андерш считал теорию «свершившихся фактов» глубоко бездуховной и аморальной. Размышляя об уроках немецкого фашизма и тоталитаризма вообще, он писал о «диктатуре изъявительного наклонения», когда с помощью принципа «что было, того не вернешь» оправдывается любое историческое свинство. Принимая историю «как она есть», отказываясь представить, как могли бы развернуться события при иных условиях, историк отказывается от самого представления о лучшей возможности. Признание альтернативности в истории означает более сложный подход к ней, исключает возможность детерминистских представлений об историческом прогрессе производительных сил, определяющем все другие стороны жизни общества. Вопрос альтернативности истории связан с вопросом об альтернативности человеческой судьбы. «Люди не делают историю, это история делает их», - настаивал когда-то Ф. Бродель. Сослагательное наклонение становится неким тестом для определения глубины объяснений, предлагаемых историком. Чем выше уровень сложности и организации системы, тем менее она вероятна. Так, в осевое время только пять архаических обществ создали цивилизации, историческая динамика нового времени проявилась только в европейском обществе. Свобода выбора существовала в истории далеко не всегда, история не всегда была «развилкой дорог»: поле альтернатив нередко оставалось сужено в силу самых разных обстоятельств, отмечались длительные периоды безальтернативного развития. В российской истории первой половины XX века чаще всего выделяют четыре «развилки»: использованные Лениным в 1917 и 1921 годах и не использованные Сталиным в 1925 – 1927 171 и 1934 – 1936 годах В 1917 – 1920 годах противостояли пролетарская и монархически-буржуазная альтернативы. В середине 20-х годов был упущен шанс избежать кризисных явлений в экономике, в середине 30-х – упущена возможность антифашистской демократизации сталинского режима. Изучение истории с использованием элементов сослагательного наклонения позволяет понять ее не как неизбежность, а как следствие решений, принятых людьми: «…отвергнутая историческая альтернатива не уходит в небытие… а вплетается живой тканью в исторический процесс и во многом определяет его направление»25. Общество, где безраздельно царит одна линия развития, неизбежно обречено на застой и деградацию. Утратив динамизм, такое общество утрачивает и историческую перспективу. Так называемые «окаменевшие» цивилизации несли на себе печать своеобразного износа механизма альтернативности26. Функционирование общественного организма зависит от своеобразной корректировки исторической необходимости; если этого не происходит, то общество теряет способность к саморазвитию. Беспощадное подавление всякого инакомыслия в СССР привело к значительной деформации и деградации советского общества. Идея о том, что у истории нужно и можно учиться, ориентирует на альтернативность подходов к ней. Ведь если бы история носила фаталистический, прямолинейный характер, то и учиться у нее было бы нечему. Многообразие культур и способов деятельности предполагает разнообразие выходов в новые исторические реальности. Видение исторических альтернатив позволяет учитывать опыт истории. Поскольку «побежденные альтернативы» и «отвергнутые возможности» не исчезают бесследно, а сохраняются в исторической памяти, они имеют право быть изученными. Представление об альтернативности исторического процесса - не такое древнее, как представление о его закономерности. Возникло это представление в европейской культуре у авторов утопических сочинений XVI – XVII веков. В настоящее время существует множество направлений контрфактических исторических исследований: «альтернативная 172 история», «экспериментальная история», «виртуальная история», «ретроальтернативистика», «несостоявшаяся история» и др. Между ними часто не обнаруживается не только содержательного, методологического единства, но и даже терминологической общности27. Контрфактическое историческое познание направлено на три объекта: личности, события, факторы. Они задают определенную парадигму анализа: логику, способы, идеи, задачи. Поэтому каждый из этих объектов можно считать соответствующим самостоятельному уровню исследования, а именно персоналистскому, событийному, факторальному. Разница между ними выражена в способах манипуляции с объектами28. Мощный призыв к изучению исторических альтернатив содержался еще в трудах М. Вебера. Он утверждал, что историческая наука должна представлять разные возможности развития, выявлять последствия «иных решений», ставить вопрос о тождественности результатов действий при изменении каузальных компонентов29. Однако до сих пор у историков нет четкой терминологии для описания вероятностных процессов. Выбор из двух вариантов историк еще может представить и описать, выбор же из пятидесяти двух уже признается почти нерешаемой задачей, хотя, скорее всего, вероятность в истории измеряется совсем другими порядками чисел. Усиление интереса к альтернативам привело к существенному размыванию этого понятия. Под альтернативой понимают и развилку на пути исторического процесса, и способность мышления к оценке действительных и воображаемых вариантов, и потенциальную возможность выбора, и некую силу, противостоявшую победившей тенденции. История людей – это уникальный и одновременно естественный феномен: «кривая прошлого откладывается по отношению к оси необходимого и оси вероятного. И мировая история есть точка схождения этих разнонаправленных координат»30. Случайное и закономерное перестают быть несовместимыми и предстают как возможные состояния одного и того же объекта. Проблема альтернативности оборачивается проблемой роли субъективного фактора в истории, проблемой свободы исторического выбора. Она неред- 173 ко сводится к вопросу о том, кто делает этот выбор. Понять логику выбора значит осознать смысл прошедших событий. Существует проблема соотношения альтернативности и многовариантности. В каких случаях можно говорить о «веере возможностей»? Можно ли употреблять понятия моноальтернативности и полиальтернативности? В какой степени социальные противоречия составляют источник альтернативности? Что глубже – противоречия интересов или конфликты идей? Вопросов пока больше, чем ответов. Ясно одно, что при альтернативном подходе анализ любого результата какой-либо исторической коллизии является более точным, более обоснованным, так как он связан с выяснением обстоятельств реализации именно данной альтернативы. Если же исследователь полагает, что полученный результат – единственно возможный, то такое историческое объяснение далеко от соблюдения принципа историзма. Историческая альтернативность – это своеобразная пружина исторической динамики. Нередко авторы различают гипотетические и реальные альтернативы. Изучение альтернативных ситуаций связано с моделированием – вербальным, концептуальным, математическим. Для М.Я. Гефтера история – это «движение Выбора, пересоздающего и самое себя»31. Анализ альтернативности привел его к идее «союза разно-равных», к идее «мира миров», в основе которой лежало убеждение в том, что демократия – это союз разных традиций, этносов, голов. Именно союз, а не единообразие. «Мир миров» - это «диалог вопросов», ведущий к взаимопониманию. Набоков В.В. Соглядатай // Собр. соч. М. 1990. Т. 2. С. 310. Факты приведены М. Кирюшкиным в статье: Размышления о предмете истории // Знание – сила. 1991. № 10. 3 Шлезингер А. Циклы американской истории. М., 1992. С. 609. 4 Барг М.А. Исторические закономерности как познавательная цель исторической науки // История СССР. 1979. № 1. С. 96. 5 К. Маркс – Л. Кугельману 17 апреля 1871 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 1-е изд. Т. 26. С. 108. 6 Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 90. 7 См. об этом: Канетти Э. Человек нашего столетия. М., 1990. С. 465. 1 2 174 Кулыга Л.А. Георг Зиммель о природе исторического познания // Источниковедческие и историографические вопросы всеобщей истории. Томск, 1988. С. 189. 9 Вебер М. Избранные произведения. М., 1999. С. 378. 10 Ключевский В.О. Сочинения. М., 1989. Т.6. С. 79 – 80. 11 Цит. по: Орлова И.Б. Евразийская цивилизация. М., 1998. С. 149. 12 См. об этом: Вайнштейн О.Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX – XX веках. М., 1979. С. 65. 13 Покровский М.Н. Избранные произведения. М., 1967. Кн. 4. С. 227. 14 Троцкий Л. Особенности развития России // Социологические исследования. 1990. № 5. С. 74. 15 Могильницкий Б.Г. Об исторической закономерности как предмете исторической науки // Новая и новейшая история. 1997. № 2. 16 Гулыга А.В. Эстетика истории. М., 1974. С. 17. 17 Кертман Л.Е. Законы исторических ситуаций // Вопросы истории. 1971. № 1. 18 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М. 1987; Желнина И.А. Историческая ситуация. М., 1987. 19 Цит. по: Овчинников В.Г. Вопросы методологии исторических исследований // Новая и новейшая история. 1989. № 3. С. 89. 20 Марксистско-ленинская теория исторического процесса. М., 1981. 21 Коломийцев В.В. Законы истории или социологические закономерности? // Отечественная история. 1997. № 6. 22 Одиссей: человек в истории. М., 2000. С. 83. 23 Там же. С. 56. 24 Лотман Ю.М. Клио на распутье // Новое время. 1993. № 47. С. 58. 25 Сахаров А.Н. Россия: народ, правители, цивилизация. М., 2004. С. 8. 26 Могильницкий Б.Г. Альтернативность в истории советского общества // Вопросы истории. 1989. № 11. 27 Бочаров А.В. Идея альтернативности исторического развития в отечественной историографии // История мысли. М., 2003. Вып. 2. С. 150. 28 Нехамкин В.А. Сослагательное наклонение в историческом познании // Вестник РАН. 2006. №2. С. 138. 29 Вебер М. Избранные произведения. С. 470. 30 Одиссей: человек в истории. С. 71. 31 Гефтер М.Я. Из тех и этих лет. М., 1991. С. 17. 8 175 Лекция 9. Историческое время Историческое сознание, по М. Баргу, это духовный мост, переброшенный через пропасть времен, – мост, ведущий человека из прошлого в грядущее1. Проблема времени – одна из актуальных точек роста большинства наук, поскольку время может переходить в энергию: «в целом неповторяющаяся (во времени и пространстве) жизнь человека или неповторяющийся процесс состоит в огромной части из повторяющихся (во времени и пространстве) элементов»2. На XVII Международном конгрессе исторических наук, проходившем в Мадриде в 1990 году, в числе трех методологических тем обсуждалась концепция времени в исторических трудах Европы и Азии. М. Барг анализировал в своем докладе категорию времени как познавательный принцип исторической науки. Календарное время он назвал «внешним» временем истории, а социально-историческое время - ее «внутренним» временем. Календарное время непрерывно, абсолютно, симметрично. Историческое – прерывно и относительно, в нем возможны цикличность и повторяемость, аритмии, остановки, движения вспять3. Время – одна из форм существования материи. Мы редко вспоминаем это определение. Повседневное восприятие времени кажется таким естественным, не требующим раздумий. Однако трудно представить себе более сложное понятие, чем время. Развитие общества, все явления окружающего мира, все поступки и действия людей – все протекает во времени. И. Бродский писал: Время больше пространства. Пространство – вещь. Время же, в сущности, мысль о вещи. Действительно, понятие «историческое пространство» является предметом изучения в меньшей степени, чем понятие «историческое время». Пространство несет на себе следы исторического времени, оно является статичной картиной динамического времени. Многие исследователи считают, что каждой форме движения материи присуще свое время, что ха- 176 рактеристики времени различны в физике, биологии и истории4. Если физическое время однолинейно, то в историческом времени координаты прошлого, настоящего и будущего пересекаются в человеке. Проблема времени имеет особое значение для исторической науки и по той причине, что объект познания в ней и познающий субъект отделены друг от друга временем. Время в истории имеет свое начало: оно начинается вместе с появлением человеческого общества. Время в физике приближается к чисто количественному времени – его качественные характеристики были обнаружены только А. Эйнштейном. Время в истории имеет ярко выраженные качественные свойства: в одну и ту же эпоху сосуществуют качественно различные времена. У Томаса Манна есть такой образ: мальчик в сумерках сидит на краю колодца и видит звезды, отражающиеся в воде. Он смотрит вниз, но видит верх. Эта дихотомия верха и низа присутствует и в историческом познании: историк вглядывается в прошлое, чтобы увидеть будущее. Благодаря дискретности исторического времени возможна и хронология, и периодизация истории. М. Мамардашвили подчеркивал, что начало всегда исторично и чревато двусмысленностью содержания. Категория времени играет важную роль в мировоззрении, ибо посредством понятия времени в сознании человека оформляется понимание направленности процессов. Время есть нечто более фундаментальное, чем все то, что передано положением часовых стрелок или положением светил на небосклоне. Сущность времени выражает смысл бытия и не может быть сведена к уравнениям физики. Однако в качестве важнейшего критерия исторической ориентации человека и общества в целом время стало восприниматься относительно недавно, примерно с эпохи Возрождения. Первобытные люди представляли время лишь как конец жизни и не придавали ему социального значения. В мифах, сказках, эпосе время не развивается и не меняется. Представления о линейном времени стали одним из достижений средиземноморской цивилизации. Например, чукчи не могли ответить на вопрос Л.Н. Гумилева, сколько им лет, так как считали подобный счет бессмысленным. Их мало интересовала 177 даже смена времени года: они отмечали только день и ночь, а также различали сезоны охоты. Применение теории циклов к истории человечества было следствием сенсационного астрономического открытия, сделанного в вавилонском мире в конце III тысячелетия до н.э. Были открыты три астрономических цикла – смена дня и ночи, лунный месячный цикл и солнечный годовой. Образом времени для древних китайцев был круг, а образом пространства – квадрат5. Конфуций понимал историю и историческое время как движение Ритуала. Для средневекового индийца время было непрерывной чередой вечно повторяющихся циклов. Смена времен года определяла не только ритм полевых работ, но и всю деятельность человека. Рассмотрение в индийских учениях жизни человека как повторяющегося цикла постулировало идею перерождения. Время воспринималось как вращение колеса, ось которого неподвижна и закреплена в пространстве. Если христианство и ислам предполагают неизбежный конец света, то в индуизме время делится на четыре великие эпохи, причем каждая последующая хуже предыдущей, а вместе они составляют великую эру, равную одной тысячной дня Брахмы. В буддийском восприятии времени человек, достигший совершенства, становится буддой и выходит из круга перевоплощений, т.е. из времени. Будда пребывает в Нирване, где понятия времени нет. Но если он желает остаться в мире, чтобы помогать другим живым существам, то его именуют бодисатвой – умеющим преодолевать законы времени, пространства и причинности. Возможность такой сверхмощи обоснована иллюзорностью мира и времени, а посему при достаточном приложении духовной силы с временем можно делать все, что угодно, даже находиться одновременно в двух местах. Многие авторы уверяли, что греко-римский мир был неспособен постигнуть время, рассматривать свое бытие как нечто протяженное во времени. Античный мир жил настоящим моментом, «точкообразно», представляя движение истории как круговорот. Тем не менее именно античные авторы высказали немало принципиальных соображений о проблеме времени. Так, Гесиод уловил линейное течение мирообразования: эпоха Урана – пространство без времени и энергии; эпоха Хрона – добавле- 178 ние времени; эпоха Зевса – добавление энергии. В наше время учение Гесиода сохранилось в геологии в виде учения о смене эр6. Гесиод делил историю человечества на золотой, серебряный, бронзовый и железный век. В античном мире время получило социальную характеристику, формировалось понимание связи времен. Так, Аристотель писал, что настоящее время соприкасается с прошедшим временем и будущим. Он первым включил время в список фундаментальных категорий, структурирующих процесс человеческого познания. Древнегреческие философы различали формальное время – хронос – и подлинное время, исполненное содержания и смысла, – кайрос. Историческое время в религиозных концепциях – это священное время, время бога. Первым, кто теоретизировал в европейской культуре по поводу понятия истории, был Августин Блаженный. Он предостерегал: время стоит, это мы проходим. Развив религиозную концепцию исторического времени, Августин подчеркивал, что только душа сопричастна времени. Он остро ощущал темпоральность в качестве определяющего элемента существования мира, истории и человека. Он переживал движение времени почти физически, ощущал его как поток. Время, по Августину, это пространство человеческой жизни, задающее пределы индивидуальности. В «Исповеди» Августина много внимания уделено проникновению в тайну времени: «…что такое время? Пока никто меня о том не спрашивает, я понимаю, нисколько не затрудняясь; но как скоро хочу дать ответ об этом, я становлюсь совершенно в тупик»7. Историческое время в христианстве драматично. Начало драмы – грехопадение Адама. Понимание земной истории как истории спасения придавало ей новое измерение. Драматизм осознания времени определялся на дуалистическим отношением к миру и его истории8. Время превращалось в постоянное и напряженное ожидание конца земного времени и наступления вечности. Раннее христианство объявило войну циклическим концепциям древности: по кругу блуждают нечестивцы, а история движется вперед к вечному блаженству. Шесть дней творения представлялись христианину целой эпохой, эпохи понимались как возрасты человечества. По слову святого Петра, «у господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один 179 день». Идея исторического времени, свойственная христианству, была внутренне противоречива: она не позволяла преодолеть инерции основного постулата о стабильности и неподвижности основ мира, сотворенного Богом. Вот почему герои древности мыслят подобно современникам хрониста, пишущего о них. Понимание различий между эпохами упиралось лишь в одно: история до пришествия Христова и после него. Особенностью восприятия времени было и слияние библейского времени с временем собственной жизни. Двойственность восприятия времени делала всемирно-историческую борьбу между добром и злом личным делом каждого верующего. Начиная с эпохи Возрождения синонимом времени становится практическая деятельность, ее ритм. Время – это ткань, из которой сделана жизнь. В «Божественной комедии» Данте пришелец из времени встречается с вечностью. Типичным поучением той эпохи была сентенция: «Помни, что упущенное время нельзя вернуть». В трудах Петрарки угадывалась идея чередующихся исторических циклов. Время переосмысливалось: исторический процесс приобретал характер колебаний – добродетельные и порочные лики времени последовательно сменяли друг друга. Гуманисты отказались от традиций средневековых хронистов и наметили трехчленную периодизацию истории – древняя, средняя и новая. Огромное значение для укоренения темпоральных представлений имели открытие собственного прошлого в виде наследия античности, открытие Нового Света и открытие научного знания. Гуманисты ввели в методологию истории разграничение далекого и близкого прошлого. Они стали делить на периоды не только всемирную историю или историю того или иного общества в целом, но и историю социальных подсистем. Например, барокко, классицизм, модерн – это не только стили, но и периоды в развитии европейской культуры, они имеют временные характеристики. А по мнению А. Смита, человечество в своем развитии проходит стадии, которые соответствуют главным способам добывания пищи: охотничью, пастушескую, сельскохозяйственную и торговую. Особое восприятие времени свойственно консервативному образу мысли. Настоящее для консерватора включает и 180 память о прошлом, и смутное ожидание будущего, поэтому консерватору свойственна склонность находить удовольствие в сущем. Спор западников и славянофилов в России можно определить как столкновение двух моделей восприятия времени. Для славянофилов приоритетно прошлое как текст, неверно прочитанный в настоящем, но могущий быть воплощенным в будущем. Для западников настоящее выступает как следствие прошлого и причина будущего. Ускорение темпа исторического времени подготовило почву для появления материалистического понимания истории. К. Маркс иронизировал по поводу того, что «только мелкие немецкие мещанишки, меряющие всемирную историю на свой аршин… могут вообразить, что в подобных огромных процессах 20 лет означает нечто большее, чем один день, хотя впоследствии могут наступить дни, в которых сосредоточивается по 20 лет»9. Многогранность времени проявляется в истории в том, что один и тот же отрезок времени для каждого народа имеет особое содержание; не случайно Л.Н. Толстой писал о вкусе и цвете времени. В. Дильтей определял время как конкретную форму протекания жизни. Ему было важно отметить единство времени с его содержанием, ибо время имеет различный характер в зависимости от того, что его наполняет. У Дильтея есть мысль о «непроницаемости времени для познания». Но он пытался понять время как ритм исторического бытия. Н.А. Бердяев считал проблему времени основной проблемой философии, поскольку время есть величайшая метафизическая тайна и сплошной парадокс. Нить времени казалась ему разорванной: время разорвано на прошлое и будущее, а в середине стоит некая неуловимая точка настоящего, а посему реального времени нет10. Учение о прогрессе, по Бердяеву, это ложное обоготворение будущего, не оправданное ни с научной, ни с философской, ни с моральной точки зрения11. Религия прогресса рассматривает все человеческие поколения, все эпохи не как имеющие собственные ценности и цели, а лишь как орудия и средства для грядущего. Религия прогресса, согласно Бердяеву, соединяет безграничный оптимизм в отношении к будущему с безграничным пессимизмом в отношении к прошлому. 181 Немало нового в понимание исторического времени внес XX век. Время этого века раскалывало и взрывало пространство. Оно летело, как крылатые часы М. Шагала, и истекало, как податливо изгибающиеся циферблаты С. Дали. Мягкие часы у Дали – это символ текучести времени и знак того, что время остановилось: «Все изящней часы, все опаснее время, – пишет Э. Канетти, – время съёживается. Каждый час все короче»12. С изобретением кинематографа появилась возможность увидеть обратимость времени при помощи обратной проекции. Кинематограф лирически освоил возвратное кружение жизни: молодая актриса нередко играет двух женщин разных поколений. Заметной идеей современной культуры стала идея циклического течения времени. В романе Г. Маркеса «Сто лет одиночества» время складывалось в замкнутый век без будущего в духе традиционного мифологического мышления. Современную эпоху характеризует феномен сжатия исторического времени: до предела напряжены память и традиционные связи с прошлым. Именно этим некоторые авторы склонны объяснять даже распад империй, нарушение порядка в организации общества, рост числа негативных явлений. Стремительность перемен ведет к кризису и стрессу на уровне личности, семьи и общества13. Исторический процесс, занимавший в средние века сотни лет, ныне определяется временным масштабом конкретных политических решений. История далека от приписываемой ей линейности – будь то «линейный прогресс» или «линейный регресс». Ее можно понимать как волновой процесс со множеством переходов, результат которых заранее не предопределен. С проблемой времени в истории связаны фундаментальные вопросы исторической науки, такие как периодизация истории, проблемы причинности и закона, возможности и действительности и даже сущности исторического факта. Историческое время характеризуется бесконечными перерывами и скачками, оно имеет разную наполненность в различные исторические периоды, обладая способностью делаться более насыщенным, более ёмким, более интенсивным. Периодизацию истории можно называть методом интерпретации и даже понимания исторических событий и процессов. 182 Измерение истории – это не механическое действие, а своеобразное научное исследование, ведущее к углубленному объяснению свойств данного явления. Лобачевский рассматривал время как движение, позволяющее измерять другое движение. Такие понятия исторической периодизации, как «период», «эпоха», «век», «столетие», возникли еще в древней Греции. Они широко использовались в древнегреческой астрономии, поэзии, математике, но в массовое сознание эти понятия тогда не вошли. Вот как современный историк пишет про VI век до н.э.: «Век уходил. Уходил незаметно, еще не осознавая себя веком. Само это понятие возникнет через тысячу с лишним лет. Историю начнут измерять, между столетиями проведут незыблемые границы, аккуратно расставят порядковые номера… твердо установят, чем VI век отличался от «архаического» VII и «классического» V века»14. Действительно, выделение десятилетий и столетий в периодизации истории вошло в обычай только в средние века. Одна из первых попыток такого деления заключена в знаменитой работе «Магдебургские столетия», изданной в XVI веке. Каждый из 13 томов истории постепенного упадка католической церкви охватывал один век. Таким образом, автор этой книги, лютеранин Маттиас Флациус Иллирикус, вместе с соавторами ввел одно из наиболее устойчивых понятий европейской историографии. Периодизация – это ключ к раскрытию содержания исторического процесса, это концентрированное выражение его сущности. Периодизация отражает направленность и позволяет более точно объяснить смысл происходившего. Как писала Н. Матвеева о работе историка, В нутро породы, заспанной и мрачной, Вонзает он исследованья лом И делает историю прозрачной, Чтоб разглядеть грядущее в былом. Периодизация организует и упорядочивает систему знаний об исторических событиях и процессах. За ее видимым утилитарным смыслом различим и познавательный, и даже идейный подтекст. Сам выбор периодизационной схемы несет 183 на себе печать времени и мировоззрения историка. Так, школа «Анналов» делала попытки «несобытийного» структурирования исторического времени, в основе которого лежала классификация процессов. Доминирование структурной истории резко снизило интерес к хронологии. Европейской исторической традиции долгое время было присуще представление о стадиальности линейного развития человечества. Большие этапы восходящего, прогрессивного развития человечества К. Маркс назвал формациями. Это слово было заимствовано им из геологии и должно было с естественнонаучной ясностью выразить принцип строгой последовательности во времени. Маркс намеревался построить единую теорию социального прогресса. В последние годы жизни он составил «Хронологические выписки» объемом около ста печатных листов, пытаясь осмыслить связь явлений и событий, совершавшихся одновременно или последовательно в различных странах и регионах. Учение о формациях претендовало на универсальность и создавалось исходя из исключительной значимости социально-экономического аспекта истории, так называемого базиса. Объяснительные модели марксизма ограничены преимущественно сферой производства, а более «тонкие» материи либо оттесняются на периферию научной мысли, либо вовсе игнорируются. Формационный подход к истории и особенно пресловутая «пятичленка» упрощали саму сущность исторического процесса – историю людей. Научная гипотеза, выдвинутая Марксом, стала догмой. Марксу приписали открытие законов, якобы действующих во все времена и на любых широтах. Из пытливого мыслителя Маркс был превращен в наместника абсолютной истины: если все периоды в истории общества «подравнять» по одним и тем же образцам, то от великолепного оркестра науки останется один барабан15. Особое место в периодизации занимает понятие «эпоха». Эпоха – это целостное представление о мире, окружавшем человека, о тенденциях его времени. Употребление этого термина связано с определенным качественным состоянием во времени. В переводе с греческого «эпоха» означает остановку. Это понятие противоположно понятию «время», которое в переводе со славянского означает движение. Грани эпох условны, подвиж- 184 ны, относительны. Однако приблизительность в выделении эпох не означает полной произвольности, она связана с попыткой исследователя установить реальные поворотные пункты истории, оказавшие влияние на ход того или иного процесса. В понятии «эпоха» учитывается неравномерность, асинхронность, вариантность исторического развития. В нем фокусируется динамический аспект исторического пространства и времени, связанных с деятельностью людей. Эпоха – это уровень целостности и ступень исторического развития. Понятие исторической эпохи утверждалось в контексте культуры Возрождения и Реформации. Гуманистами было предложено такое видение истории, согласно которому важнейшей вехой, отделявшей древнюю историю от новой, считалось утверждение христианства и падение Западной Римской империи16. Определенную парадоксальность понятия «эпоха» подметил российский поэт, воскликнувший: «…чем эпоха интересней для историка, тем она для современника печальней». Действительно, эпохи, которые принято именовать «переломными» или «переходными», очень часто в буквальном смысле ломали человеческие жизни и судьбы, однако тем самым привлекали внимание историков, пытавшихся осмыслить эти трагедии истории. Важное значение для исторического труда имеет эстетическая функция периодизации. Для построения периодизации необходимо постижение закона гармонии и симметрии исторического времени. Понятие «период» предполагает наличие ритма. Красота, или эстетическая гармония, той или иной периодизации, вероятно, не может стать критерием ее истинности, но помогает избавляться от ошибок в процессе периодизирования17. Даже математики не отрицают связь эстетического впечатления от какой-либо формулы с ее истинностью. Период отражает единство прерывности и непрерывности исторического процесса. Нередко этот термин заменяется понятием «этап» и наоборот, «этап» имеет разные значения. Это может быть отдельная часть какого-либо процесса или же промежуток времени, отмеченный особо важным событием, получаемым название «этапное». Историки пользуются и довольно неопределенным понятием «момента истории». При его 185 употреблении особенно заметно отличие исторического времени от календарного. Если в обыденной речи слово «момент» синонимично мигу или иному представлению о чем-то кратковременном, то в исторической терминологии «момент» приобретает протяженность, например, «исторический момент», «знаменательный момент», «трагический момент», «текущий момент». Эти понятия могут характеризовать события разной продолжительности, вплоть до десятилетий. Понятие «исторический момент» несет в себе пафос исторического оптимизма, будучи синонимом таких понятий, как выдающийся, великий момент, рубеж или веха истории18. Периодизацию можно рассматривать как необходимый инструмент исторического познания. В историографическом анализе наиболее эффективно использование периодизации по методологии истории. Различие методологических подходов весьма наглядно при любой попытке реконструкции историографического процесса. Этот критерий был осмыслен еще П.Н. Милюковым в книге «Главные течения русской исторической мысли». Однако и ныне в дипломных работах наших студентов предпочтение отдается наиболее привычному хронологическому критерию. А ведь периодизация – это не только средство исторического объяснения. Иногда она может стать целью. Так, изменив периодизацию, можно преодолеть схематичные представления или устаревшие традиции. Историческая мысль охотно оперирует и такими понятиями, как «век веры» или «век разума», где понятие века не равно столетию. Часто упоминают о «долгом XIX веке», относя начало его к французской революции 1789 года, а конец – к 1914 году. Некоторые авторы продлевают XIX век чуть ли не до 1920 года. Так, в одной из монографий по германской истории Ноябрьская революция оценивается как «последняя из европейских революций “долгого XIX века”, устранившая абсолютистские атавизмы в политической структуре сложившегося индустриального общества»19. Не только историки, но и обычные люди знают, что отличие одного десятилетия от другого, или «лицо века», – это реальное явление. Люди, ощущавшие себя зачинателями столетия, не похожи на тех, кому пришлось подводить его итоги20. Когда мы оперируем такими понятиями, 186 как «смутное время», «время Перикла» или «наше время», время утрачивает научную точность, утопает в многообразии эмпирических определений, но обретает заметные качественные характеристики21. Условность периодизации хорошо видна на примере использования очень распространенного термина «средневековье», хотя определенное смысловое содержание это понятие имеет только применительно к европейской истории. О «новой истории» применительно к народам и странам Азии и Африки можно говорить главным образом лишь в том смысле, что возвышение европейской цивилизации было связано с колониальной экспансией в эти страны. Условность периодизации порождает дискуссии, несинхронность «подключения» разных стран к новым феноменам мировой истории служит показателем неравномерности исторического развития. Истории известны многократные, но бесплодные попытки повлиять на необратимость исторического времени. Не только отдельные люди, но и целые эпохи «прославились» мистификацией прошлого. Эпидемии изготовления фальшивок возникали из корыстных побуждений пересмотра прошлого, из стремления видеть его не таким, каким оно было, а таким, каким оно должно было быть с точки зрения мистификаторов. Некоторые авторы рассматривают историческое время как чистую длительность, где ничто не ограничено и не изолировано, но все сливается. Немецкий историк Э. Трёльч полагал, что хронологическое деление исторических событий – это чрезвычайно грубое средство ориентации, которое чуждо их внутреннему делению и темпу. Французский историк Анри Сэ настаивал на субъективности и произвольности любой периодизации, так как история не знает резких граней и все в ней перемешано. Одна из функций исторического времени заключается в обеспечении преемственности исторического развития. При изучении роли исторического времени в механизмах преемственности человеческой истории и культуры возникают специфические проблемы, связанные, в частности, с исследованием такого элемента в структуре исторического времени, как поколение. По словам П.Н. Милюкова, «каждое новое поколение сваливается с небес и каждое сызнова открывает свою 187 Америку»22. Действительно, каждое поколение воспринимает и интерпретирует прошлое на базе тех концепций, тех ценностей, того мировоззрения, которые определяют его отношение к окружающему миру. Американский историк К. Беккер, будучи специалистом в области изучения ментальности эпох американской и французской революций, считал, что каждое поколение рождает своих собственных историков. Французский историк Ф. Фюре полагал, что, пока историки эмоционально зависят от революции, она продолжается. Политики начинают революции, а заканчивают их историки23. Историческое время между началом и концом революций необычайно по интенсивности и неопределенно по длительности. Если начало революционного взрыва локализуется в памяти современного ему поколения, то конец революции обычно расплывается во времени, вызывая ожесточенную полемику среди историков разных поколений24. В традиционных обществах смена поколений мало что меняла. Но с ускорением исторического процесса возраст пришел на смену статусу. А. Токвиль был убежден в том, что в демократических нациях каждое поколение – это новый народ. Одним из первых осознал историческое значение смены поколений О. Конт. Его размышления по этому поводу подтолкнули Дж.Ст. Милля провозгласить, что исторические перемены надо измерять интервалами в одно поколение25. Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет внес существенное уточнение в понимание феномена поколения. По его мнению, поколение и, соответственно, «облик жизни меняется каждые пятнадцать лет»26. Конечно, предложенный им «метод поколений» не позволяет учитывать конфликты внутри поколения, но его значимость определяется возможностью уяснить человеческое содержание истории. Определяя поколение как «общность сосуществующих в одном кругу сверстников», Ортега подчеркивал сходство жизненного опыта людей одного поколения. В отношениях между поколениями он усматривал своего рода полемику одного с другим. В конфликтах поколений Ортега видел не аномалию, а норму жизни, признавая также, что каждая новая генерация людей вбирала в себя культуру прошлых поколений. Установив пятнадцатилетний ритм смены поколений, Ортега полагал, что история творится «избранными меньшинствами». Идеи, выдви- 188 нутые элитой, в следующих поколениях становятся верованиями. Самым слабым местом «метода поколений» является тот бесспорный факт, что дети рождаются беспрерывно, поэтому подразделение людей на поколения весьма условно. Однако это возражение не снимает очевидности сходства чувств и взглядов у людей, имеющих общий жизненный опыт. В какой-то степени периодизация по поколениям возвращает к старой периодизации по отдельным выдающимся личностям, с той разницей, что вместо королей и полководцев на первый план выступают деятели культуры. Ортега говорит о поколениях Декарта, Гоббса, Галилея и т.д. Ученых одного поколения представить можно, труднее представить себе крестьян «поколения Декарта». К одному поколению принадлежали Карл I и Кромвель, Екатерина II и Радищев, об идейной общности которых говорить затруднительно. Американские политологи вдобавок к распространенным в Европе концепциям «потерянного поколения», выделяют «молчаливое поколение» 50-х годов XX века и «шумное поколение» 60-х годов. Ортега не соглашался с тем, что враждебность взглядов внутри поколения обесценивает его метод. По его мнению, реакционер и революционер XIX века гораздо ближе друг к другу, чем любой из них к любому человеку XX века. По выражению К. Мангейма, представители одного поколения занимают общее место в историческом измерении социального процесса. Как и Ортега, он отводит политической жизни одного поколения примерно тридцать лет. «Каждое поколение, став политически совершеннолетним, тратит первые пятнадцать лет на то, что бросает вызов поколению, которое уже имеет власть и защищает ее. Затем это новое поколение само приходит к власти на пятнадцать лет, после чего его политическая активность слабеет, а новое подросшее поколение претендует на роль преемника»27. На взгляд Шлезингера, при смене поколений очень важен элемент повторяемости. В течение жизни любого поколения происходят события, влияющие на динамику политического самосознания. Поколение, стоящее у власти, подпитывает взглядами и идеями то поколение, что идет ему на смену. Одна- 189 ко каждое новое поколение, придя к власти, склонно отвергать труды поколения, которое оно сместило, и возрождать собственные юношеские идеалы тридцатилетней давности. При этом нет никакой арифметической неизбежности в последовательной смене поколений28. Конечно, поколение – это весьма приблизительное понятие для академической науки, скорее, это не категория, а метафора. Приблизительны и поколенческие циклы. Так, в России они часто прерывались стихийными войнами и революциями. Поскольку история состоит из этапов и периодов, всегда существовал соблазн чересчур изолировать один исторический период от другого. Естественно, каждый исторический период самостоятелен и самодостаточен, поэтому заслуживает специального анализа, в ходе которого данный период необходимо точнейшим образом противопоставить предыдущему и последующему. Многим скачкам истории предшествовали десятки, а иногда и сотни лет непрерывного и на первый взгляд едва заметного развития. В советской исторической науке преобладало такое противопоставление этапов истории, которое доходило до абсурда. Буквально после каждой новой директивы съезда КПСС или Пленума ЦК КПСС историки были готовы начать новое времяисчисление. Механизмы преемственности исторического развития исследовались недостаточно – в учебниках истории историческое время разорвано на клочки. Методологическое осмысление исторического процесса предполагает пристальное изучение того, как в нем сочетались прерывистость и преемственность. Люди не могут изменить течение и направление календарного времени. Однако деятельность людей изменяет ценность единицы исторического времени, так как одинаковые интервалы астрономического времени по-разному насыщены социальными явлениями и действиями. Так, XX век в историческом времени – это не просто век, следующий за XIX веком, а время, имеющее качественную наполняемость, – век войн и революций, век освоения космоса, век великих тревог и великих надежд. Исторические часы показывают не цифры и числа, а эпохи и стадии в развитии социальных и духовных процессов. Время не только фиксирует длительность, последовательность, 190 скорость, ритм, направление общественных процессов, но и является реальным ограничителем социального бытия, обусловливающим его непрерывность. Коренное изменение представлений об историческом времени связано, безусловно, с достижениями школы «Анналов». До Броделя восприятие времени в исторической науке было упрощенным и однозначным. Историки нанизывали факты на шкалу календарного времени. На смену представлению о времени как бессознательной длительности пришло представление об историческом времени, о разнообразных временных ритмах, присущих разным реальностям. Категория «историческое время» вобрала в себя целый комплекс знаний, в снятом виде отражающих прошлое и настоящее. Введя понятие длительности в историческую науку, Бродель с его помощью определил и сам предмет истории: история является диалектикой длительности. Через нее и благодаря ей история есть учение о социальном прошлом и настоящем. Согласно Броделю, историк не может игнорировать время, поскольку оно липнет к его мысли, как земля к лопате садовника. Каждый человек одновременно живет и в кратком, и в длительном времени. В полном согласии с тезисом о том, что у каждой новой мысли есть только миг торжества, идеи Броделя очень быстро стали «общим местом», растворились в историческом знании. В связи со структурированием исторического времени особую роль в нем приобретает событие. Важной функцией значимого, эпохального события становится демаркация исторических периодов, разрыв исторического времени, перерыв постепенности. Когда историк описывает, анализирует, сравнивает, объясняет, он выходит за пределы своего повествования, разрывает время истории, пренебрегает его непрерывностью. Иначе говоря, историк не воспринимает время в его хронологической непрерывности, а использует в качестве средства исторического наблюдения. Французский социолог Жорж Гурвич писал о неизбежном расхождении между исторической действительностью и тем, что спроектировано историками. Предсказывание прошлого он назвал великим соблазном исторической науки. Гуревич полагал, что не следует путать время и ритм: ритм связан со 191 временем, но время независимо от ритма и может обойтись без него. Современный российский автор В.И. Пантин – активный сторонник циклически-волнового подхода к истории. Он исходит из того, что конец предшествующего цикла всегда является началом нового, при этом прошлая эпоха не исчезает, не уходит полностью в «никуда», она продолжает жить в новой эпохе в виде ее культуры и технологии, в виде сознания людей и сделанного ими выбора. Волнообразность экономического, политического и культурного развития дает ключ к объяснению тех критических точек, которыми так богата человеческая история, позволяет понять глубинные силы, приводящие к взлету и краху империй, дает возможность увидеть за всеми историческими поворотами и катаклизмами постоянное обновление форм и постепенное усложнение человека и общества29. Интерес к проблеме исторического времени – это интерес человека к самому себе: своей жизни, судьбе и личности. Природа по отношению к времени беззаботна и расточительна. Человеку же время «отмерено», поэтому большинство людей живет по секундной стрелке, сегодняшними заботами. Живя мудростью дня, мы редко замечаем движение стрелки на больших исторических часах. Наука же не может игнорировать различий между тысячелетней мудростью Библии и месячной мудростью «толстого» столичного журнала, между мудростью ежедневной газеты и вековой мудростью творений Шекспира или Л. Толстого30. Понятие исторического и социального времени у некоторых авторов совпадает, другие же видят между ними существенную разницу, например, выделяют три разновидности социального времени: время индивида, время поколения и время истории31. В таком случае историческое время предстает не единственной, но самой глубокой и развитой стороной социального времени. В историческом процессе индивиды, поколения, человеческие коллективы не просто объединены и соединены временем, но, составляя в этом единстве нечто целое, выступают как новое качество, как высшая форма бытия социальной материи. 192 Политологи и политические философы разрабатывают категорию политического времени. Они видят его пульсацию в маленьких политических кружках и на многотысячных митингах, анализируют его свободу, подлинность и уникальность как своеобразную судьбу культуры. Войны, революции и диктатуры в таком анализе выступают символами драматической насыщенности циклического времени политическими событиями32. Вопрос о взаимосвязи политического и социокультурного времени связан с вопросом о том, насколько тот или иной политический процесс детерминирован культурой. Социокультурное время отражает ритмы коллективных действий каждой цивилизации, политическое время отражает ритмы политической жизни. Точки отсчета при измерении социокультурного и политического времени в каждой цивилизации зависят от национальных традиций и обычаев. Таков, например, ритм продолжительности ярмарок, определивший длительность недели в той или иной цивилизации: восемь дней в раннем Риме, десять – в древнем Китае, семь – в иудейско-христианской традиции, пять или шесть – в отдельных районах Африки и Центральной Америки. Если вектор социокультурного времени складывается из социокультурных ориентаций всех слоев и групп общества, то вектор политического времени зависит преимущественно от поколения, господствующего на политической сцене. Направление политического времени может не совпадать с социокультурной традицией. Линейное время провоцирует политиков возможностью его «ускорения». Чтобы привлечь массы, политики используют миф «ускоренного времени». Так рождались утопии «великих скачков» Мао Цзедуна и Хрущева. Любые попытки перевести стрелки политических часов вперед заканчивались либо катастрофой, либо затяжным кризисом и откатом назад. Так было в Турции при Абдул Хамиде II, так было в Китае в период между Мао и Дэн Сяопином, так происходит сейчас в России. В философской, социологической и исторической мысли часто встречается деление истории на три периода, этапа, стадии или ступени. Такие схемы предлагали Дж. Вико, И. Кант, Гегель, О. Конт и др. Эта привязанность к трем периодам не 193 связана с символикой чисел, как это можно было бы предположить, а скорее отражает лишь последовательность смены прошлого, настоящего и будущего. Таким образом, обращение к триаде вызвано не субъективными устремлениями мыслителя, а диалектикой самой жизни. Некоторые авторы, впрочем, предлагают иные схемы. Так, китайский политолог Янь Цзяци выдвинул теорию четырех стадий: так называемого «картофельного общества», состоящего из самообеспечивающихся изолированных друг от друга единиц; «пирамидального общества», управляемого сверху донизу; правового общества с развитыми горизонтальными связями и высокоорганизованного общества будущего. Если пользоваться данной схемой, то место России и Китая на втором уровне: образ «вертикали власти» разновидность пирамиды. Что касается практического применения некоторых разработок по проблеме исторического времени, то целесообразно было бы увеличить число издаваемых справочников, содержащих синхронистические таблицы по истории. Их явно не хватает отечественной системе исторического образования33. Тираж имеющихся справочников невелик, поэтому потребности преподавателей, студентов, краеведов, работников музеев, архивов, библиотек далеки от удовлетворения. Барг М.А. Эпохи и идеи. М., 1987. С. 24. Сорокин П.А. Голод как фактор. М., 2003. С. 4. 3 Барг М.А. «Историческое время»: методологический аспект // Новая и новейшая история. 1990. № 1. С. 66 – 67. 4 Периодизация всемирной истории. Казань, 1984. С. 94. 5 Из истории традиционной китайской идеологии. М., 1984. С. 54. 6 Гумилев Л.Н. Этносы и антиэтносы // Звезда. 1990. № 3. С. 165. 7 Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. С. 596. 8 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. С. 122. 9 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 30. С. 280. 10 Бердяев Н.А. Смысл истории. С. 55. 11 Там же. С. 146. 12 Канетти Э. Человек нашего столетия. М., 1990. С. 291, 329. 13 Капица С.П. Об ускорении исторического времени // Новая и новейшая история. 2004. № 6. С. 10 – 11. 14 Арский Ф. Перикл. М., 1971. 1 2 194 Сахаров А.М. Методология истории и историографии. М., 1981. С. 147. 16 Репина Л.П., Парамонова М.Ю., Зверева В.В. История исторического знания. М., 2004. С. 41. 17 Периодизация всемирной истории. Казань, 1984. С. 18. 18 Там же. С. 135 – 139. 19 Ватлин А.Ю. Германия в XX веке. М., 2002. С. 43. 20 Лотман Ю.М. Указ. соч. С. 56. 21 Скворцов Л.В. Время и необходимость в истории. М., 1974. С. 48. 22 Письма русских историков. Омск, 2003. С. 66. 23 Фюре Ф. Постижение Французской революции. М.; СПб., 1997. 24 Эткинд А.М. Столетняя революция: юбилей начала и начало конца // Отечественные записки. 2004. № 5. С. 40. 25 См. об этом: Шлезингер А. Циклы американской истории. М., 1992. С. 50. 26 Ортега-и-Гассет Х. Вокруг Галилея // Избранные труды. М., 1998. С. 279. 27 Шлезингер А. Указ. соч. С. 51. 28 Там же. С. 52. 29 Пантин В.И. Волны и циклы социального развития. М., 2004. 30 Лакшин В. Утрата достоинства // Литературная газета. 1991. № 17. 31 Яковлев В.П. Социальное время. Ростов н/Д, 1980. 32 Василенко И.А. Политическое время // Вопросы философии. 1997. № 9. 33 Лурье Ф.М. Российская и мировая история в таблицах. М., 2001; Кириллов В.В. Отечественная история XX – н. XXI в. в схемах, таблицах и диаграммах. М., 2003; Штайн В. Хронология мировой цивилизации. М., 2003; Универсальные синхронистические таблицы. М., 2004. 15 Лекция 10. Исторические факты и методы Место и роль исторического факта в системе исторического знания определяются тем, что историк описывает и объясняет факты и только на их основе выдвигает различного рода гипотезы. Установление связи между фактами порождает идею, связи между идеями – гипотезу, а если гипотеза имеет доступные проверке следствия, то историк получает шанс сформулировать 195 теорию. А. Тойнби писал, что «факты для историка – это запас сырья, и он должен добывать его в таких количествах, что сам процесс вызывал бы у него отвращение, не люби он эту работу. Я люблю факты истории, но не ради их самих. Я люблю их, как ключики к чему-то, что лежит за их пределами»1. Если бы провести контент-анализ исторических трудов, то, пожалуй, наиболее распространенным понятием в них была бы категория факта. Обычно предполагается, что не существует особых затруднений отличить факт от нефакта, поскольку принято, что факты – это то, о чем высказываются с уверенностью. Однако о содержании и сущности понятия «факт» нередко идут споры. Сложилось несколько толкований этого понятия. Большинство авторов настаивают на том, что факт – это объективное событие или явление прошлого. Некоторые полагают, что факты – это следы прошлого, т.е. те образы, которые запечатлены в исторических документах. Философы склонны считать факты гносеологическими или логическими категориями. Наконец, с консенсусной точки зрения факты науки соответствуют фактам действительности, а следовательно, имеется два ряда фактов – в объективной действительности и в познании2. В чем причины разноголосицы по поводу исторических фактов? Дело не в недоразумениях и не в ошибках. В самой реальности есть основы для различия мнений. Если обратиться к известной новелле А. Рюноске, ставшей основой не менее известного фильма А. Куросавы, то один и тот же случай гибели самурая совершенно по-разному описывается разбойником, женой самурая и духом самого убитого. Несомненен только факт гибели, детали же происшествия не совпадают. Поскольку автор не сообщает читателю, что было на самом деле, рассказ одного персонажа выглядит не менее убедительно, чем рассказы остальных. Хотя любой историк, по словам Л. Ранке, должен изложить все так, «как это в действительности было», но на практике труды историков аналогичны рассказам персонажей новеллы. Феномен, обозначаемый термином «исторический факт», будучи воспринят с разных позиций, приобретает разные «очертания». Разные «персонажи» исторического исследования 196 осознают фрагменты реальности в зависимости от своего опыта, взглядов и исследовательской позиции3. Понятие «исторический факт» нельзя отождествлять с понятием «историческое событие». Разница их состоит в том, что факт – это не просто объективная реальность – событие, существовавшее или существующее независимо от сознания, а реальность, которую так или иначе воссоздает историк. Факт формируется мышлением в соответствии с реальностью, зафиксированной в источнике. М.А. Барг выделял три уровня исторического факта: факт-событие; факт, отраженный в историческом источнике, и факт, осмысленный историком (концептуализированный факт). На третьем уровне исторический факт становится историографическим фактом. «Фактов нет, а есть только их интерпретация» - это тезис Ницше стал знаменем исторического релятивизма. Относительность исторического знания предопределена многозначностью и исторического факта, и исторического источника, и метода исторического исследования4. В XX веке понятие исторического факта перестало быть однозначным и очевидным. Факт создается разумом и воображением исследователя. Факт стал не столько отправным пунктом, сколько продуктом работы историка. Владея большим арсеналом исследовательских процедур, историк оказывает воздействие на облик факта в его тексте благодаря своей культуре, этническим и эстетическим предпочтениям5. Возникая на стыке субъекта и объекта, исторический факт запечатлевает в нашем сознании социально значимые факты прошлого, реальность которых обеспечивают только исторические источники, отразившие эти события. Единичный характер факта не означает, что он не может иметь научного объяснения. В вавилонских школах математики ученик решал огромное количество примеров, пока не улавливал общего правила. Этот метод похож на действия историка, который приводит большое число фактов в доказательство своего положения, а если он еще не «уловил» сути, то просто приводит факты, показавшиеся ему интересными. Наиболее употребительны такие значения понятия «факт», как фрагмент действительности, как особое знание о 197 событии, ситуации или процессе, а также как истина. В первом случае его называют фактом исторической действительности. Во втором – историографическим или научно-историческим фактом. Третье значение применимо скорее в обыденной жизни. Б. Рассел считал, что факт может быть определен только наглядно, все, что является, уже факт: «Все, что имеется во вселенной, я называю “фактом”. Солнце – факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт»6. Таким образом, в его представлении фактом является только то, что воспринято человеком. Американский мыслитель Д. Дьюи сомневался в том, что факты очевидны в своей сущности, что смысл «написан у них на лице», что стоит только собрать достаточное количество фактов, как их интерпретация будет ясна исследователю Он подчеркивал огромный разрыв между фактами и теориями, особенно, на его взгляд, это касалось фактов политической жизни и теорий, трактующих природу государства. Если исследователи ограничиваются наблюдаемыми феноменами – поведением королей, президентов, законодателей, то им нетрудно достичь согласия. Различия же обнаруживаются при трактовке основ, природы, функций государства7. «Возрождение нарратива», произошедшее в историографии в последние десятилетия, не означает, что историки вернулись к летописному методу описания фактов. Кроме пересказа источников нарратив содержит теоретический компонент. В него заложено концептуальное объяснение исторических фактов. Нарратив формирует историческое знание. Нельзя противопоставлять исследование уникальных событий и формулировку обобщений. В XIX веке историки главным образом изучали деяния отдельных исторических личностей. Ныне большинство историков исследуют исторические ситуации, в которые включено множество анонимных персонажей. Анализ исторических фактов стал рациональной реконструкцией, опирающейся на общие методы. По мнению американского историка К. Беккера, исторический факт находится в чьей-либо голове или нигде не находится. Исторические факты воспринимаются нами в пространстве и во времени. Из двух тесно связанных между собой фактов 198 предшествующий факт может быть причиной следующего за ним по времени, однако взаимозависимость фактов далеко не всегда носит причинно-следственный характер, она может быть и более сложной. В Советском Союзе исторические факты приобретали репрессивную силу, использовались для контроля и управления процессами социализации. Достоверность подхода «доказывалась» непреложностью огромной массы исторических фактов, трактовавшихся однозначно и догматически. Эта ситуация была проанализирована М. Фуко, выдвинувшим понятие «власть – знание». Истина становилась лишь другим наименованием власти8. Факты составляют ткань любой науки, выступая в виде суммы или системы истин. Изменения и уточнения этих истин связаны с неким исправлением нашего субъективного восприятия истории, с тем, что знание всегда неполно. В этом смысле нет ничего прочнее эмпирического костяка истории. Вряд ли можно пересмотреть роль, например, Октавиана Августа в истории Древнего Рима или итоги второй мировой войны, хотя такие попытки предпринимаются в околонаучном пространстве. Вместе с тем нельзя представлять любые исторические факты как вечную истину. Факты, отраженные в источниках, не могут быть совершенно достоверным индикатором того, что происходило в действительности. Исторические факты, как и факты других наук, –всего лишь предварительные результаты научных аргументаций. В методологических работах присутствует тенденция искусственного усложнения проблемы исторического факта. Об этом писал еще академик Е.М. Жуков9. Рассуждения о природе исторического факта нередко носят умозрительный характер и не облегчают задачи конкретного исторического исследования. Наиболее важной в комплексе проблем, связанных с историческими фактами, является проблема отбора их. Отбора фактов, отделения значительного от ничтожного требовал еще Лукиан – мыслитель II века. «Настоящая история», в его понимании, не может обойтись без отбора фактов. При этом Лукиан не выступал против детализации в историческом изложении: деталь не может быть лишней, если она важна. Но ему казалось странным, когда историк упоминает о важном сражении в семи строчках, а 199 сотни строк посвящает одному из участников этого сражения, блуждавшему по горам в поисках воды. За прошедшие со времен Лукиана тысячелетия многое изменилось: историческая наука дифференцировалась, военные историки пишут о сражениях, микроисторики – о «поисках воды». Иногда отношение к фактам формулируется весьма категорично, как это было у В.Г. Белинского: факты без идей, считал он, сор для головы и памяти. Отбор фактов в исторических трудах менялся со сменой эпох. В античной историографии преобладали биографические и анекдотические факты, факты подвигов и внешней политики. В средневековой историографии их сменили факты деяний святых, рыцарей, королей и римских пап. В XVI – XVIII веках на первый план выдвинулись факты международных отношений – дипломатии и войн, колониальных захватов и освоения вновь открытых земель. В эпоху Просвещения особое внимание стало уделяться фактам, характеризующим успехи культуры и рост просвещения. Либерально-позитивистская историография сосредоточилась на фактах социально-экономического и культурного развития, в марксистской историографии на первый план выступили факты классовой борьбы, анализируемые на фоне социального прогресса10. Отбор исторических фактов всегда являлся результатом абстрагирования, совершаемого историком под угрозой запутаться в бесконечности событий. Историк вынужден кроить и перекраивать историю, ибо в целостности она пугает хаосом. Процедура отбора имеет своим непременным следствием неполноту, фрагментарность полученной исторической картины. Научное историческое познание требует от историка руководствоваться в отборе фактов определенными методологически-ми принципами, иначе он уподобится муравью, волокущему в муравейник все подряд. Историк чаще всего отбирает типическое из всей совокупности известных ему фактов, имевших место в реальной действительности. Всякая попытка перечислить и учесть все исторические данные об исследуемом периоде или объекте обрекает исследователя на составление необозримого набора существенных и несущественных фактов. 200 Чтобы передать сущность изображаемой эпохи, большинство историков обращаются к наиболее ярким, типичным историческим личностям, событиям и фактам, не упуская из виду их неповторимую индивидуальность, специфичность. Есть факты значительные, определяющие, а есть второстепенные, случайные. Одни факты подлежат объяснению, другие служат для их объяснения. Факты могут существовать в отдельности и в совокупности, в системе. Так, цельность какой-либо эпохи скорее всего предстает в системе ее событий, явлений и процессов. Историческое обобщение не снимает факта, как это происходит в естественных науках. Факты в истории имеют самодовлеющее значение. Любой исторический факт, лишенный мистификации, представляет позитивную ценность, так как интерес к истории – это интерес к человеку. Историческая наука изучает и сущность явлений, и сами явления. Поскольку исторический факт обладает самостоятельной ценностью, он не может считаться чем-то вроде иллюстрации. Как и в других науках, факты могут быть измерены и обобщены историком. Он может подсчитать их или сгруппировать в структуры, но эти процедуры не отменят индивидуального значения того или иного факта. Историческая наука изучает все возможности, в том числе нереализованные, все тенденции, в том числе непроявившиеся, все варианты развития, которые не сумели возобладать, но оставили некий след в истории. Наука не может ограничиваться коллекционированием событий, она обобщает факты, но после использования не отбрасывает их, как пустую породу. Факты остаются в исторической науке, закрепляются и накапливаются в общем фонде, становясь достоянием истории. Стремление к изучению все новых сторон и деталей прошлого диктуется ценностными соображениями. Мы можем ценить какие-то сорта табака или вина, хотя с медицинской точки зрения они могут быть вредны; нам могут быть дороги совершенно бесполезные вещи в виде безделушек или случайных воспоминаний. Точно так же мы тянемся и к чужим судьбам, восхищаемся красотой поступков, сопереживаем радость побед и горечь поражений, ощущаем ужас небытия. Интерес к истории – это ценностный 201 способ освоения мира, гуманитарная особенность исторического знания. Историк не может быть рабом фактов и не должен быть их господином. Связь между историком и его фактами определяется равновесием данного и взятого. Историк начинает с предварительного отбора фактов и предварительной их интерпретации. Однако в ходе работы и интерпретация, и выбор, и упорядочение фактов подвергаются взаимному влиянию и изменяются, иногда весьма существенное. Это взаимовлияние продиктовано взаимодействием настоящего и прошлого, так как историк принадлежит настоящему, а факты - прошлому. Историк без фактов не имеет корней, факты без историка безмолвны. Английский историк Э. Карр определял историческую науку как беспрерывный процесс взаимодействия историка и фактов, бесконечный диалог между настоящим и прошедшим11. С процессом взаимодействия историка и исторических источников связано накопление исторической информации. Информация связана с произошедшими событиями, однако никогда полностью не совпадает с ними, не тождественна им. Историческое событие, о котором историк получил информацию, не теряет своей объективности и не зависит от энергии или материальных средств, израсходованных на поиски информации об этом событии. Например, иероглифы, на запись которых была затрачена незначительная энергия, информируют об исторических событиях Древнего Египта несравненно полнее, чем самая богатая пирамида, на строительстве которой трудились сотни тысяч рабов на протяжении многих лет. По мере развития общества растет количество информации о событиях, увеличиваются объемы документов, необходимых историку. В фактах новейшей истории содержится гораздо больше сведений, чем в фактах, на которых основана история древних цивилизаций. Не все случающееся – исторично, и хотя все относится к истории, но не все явления становятся предметом исследования исторической науки. Подобно физику, формулирующему законы движения ансамбля электронов, но не описывающему траекторию движения каждого отдельного электрона, историк не стремится к фактографическому изображению прошлого: он 202 ищет общее и всеобщее, определяет тенденции, выявляет смыслы. В этой работе рядовые факты истории все же отличаются от исторических фактов большой значимости. Историческая наука проделала сложную эволюцию в своем отношении к факту. Долгое время историков мало интересовали философские размышления о природе исторического факта. Постепенно выявлялось противоречие между фактом и его интерпретацией. Одни исследователи настаивали на представлении об инвариантности исторического факта, доказывали, что инвариантность факта обрекает на научную беспомощность любую его фальсификацию. Другие возражали, подчеркивая, что научный факт можно изолировать только в воображении, а в действительности инвариантность факта постоянно разрушается оценкой, интерпретацией и общей системой знания. Особенно очевидна зависимость фактов от теорий, когда исследуются явления социально-экономической сферы. Эти факты не лежат на поверхности общественной жизни, подобно многим фактам политической истории. Сам поиск их требует определенных логических и теоретических операций. Сословную дифференциацию, рост городов, концентрацию земельной собственности и многое другое невозможно представить в виде единичных событий. Их описание предполагает использование определенных теоретических методов и процедур. Факт как объект исторического исследования не существует сам по себе, без всякой оценки. Пока не установлены реальные связи, не объяснены причины появления факта и его последствия, факт случаен, необъясним, изолирован и непонятен. Уже черновая работа по установлению исторических фактов не только требует затраты времени, но и представляет собой определенный методологический процесс, способствующий пониманию неизбежности данного факта в конкретном месте и в конкретное время. В основе современных споров о фактах и фикциях лежит некое влияние естественных наук. А постмодернисты полагают, что историк противостоит реальности «уже свершившегося события», но не может адекватно познать эту действительность12. Истина истории не сводится к фиксации факта, его описанию и хронологическому определению. История как наука начинается 203 тогда, когда осуществляется переход от простого коллекционирования фактов истории к обнаружению и истолкованию их внутренних связей. Одновременно происходит переоценка простоты или сложности фактов. Элементарно простые факты могут оказаться весьма сложными в их исторической перспективе и наоборот. Не менее противоречив характер причинноследственных связей между фактами. Например, в дискуссиях о причинах гибели Римской империи высказывались прямо противоположные суждения. Одни апеллировали к фактам роста налогов в III – IV веках, видя в них причину финансового краха, запустения земель и упадка сельского хозяйства. Другие, напротив, факт упадка сельского хозяйства называли причиной непомерного усиления налогового бремени. Третьи видели главную причину падения Римской империи в упадке ее обороноспособности. А для четвертых ухудшение боевых качеств армии – это не причина, а следствие разложения государства. Несмотря на все попытки написания несобытийной (структурной или процессуальной) истории, событие было и остается основой и исходным пунктом историографии. В отличие от происшествия или случая событие – категория исторического анализа. В цепи событий, характеризующих макрособытия, нередко выделяется событие-символ, например, похищение Елены, бостонское чаепитие, взятие Бастилии, выстрел в Сараеве, поджог Рейхстага и многое другое. Число фактов-событий в истории необычайно велико, но еще более велико число фактов-граней, обозначающих связи между событиями. Прогресс исторического знания главным образом происходит благодаря выявлению новых связей между явлениями. От причинно-следственных связей между фактами необходимо отличать связи генетические, т.е. происхождение одного явления или факта от другого. Так, факт возникновения какоголибо государства включает множество более простых - социальных, экономических, политических правовых, культурных и идеологических - фактов. Специфическим для исторической науки является и то обстоятельство, что объяснение и оценка фактов у современников и потомков обычно не совпадают хотя бы уже потому, что потомкам известны многие (если не все) по- 204 следствия какого-либо факта, особенно если его развитие завершено. Р. Коллингвуд писал о том, что выявление фактов ради них самих не может удовлетворить историка: оправданием его открытий должно быть нечто иное, лежащее вне самих фактов. Когда историк анализирует большую массу источников, привлекает статистические данные и материалы других наук, результат изучения предполагает определенный уровень обобщения. Иначе говоря, исторические факты выступают и предпосылкой исследования, и его результатом, а зависимость между фактами и обобщениями следует рассматривать как взаимозависимость. Группировать исторические факты можно по их содержанию (экономические, политические, идеологические), структуре (простые и сложные), значимости (существенные и несущественные). В зависимости от связи факта с определенной областью знания или от способов его установления факт может быть эмпирическим или научным, историческим или историографическим, экономическим или психологическим, статистическим или полученным в результате наблюдения и т.д. Но факт всегда есть нечто конкретное: абстрактных фактов нет. Факт индивидуален, но он может свидетельствовать о повторяемости или преемственности каких-либо процессов. По словам Анри Пуанкаре, наука состоит из фактов, как дом из кирпичей, но простая груда фактов так же мало является наукой, как куча камней - домом. Чтобы построить «дом» в науке, нужно собирать факты, и размышлять над ними. Факты могут быть систематически повторяющимися или же представляющими исключение. Вторые не менее ценны, чем первые, поскольку нередко служат эвристическим материалом, способствуя нахождению креативного объяснения. При изучении объективной стороны исторического процесса наиболее важными видами исторического объяснения являются генетическое, структурно-функциональное и модельное13. Генетическое объяснение возможно в случае пространственно-временной последовательности исторических событий. Структурно-функциональное объяснение облегчает понимание необходимости именно такого хода событий или та- 205 ких процессов. Модельное объяснение предполагает построение аналогий и выяснение причинно-следственных связей исторических событий. Субъективная сторона исторического процесса подлежит мотивационному, интерпретационному и ситуационному объяснению. Мотивационное объяснение позволяет определить цели, намерения, мотивы, побуждающие историческую личность к соответствующей деятельности. Мотивационное объяснение предполагает анализ индивидуальных особенностей, повлиявших на исторические события, а также изучение социальнопсихологических условий, в которых осуществлялось то или иное действие. Интерпретационным объяснением может быть интерпретация события, данная его участниками и зафиксированная в письменном источнике. Ситуационное объяснение заключается в выявлении взаимосвязи мотивов действий, поступков исторического деятеля и намерений, побуждений, действий различных групп и слоев в пределах данной исторической ситуации. Историческое объяснение предполагает оценку. Она входит в его структуру. Оценочный характер объяснения связан с тем, что историк в конечном счете исследует деятельность людей. Деятельность всегда значима, обладает положительной или отрицательной ценностью, поэтому оценка историка помогает выявлению значимости социальных явлений и тем самым их познанию. Необходимость оценочного подхода связана и с установлением значимости того или иного этапа, события в развитии исторической деятельности, в целостном историческом процессе. Историческая наука не может в сферу своего объяснения включить все события, зарегистрированные в источниках. Какой этап, какие события должны стать объектом исследования, зависит от их значимости, которая определяется через их оценку. Историку все больше приходится иметь дело не с единичными событиями, а с процессами и отношениями. Их трудно воспринимать сразу, так как они состоят из множества фактов. Воспроизвести процесс или отношения, описать факт или группу фактов сложно, если не иметь какой-нибудь предварительной гипотезы. Изучение фактов предполагает наличие известной 206 цели, какой-то более или менее четко сформулированной общей концепции14. Без этого трудно выбрать нужные факты, не рискуя захлебнуться в океане мельчайших фактов. Говорят, что академику И. Павлову принадлежит афоризм: без идеи в голове вообще не увидишь факта. Теоретическое мышление отличается от обыденного методами и приемами. Без предварительной постановки задач и цели научного исследования, без определения методов познания фактический материал не может быть организован в устойчивую систему. Без плана изучения он окажется, по выражению Д. Менделеева, грудой, так далеко лежащей от места постройки, что ее перевоз не окупит затраченного труда. Если исследователь не выработает для себя общей идеи, не сформулирует проблему, которую нужно решить или хотя бы поставить, то научного поиска в полном смысле слова не произойдет. По этому поводу Л.Н. Гумилев заметил, что понимание событий и накопление их – вещи разные. Момент озарения не предшествует изучению проблемы и не венчает ее, а лежит гдето в середине, чуть ближе к началу. Если вспышки воссоединения ученого с материалом не произошло, не может быть и синтеза. А поиски в собственном смысле слова начинаются потом, ибо искать стоит лишь тогда, когда знаешь, что ищешь15. История и общество в такой же степени достойны внимания историка, как и судьба отдельных людей. Однако исследование фундаментальных исторических процессов и изучение объектов микроистории различаются методами анализа. В сущности, методология как система познавательных процедур и дает историку возможность находить факты, излагать их и объяснять. Иногда методы могут быть весьма экзотическими. Так, известный немецкий историк Голо Манн написал биографию генерала XVII века Альбрехта фон Валленштейна, использовав для достижения научных целей метод потока сознания. Методологию иногда называют теорией методов, которые в состоянии привести науку к достижению познавательных целей. Методология исходит из критерия оптимальности, ее цель – повысить эффективность научного познания. Нередко историки негативно относятся к методологии, пугаясь так называемого «эффекта сороконожки», когда все пространство знания заполняется изучением путей движения, а конечный пункт становится 207 чем-то неважным. Действительно, очень легко уподобиться тем историкам, которые, по выражению Гегеля, вместо того чтобы писать историю, рассуждают лишь о том, как надо ее писать. Метод можно понимать и как уже опробованное знание, и как особую сферу постижения истины. Многие методы и подходы, определяющие облик исторической науки, трудно реализовать, ибо они опосредованы интеллектуальной ситуацией той страны, где произведен определенный исторический продукт. И. Дройзен, призвавший искать разные методы для исследования разных проблем, открыл полуторавековую дискуссию об историческом методе. Первоначально под историческими методами подразумевались прежде всего приемы критики письменных источников. По определению И.Д. Ковальченко, методы исследования – это самый динамичный компонент науки, роль которого исключительно велика, а порой становится решающей в обеспечении прогресса научного знания. В сущности, методология, по Ковальченко, и сводится к методам16. К основным методам собственно исторического исследования он относит историко-генетический, историко-сравнительный, историкотипологический и историко-системный. Подавляющее большинство исторических сочинений основано либо на первом методе, либо на его сочетании с элементами остальных. Типологический и системный анализы стали достоянием исторической науки в основном в XX веке благодаря наиболее ярким историческим мыслителям этого времени. То, что Ковальченко называет системным методом, М.А. Барг называл структурным17, а многие авторы соединяли оба понятия в одно: системно-структурный метод. Классическим образцом применения этого метода в марксистской науке считали «Капитал» К. Маркса. В 60-е – 80-е годы XX века в советской историографии было много споров по поводу того, насколько целесообразно историкам следовать структуралистским концепциям, пришедшим из этнографии или лингвистики. Саратовский историк И.Д. Парфенов, издавший на рубеже XX и XXI веков курс своих лекций по методологии истории, выделил четыре метода написания истории: позитивистский, неокантианский, марксистский и структуралистский18. 208 Особую роль в любой науке играет типологическое сравнение. Древний афоризм «истина познается в сравнении» не предполагает механического вывода из сопоставления объектов. Аналогия позволяет найти пути углубления знаний об объекте. Недаром Гегель давал параллельное изложение истории Китая, Индии, Персии и других стран. Аналогия была для него логическим приемом проникновения в неизвестное. Через сравнение различных форм особенного возможен переход от особенного к общему. В этом заключается ценность историко-сравнительного метода. Его варианты можно найти у Ранке, Дройзена, Риккерта. Весьма категорично на необходимости использования этого метода настаивал социолог Э. Дюркгейм. Он заявлял, что история может считаться наукой только в той мере, в какой она объясняет мир, а объяснить его можно только благодаря сравнению. Компаративизм, как и вся наука, имеет свои истоки в античности (Аристотель, Плутарх), но теория компаративистской истории начинает строиться лишь в эпоху Просвещения. При этом американский исследователь Д. Келли считает термин «компаративная история» некорректным19. В его докладе на международном конгрессе историков в Осло прозвучала мысль о методологических крайностях, между которыми располагаются сравнительные исследования. С одной стороны, на взгляд Келли, сравнение истории разных явлений даже при наличии общих элементов и терминов не является собственно историей. С другой стороны, сопоставление разных феноменов в их собственных терминах и контекстах не дает возможности для серьезного научного сопоставления. История как наука естественным образом предполагает сравнение. Уже «Греко-персидские войны» Геродота заключали в себе попытку компаративного исследования Иного, того, что греки именовали «варварством». При сравнении возникают вопросы, формулируются проблемы, хотя, конечно, очень многие явления и процессы плохо поддаются классификации, не говоря уже о типологии. Тот порядок, в котором Ковальченко перечислил методы исторического исследования, представляет собой последовательность, что дает возможность разрабатывать последующий метод на основе предыдущего. Иначе говоря, сначала определя- 209 ется генезис событий или процессов, затем осуществляется их сравнение и уже на этой базе создаются их типология и система. В исторической реальности нередко повторялись те или иные ситуации, обнаруживались черты сходства в событиях, политическом поведении разных слоев общества, идеологических явлениях. Умозаключения по аналогии именуются традукцией, т.е. выводом от отдельного к отдельному. В любом предварительном знании традуктивные выводы так же вероятностны, как и индуктивные. В историческом познании аналогии так же важны, как и в естествознании. Конечно, при их применении существует некий риск неполучения достоверного знания, но без риска нет творческой деятельности, движения научной мысли. Отказ от изучения сходства и сопоставления имел следствием обеднение истории. Методологически это означало бы абсолютизацию прерывности истории в результате игнорирования ее непрерывности. В эволюции компаративной историографии заметен постепенный отход от упрощенного понимания принципа синхронности. Углубляются критерии типологизации, происходит поворот от сопоставления отдельных признаков к их комплексной идентификации. К открытию в исторической науке возможны лишь два основных пути. Первый – это нахождение нового исторического источника или комплекса источников, содержащих сведения об исторических событиях, доселе неизвестных. Второй путь – новая интерпретация известных источников. Если источники анализируются на основе нового подхода, то может быть получена информация, обладающая новизной. Обилием новых источников располагают только археология и история современности. Что же касается письменных памятников по истории минувших столетий, то, скорее всего, пора «высокоурожайных» открытий их миновала. Все большее количество исторических трудов создается путем переосмысления уже известных письменных памятников. Информативность исторических источников – величина непостоянная. Она зависит от умения поставить новые вопросы и найти оптимальные методы поиска ответов на них. 210 Факт эквивалентности инертной и гравитационной массы был известен уже Ньютону, но только Эйнштейн вывел из этого факта теорию относительности. Ему не понадобилось для этого новых фактов, его теоретическая мысль базировалась на сравнении результатов огромной экспериментальной работы, проделанной физиками. И в исторической науке все более продуктивным становится метод сравнения. Он требует не только высокого профессионализма историка, но и методологической и философской культуры. В.О. Ключевский осторожно относился к сравнительному методу, но понимал, что сравнение заменяет историку опыт естествоведа, заменяет эксперимент. Путем наблюдения познаются отдельные явления, путем сравнения изучаются однородные явления, путем обобщения устанавливается взаимоотношение всех явлений. Особую пользу приносит сравнение принципиально однородных, но различных по степени интенсивности и исходу социальных процессов. Так, в востоковедении не раз подвергались сравнительному анализу европейское Просвещение и просветительство в странах Востока, принципы и мотивы реформации восточных религий и европейской Реформации. Неоднократно сопоставлялись реформаторские планы и ситуации на Западе и Востоке, исследовались темпы исторического развития в разных странах, анализировались их общие черты и принципиальные особенности. Когда индолога В.И. Павлова упрекнули в некорректном сравнении Запада и Востока после XV века, потому что Запад уже многое взял у Востока, он ответил, что сопоставлять можно и нужно, иначе мы вообще не поймем, почему Великобритания, например, подчинила Индию, а не наоборот20. Особенно эффективно применение сравнительного метода при изучении истории стран, географическое положение которых предопределило различного рода влияния, например, в тюркологии. Так, главные тенденции развития политических отношений Османской империи с остальным миром невозможно понять, если не сравнивать ее отношения со странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Выводы по аналогии вероятны, что вполне соответствует характеру исторических умозаключений. И условность исторических параллелей, и трудность выявления фактов, и влияние 211 субъективных факторов определяют эту вероятность независимо от ее степени. Вопрос о правомерности умозаключений по аналогии вызывал ожесточенные споры с давних времен. В античную эпоху правомерность этих умозаключений защищали эпикурейцы, а против них выступали стоики. Сильный аргумент против выводов по аналогии был выдвинут Ибн-Синой. Он обратил внимание на то, что есть много вещей, которые в одном отношении схожи, а в тысяче других отношений различны. В отношении одного из них суждение будет правильным или может быть правильным, а в отношении другого - неправильным. Стало быть, аналогия позволяет привлечь внимание и навеять сомнения, но не установить достоверность21. Использование метода сравнения предполагает поиск противоречий, прослеживание взаимосвязи и взаимообусловленности. Сравнение и аналогия обеспечивают образность сообщаемой информации. Они помогают понять новую информацию на фоне известных понятий, позволяют схватить основную идею и сосредоточить внимание на ней. Сравнение и аналогия – это не только метод научного поиска, но и способ научно-популярного изложения в образовательной практике22. Несмотря на то что плодотворность и обоснованность историко-сравнительного метода общепризнаны, с его помощью проведено крайне мало исследований. Этот парадокс объясним тем, что для осуществления такого рода работы от исследователя требуется не только редкое сочетание широкой эрудиции и способности к обобщающему мышлению, но и немалая научная смелость23. Самым крупным в мире центром по компаративистике считается Гавайский университет, однако при всей междисциплинарности его исследований большая часть их тяготеет к философии. Задача же исторической компаративистики состоит не только в том, чтобы проводить параллели и выявлять сходство, но и в том, чтобы с неменьшей точностью находить контрасты и различия. Профессиональное мастерство историка заключается в умении анализировать и дифференцировать, возможно, больше, чем в способности к синтезу и обобщению. 212 Сравнительно-исторический анализ строится на фундаменте конкретно-исторических исследований, проведенных на локальном и национальном уровне. Состояние страноведческих исследований влияет на компаративную историографию и определяет точность ее выводов. В ней наиболее отчетливо видны теоретические и методологические принципы противоборствующих историографических направлений24. Сравнительный метод позволяет преодолеть своеобразный исторический «провинциализм» и эмпиризм, но это не является самоцелью, а служит определенной познавательной задаче. Сравнение – это возможность большей обобщенности исторических понятий, подведения необычайно разросшейся массы конкретного под всеобщее. Применение сравнительного метода ограничено рамками действительно сравнимых исторических единиц. Условием возможности сравнения, согласно немецкому историку Т. Шидеру, является наличие некоторой однородности сравниваемых явлений25. В целом познавательные функции историкосравнительного метода можно свести к следующим: выделение в явлениях различного порядка аналогичных признаков, их сравнение и сопоставление; установление исторической последовательности, генетической связи явлений, сходства и различий; обобщение, построение типологии исторических процессов и явлений. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М.; СПб., 1996. С. 258. Косолапов В.В. Методология и логика исторического исследования. Киев, 1977. С. 289 – 290. 3 Антипов Г.А. Историческое прошлое и пути его познания. М., 1987. 4 Репина Л.П. и др. История исторического знания. М., 2004. С. 4. 5 Там же. С. 38 – 39. 6 Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957. С. 177. 7 Дьюи Д. Общество и его проблемы. М., 2002. С. 7. 8 Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 9 Жуков Е.М. Очерк методологии истории. М., 1980. С. 208. 1 2 213 Вайнштейн О.Л. очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX-XX веках. Л., 1979. С. 244. 11 Carr E. Was ist Geschichte? Stuttgart, 1963. S. 30. 12 Эксле О.Г. Факты и фикции: о текущем кризисе исторической науки // Диалог со временем. М., 2001. Вып. 7. С. 59. 13 Косолапов В.В. Указ. соч. С. 333. 14 Ахмедли Дж., Согомонов Ю. Об историческом познании. Баку, 1969. С. 37. 15 Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 1976. 16 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. 17 Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 18 Парфенов И.Д. Методология исторической науки. Саратов, 2001. 19 Келли Д. Основания для сравнения // Диалог со временем. М., 2001. Вып. 7. С. 89. 20 К стадиально-формационной характеристике восточных обществ в новое время // Народы Азии и Африки. 1982. № 1. С. 165. 21 Ибн-Сина. Даниш-намэ. Сталинабад, 1957. С. 116. 22 Вергасов В.М. Активизация мыслительной деятельности студента в высшей школе. Киев, 1979. С. 69. 23 Гулыга А.В. Конрад как философ // Проблемы истории и теории мировой культуры. М., 1974. С. 184. 24 Репина Л.П. Социальные движения и революции XVI – XVII веков в современной компаративной историографии // Новая и новейшая история. 1990. № 3. 25 Шидер Т. Возможности и границы сравнительных методов в исторических науках // Философия и методология истории. М., 1977. С. 166. 10 Лекция 11. История и методы других наук Историческая наука всегда была в контакте с другими науками: ее цели близки этике и политике, стиль – литературе, методы – философии и даже естествознанию. На историю влияла психология, биология и многие другие сферы знания. В истории науки процессы дифференциации чередуются с процессами интеграции. А интеграция наук приводит к междисциплинарности исследований. Это понятие не раз меня- 214 ло свое содержание. С 60-х годов XX века историков стали интересовать не только методы, но и объекты научных интересов других дисциплин. В 1970 году был основан международный «Журнал интердисциплинарной истории». Его основатели сравнили дисциплинарное взаимодействие с перекрестным опылением. В исторической науке появились новые проблемы и новые варианты их решения. С 80-х годов XX века дисциплинарное взаимодействие проявилось в историкоантропологическом аспекте, что дало возможность воссоздать историю людей как субъектов истории, а не как ее объектов. С 1989 года А.Я. Гуревичем издается альманах «Одиссей: Человек в истории». Замысел редколлегии состоял в объединении усилий историков и других гуманитариев, изучающих общественное сознание. Статьи альманаха за минувшие годы помогли преодолеть разрыв между историей общества и историей культуры, существовавший в советской историографии, не пытавшейся раскрыть человеческое содержание истории. Историческая антропология стала междисциплинарным полем, включившим историю ментальностей, историю повседневности, новую политическую и новую социальную историю, новую биографию и новую интеллектуальную историю. Все эти модификации антропологически ориентированных исследований требуют особой исследовательской практики1. В. Феллер определяет историческую антропологию как междисциплинарную область, в которой об истории говорят как о становлении человека, а проблемы антропологии надеются решить, вглядываясь во «времена большой длительности» и пытаясь понять и обосновать, что произошло с «человеческой природой» за столетия и тысячелетия исторического развития2. Через антропологическое изучение повседневной жизни происходила принципиальная ломка понятийного инструментария историка. Случайности стали привилегированным предметом исследования, так же, как парадоксальность или странность исторических феноменов. А.Я. Гуревич видел главную задачу исторической антропологии в воссоздании картин мира, присущих разным эпохам и разным культурным традициям3. Важно понять, как соотносятся стереотипы представлений и поведен- 215 ческих реакций, с одной стороны, и реальные практические интересы - с другой. Величайшие злодейства XX века совершались на основе теорий, в соответствии с которыми человек представал как винтик или штифтик исторического процесса. Историки нередко упрощали отношения между материальной сферой и явлениями духовной жизни, включая ее в понятие пресловутой «надстройки». Марксисты забывали о мысли Маркса, согласно которой «история людей есть всегда лишь история их индивидуального развития»4. Категории и методы исторической антропологии выводят историю на уровень человеческих отношений. С конца XX века начался «культурологический» поворот исторической науки. Изучение культурных механизмов социального взаимодействия дает возможность полнее учесть творческую роль личности в истории. Французский историк М. Эмар поставил вопрос о проблематичности сохранения границ между различными дисциплинами, о необходимости создания единой социальной науки. Те пласты человеческого сознания, которые изучаются геральдикой, сфрагистикой, нумизматикой и другими вспомогательными историческими дисциплинами, казалось бы ориентированными на методы точных наук, порой так глубоки, что уводят в сферу коллективного бессознательного и требуют философского и психологического осмысления. Наиболее важные открытия совершаются на стыке дисциплин. Представители разных наук должны знать языки друг друга. Междисциплинарное пространство характеризуется полилингвизмом, в нем неизбежна проблема языкового выбора и иерархии языков. Граница исследовательских территорий постоянно изменяется, что способствует междисциплинарному синтезу5. Дисциплинарные границы нарушаются из-за неделимости объекта исследования. Трудности междисциплинарного диалога обусловлены разностью культурных традиций. М. Вебер утверждал, что в основе деления наук лежат «мысленные» связи проблем, а рост проблемного поля любой науки делает научное пространство все более пересеченным. В наибольшей степени пересекаются история и социология. По мнению Г.В. Плеханова, история становится наукой 216 лишь постольку, поскольку ей удается объяснить изображаемые ею процессы с точки зрения социологии6. На стыке истории и социологии возникли историческая социология и социальная история. В процессе обсуждения трудов немецких социальных историков возник афоризм «Социология без истории – пуста, история без социологии – слепа»7. Историческую социологию иногда определяют как науку, анализирующую исторические данные с целью получения социологических обобщений. Историческая социология помогает увидеть историю как открытый процесс. Парадигму исторической социологии начинал создавать еще Н. Данилевский, полагавший, что разработанные в социальной науке периодизации общественного развития имеют право существовать, если они накладываются не на историю всего человечества, а на историю одного народа или группу родственных народов8. П. Сорокин в 30-е годы XX века стремился синтезировать социологические, философские, исторические и другие знания в «интегральную систему», или методологию. В середине 90-х годов XX века тогдашний президент Международной социологической ассоциации И. Валлерстайн заявил, что «социологии в XXI веке больше не будет. Либо будет воссоздана единая… социально-историческая наука, рассматривающая человечество в перспективе эволюции исторических систем, либо нас заслуженно разгонят за увлечение схоластикой»9. Заинтересованность историков в сотрудничестве с социологами имеет несколько аспектов. Историкам, изучающим современность, конкретно-социологические исследования дают материал по социальной психологии групп и наций, помогают при анализе распространения и усвоения людьми культурных ценностей или моральных норм. Конкретно-социальные исследования не просто представляют дополнительную информацию, а входят в историографию той или иной проблемы. Важны не только результаты таких исследований, но и составляемые в ходе их анкеты, записи интервью и другие материалы. Иными словами, источник имеет двойной уровень. Анкеты, интервью, записи наблюдений – это первоисточники. Статистические таблицы, графики, записи простых и условных распределений – это уже источник второго уровня. 217 Специалистам, изучающим отдаленное прошлое, социологические материалы позволяют судить о дальнейшем развитии тех процессов и явлений, которые находятся в поле их зрения. Учитывая репрезентативность социологических исследований, историки учатся у социологов использовать метод выборки и типологические процедуры. Если социальная история ориентирована на период и страну, то историческая социология – на концепцию и проблему. Источниковая база историкосоциологических исследований поистине безмерна. В ней описания археологических памятников, этнографические описания; хроники, анналы, летописи; публично-правовые и частноправовые акты, хозяйственная документация; личные документы и биографии; пресса и публицистика, научные и философские трактаты, произведения искусства. Историко-социологическая проблематика тесно связана с историко-психологической. Н.К. Михайловский писал, что толпа – это не народ, а самостоятельное общественнопсихологическое явление, толпа – это масса, способная увлекаться примером10. В настоящее время не существует общепринятого понимания феномена толпы. Одни авторы ограничивают содержание этого понятия спонтанными и временными скоплениями людей, делая упор на эмоциональных аспектах происходящих событий11. Другие включают в понятие толпы все групповые взаимодействия или публичное коллективное поведение, изучают структуру охлократического сознания, основанного не только на эмоциях, но и на невежестве, на инстинктах. Американский исследователь Т. Блумер выделяет четыре типа толпы: случайную, обусловленную, действующую и экспрессивную12. Общим истоком исторической и социальной психологии была так называемая «психология народов», возникшая в Германии в середине XIX века. Ее главным понятием было понятие «народного духа», воспринятое из романтической историографии. Но в отличие от историков психологи ставили задачу раскрыть «механизмы» и «элементы» «народного духа». В психолого-историческом синтезе реконструировался «интеллектуальный инструментарий» эпохи13. Теорию формирования толпы изучали французы Г. Лебон и Г. Тард, 218 различавший толпу и публику. Его идея публики как нового типа коллективной ментальности получила существенное развитие в работах американских последователей Тарда. Представители исторической психологии много сделали для понимания поведения людей античности и средневековья, эпохи Возрождения и Нового времени. А.Я. Гуревич подчеркивал, что уже на этапе предварительного изучения источников историк сталкивается с психикой человека иной эпохи, поэтому письменный памятник требует от историка усилий по расшифровке мыслей, воззрений его создателя14. Психология людей – это составная часть исторического процесса и должна быть в качестве таковой исследована. Историк обязан проанализировать широкий комплекс мировосприятий, начиная с отношения к природе, включая отношения к смерти и времени, семье и детству, труду и собственности. У психологов есть термин «психологическое преодоление», связанный с противостоянием человека жизненным трудностям. Это понятие перспективно и для исторической психологии, так как позволяет перенести внимание с субъекта на целостную ситуацию, в которой этот субъект действует. Трудности исторической психологии связаны с тем, что история и психология принадлежат к разным познавательным традициям: история ориентирована на постижение смысла, психология – на постижение причины. Современная экспериментальная психология анализирует психические реакции конкретного человека; ее инструментарий мало пригоден для изучения исторических документов, так как с его помощью нельзя постичь смыслообразующие механизмы. Предмет исторической психологии –социально укорененные механизмы смыслообразования, их функционирование в пространстве культуры. Для историка много значат и исследования по этнической психологии, позволяющие понять мифы, верования, нравы и искусство разных народов. Этнопсихология изучает факты, закономерности и механизмы проявления ценностных ориентаций и поведения этнических общностей, объясняет особенности их самосознания15. 219 Не менее важны и этнологические исследования, заполняющие, по словам Л.Н. Гумилева, «трещину между историй и естествознанием». Центральной проблемой своего научного творчества он считал соотношение биологических, географических и исторических факторов в процессе этнической эволюции. Одним из важнейших понятий исторической этнологии стало понятие «этническая картина мира»16. Этнополитология, изучающая соотношение этнического и политического самосознания, также соприкасается с исторической проблематикой. На стыке истории, этнологии и демографии развивается демология. Она претендует на самостоятельную роль, но может служить и вспомогательной исторической дисциплиной. Демология затрагивает экономические, социально-политические, идеологические и биологические аспекты многих проблем народонаселения17. Понятие демологии предложил организатор Всегерманской промышленной выставки 1850 года Э. Энгель, возглавлявший Прусское статистическое бюро. В отличие от сугубо статистической демографии он видел в демологии науку о происхождении, о сущности государственных и иных человеческих общностей. К середине XX века демология приобрела авторитет благодаря признанию несостоятельности демостатистики из-за вырванности ее из исторического контекста. Демологию интересует качество населения и его динамика от эпохи к эпохе. Междисциплинарная сущность демологии проявляется в соединении проблематики демографии и истории. Сближение истории с другими науками имеет свои пределы. Заимствуя методику иных дисциплин, историк должен поставить новые проблемы, выявить новые ракурсы изучения исторического процесса. Некоторые философы полагают, что сближение гуманитарных и естественных наук ведет к замене парадигматического подхода на синтагматический (от греческого «синтагма» - вместе соединенное), имеющий не только теоретическое значение - как форма осознания научнотехнологической реальности, но и прагматическое как концептуальная основа государственной политики в области образования, науки и технологии18. В Англии издается журнал «Археометрия», где публикуются статьи с результатами совместных работ историков и 220 физиков. В истории и археологии применяются такие методы исследования, как магниторазведка, радиоизотопное и термолюминисцентное датирование, спектроскопия, рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ, электронная микроскопия и многие другие. Историк не может игнорировать данные географической науки: ему необходимо то, что называют «географическим воображением». Есть даже шутливое высказывание: география слишком важна, чтобы оставлять ее географам. Можно сказать, что любая история начинается с географии. Так, китайская история более однородна во времени, чем в пространстве: классическим считается противостояние бассейна Хуанхэ, где основным злаком является пшеница, и бассейна Янцзы – влажного юга, пейзаж которого украшают затопленные рисовые поля. Мыслители XVI – XVIII веков Ж. Боден, Ш. Монтескье, И. Гердер полагали, что все проявления человеческой деятельности определяются природой и климатом. Русский историк XVIII века И. Болтин писал о том, что историк дорого платит за невежество в естественных науках. Значимость исторической географии определена тем, что она исследует пространственную сторону исторического процесса. Не только в период становления общества, но и в более поздние эпохи географические и экономические факторы оказывали большое влияние на ход истории. Всего лишь две тысячи лет назад теперешние пустыни Северной Африки снабжали пшеницей всю Южную Европу. Всего лишь несколько столетий назад Северный Ледовитый океан в летний сезон практически был свободен от ледового панциря. Резкое похолодание, начавшееся в XIII веке, привело к бегству норманнов из Гренландии, к опустению поселений на острове. «Малое потепление» в начале XX века вызвало уменьшение массы дрейфующего льда. Леса наступали на тундру со скоростью в несколько сотен метров в год, граница земледелия в Канаде отодвинулась к северу на 100 – 200 километров. Периоды климатических колебаний оказывали влияние на многие исторические ситуации19. По мысли Ф. Броделя, без детального изучения исторической экологии история доиндустриальных обществ вообще повисает в воздухе. М.А. Барг с горечью отмечал, что страх пе- 221 ред опасностью преувеличения роли географического фактора в истории, идущий от «Краткого курса истории ВКПб», на долгие годы парализовал исследования в данной сфере20. В современных публикациях на эти темы доказывается, что все мировые религии возникли в эпохи ухудшения локальных климатических условий. Похолодание или, напротив, иссушение почвы повлияло на культурную историю человечества. При этом отмечена высокая скорость реакции социума, так как исторические следствия не отделены значительными временными промежутками от климатических причин. Вообще наиболее важные события чаще случались в эпохи климатических экстремумов, когда в том или ином регионе достигались либо максимумы температур, либо максимумы увлажненности21. Маятник исторических эпох колебался в точном соответствии с климатическими ритмами: ухудшение климата вызывало обострение интеллекта, осуществлялись невиданные технологические прорывы; при потеплении росло материальное благополучие, но одновременно происходила интеллектуальная и духовная деградация. На стыке гуманитарных и естественных наук возникла социоестественная история. Ее предмет - взаимосвязи и взаимовлияния событий, явлений и процессов в жизни общества и природы. Природа и общество рассматриваются как единое целое. Социоестественная история уходит корнями в некоторые идеи М. Вебера, школы «Анналов», а также в концепцию эволюции биосферы Н.Н. Моисеева. Особое внимание в ней уделяется кризисам и катастрофам, экофильному поведению Человека Хозяйствующего во Вмещающем Ландшафте. Цивилизация в социоестественной истории понимается как процесс развития или жизненный путь суперэтноса, протекающий в одном и том же канале эволюции. С работами палестино-американского автора Э. Саида связано появление дисциплины, известной как «постколониальные исследования». Продолжая линию М. Фуко, Саид рассматривал систему знаний о Востоке как исследовательский подход, призванный поддерживать колониальное завоевание и господство. В своей книге «Ориентализм» он отрицает европоцентристский подход, позволивший исказить действительную историю Востока. 222 Известный русский гелиобиолог А.Л. Чижевский предложил оригинальнейший подход к истории. В 1918 году молодой ученый защищал диссертацию на соискание степени доктора всеобщей истории. Авторитетные историки Н.И. Кареев и С.Ф. Платонов, будучи его оппонентами, дали положительные отзывы о работе. Члены ученого совета решили, что имеют дело либо с великим заблуждением, либо с гениальным открытием. Искомую степень Чижевскому присудили, но критические нападки на него в 20-х годах, шельмование в 30-х и репрессия в 40-х не позволили настаивать на важности его открытий. Между тем мыслителем-энциклопедистом, сочетающим исторические, психологические, астрономические и даже медицинские подходы, была составлена таблица массовых движений всеобщей истории человечества с V века до н.э. по XIX век22. Он показал, что в периоды повышения солнечной активности расцветают имперские амбиции и усиливаются межнациональные распри, что важнейшие события в человеческих сообществах протекают одновременно с изменением сил окружающей природы. Не случайно еще греки знали, что климат зависит от угла падения солнечных лучей (климат по-гречески означает «наклон»), а зависимость жизни и истории от солнца отражена во множестве мифов самых разных народов. Сравнив колебания исторического процесса с колебаниями физико-химических процессов в солнечной материи, Чижевский и создал то, что он назвал «историометрией». Он обнаружил в каждом столетии девять историометрических циклов и разделил каждый цикл на четыре периода: период минимальной возбудимости, когда массы индифферентны, но миролюбие благотворно для создания культурных ценностей; период нарастания возбудимости благоприятен для создания партий и групп, формулирования программ; период максимальной возбудимости побуждает человечество к величайшим безумствам и величайшим открытиям; период снижения возбудимости замедляет темп развития, способствует появлению апатии и равнодушия у масс. Тотальное методологическое обновление науки связано с появлением синергетического подхода, иначе говоря, своеобразной теории самоорганизации. Синергетика составляет ядро современной научной картины мира, так как изучает общие 223 принципы и механизмы самоорганизации, присущие как живым, так и неживым формам материи. Предложив термин «синергия» (совместное действие), немецкий физик Г. Хакен пришел к созданию учения о взаимодействии подсистем. Принципы нелинейности, провозглашенные синергетикой, отвечают традиционному мировоззрению Востока: наличие иерархии, выражение малого в большом и большого в малом, смена темпов и ритмов исторического движения23. Синергетика возникла не по прихоти ученых, а вследствие таких изменений в науке, согласно которым она перестает быть функцией знания, способной постигать лишь частные законы. Предшественниками синергетики считаются кибернетика и системный подход. Синергетика рассматривает всякую систему одновременно и на макроуровне, и на микроуровне. Нет абсолютного хаоса и абсолютного порядка. Порядок – это организованный хаос. Состояние, к которому эволюционирует система, именуется аттрактором. Эффект синергизма можно выразить формулой «2+2=5», т.е. синергия усиливает (увеличивает) конечный результат. Синергетический эффект связан с появлением в результате совместного действия новых свойств, отсутствующих у каждого процесса или явления в отдельности. Иначе говоря, согласно синергетике, целое больше, чем сумма его частей. История – это нечто большее, чем сумма политики, экономики и культуры. Синергетический подход, основанный на таких понятиях, как нелинейность, неустойчивость, непредсказуемость, альтернативность, позволяет по-новому оценить многие парадоксальные и противоречивые ситуации, возникающие в историческом процессе. Синергетика разрушает многие привычные представления. Так, ранее случайность тщательно изгонялась из науки. Существовало убеждение в том, что случайности стираются и не оставляют следа в общем течении событий природы и культуры. Укоренен миф о том, что «единичное человеческое усилие не может иметь видимого влияния на ход истории, что деятельность каждого отдельного человека несущественна для макросоциальных процессов»24. Согласно теории катастроф, представление о кризисе сводится к точке бифуркации. Бифуркацией называют такое 224 состояние объекта, когда невозможно предсказать его дальнейшую судьбу. Точки бифуркации в поэтическом выражении – это «минуты роковые». Революция – это типичная бифуркация. Вблизи точек бифуркации даже малое воздействие оказывается значительным и непредсказуемым для системы в целом. Синергетический подход дает методологическую основу и аналитический инструментарий «для анализа проблемы альтернатив исторического развития, для изучения сложных процессов, возникающих при “надломе цивилизаций”»25. Чтобы реконструировать точки бифуркации, существовавшие в прошлом, нужно получить количественную информацию, которую можно математически формализовать при создании моделей. Но чем дальше в глубь веков уходит исследователь, тем проблематичнее становится выявлять и точки бифуркации, и их смысл. Некоторые отечественные историки рассматривают 1917 год в терминах синергетики – как «взрыв» или наиболее острую стадию достаточно протяженного синергетического процесса (1900 – 1930). Этот процесс назван российским и мировым культурогенезом26. По мнению В.П. Булдакова, 1917 год был обусловлен резонированием двух кризисных ритмов развития – европейского и российского. Цикл культурогенеза 1900 – 1930 годов был связан с вырождением и возрождением имперства. Образы, навеянные синергетикой, способны стать точками роста исторического знания в силу своей эвристичности и оптимистичности. Синергетика «дает возможность рассмотреть старые проблемы в новом свете, переформулировать вопросы, перереконструировать проблемное поле науки»27. Вблизи точек бифуркации включается аппарат флуктуации, т.е. отсечения одних вариантов и выбора других. В сфере истории флуктуация осуществляется человеком в зависимости от его понимания мира и принадлежности к той или иной политической или культурной традиции. Знаменитый «эффект бабочки», хотя и в фантастической форме, но все же показывает, как даже незначительная флуктуация может порождать хаотические режимы и непредсказуемые последствия. Когда за несколько веков до начала нашей эры система «человек – природа» вошла в точку бифуркации, Запад (в лице Древней Греции) и Восток (в лице 225 Древнего Китая) сделали разный выбор. Похолодание в железном веке стало началом расхождения путей Запада и Востока. Переход историков к анализу массовых источников («сверхбольших» объемов информации) и тяготение к интегральному, системному рассмотрению явлений и процессов требуют существенной математизации истории. Когда-то еще Т. Гоббс, отождествляя рациональное познание с вычислением, мечтал о создании для всех наук универсального математического метода, а историк С.М. Соловьев предсказал возможность применения математических методов в исторической науке. На это историка натолкнула многолетняя работа в архивах над некоторыми массовыми источниками. Ныне объем информации в архивах удваивается каждые десять лет, а масштабы использования историками математических методов зависят от их математической подготовки. Математический анализ не может подменить логического анализа, но облегчает работу интеллекта. Английский естествоиспытатель Т. Гексли заметил, что математика подобна мясорубке, она может переработать любое мясо, но, для того чтобы получить хорошие котлеты, нужно и хорошее мясо. Иначе говоря, использованию математических методов должна предшествовать проверка их применимости в каждом конкретном случае. В конце 80-х годов XX века благодаря «микрокомпьютерной революции» появилась новая научная дисциплина – историческая информатика, исследующая закономерности процесса информатизации исторической науки. Разработаны базы данных, включающие биографические сведения о сотнях тысяч персоналий и пакеты статистических программ. С помощью количественных методов можно получить новые знания, особенно в области экономической истории. Однако применение математических методов не может заменить качественной интерпретации. Перечисляя преимущества человека перед электронно-вычислительной машиной, основоположник кибернетики Н. Винер особо выделял способность человеческого мозга оперировать с нечетко очерченными понятиями. Он писал, что в общественных науках статистические ряды короткие, а это ограничивает сферу применения математических методов28. 226 В ряде работ историков используется корреляционный анализ, с помощью которого устанавливается зависимость между отдельными переменными или признаками, возникающая, когда один из этих признаков зависит не только от второго, но и от ряда случайных событий. При выяснении степени распространения переменных, наиболее адекватно отражающих изучаемый объект, определяется и то, в какой мере она обусловливает данное состояние объекта или процесс его изменения. С помощью энтропийного анализа изучаются социальные связи в небольших (менее 20 единиц) совокупностях, не подчиняющихся вероятностно-статистическим закономерностям. Энтропия обозначает меру разнообразия системы. Академик И.Д. Ковальченко с группой исследователей подверг математической обработке массовый исторический источник, материал которого длительное время считался малопригодным и использовался лишь для иллюстрации. Это территориальные таблицы земских подворных переписей, содержащие сплошные сведения о пореформенном развитии крестьянского хозяйства в нескольких десятках губерний Европейской части России. С помощью методов математической статистики удалось проникнуть в суть внутриобщинного расслоения крестьян29. К.В. Хвостова, применив количественный подход при анализе византийского материала, нашла коэффициент, позволивший определить степень расслоения внутри вотчин и общин. Ею был предложен показатель, дающий возможность выявить существовавшие, но не зафиксированные в источниках части земельного налога30. На материале оценочных суждений и поведенческих норм, изложенных в трудах Плутарха, исследовались ценностные ориентации античного общества. Исторический текст был проанализирован методами контент-анализа и семантического дифференциала. Результаты изучения сопоставлялись с характеристиками других авторов. Контент-анализ – это метод количественной обработки больших массивов документов, разработанный в американской социологии. Применение его позволяет выявить частоту появления в тексте характеристик, интересующих исследователя. На основе этих характеристик можно судить о намерениях создателя текста и о возможных 227 реакциях адресата. В качестве единицы анализа выступает элемент, или индикатор, исследуемого сообщения. Простейший из элементов – слово. Вторая единица анализа – тема. Это уже определенное сочетание слов или понятий. В состав темы входят пояснительный текст и слова – модификаторы, в роли которых могут быть наречия или прилагательные, помогающие установить значение текста. Контент-анализ – это метод качественно-количественного изучения источников. Как минимум он предполагает три основных стадии исследования: расчленение текста на смысловые единицы – качественный анализ; подсчет частоты их употребления – количественный анализ; интерпретация результатов анализа текста – качественный анализ. В особо сложных познавательных ситуациях историки используют моделирование. Принято выделять три типа моделей – аналитические, статистические и имитационные. К моделированию прибегают в связи с отсутствием или недостаточным количеством источников, либо, напротив, при обилии источников, относящихся к объекту познания. В вычислительном центре Академии наук СССР была создана социальноэкономическая модель развития системы древнегреческих полисов в период Пелопоннесской войны. Математическому моделированию подвергались отношения, которые отражали в количественной форме процесс производства материальных благ, их распределение, потребление и обмен на рынках. Построенная модель стала эффективным инструментом системного анализа исторической информации. В динамике было воссоздано экономическое развитие основных греческих полисов. При этом числовой материал не только уточнялся, но и реконструировался (например, для Коринфа и Сиракуз). И все-таки количественные методы не оправдали тех надежд, которые на них возлагались: полной историографической революции не произошло. Для большинства читателей исторической литературы количественные методы скучны и недоступны. Утомительные таблицы и сложные формулы не столь привлекательны, как сочные сплетни о королевских любовни- 228 цах, хотя иногда хорошо построенные графические схемы могут быть более понятны и уяснимы, чем витиеватые повествования31. На это рассчитаны попытки обращения математиков к историческому материалу. Несмотря на ошибки и некорректные построения, их продукция расходится массовыми тиражами, дискредитируя сам принцип применения математических методов в исторических исследованиях. Погоня за сенсационностью и издательской прибылью приобрела невиданный масштаб. Когда-то с мерками математики и механики к истории пытался подойти И. Ньютон. Он искал в книгах пророков дату конца мира, зашифрованную по правилам математики. Ньютон пересмотрел древнюю хронологию, полагая, что счет поколений надо вести не по правлениям монархов, а по средней продолжительности человеческой жизни, составлявшей тогда примерно 36 лет. Он делал астрономические поправки из-за перемещений полюсов земли с востока на запад. Сравнивая сообщения древних астрономов, Ньютон нашел, что между походом аргонавтов и Пелопоннесской войной прошло не семьсот лет, а пятьсот. Русский народник Н.А. Морозов, сидя в царской тюрьме, предложил схему передатировки древней и средневековой истории, полагая, что древняя и средневековая история якобы «выдумана» в эпоху Возрождения. Попытки продолжить «новую хронологию» в истории привели к появлению глубоко маргинальных явлений. Схемы и графики М.М. Постникова, А.Т. Фоменко и их последователей основаны на неверных исходных данных, в силу чего были сделаны ложные выводы и построения, которые трудно поддержать авторитетом математики. Не только исторические, но и филологические и астрономические (в том числе древнекитайские) данные подтверждают правильность традиционной хронологии. Еще в 80-е годы XX века академики Б.А. Рыбаков и Ю.В. Бромлей написали резкое письмо в ЦК КПСС, в связи с чем Фоменко позднее рассказывал, что крупный чиновник из отдела науки ЦК выразил свое безразличие к тому, когда именно убили Юлия Цезаря, но посоветовал не трогать советскую историю. После «выволочки» Фоменко на несколько лет порвал с историей, но в 1992 году американские математики буквально разгромили новую книгу Фоменко по многомерному вариаци- 229 онному исчислению. Возможно, эта неудача, а главное – изменение ситуации на книжно-издательском рынке привели к тому, что от Фоменко пошел поток псевдоисторических книг с полным бредом: древняя Ассирия отождествлялась в них с Германией, вавилонское пленение древних иудеев с авиньонским пленением римских пап. Киевской Руси, по мнению Фоменко, вообще не было, как и монгольского ига. Батый – это Иван Калита. Дмитрий Донской и Тохтамыш – одно лицо. Знаменитые римские императоры Сулла, Помпей, Цезарь жили будто бы в XII – XIII веках, а события описанные в Библии, согласно Фоменко, происходили в XI – XVI веках. В целом он укорачивает письменную историю человечества на 2,5 тысячи лет32. Информационный бюллетень «История и компьютер» напечатал в 1998 году статью астронома Ю. Ефремова (профессора, доктора физико-математических наук) о фоменковском способе датировки древнейшего свода астрономических знаний «Альмагеста». Этот способ Ефремов уподобил отсчету минут по часовой стрелке. Так и возник зазор в несколько столетий – исходная точка «новой хронологии», а потом получается абсурд, пародия на который звучит так: Через Греко-Палестину, Пряча в ладан ятаган, Делал хадж на Украину Римский папа Чингисхан33. Все попытки историков вызвать Он на открытую дискуссию к успеху не привели. Критики Фоменко обращают внимание на то, что в большинстве его изданий нет математической аргументации, а есть лишь ссылки на нее. Парадоксально, что он отрицает существование китайской цивилизации (до XVII века), хотя именно эта цивилизация имеет самую высокоточную хронологию на протяжении тысячелетий. Фоменко использует свое академическое звание для создания рекламного имиджа фантастических сочинений. На Западе российский термин «новая хронология» не получил большого распространения, однако он закрепился за частным феноменом сокращения египетской и ближневосточной древней истории приблизительно на 300 лет, предлагаемой английским автором Д.Ролем в книге 230 «Проверка времени», изданной в Лондоне в 1995 году. Последователь Фоменко Е.Я. Габович, эмигрировавший в ФРГ, сокращает египетскую историю на 500 лет34. Историческая литература, ориентированная на коммерческий успех, получила на Западе наименование «фольк-хистори» (история для народа). Организации и личности, представляющие этот жанр, располагают более мощными финансовыми и информационными возможностями для пропаганды и продвижения своих идей, чем любое научное учреждение историков-профессионалов. По мнению академика В.Л. Янина, в жанре «фольк-хистори» в России кроме Фоменко выступают Э. Радзинский, М. Аджиев и др.35 К «фольк-хистори» тяготеют и некоторые авторы, работающие в жанре «альтернативной истории». Действие таких книг разворачивается в полном противоречии с исторической реальностью, а подлинные географические названия и имена исторических личностей создают тот самый эффект достоверности, который похож на эффект якобы искривления металлической ложки, помещенной в стакан с водой. Таким образом, бесспорно положительные последствия контакта исторической науки с другими дисциплинами имеют и отрицательный частный результат, ставший своеобразным социокультурным вызовом, ответить на который так же трудно, как высокой культуре спорить с культурой массовой. Междисциплинарные подходы к изменению прошлого: до и после «посмодерна». М., 2005. С. 60. 2 Феллер В. Указ. соч. С. 9. 3 Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988. № 1. 4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 27. С. 402. 5 Междисциплинарные подходы… С. 10 – 11. 6 Плеханов Г.В. Избранные произведения. М., 1957. Т. 3. С. 515. 7 Historische Zeitschrift. 1977. Bd., 225. Mf. 2. S. 386. 8 Социологические исследования. 2005. № 5. С. 129. 9 Валлерстайн И. Россия и капиталистическая мир – экономика 1500 2010 // Свободная мысль. 1996. № 5. С. 30 1 231 Цит. по: Парыгин Б.Д., Рудаков Л.И. Михайловский о психологическом факторе в историческом процессе // История и психология. М., 1971. С. 281. 11 Рощин С.К. Психология толпы // Психологический журнал. 1990. № 5. С. 4. 12 Американская социологическая мысль. М., 1994. 13 Белявский И.Г., Шкуратов В.А. Проблемы исторической психологии. М., 1982. 14 Гуревич А.Я. История и психология // Психологический журнал. 1991. № 4. С. 5. 15 Мухина В.С. Этнопсихология: настоящее и будущее // Там же. 1994. № 3. 16 Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997. 17 Шевеленко А.Я. Демология // Вопросы истории. 1993. № 10. 18 Вестник РАН. 2003. № 2. 19 Косолапов В.В. Методология и логика исторического исследования. Киев, 1977. С. 180 – 181. 20 Барг М.А. О категории «цивилизация» // Новая и новейшая история. 1990. № 5. С. 27. 21 Клименко В.В. Климат и история от Конфуция до Мухаммада // Восток. 2000. № 1. 22 Чижевский А.Л. Земля в объятиях Солнца. М., 2004. 23 Князева Е.Н., Турбов А.Л. Единая наука о единой природе // Новый мир. 2000. № 3. 24 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 4. 25 Андреев А.Ю., Бородкин Л.И., Левандовский М.И. История и хаос: новые подходы в синергетике // Сравнительное изучение цивилизаций мира. М., 2000. С. 75. 26 Булдаков В.П. 1917 год: взрыв на стыке цивилизаций // Историческая наука в меняющемся мире. Казань, 1994. Вып. 2. С. 3. 27 Григорьева Т.П. Синергетика и Восток // Вопросы философии. 1997. № 3. С. 70. 28 Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. М., 1968. С. 237 – 238. 29 Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях. М., 1985. 30 Хвостова К.В. Количественный подход в средневековой социальноэкономической истории. М., 1980. 10 232 Ярауш К. Роль количественных методов в исторических исследованиях // История и историки. М., 1990. С. 398. 32 Фоменко А.Т. Античность – это средневековье. СПб., 2005. 33 Из интервью акад. В.Янина // Известия. 1998. 11 июня. 34 Габович Е.Я. История под знаком вопроса. СПб., 2005. 35 Янин В. «Зияющие высоты» академика Фоменко // Новая и новейшая история. 2000. № 3. С. 51. 31 Лекция 12. История как искусство Взаимосвязь научного и художественного познания существовала всегда, но не всегда над проблемой этой взаимосвязи в науке задумывались. Еще середине 60-х годов XX века в Ленинграде состоялся симпозиум, в котором приняли участие наряду с учеными разных специальностей писатели, художники, теоретики эстетики. Материалы симпозиума отразили сугубо зачаточную стадию исследования взаимосвязи науки и искусства1. Историки продолжали ориентироваться преимущественно на социально-экономическую тематику, притом сильно формализованную и догматизированную. В учебниках истории преобладали элементы политической экономии, а рассказы о событиях и людях были сведены к минимуму. Безликая и бесстрастная, обуженная и отглаженная история перестала быть сопричастной искусству. М. Ферро сравнивал историческое знание с рекой, которую образуют несколько потоков: официальная историография, память поколений, эмпирическая история, опирающаяся на данные демографии и статистики. В число этих потоков он включал литературу и кинематограф как постоянно действующий фактор исторического знания2. Вопрос о том, является ли история наукой или же искусством, относится к числу вечных вопросов. В.О. Ключевский не хотел поддерживать ни одну из сторон в этом споре: будучи приверженцем идеи научной истории, он читал и записывал лекции, ставшие значительным событием культурной жизни 233 России. Некая театральность и зрелищность исторического текста возникает благодаря употреблению таких понятий, как «авансцена исторических событий», «персонажи истории», «действующие лица исторических коллизий» и многие другие. Историк проникает в природу конфликтных напряжений, изучает их нарастание и ослабление. Нередко исторические ситуации оставляют ощущение тайны, и тогда историк ведет себя подобно писателю: он выстраивает сюжет и подчиняет свое повествование законам риторики. Одна из особенностей исторического познания состоит в том, что оно включает эстетический момент. Имя музы истории – Клио – произошло от древнегреческого слова «прославляю». Первоначально Клио покровительствовала героической песне, прославляющей тех, кто заслужил славы. Клио и муза эпической поэзии Каллиопа – родные сестры. Историческое обобщение представляет собой синтез теоретического и эстетического освоения мира. И дело не только в литературной одаренности историка: сам объект исторического исследования имеет эстетическую структуру3. Историю человечества можно рассматривать с разных точек зрения: как процесс духовного саморазвития, как прогресс производительных сил или прогресс в осознании свободы. Но можно видеть в ней и непрерывное изменение человеческого понимания красоты. При таком взгляде историк преобразует неэстетические отношения и ситуации в эстетические. К античности восходит традиция употребления словосочетаний «история и драма», «историческая драма», «драма истории». Творя историю, ее герои разыгрывали земную драму человеческой жизни. Античные историки охотно прибегали к мифу и эпосу, поэты часто «драматизировали» исторические события. Геродот намеревался сохранить в памяти людей все «великое и достойное удивления». По Аристотелю, историк говорит о действительно случившемся, поэт – о том, что могло бы случиться: поэзия говорит об общем, история – о единичном. Поэт творит, историк познает. Произведения Геродота не перестанут быть историей, если их переложить в стихи4. Из искусства пришло требование симметрии исторического труда. Лукиан осуждал историков за растянутые 234 предисловия. Вопрос о различии законов драмы и законов истории приобрел остроту в эпоху Возрождения. Размышления об истинности содержания исторического повествования, сочетались со спорами по поводу необходимости интерпретации фактов. Мыслители Возрождения видели в истории «коллекцию» примеров, пригодных для всех времен, ибо вечно повторяются страсти, склонности и пристрастия людей, творящих историю. Если в средневековой историографии человеческий элемент истории был оттеснен, то гуманисты видели в истории серию человеческих поступков и искали причины событий в характерах и морали. С их точки зрения, интерпретация истории означала восстановление умственной и душевной драмы исторических лиц. Драматурга и историка объединяла общая цель – оживить прошлое, «вдохнуть жизнь в героев», перечувствовать их драму5. Творчество выдающегося немецкого драматурга Ф.Шиллера было связано с профессиональным занятием историей. В предисловии к «Истории отпадения Соединенных Нидерландов от испанского владычества» он подчеркивал, что история должна кое-что брать от родственного искусства без необходимости стать в силу этого романом. Будучи профессором Иенского университета, Шиллер стремился к познанию человека в социальном контексте, исходя из близости предмета истории и искусства. Исключительную ценность для него представляли исторические личности. Сравнивая историка и поэта, Шиллер утверждал, что историк «лишен свободы, позволяющей художнику двигаться с легкостью и грацией»6. Трагедия подчиняет историческую истину поэтическим законам и воздействует на человека эмоционально. В письме к Гете Шиллер определил себя как «промежуточный тип художника, колеблющегося между рациональным и иррациональным в познании»7. Подчеркивая наличие рационального начала в художественном творчестве, он полагал, что «нельзя взволновать сердце без участия разума», а историку иногда необходимо «углубленное безрадостное изучение источников»8. Гармоничное сочетание литературных и исторических занятий было присуще Вольтеру. Н.В. Гоголь пребывал в должности профессора всеобщей истории, а литературный кри- 235 тик В.Г. Белинский писал рецензии на исторические труды. На его взгляд, исторический талант предполагает соединение строгого изучения фактов не только с их критическим анализом, но и с творческой способностью соблюдения условий перспективы. Вальтер Скотт был активным членом Шотландского исторического общества, автором исторических трудов «История Шотландии» и «Жизнь Наполеона Бонапарта». Его романы, расходившиеся огромными тиражами, создавались на основе тщательного изучения разнообразных свидетельств. Чувство историзма и романтическая любовь к прошлому обусловили огромное воздействие его романов на формирование исторического мышления читателей. Проблема соотношения научного и художественного начала в истории занимала британского историка Т. Маколея. Идеальный историк, по его мнению, должен показать в миниатюре дух и характер века. Маколею удалось описать эпохальные события в истории человечества сжато и лаконично. При этом возникал эффект полноты изображения, достигнутый через эстетическую эмоцию9. Согласно Маколею, историк, чтобы увидеть возвышенное, должен попытаться сам пережить описываемые им события и заставить читателя пережить их. Чем ярче и выразительнее примеры, тем эффективнее их воздействие. Немецкий историк Г. Зиммель полагал, что уже на этапе истолкования фактов деятельность историка аналогична художественному творчеству. Еще более эта аналогия прослеживается тогда, когда историк связывает отдельные элементы исторических процессов в целостную картину бытия. Кроме того, Зиммель считал, что критерий истинности исторического познания заключается не в адекватности, а в красоте и согласованности элементов отражаемой реальности10. Л.Н. Толстой обосновал неизбежность разногласия между писателем и историком в передаче исторических событий. Искусство, по его мнению, есть сообщение чувства, а наука начинается тогда, когда происходит анализ. В.О. Ключевский стал почетным академиком по разряду изящной словесности. Нобелевские премии по литературе получили немецкий историк Т. Моммзен за «Историю Рима» и британский политик У. Черчилль за «Историю народов, говорящих на английском 236 языке». Итальянский философ Б. Кроче был убежден, в том что факт, из которого творится история, должен жить в душе историка11. Благодаря Прусту и Кафке, Джойсу и Фрейду граница между художественным и историческим текстом оказалась легко проходимой. Беллетристические качества историка Б. Рассел ставил выше способности к объективному и точному исследованию. Более того, он уверял, что история ничему не учит, а дает лишь знание, подобное тому, какое любитель собак имеет о своей собаке. История, по Расселу, только похожа на науку, цель которой помочь пережить глупость сегодняшнего дня ссылкой на такую же глупость, совершавшуюся в прошлом. Историю можно заставить казаться научной с помощью фальсификаций и умолчаний. Согласно Расселу, история – это хаотическая игра страстей, идей и инстинктов: стяжательства, тщеславия, соперничества, любви к власти. Определенную роль в работе историка играет воображение. Еще И. Кант показал, что воображение связывает воедино разрозненные научные данные. А. Эйнштейн считал воображение «реальным фактором научного исследования», побудительной силой и источником научного прогресса. Он подчеркивал, что знание ограничено, а воображение способно охватить все на свете. Согласно Р. Коллингвуду, воображение историка создает структуру, в которую затем вкладывается весь собранный историком материал, поэтому в конечном счете историк творит историю в зависимости от характера своего воображения. Коллингвуд отличает воображение историка от воображения романиста: романист создает картину, имеющую смысл, а историк создает картину действительных событий. С помощью воображения историк восполняет пустоты, неизбежно возникающие после знакомства с источниками. Воображение стало сутью современного исторического сознания. Й. Хейзинга писал о чувстве истории, которое, на его взгляд, сродни чувству музыки, точнее пониманию мира через музыку. Труд историка близок к труду художника: писать историю – значит придавать форму бесформенной материи. Историки размышляют над фактами и воскрешают далекие образы. Выдающийся философ Й. Берлин, основавший в 60-е годы XX века журнал «История и теория», отстаивал идею близости истории к 237 искусству. В результате структуралистской революции 60-х годов утвердилось понимание того, что исторический текст – это «литературное произведение особого рода, специфическое назначение которого заключается в том, чтобы убедить своих читателей в действительном характере представленных в нем событий»12. Пришло осознание того, что письменный текст – альфа и омега исторического исследования. У историка нет другой формы реализации результатов своего труда, кроме литературного изложения. «Возрождение нарратива» охватило вслед за США историческую науку целого ряда стран. С точки зрения авторов обширного труда «Риторика общественных наук», историки, чтобы иметь социальный резонанс, должны владеть арсеналом средств речевого воздействия. Основной недостаток историков XX века, по их мнению, «в игнорировании проблем стиля, жанра и аудитории»13. Значение фантазии и интуиции для творчества ученого образно определяет А. де Сент-Экзюпери: «Теоретик верит в логику. Ему кажется, будто он презирает мечту, интуицию и поэзию. Он не замечает, что они, эти три феи, просто переоделись, чтобы обольстить его, как влюбчивого мальчишку. Он не знает, что как раз этим феям обязан он своими самыми замечательными находками. Они являются ему под именами “рабочих гипотез”, “произвольных допущений”, “аналогий”, и может ли теоретик подозревать, что, слушая их, он изменяет суровой логике и внемлет напевам муз»14. Творчество присуще историческому познанию на всех его этапах: при создании модели источника, при конструировании научных фактов, при их обобщении и объяснении. Описывая красоту человеческой деятельности, историческая наука не может не быть поэтичной: она оказывает глубокое воздействие на эмоциональную сферу человеческой личности. Все ценностнокультурны представления людей в значительной мере формируются под влиянием исторического знания. Оно научно по содержанию и эстетично по форме. Эстетика истории связана с этикой, красота исторических свершений проистекает из смысла истории, историческая истина добра и гуманна по своей сути. Чем нагляднее, образнее и увлекательнее будет нарисована историческая картина, тем легче и чувственно глубже она 238 проникнет в сознание читателя15. Одно и то же событие разные историки излагают по-разному, ибо каждый из них видит и переживает это событие по-своему. Именно в этом заложена предпосылка исторического творчества, всестороннего подхода к многогранному объекту исторического познания. В.Г. Белинский обращал внимание на то, что у самых превосходных историков той или иной эпохи заметны не только разные оттенки в ее описании, но и противоречия в оценках. Историк творит, соотносит свое описание с неким воображаемым идеалом: «хроники одни, а идеалы, составленные по ним, различны»16. Наполеон Тарле и Наполеон Манфреда различаются и в деталях, и в целостном восприятии. Не случайно теоретики спорят о времени возникновения биографического жанра. Почти общепринято датировать его временем появления жизнеописаний Плутарха. Но есть и другая точка зрения, согласно которой произведения Плутарха, Светония и житийная литература раннего средневековья статичны. А попыткой «воспроизвести динамическую историю индивидуального духа, прошедшего через последовательные стадии становления»17 признается только «Житие Франциска Ассизского», составленное в середине XIII века францисканцем Бонавентурой. Б. Дизраэли вообще советовал ничего не читать, кроме биографий, ибо только в них жизнь отражена без учета какихлибо теорий. Британский историк Т. Карлейль подчеркивал, что подлинная история содержится только в биографиях, но хорошо описанная жизнь – такая же редкость, как и хорошо прожитая. Согласно В. Дильтею, основной элемент всякой истории постигается именно биографом. Он считал, что там, где нет писем, набросков и других личных документов, не помогут ни достижения психологии, ни гениальная проницательность биографа. По мнению М. Ферро, биография вытеснялась из научной историографии вследствие появления демократической традиции, побуждавшей к изучению больших социальных групп при недоверчивом отношении к личностям18. Ныне весьма распространенным жанром стала так называемая «малая история» - беллетризованное изложение всякого рода интимных подробностей жизни деятелей прошлого. По выражению французского историка Ж. Брюа, «малая история» - 239 это труд романистов, имеющих недостаточно таланта, чтобы стать романистами, и недостаточно знаний, чтобы стать историками. На XVII Международном конгрессе исторических наук подчеркивалась главная методологическая проблема исторической биографистики – взаимодействие героя биографии и ее автора, людей разных эпох. Это взаимодействие, осложненное взаимодействиями по линиям «личность – эпоха» и «эпоха – эпоха», позволяет причислить биографию как жанр и к науке, и к искусству. Биографу необходимы и профессиональные исторические познания, и в какой-то степени психологические, без которых трудно понять скрытые пружины действий и поступков героя и окружающих его лиц19. Исторические биографии подразделяются на научные, научно-популярные, научнохудожественные и романизированные. В жанре научных биографий написаны многие книги Е.В. Тарле, М.В. Нечкиной, А.З. Манфреда, М.А. Барга, а также профессоров Пермского университета Л.Е. Кертмана (о Чемберленах) и П.Ю. Рахшмира (о Меттернихе). Научная биография предполагает наличие справочно-библиографического аппарата и критику историографических концепций. В ней присутствует научная интуиция, но домысел исключается. Если герой в книгах Тарле говорит, то краткими фразами и афоризмами, взятыми из источников. Собственно научные методы и художественная интуиция в большей степени сочетаются в научно-художественной биографии. Автор ее использует элемент домысла для создания гипотезы или научной реконструкции тех событий, которые изложены в источниках недостаточно полно либо противоречиво. По мысли Ж. Ревеля, биография становится все более экспериментальным жанром, по мере того как нарративноаналитические модели утрачивают былую убедительность20. М. Горький, основавший в России популярную биографическую серию «ЖЗЛ», выделял жанр биографии из исторических исследований, полагая, что биография не есть история, у нее иные задачи, она исследует достижения человеческой личности. А вот романизированная биография, допускающая не только домысел, но и вымысел, бесспорно при- 240 надлежит беллетристике. В этом жанре Ю. Тынянов написал биографии Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина. Блестящие образцы этого жанра мы находим в романах С. Цвейга, полагавшего, что любого человека всех времен легче изобразить правдиво, чем свое собственное я. Назвав историю «бесконечной игрой аналогий», Цвейг писал о неоспоримом праве «художника сгущать временное и пространственное и представлять события более образно, чем они были в действительности»21. И все же различий между историческими работами и литературными произведениями много. Н.М. Карамзин утверждал, что история не может быть романом уже потому, что ложь всегда может быть красива, а истина нравится только опытным и зрелым умам. Полярным было мнение об этом П. Пикассо, назвавшего искусство той ложью, которая открывает нам правду. Н.И. Кареев подчеркивал, что, во-первых, история воспроизводит реальное, а искусство – желаемое или должное; во-вторых, история – это исследование, а искусство – творчество; в-третьих, история аналитична, искусство синтетично; вчетвертых, история нацелена на рациональное понимание, а искусство – на эмоциональное постижение прошлого. Между искусством и историей нет однозначной связи. Искусство не обязано строго следовать за фактом. Искусство отсекает факты или преувеличивает их, его творцы иначе понимают смысл истории. Конечно, в целом подлинное искусство не искажает историю, не способствует формированию ложного исторического сознания: «…для всякого большого писателя, независимо от того, занимается он самостоятельными историческими изысканиями или нет, как правило, характерен неизменный глубокий интерес к истории, проявляющийся как в его творчестве, так и в общих раздумьях о человеке и мире»22. Л.Н. Толстой подчеркивал различие задач художника и историка, полагая, что историка интересуют результаты деяний, а писатель должен изобразить человека. Философ И. Ильин разработал метод познания, названный им «путь к очевидности». Суть его в том, чтобы не выдумывать систему, а адекватно воспроизводить предмет исследования, который может иметь несистемную структуру. Этот метод А.И. Солженицын приме- 241 нил в «Красном колесе», назвав его «тоннельным эффектом», поскольку интуиция художника проникает в действительность, как тоннель в гору. Не всегда ясно, почему одни исторические события превратились в литературные сюжеты и нашли отклик у читателя, а другие не вызвали писательского интереса или оставили равнодушными читателей. Некоторые авторы полагают, что феномен перехода сюжета из жизни в литературу не зависит от масштаба события и значительные исторические лица далеко не всегда становятся значительными художественными персонажами23. Художественная правда отличается от научной истины своеобразной парадоксальностью ее достижения, т.е. творческим переосмыслением объекта, отвечающим эстетическим взглядам художника. Между исторической личностью и ее изображением в художественном произведении всегда существует противоречие: реальный Ричард III отличался от героя шекспировской драмы. Однако несовпадение содержания понятия достоверности в художественном и научном отражении действительности ведет к более полному и глубокому пониманию природы человеческого существования, выявлению его нравственного смысла. Что касается условных литературных персонажей, то многие из них оказывали влияние на социальное поведение современников, даже не будучи отражением общественных настроений. На стыке истории и литературы существует и мемуарный жанр. Историки нередко достаточно критично подходят к использованию мемуаров как исторического источника. Не случайно в Англии возникла поговорка «врет, как отставной премьер-министр». Мемуары рождаются из болезненного желания вторично пережить свою молодость и заодно взвалить свои грехи на других. Мемуары повествуют о прошлом, основаны на личном опыте и собственной памяти мемуариста. Особенность и ценность мемуаров как источника в том, что помимо сведений о событиях они дают представление о психологии, чувствах, настроениях современников этих событий. Мемуары – это своеобразный исторический остаток культуры той эпохи, из которой они вышли. В мемуарах присутствуют политические и интим- 242 ные страсти, поэтому их можно анализировать не только в качестве исторического факта, но и в качестве его восприятия. По мнению историков, мемуары многих крупных исторических и политических лидеров отличаются масштабностью и смелостью исторических оценок. Например, У. Черчилль, описывая методологию своих воспоминаний, отмечал, что рассказ о событиях его личной жизни служит ему нитью, на которую он нанизывал факты истории и рассуждения по поводу военных и политических событий24. Историк и художник имеют дело с одинаковыми объектами, но относятся к ним по-разному. Историк не может поставить своих персонажей в произвольную ситуацию, не может соединить несколько событий в одно или вылепить одного героя на основе нескольких реальных лиц. Историк объясняет реальные ситуации, но не создает их. По мысли М. Горького, «факт – еще не вся правда, он только сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства… нужно научиться выщипывать несущественное оперение факта, нужно уметь извлекать из факта смысл»25. Художественная правда – это не внешнее правдоподобие, а художественное осознание внутреннего смысла изображаемых явлений. Художественная правда может быть и правдой вымысла, как раз в этом она существенно отличается от научной истины. Есть определенное различие и между домыслом исторического познания и художественным домыслом. Когда недостаток материала заставляет историка пускать в ход воображение, он вынужден быть осторожным в своих утверждениях и предположениях. Конкуренция историка с писателем более заметна тогда, когда достоверный материал имеется в изобилии, а домысел проявляется в яркости и выразительности картины, нарисованной историком26. Сравнивая процесс типизации в историческом познании и в искусстве, Гегель полагал, что историк отыскивает типическое, а художник воссоздает его27. И он, и Белинский считали, что наука оперирует понятиями, а искусство – художественными образами. В XX веке представления о роли понятий и образного мышления в науке и искусстве изменились. О формировании и значении «исторического образа» в сравнении с образом худо- 243 жественным писали М.В. Нечкина, А.Я. Гуревич, А.В. Гулыга и другие авторы. Двадцатый век, век массовой политики и массовой культуры, предпочел в большей степени довериться образу, чем печатному слову. Мифы, символы, условные модели во многом определяли политическую и историческую мысль уже после первой мировой войны. Никакие цифровые выкладки и социологические обобщения не могут заменить образного рассказа о прошлом. История – наука конкретная и изобразительная. Своеобразным писателем, выступает любой исследователь – и физик, и химик, и математик. М. Блок заметил, что в точном уравнении не меньше красоты, чем в изящной фразе. М. Фуко отмечал исключительное значение текстов Ницше, посвященных языковой проблематике. Порицая предшественников за «недостаток исторического чувства», Ницше доказывал, что словами и понятиями «мы не только обозначаем вещи, мы думаем с их помощью уловить изначальную сущность вещей. Слова и понятия постоянно соблазняют нас»28. Согласно Ницше, представления о структуре мира человек получает, изучая структуру языка. Один из членов редколлегии «Анналов», французский историк Ле Гофф писал, что можно спорить о том, существует ли школа «Анналов», но существование стиля «Анналов» бесспорно. Он имел в виду яркий, образный и точный язык Ф. Броделя и многих других авторов, примыкавших к этому направлению. Из философии и ряда других более абстрактных, чем история, наук историки усвоили претензию на «эзотерическое» знание, понятное только посвященным. А.Я. Гуревич однажды заметил, что неудобопонимаемый язык часто лишь прикрывает отсутствие мысли или «интеллектуальную срамоту». Сравнивая терминологические арсеналы разных наук, М. Блок отмечал, что точные науки имеют дело с реальностями, которые по своей природе неспособны сами себя называть. «В науке о человечестве положение совсем иное. Чтобы дать названия своим действиям, верованиям и различным аспектам своей социальной жизни, люди не дожидались, пока все это станет объектом беспристрастного изучения. Поэтому история большей частью получает собственный словарь от самого пред- 244 мета своих занятий, когда он истрепан и подпорчен долгим употреблением»29. Теоретическая зрелость всякой науки зависит от уровня развития ее понятийного аппарата. Разработка понятий – это важная методологическая задача. Еще Декарт заметил: верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений. В понятиях зафиксирована логика развития исторических явлений и процессов. Понятия и категории науки имеют своеобразную родовую память и привязанность к истоку. Заимствование понятий из других наук или искусств требует корректного сохранения содержания или обоснованния их модификации. Язык современного историка заметно обновлен. Можно даже сказать, что социогуманитарная наука пытается говорить на едином языке, включающем, например, такие понятия, как «материальные практики», «символический ход», «риторические стратегии», «идеологемы», «концепт», «дискурс», «социальные идентичности», «смысловые блоки». Любые научные представления отличаются гибкостью, изменчивостью, разнообразием оттенков. При формулировании точных понятий оттенки пропадают. Определить явления или процессы значит поставить некий предел, провести границы. Немецкий историк Ф. Граус заметил, что понятия не могут быть «правильными» или «неправильными» - они могут быть либо «работающими», либо «неработающими», т.е. не помогающими историку объяснять его материал. Содержание большинства исторических понятий зависит от контекста, в котором они употребляются. Постмодернисты подчеркивают, что понятия – это некий код, используемый людьми одной культуры и непонятный представителям иных культур. Е.Б. Черняк разделял научные категории на точные и приблизительные, имеющие неопределенное содержание30. Кроме того, имеются неясно сформулированные или «расплывчатые» понятия. Есть понятия, обозначающие один и тот же предмет, но имеющие различное содержание в разных исторических школах. В исторической науке существуют понятия с нулевым объемом, отражающие прежние утопические идеи о будущем: «царство разума», «тысячелетний рейх» и др. 245 Понятия, заимствованные из источников, имеют точный смысл только в рамках той эпохи, в которой они употреблялись. Многие из них мало понятны не только современному читателю, но и профессиональному историку, если он занимается изучением другой эпохи. Таковы принципиальные истоки неудовлетворительного состояния понятийного аппарата исторической науки, мешающего достижению общезначимости исторических высказываний и взаимопонимания историков. С другой стороны, современный литературный язык в малой степени способен передать своеобразие отдаленных эпох. Возникает парадокс историзма: чем настойчивее исследователь заставляет далекую эпоху говорить на ее собственном языке, тем в большей мере такой язык требует перевода. Условием взаимопонимания гуманитариев стал неизменный каркас категориальной структуры, сложившийся еще в античности. Вот почему труды Платона, Геродота и Аристотеля смогли адекватно понять и Фома Аквинский, и Аль-Фараби, и Т. Гоббс, и И. Кант. В XIX и XX веках взаимопонимание исследователей не всегда достигается по причине ускорения исторического процесса вообще и мыслительного процесса в частности, в котором господствует культ нового и небывалого. Появление интереса к какому-либо явлению имеет двоякие терминологические последствия. С одной стороны, чем более тщательно исследовано явление, тем более уточнены понятия и категории, его обозначающие. Но, с другой стороны, в ходе анализа высказываются разные точки зрения, сталкиваются позиции различных авторов и происходит некое размывание тех же самых понятий. Писатель А. Синявский говорил, что у него с советской властью были «стилистические разногласия». А философ М. Мамардашвили почувствовал еще в юности античеловечность и чуждость культуре коммунистических порядков в Советском Союзе через неприемлемый для нормального человеческого сознания язык, который практиковался. Философ имел в виду «тексты чудовищной скуки, написанные на языке, который можно назвать деревянным, полным не слов, а каких-то блоков, ворочать которые действительная мысль просто не в состоянии»31. 246 Исторические труды советского времени были насыщены словесным и мыслительным мусором. Языковое удушье советской культуры некоторые авторы пытались скрыть за излишне усложненным построением фраз, но еще Ключевский подметил, что «мудрено пишут только о том, чего не понимают»32. Однако язык историка стал во второй половине XX века проблемой не только в отечественной историографии. Об особенностях, факторах и динамике развития языка истории много размышляли историки ФРГ, Франции и других стран. Историк не может быть безразличен к проблеме упрощения или усложнения языка своей науки, к вопросам языковых заимствований из смежных и особенно далеких наук. В историческом сообществе заговорили о «строгостях и свободе музы истории»33. По мнению Н.И. Смоленского, язык историка должен обладать емкостью, гибкостью, однозначностью и точностью. Трудно представить, как эти качества можно совместить. Впрочем, сам Смоленский в течение многих лет размышлял над этим и пришел к определенной дифференциации понятий, которые употребляет историк. Прежде всего, это слова из литературного языка эпохи, современной автору. В этом контексте выделяются научные понятия, несущие основную познавательную нагрузку. Собственно исторические термины отличаются от слов и понятий, заимствованных из других научных дисциплин. И, наконец, формализмы неязыкового происхождения34. Полагая, что научное и эмоциональное постижение действительности неразделимо, Смоленский тем не менее называет магистральным направлением развития исторической науки 35 рационализацию языка и мышления историка . Философы неизменно настаивают на том, что термин – это обозначение строго определенного понятия. Однако на практике не всегда реализуется правило «один термин – одно понятие». Научное значение того или иного термина не вытесняет полностью его обыденного значения. Поскольку нетерминологическое значение слова сосуществует с научным, сохраняется основа или причина неоднозначности терминологии. Кроме того, любые понятия не могут быть слепком с действительности, они отражают определенный угол зрения и ту 247 логику исторического мышления, которая присуща определенной научной школе, группе авторов или индивиду. Если бы был составлен частотный словарь языка историка, то, скорее всего, самым часто употребляемым оказалось бы слово «например». Это свидетельствует, с одной стороны, о невозможности проанализировать всю совокупность фактов, но с другой – о желании не ограничиваться теоретическими рассуждениями, а показать читателю нечто конкретное и понятное. Замечательный американский писатель А. Азимов, профессионально занимавшийся историческими исследованиями, так определил научные термины: «странные слова, при произнесении которых заплетается язык, порой скрывают в себе маленькие истории, толковые описания, исторические эпизоды, свидетельства не только величайших научных достижений, но не меньших человеческих заблуждений, напоминания о великих людях и ошибочных, забытых теориях… Научный словарь должен стать одной из привлекательных, а не отпугивающих сторон науки»36. Профессиональная деятельность историка не может не включать работу над письменным и устным языком. От этого зависит возможность нахождения ответов на принципиальные вопросы и формулирования их в доступной форме, без которого самые лучшие результаты окажутся сомнительными. Однако в большинстве текстов, выходящих из-под пера историков, «слова скучают и мучаются… в одних и тех же постоянно повторяемых сочетаниях. Все те же прилагательные тянутся, как тени, за своим привычным существительным. Окаменелые обороты, прогнившие метафоры»37. Определенным шагом на пути к решению этой проблемы можно считать возникновение в последней трети XX века новой дисциплины – интеллектуальной истории. Ее истоки находятся в «философии жизни», в психоанализе, в истории идей, в структурной антропологии, но годом рождения обычно считают 1973, когда появилась книга Х. Уайта «Метаистория». Интеллектуальная история изучает исторические аспекты всех видов творческой деятельности человека, ее условия, формы и результаты. Интеллектуальная история анализирует соотношение авторского намерения с авторским текстом, изучает процесс со- 248 здания понятий. В 70 – 90-е годы XX века сообщества интеллектуальной истории сложились в США, Великобритании, Франции, скандинавских и других странах. В 1994 году возникло Международное общество интеллектуальной истории, с 2001 года функционирует Российское общество интеллектуальной истории (РОИИ), регулярно издающее «Вестник РОИИ», альманах интеллектуальной истории «Диалог со временем», проводящее ежегодные конференции. Президент РОИИ Лорина Петровна Репина, еще в 1994 году возглавившая Центр интеллектуальной истории РАН, видит основную задачу общества в том, чтобы исследование интеллектуальной деятельности и интеллектуальных процессов проводилось в конкретноисторическом и социокультурном контексте38. Интеллектуальную историю не следует понимать только как историю интеллектуалов. Ее задачи несравненно шире, недаром она тяготеет к междисциплинарности. Так, значительное место в ней занимает изучение политической мысли не только в биографическом жанре, но и в рамках историкоантропологических исследований. Более того, тот лингвистический поворот, который привел к специальному институционализированию интеллектуальной истории, можно расценить как составную часть антропологического поворота, несмотря на то что термины «интеллектуальная история» и «антропологический поворот» появились благодаря реализации различных тенденций в научном познании. Интеллектуальная история помогает понять, как менялась интеллектуальная среда в пространстве и времени. Многие авторы понимают ее как социальную историю идей, видят ее перспективы в свете истории представлений, в изучении сознания и даже пытаются поставить знак равенства между интеллектуальной и ментальной историей39. Интеллектуальная история исследует духовный климат, выявляет динамику проблематики исторических исследований в человеческом измерении, позволяет понять причины, суть и последствия интеллектуальных вызовов разных эпох. Интеллектуальная история внимательна к эффекту реальности, к феномену исторического текста, так как занимается его деконструкцией или анализом. Еще чаще интеллектуальные историки 249 пользуются понятием «дискурс», введенным Х. Уайтом. Под ним понимается продолжающийся процесс переформулирования и пересмотра результатов исследования. Уже Коллингвуд отмечал, что повествование историка не зеркало, а увеличительное стекло. То, что один автор видит как трагедию, другой изобразит по законам сатиры или волшебной сказки. Не случайно одним из ключевых слов Уайта стала «фабула». Он применяет понятия из области теории литературы и риторики. Обновляя взгляд на ремесло историка, Уайт не отрицает возможности объективности исторического знания, но показывает сходство поэтического и исторического способов постижения мира. По его мнению, только Мишле, Ранке, Токвиль и Буркхардт до сих пор служат образцами исторического сознания. Рассматривая проблемы исторического познания, Уайт видит их лингвистический смысл и стремится преодолеть разграничение языка и реальности. Центральный тезис Уайта сводится к тому, что история представляет собой нарративный дискурс, т.е. история – это письменное переформулирование, пересмотр результатов исследования, но при этом он оговаривается: «История как текст – это, конечно же, метафора»40. Спустя четверть века после публикации «Метаистории» Уайт, реагируя на критику, уточнил свои взгляды. В частности, он заявил, что характеризовать исторический нарратив как «вымысел» было поспешным, что предпочтительнее определить его как литературный, полагая, что не всякое литературное сочинение является вымыслом41. Почитатель и последователь Уайта голландский профессор Ф. Анкерсмит считает, что историческое исследование гораздо ближе к визуальным искусствам, чем к литературе. Эта близость мало исследована, между тем значительным фактором истории выступает кинематограф. Фильм – это продукт культуры, потребляемый обществом. Его содержание и смысл меняются вместе со временем. В 1938 году фильм «Великая иллюзия» был истолкован как левый и пацифистский. А в 1946 году его уже считали двусмысленным и оторванным от ценностей, провозглашенных в нем42. Кино и телевидение влияют на восприятие истории, добавляют краски в понимание связи прошлого и настоящего. Кинематографическая интерпретация истории способствует формированию историче- 250 ского мировоззрения миллионов людей в гораздо большей мере и гораздо быстрее, чем самые «правильные» исторические тексты. С другой стороны, оценивать киносценарии по критериям исторической науки значит посягать на свободу творчества художника, для которого первично интуитивное постижение человеческой судьбы. По словам А. Сокурова, визуальность – это огромная сложная наука, сложнее математики. Колоссальная энергия визуальности может перечеркнуть достижения любой культуры43. Таким образом, в рамках темы этой лекции мы видим множество открытых, нерешенных проблем. Как, впрочем, в границах всех тем данного курса, что и составляет его специфику, определяемую принципиальным убеждением в том, что методология – это не собрание советов или ответов на основные вопросы, возникающие в ходе научного познания, а формулирование его задач и принципов в самых общих, теоретических, разновидностях. Кертман Л.Е. Рукопись лекций спецкурса по истории культуры // ГАПО. Ф. Р – 1715, оп. 1, д. 32. л. 53. 2 Ферро М. Европоцентризм в истории // Метаморфозы Европы. М., 1993. С. 10. 3 Гулыга А. Эстетика истории. М., 1974. С. 6. 4 Доватур А.И. Аристотель и история // Вестник древней истории. 1978. № 3. 5 Барг М.А. Шекспир и история. М., 1976. 6 Шиллер Ф. Собр. соч. М., 1956. Т. 7. С. 189. 7 Там же. С. 309. 8 Там же. С. 442. 9 Ляляев С.В. Эстетика истории: «История Англии» Т. Маколея // Диалог со временем. М., 1999. Вып. 1. 10 Кулыга Л.А. Георг Зиммель о природе исторического познания // Источниковедческие и историографические вопросы всеобщей истории. Томск., 1988. С. 189. 11 Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. С. 9. 12 Репина Л.П., Парамонова Ю.М., Зверева В.В. История исторического знания. М., 2004. С. 47. 13 См. об этом: Вестник МГУ. История. 1989. № 3. С. 44. 1 251 Сент-Экзюпери А. Соч. М., 1964. С. 576. Ельчанинов В.А. Об отношении истории как науки к искусству. Барнаул, 1975. С. 75. 16 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 2. С. 132. 17 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. М., 1991. С. 19. 18 Споры о главном. М., 1993. С. 165. 19 Павлова Т.А. Историческая биографистика в СССР // Новая и новейшая история. 1990. № 2. 20 Ревель Ж. Микроанализ и конструирование реального // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 257 – 258. 21 Цвейг С. Три певца своей жизни. Ростов н/Д, 1997. С. 105, 307. 22 Могильницкий Б.Г. К вопросу о соотношении исторического и художественного познания // Средние века М., 1975. Вып. 39. 23 Могильнер М.Б. Художественный текст как носитель информации о ментальностях и ценностных ориентациях общества // Историческая наука в меняющемся мире. Казань, 1994. С. 41. 24 Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Кн. 1. С. 3. 25 Горький М. О литературе. М., 1973. С. 563. 26 Гулыга А.В. О характере исторического знания // Вопросы философии. 1962. № 9. С. 37. 27 Гегель Г. В. Ф. Соч. М., 1956. Т. 3. С. 331. 28 Nietzche F. Werke. Berlin, 1967. Bd. 3. S. 185. 29 Блок М. Указ. соч. С. 86. 30 Черняк Е.Б. История и логика (Структура исторических категорий) // Вопросы истории. 1995. № 10. 31 Мамардашвили М.К. Язык и культура // Вестник высшей школы. 1991. № 3. С. 50. 32 Ключевский В.О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 399. 33 Сванидзе А.А. Строгости и свобода музы истории // Историк в поиске. М., 1999. С. 253. 34 Смоленский Н.И. Рациональное и эмоциональное в языке историка // Исторические записки. М. 1999. № 2. С. 137 – 138. 35 Там же. С. 144, 147. 36 Азимов А. Язык науки. М., 1985. С. 10 – 11. 37 Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1990. С. 204. 38 Репина Л.П. Что такое интеллектуальная история // Диалог со временем. М., 1999. Вып. 1. 39 Imagines mundi. Интеллектуальная история. Екатеринбург, 2004. Вып. 1. 14 15 252 Уайт Х. По поводу «нового историзма» // Новое литературное обозрение. 2000. № 42. С. 41. 41 Уайт Х. Ответ Иттерсу // Одиссей: человек в истории. М., 2001. С. 156 – 161. 42 Ферро М. Кино и история // Вопросы истории. 1993. № 2. С. 49. 43 Московские новости. 2003. № 12. 40 253 Учебное издание Лаптева Мария Петровна Теория и методология истории Редактор Е.А.Огиенко Корректор С.Б Полушкина Компьютерная верстка Е.А. Лукашиной, А.В. Борисовой Подписано в печать 25.12.2006. Формат 60х84/16. Бум. ВХИ. Печать офс. Усл.печ.л. 14,65. Уч.-изд.л. 14,46. Тираж 200 экз. Заказ . Редакционно-издательский отдел Пермского университета 614990. Пермь, ул.Букирева, 15 Типография Пермского университета 614990. Пермь, ул.Букирева, 15