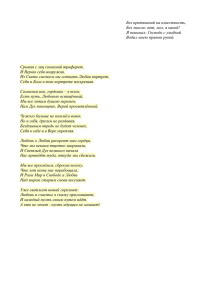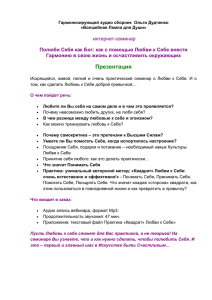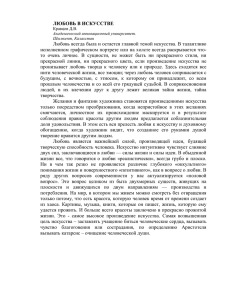Психосоциогенез сознания - На главную
реклама
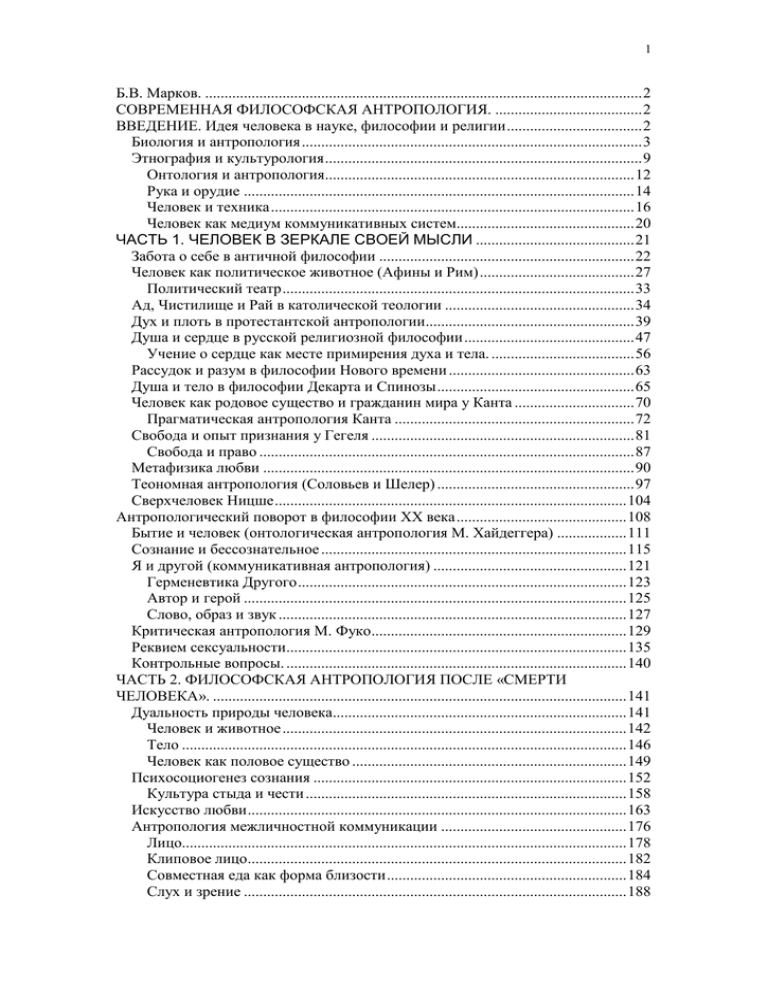
1 Б.В. Марков. ................................................................................................................. 2 СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. ...................................... 2 ВВЕДЕНИЕ. Идея человека в науке, философии и религии ................................... 2 Биология и антропология ........................................................................................ 3 Этнография и культурология .................................................................................. 9 Онтология и антропология................................................................................ 12 Рука и орудие ..................................................................................................... 14 Человек и техника .............................................................................................. 16 Человек как медиум коммуникативных систем.............................................. 20 ЧАСТЬ 1. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ СВОЕЙ МЫСЛИ ......................................... 21 Забота о себе в античной философии .................................................................. 22 Человек как политическое животное (Афины и Рим) ........................................ 27 Политический театр ........................................................................................... 33 Ад, Чистилище и Рай в католической теологии ................................................. 34 Дух и плоть в протестантской антропологии ...................................................... 39 Душа и сердце в русской религиозной философии ............................................ 47 Учение о сердце как месте примирения духа и тела. ..................................... 56 Рассудок и разум в философии Нового времени ................................................ 63 Душа и тело в философии Декарта и Спинозы ................................................... 65 Человек как родовое существо и гражданин мира у Канта ............................... 70 Прагматическая антропология Канта .............................................................. 72 Свобода и опыт признания у Гегеля .................................................................... 81 Свобода и право ................................................................................................. 87 Метафизика любви ................................................................................................ 90 Теономная антропология (Соловьев и Шелер) ................................................... 97 Сверхчеловек Ницше ........................................................................................... 104 Антропологический поворот в философии ХХ века ............................................ 108 Бытие и человек (онтологическая антропология М. Хайдеггера) .................. 111 Сознание и бессознательное ............................................................................... 115 Я и другой (коммуникативная антропология) .................................................. 121 Герменевтика Другого ..................................................................................... 123 Автор и герой ................................................................................................... 125 Слово, образ и звук .......................................................................................... 127 Критическая антропология М. Фуко .................................................................. 129 Реквием сексуальности........................................................................................ 135 Контрольные вопросы. ........................................................................................ 140 ЧАСТЬ 2. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ПОСЛЕ «СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА». ........................................................................................................... 141 Дуальность природы человека............................................................................ 141 Человек и животное ......................................................................................... 142 Тело ................................................................................................................... 146 Человек как половое существо ....................................................................... 149 Психосоциогенез сознания ................................................................................. 152 Культура стыда и чести ................................................................................... 158 Искусство любви .................................................................................................. 163 Антропология межличностной коммуникации ................................................ 176 Лицо................................................................................................................... 178 Клиповое лицо.................................................................................................. 182 Совместная еда как форма близости .............................................................. 184 Слух и зрение ................................................................................................... 188 2 Восприятие жизни и смерти в истории культуры ............................................ 190 Здоровье и болезнь .......................................................................................... 190 История различия живого и мертвого ........................................................... 194 Пространство смерти ....................................................................................... 198 Призраки смерти .............................................................................................. 201 Семья как дисциплинарное пространство культуры ........................................ 204 Пастырство плоти ............................................................................................ 208 Мужское и женское в современном обществе .............................................. 212 Государство и человек ......................................................................................... 218 Национальное и национализм ........................................................................ 226 Моральный порядок ............................................................................................ 228 Заключение. Основные этапы глобализации .................................................... 236 Контрольные вопросы. ........................................................................................ 247 Б.В. Марков. СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. ВВЕДЕНИЕ. Идея человека в науке, философии и религии Вопрос «Что такое человек?» не имеет однозначного ответа, потому что в каждую эпоху ставится по-разному. Греки понимали человека через борьбу титанического и олимпийского начал. Они не возвеличивали его, но сумели найти достойный выход из тупика смерти, на которую он был обречен. Отчасти разум, отчасти жесткая самодисциплина и телесные практики закаливания и спорта сумели выковать из слабого, ленивого, падкого на удовольствия существа нечто достойное. В конце концов, греки имели полное право гордиться собой. Их нарциссизм имел прочные культурные основания. Наоборот, идеализация человека в христианстве имела компенсаторный, фантазматический характер. Она пустила столь прочные корни, что и сегодня, после смерти Бога, наш дискурс о человеке остается по-прежнему христианским. Теология вывела человека из-под власти бытия и определила его как креатуру Бога, как его образ и подобие. Она славила его как продукт последнего дня творения, как господина над всеми тварями, которыми Бог населил Землю. Но, решив вопрос, откуда возник человек, теология оказалась перед новой трудностью: если он создан Богом, то последний либо имел некий план, образ человека, либо сам стал человеком, если создал его похожим на себя. Таким образом, идея человека остается предпосылкой теологии, и можно, вслед за Фейербахом, говорить об антропологическом понимании религии, согласно которому не человек создан по образу и подобию Бога, а наоборот, боги соответствуют тому или иному культурно-историческому типу человека. Если же человек является таким продуктом, который не имеет творца, если отсутствует какой-либо сознательный план его развития и совершенствования, то это означает его абсолютную открытость, или экстатичность. Именно так и определялся человек в философской антропологии ХХ в. Он перестал считаться креатурой Бога, был изъят из под действия законов эволюции, но попал под пресс культуры. Осуществляя себя в труде, в научном и техническом творчестве, он стал медиумом технологических и коммуникативных структур. Антропология и религия всегда доставляли особое беспокойство философии. Теоцентризм и антропоцентризм составляли конкуренцию онтологизму и гносеологизму. Антропоцентризм открыто и прямо заявляет, что поскольку мы 3 –– люди, то смотрим на мир с человеческой, даже «слишком человеческой» точки зрения. Антропология проникала и в космологию: человек существует как высший продукт мирового процесса, и уже на самых ранних его ступенях закладывались предпосылки и условия возможности его появления. Антропный принцип в физике приводит к утверждению о том, что на уровне формирования так называемых углеродных решеток развитие имело направленный на человека характер. Естественнонаучный поход центрирован на человека, а так называемый объективизм есть не что иное, как замаскированный под объективизм антропологизм. Размышляя о противоположности человека и животного, духа и тела, природы и культуры, нельзя ограничиться абстрактными философско-теологическими и социобиологическими дихотомиями. В современном знании о человеке произошли существенные сдвиги, изменившие традиционные границы. Так биология, занимающаяся описанием жизни популяций животных, установила наличие у них кооперации, дифференциации, коммуникации, а также практического интеллекта, которые прежде приписывались только человеку. Наоборот, историки и культурологи отмечают важную роль биологических факторов даже в современном обществе. Не менее ошеломляющими являются открытия микробиологии и генной инженерии, в корне изменившие традиционные представления о сохранении рода и воспроизводстве человека. Раньше полагали, что здоровый ребенок рождается у физически здоровых родителей. Однако наблюдения за цепью поколений обнаруживают непрерывные мутации и раскрывают еще одного невидимого участника процесса зарождения – микроба. Человек привык бороться с природой и рассматривает микроорганизмы и вирусы по аналогии с крупными хищниками. Они вызывают у него столь же сильный страх. Но человек выжил благодаря не только уничтожению, но и одомашниванию животных. Так и сегодня одной из важнейших задач цивилизации является превращение неуправляемых микроорганизмов в своих союзников. Биология и антропология Современная ситуация характеризуется незнанием того, что такое человек. Но о какого рода знаниях идет речь? Чего, собственно, не хватает для того, чтобы дать четкий ответ на данный вопрос? Идет ли речь о фактических, гипотетических, метафизических или экзистенциальных знаниях? Это во многом зависит от того, понимается философская антропология как описательная или конституитивная дисциплина. Как бы то ни было, философия нуждается в строго научном знании, которое она использует по-разному, как в целях описания, так и обоснования. Если располагать науки по аристотелевской классификации, то наиболее общей наукой о человеке оказывается биология, так как остальные естественные науки, например, физика, не ставят вопроса о человеке. Для нее он такое же тело среди прочих, рассматриваемых в механических, динамических, электромагнитных, тепловых и т. п. параметрах. Наоборот, биология как наука о живых системах имеет своим предметом живое тело. Среди различных систематизированных и классифицированных организмов находится и место для человека, определяемого как homo sapiens. Конечно, возникает вопрос о месте человека не только в ряду живых существ, но и в космосе в целом, а этот вопрос во многом зависит от дискуссий между биологией и другими науками, например, физикой и химией. Поэтому для 4 философской антропологии значение имеют не только данные какой-то одной науки, но и результаты их взаимодействия. Биология человека может быть охарактеризована как сравнительная дисциплина, ибо она сопоставляет, в частности, индивидов одного вида с индивидами другого похожего вида. Это объясняет то обстоятельство, почему центральное значение приобрел вопрос о сходстве человека и обезьяны. Биология стремится построить своеобразную «лестницу живых существ», идея которой –– доказать единство законов эволюции, возникновения новых, все более совершенных организмов. Поэтому первый и главный вопрос биологии человека касается места, которое он занимает в ряду других живых существ. Его спецификация осуществляется ходе сравнения с млекопитающими, приматами, антропоидами. В результате выявляется, что анатомоморфологические, онтогенетические и этологические отличия человека даже от наиболее близкого ему вида значительно глубже, чем различия между остальными видами. Стереоскопическое зрение, форма лица, развитая мускулатура, компенсирующая превращение руки в орудие труда, большой объем черепа, мышцы лица и, прежде всего, развитие гортани и аппарата речи – – все это важнейшие анатомо-морфологические преимущества. Существенным является и то, что у человека с самого начала слабее развиты участки мозга, отвечающие за сохранение инстинктов, и гораздо сильнее выражены области, например, кортекса, отвечающие за развитие высших психических функций. К числу особенностей человека относится необычайно сильное развитие центральной нервной системы, наличие у него «второй сигнальной системы», более высокое отношение веса мозга к массе тела (если у человека оно составляет 1/46, то у слонов 1/560, у китов 1/8000). В настоящее время внимание ученых привлекает функциональная асимметрия полушарий головного мозга, которая используется в концепциях антропогенеза для объяснения происхождения речи и мышления. Специфика человека становится еще более очевидной, если сравнить скорость созревания различных систем организма. Так у детей нейромышечная структура созревает еще целый год после рождения, который Портманн имел основание называть эмбриональным. Значение этой аномалии заключается в том, что уже само кормление приобретает характер социокультурного действия и оказывает формирующее воздействие на младенца. Таким образом, в теле пластично соединяются унаследованное от рождения и формируемое в ходе приспособления к внешней среде. Это невозможно для всех других высших млекопитающих, ибо они переживают стадию пластичного формирования нейромышечной ткани в утробе матери, и, будучи изолированными от воздействий внешнего мира, получают неизменяемый комплекс инстинктов. Поведение животных в определенных ситуациях в основном определяется независящими от индивидуального опыта унаследованными инстинктами, свойственными виду, которые являются условиями его выживания и развития. Окружающая среда предстает для животного как схема, управляющая реакциями и вызывающая их, если есть внутренняя (гормональная) готовность или потребность. Решающим при этом является то, что животному не нужно «учиться» выбирать осмысленное в данной ситуации поведение, ибо оно уже заранее «знает», точнее, всегда действует так решительно, как будто знает наверняка. Таким образом, различие человеческого и животного становится весьма резким. Но логично ли мыслимым является утверждение, что настолько отличающийся 5 от животного человек является все же особенным животным? Можно попытаться устранить данный парадокс, принимая во внимание способы удовлетворения естественных потребностей и самосохранения, которые характерны для животных и человека. Но когда говорят, что недостаточность волосяного покрова компенсируется одеждой, а слабость когтей и зубов –– оружием, то видно, что несовершенство человека и способы его компенсации определяются с точки зрения животного. Поэтому сравнение его с другими гоминидами не дает ответа на загадку человека. Другое решение парадокса состоит в утверждении, что человек является животным и одновременно отличается от него. В отличие от редукционизма дуализм исходит из старой концепции о двусоставности человека, который имеет тело и дух. Но он сталкивается с другой трудностью –– объяснением единства, которое достигается допущением о специфике человеческого тела, управляемого духом. На самом деле целостная концепция человека может быть построена при условии нового интегративного подхода. Феномен человека раскрывается также этнологией, психологией, социологией, медициной, религией и даже теорией музыки, т. е. всеми науками, изучающими формы и закономерности человеческой деятельности, а также ее продукты и смысл. В них можно найти точку опоры для преодоления вышесказанного парадокса. Его источник в том, что как человек, так и человекообразные обезьяны изучаются с точки зрения одних и тех же биологических критериев и именно это приводит к редукционизму, или к дуализму. Остается либо биологизировать человека, либо антропоморфизировать природу. Не случайно призраки антропоморфизма не менее устойчивы, чем тени редукционизма. Они, вообще говоря, взаимно предполагают и дополняют друг друга: человек определяется на фоне животного, а животное –– человеческого. Ясно, что критиковать нужно не саму сравнительную анатомию или этнологию, а философскую программу, которая хочет построить философскую антропологию на биологической основе. По мере развития биологии и антропологии число параметров человека неизмеримо увеличилось, и старой дихотомии духа и плоти уже явно недостаточно. Сегодня возникновение новых «междисциплинарных», «комплексных», «системных», «интегративных» и т. п. наук и знаний о человеке напоминает грибной сезон. При этом появляются вовсе не теорииоднодневки. Например, наблюдается перспективное сращивание технических наук и наук о живых организмах. Развитие техники рассматривается как техноценоз, т. е. по аналогии с биоценозом. Многие физиологические функции эффективно описываются как «естественные технологии». При этом происходит не только обмен моделями, но и количественными методами анализа. Другим перспективным примером взаимодействия психологии и кибернетики является программа построения искусственного интеллекта, которая исходит из аналогии работы компьютера и мозга. Человек стал предметом изучения около восьми сотен наук, которые и составляют основу знаний о человеке.1 Очевидно, что при этом количество перешло в качество и комплексная наука о человеке сегодня не похожа ни на одну из существовавших ранее дисциплин, даже таких фундаментальных, какой была физика в XVIII столетии. См.: Карсаевская Т.В. Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития человека. М., 1978. С. 256. 1 6 Встреча самых различных по своим методологическим приемам дисциплин в изучении человека поднимает актуальные вопросы о специфике естественнонаучного и социального-гуманитарного знания, а также о совмещении альтернативных подходов, существующих даже внутри одной науки. Как свидетельствует история познания, даже в таких строгих науках, как математика и физика, никогда не было единства в понимании метода. Это позволяет более оптимистично относиться к диалогу различных не только в предметном, но и в методологическом отношении наук о человеке. Беспокойство, связанное с применением к человеку методологически и даже мировоззренчески исключающих друг друга знаний, имеет самые разные причины. С одной стороны, речь идет о соединении точных и неточных знаний. Очевидно, в ряде случаев попытки уточнить и даже выразить в количественной форме гуманитарные знания могут привести к их профанации. С другой стороны, получившие математическое оформление некоторые биологические и психические параметры объективируются и оказываются вне критики. Между тем в основе разного рода тестов нередко лежат такие социальные или даже моральные нормы, которые вовсе не являются всеобщими. Если применять такое тестирование к представителям другой культуры, то это приведет к дискриминации. Как правило, мы меряем человека европейскими масштабами. Но что было бы, если бы наши способности измеряли те, кого мы называем отсталыми народами. Человек включает в себя все уровни развития природы, от молекул до понятий и, естественно, каждый из них изучается своими методами. Однако в сфере человековедения трудно подписать конвенцию вроде той, что была предложена кардиналом Беллармино в предисловии к книге Коперника «Об обращении небесных сфер». Там речь шла о том, что теология сообщает истину, а астрономия дает инструментальное знание, необходимое для вычисления хода планет. В принципе, что-то похожее существовало и относительно изучения человека: философы занимаются «самым важным» — душой, разумом, интеллектом, а медики, физиологи и прочие специалисты описывают функционирование его тела. Так что проблема не в количестве наук о человека и степени их интегрированности. В принципе старую стратегию разделения можно продолжать сколь угодно долго. Скорее всего, она остается действующей и сегодня, несмотря на все разговоры об интеграции. Но неверно было бы расценивать эти разговоры как некую ширму, за которой скрываются чисто ведомственные интересы. На самом деле уже нельзя игнорировать факты, свидетельствующие о взаимодействии тех уровней человека, которые разделены между разными науками. Медицина вынуждена быть комплексной, так как болезни зависят не только от внутренних физиологических причин, но и от состояния природной и социальной среды, а также от психики человека. Поскольку «нетрадиционные» методы лечения тоже применяются иногда достаточно эффективно, то медицина вынуждена прислушиваться к тому, что предлагают даже оккультные науки. Ведь если человек верит в злых духов, то для него это самая настоящая реальность. Конечно, тут можно подключить психиатрию, однако ее применение наталкивается сегодня на защиту «прав человека». Кроме того, этнографы и антропологи запротестовали бы против такого «лечения», допустим, представителей иных культур. По мере расширения и углубления знаний о культурах «примитивных» людей, исследователи убеждаются в неэффективности оценки их взглядов на мир как «суеверий», ибо их верования доведены до операционального уровня и вполне 7 эффективно обслуживают сферу практической жизнедеятельности. Это означает, что и наша наука не имеет никаких онтологических преимуществ. В антропологии ученые могут рассматриваться по аналогии с шаманами, ибо их вера в существование «физических объектов» ничуть не более обоснована, чем вера в злых духов. Назрела острая необходимость пересмотра жестких методологических разделений, поиска новых форм взаимодействия наук, считающихся несоединимыми по причине методологических и мировоззренческих различий. Возможно, это и есть поле приложения философской антропологии как философско-методологической дисциплины. Ведь отказ от «вечного», «абсолютного», «сущностного» в человеке делает ее существование чрезвычайно проблематичным. Философская антропология после «смерти человека» может сохраниться, если откажется от своих прежних универсалистских амбиций, если переориентируется на поиск форм сотрудничества между различными, в том числе и философскими подходами к изучению человека. Опасна не только абсолютизация, но и отождествление природного и социального, физиологического и психического. Р.С. Карпинская отмечает: «Когда употребляются понятия "биология человека", "генетика человека", "физиология человека", и т. д., то их правомерность оправдана лишь тем, что указывается "адрес" применения общебиологического, генетического, физиологического и т. д. знания. Само по себе изменение "адреса" не может автоматически изменить качество знания, полученного на других живых объектах. Необходимо его переосмысление, определенная трансформация, и в этом плане можно говорить об условности указанных наименований».2 Если говорить о применении биологии для изучения человека, то при этом предполагается, что ее понятия и теории получены и проверены на животных. Ясно, что человек является животным, и эта часть его природы описывается биологией. Другое дело, что он является еще социальным, разумным и моральным существом. Поэтому его поведение предполагает учет взаимодействия природного, социального, рационального и этического. Допустим, мы задумали построить сложную модель, в которую включили перечисленные параметры. Но совершенно очевидно, что при этом мы не сможем двигаться обычным путем: разделения сложного на простое и затем составления целостности из простых частей. Движущееся тело может быть «разложено» на составные части «тело, на которое не действует никакая сила», «трение», «сопротивление воздуха», «сцепление с поверхностью» и т. п. При этом можно измерить роль каждого параметра и, учитывая его влияние, определить формулу движения того или иного тела в той или иной среде. Но в случае с человеком этого не происходит. Например, моральный закон требует «свободы» от биологических потребностей и даже социальных норм. Поэтому совершенно невозможно построить некую «формулу», в которой в качестве переменных можно подставлять то или иное значение «морального», «социального», «биологического» и таким образом вычислять поведение индивида. Но, несмотря на всю несуразность механистического подхода, возникает впечатление, что он-то и остается господствующим. Это становится совершенно очевидным, если обратиться к современной медицине. Врач уже не столь 2 Биология и познание человека. М., 1989. С. 5–6. 8 внимательно осматривает и выслушивает больного, как раньше, а отправляет его на анализы. Интерес врача, как правило, ограничивается постановкой диагноза. Что касается лечения, то специалисты «футболят» больного, считая, что сердце должен лечить кардиолог, желудок, почки и печень –– гастроэнтеролог, а голову –– нервопатолог. При этом накопление знаний о функционировании отдельных органов уже не ведут к революциям в медицине. Хорошим примером является изучение нейронов в коре головного мозга, с которыми связывали большие надежды на раскрытие тайны сознания. Другая возможность «синтеза» знаний коренится в том, что на самом деле ни «биология», ни «физиология» не являются такими теориями, которые обусловлены исключительно особенностями своей предметной области. Ни у кого нет сомнений, что на Дарвина повлияли теории Мальтуса, что язык физиологии и медицины пронизан «моральными» различиями. Например, биология исходит из того, что человек является вершиной лестницы живых существ. Отсюда проводится различие между биологией животных и биологией человека. Прежде всего, отмечается: а) предметное различие –– человек как разумное социальное существо отличается даже от высших животных по своим физиологическим параметрам; б) признается методологическое различие, состоящее, например, в том, что над человеком нельзя производить эксперименты, подобные павловским. Но при этом биология конституируется в качестве позитивной дисциплины, удовлетворяющей критериям строгой научности. Люди изучаются с точки зрения их происхождения, биологической эволюции, географического и климатического ареала обитания, распространения популяции в пространстве и времени, функционирования организма, наследственности и изменчивости, экологии и физиологии, особенностей поведения и т. п.3 Биологи не видят принципиального отличия человека от других животных. Несмотря на то, что между млекопитающими и членистоногими, лошадьми и обезьянами тоже есть существенные различия, биология рассматривает животный мир как подчиняющийся одинаковым законам жизни. Многие биологи не видят оснований для выделения даже особой биологии человека и тем более философской антропологии. Сегодня назрела острая необходимость преодоления жесткого дуализма в понимании биологического и социального, физического и психического. При этом дело не может ограничиться философскими соображениями, потому что разные системы человеческого тела по-разному «нагружены» социальными параметрами. Очевидно, что психические процессы испытывают более значительные воздействия со стороны социума, чем физиологические. Но и последние нельзя рассматривать как сформировавшиеся на низших ступенях развития. Например, изучение еды показывает, насколько велика при этом у людей роль культуры. То же относится и к воспроизводству и воспитанию потомства. Особо сложной проблемой является изучение взаимодействия социального и биологического в фило- и онтогенезе человека. Не вызывает сомнений роль морфофизиологической организации, и вместе с тем в любой культуре существует своя технология формирования человеческой телесности. Отсюда сложились два различных подхода к телу: один рассматривает его как организм, а другой –– как некую символическую систему, формируемую культурой. Однако несомненно, что, например, проблема возрастных особенностей может 3 См.: Харрисон Дж., Уайнер Дж., Таннер Дж., Барникот Н. Биология человека М., 1968. 9 быть решена с учетом применения того и другого подходов. В связи с этим ученые вынуждены использовать множество различных программ, управляющих индивидуальным развитием человека, которое обусловлено взаимодействием наследственных факторов, природной и социальной среды. Любая концепция человека исходит из наличия в нем природного и разумного. С этим связано различие дисциплин, изучающих человека. Разумная сторона исследуется философией и другими гуманитарными дисциплинами, а животная –– биологией, медициной и другими науками. Целостный образ человека складывается как сумма этих познаний. Но две стороны человеческой природы расцениваются далеко не как равные. Согласно философии разума, только он является определяющим в человеке, ибо подчиняет страсти души и контролирует телесное поведение. Биология, наоборот, объявляет главной другую половину, считает человека высшим животным, разум которого генетически или функционально зависит от природы. Несмотря на кажущееся принципиальное различие, биология и философия пользуются при оценке человека одним и тем же масштабом, в качестве которого выступает разум. Если философия объявляет его высшим началом, а человека венцом творения, то биология не считает интеллект чем-то надприродным и рассматривает человека в ряду живых организмов. Однако и философия и религия, и биология одинаково возвышают человека над остальной природой и признают, хотя и по разным основаниям, его принципиальное своеобразие. Таким образом, проблема состоит не в том, чтобы примирить эти подходы путем простого суммирования накопленных ими знаний, а в том, чтобы выйти на новое определение человека. Этнография и культурология Человек и животное представляют собой взаимосвязанные органические системы, каждая из которых существует не только сама по себе, но и благодаря отношениям друг с другом. Одна из этих сосуществующих систем представляет для другой окружающий мир. Сознание и бытие тесно связаны друг с другом. Бытие того, кто имеет свой окружающий мир, отличается от субстанциального бытия и бытия вещей. Вещь есть то, что есть, а субъект коррелятивен другому. Любое отношение или действие в такой системе воспринимается всегда в широком контексте, который задан миром. Антропологическое понятие жизненного мира какого-либо субъекта отличается от космологического понятия мира, включающего все существующее –– тотальность. Антропологический мир всегда чей-то мир. Это мир мужчин или женщин, русских или американцев. Это не просто часть космологического или эпистемологического мира наблюдателя, это не «вещь в себе», ибо он всегда релятивен определенным актам субъекта, выделяющим, придающим смысл определенным секторам окружающей действительности. Человеческий мир в отличие от замкнутого мира животных является открытым. То, что Хайдеггер описал как сферу Мan (обезличенности), еще в большей степени характерно для мира животных. Но цепи раздражений и образцы реакций, выделяемые зоологами, не существуют для самих животных, поведение которых запрограммировано на генетическом уровне. Они не имеют мира, который выходит за пределы ситуации. Только у высших животных есть его подобие, но и в этом случае использование понятий, применяемых для описания человека, в высшей степени проблематично. Строго говоря, мы не располагаем адекватным языком для понимания мира животных. Даже в 10 повседневной жизни их поведение объясняется отчасти в антропоморфических, отчасти в механистических метафорах. В культурной антропологии вырабатывается иной способ описания. Человек незавершен от природы и вынужден строить для обеспечения своего выживания искусственную среду обитания, которая в свою очередь оказывает на него пластифицирующее (определяющее его телесность) воздействие. Человек –– продукт техники. Изобретение и использование орудий труда изменило его отношение к миру, радикально преобразило телесность. К типично человеческому сегодня относят, кроме техники, язык и абстрактное мышление, которые и составляют признаки сущностного понятия человека. Вместе с тем, язык и техника претерпели в ходе человеческой истории принципиальные изменения, но сущность человека предполагается при этом неизменной. Таким образом, не только биологи, но и культурологи сталкиваются с трудностями использования понятия сущности по отношению к человеку, что заставляет либо вообще отказаться от него, либо определять сущность в рамках той или иной культуры. Но и здесь возникают не менее трудные вопросы. Определение человека дается с точки зрения его достижений и свершений, технических или культурных. Отсюда интерес к поздним культурам, к ранним фазам развития человеческого сообщества. Но одних технических достижений недостаточно для определения критериев развития общества. Более того, именно в нашу, характерную фундаментальными техническими достижениями эпоху усиливаются разговоры о деградации человечества и об угрозе выживания. Приходится принимать во внимание и другие открытия. Важнейшими культурными «машинами» воспроизводства и выживания человека являются дом и семья. Сегодня в развитых странах среди обеспеченных слоев населения процветает новая бездомность и сиротство. Квартиры, напичканные бытовой техникой, стали пустыми и холодными, а родителям недостает времени и сил, чтобы обеспечить необходимый психологический климат. Но как измерить степень совершенствования жилища? Очевидно, что здесь неприменимы критерии технического развития. Точно также на вопрос о том, какую историческую форму семьи считать более совершенной, нельзя дать однозначного ответа. Такие же вопросы возникают и относительно других продуктов культурного творчества, например, особенно острые споры вызывает сравнение нового и старого. Культурная антропология, которая не ставит прямо вопрос о сущности человека, неявно исходит из допущения о том, что по мере эволюции противоположность человека и животного все более нарастает. И наоборот, физическая антропология, говоря о появлении человека на волне неолитической эволюции, предполагает сохранение его сущности в ходе дальнейшего развития. Каждый человек должен заново познавать окружающий мир и находить свое предназначение. Он всему должен научиться и ни один из заложенных в нас природой инстинктов не обеспечивает выживания. Отсюда вопрос о культурном наследии и научении приобретает фундаментальное значение. В современной культурной антропологии выделяются основные потребности человека: 1) физиологические потребности в пище, воде, воздухе, движении, отдыхе и т.п.; 2) потребности в безопасности и защите от посягательств на собственность и семью; 3) потребность в сопричастности, любви и солидарности, в благополучии и спокойствия за свое существование; 4) потребность в уважении к себе со стороны окружающих и в самоуважении, проявляющаяся в стремлении к независимости; 5) потребность в самоактуализации, благодаря 11 которой реализуются творческие потенции человека. К этим основным потребностям добавляются еще чисто духовные стремления к знанию, красоте, добру. Каждый человек самостоятельно накапливает знания и опыт, но этот процесс освоения знаний, технических навыков, культурных ценностей обеспечивается не наследственным путем и не непосредственной передачей из рук в руки, как в случае жизненно-практического опыта, а специальными институтами образования. Чем раньше человек приобщается к культуре, тем полнее и глубже он ее постигает. Именно поэтому недостаточно описания человека исключительно в биологической перспективе. То, что Руссо и другие ранние критики прогресса называли «природой», к которой должен вернуться изнеженный и испорченный цивилизацией человек, на самом деле тоже является культурным идеалом, своеобразной утопией идиллической жизни, в которой подразумевается, что технические и научные достижения обеспечат возможность некоего веселого и беззаботного пикника на лоне природы. Что же касается так называемых нецивилизованных народов, то только европоцентристские предрассудки препятствуют оценивать их традиции и нормы как культурные. Мы часто наделяем первобытного человека своими неисполненными желаниями и извращенными фантазиями, приписывая ему склонность к жестокому насилию, произволу и дикой необузданной власти. Человек на любой стадии существования решает задачи: как осуществить освоение природы и обеспечить выживание рода, как действовать в мире и строить отношения с другими людьми, как управлять природными процессами и человеческим поведением. Отсюда все формы человеческого существования – – будь-то труд или отдых, любовь или брак, общественная или частная жизнь –– регулируются культурными нормами, которые запрещали, ограничивали и предписывали те или иные формы поведения. Человек должен поддерживать отношения с природой, искать пищу и находить кров, но то, как он это делает, всегда обусловлено культурой. Поэтому, рассматривая мифы и ритуалы, табу и жертвоприношения древних людей, неверно считать их выражением якобы врожденных инстинктов. С одной стороны, все они являются способами символизации мира, а с другой – практическими требованиями и нормами, которые исполняются не на основе моральных оценок или раскаяния, а в форме безусловных психосоматических реакций. Культура определяется как система организации и развития человеческой жизнедеятельности, включающая способы производства, взаимодействия с природой, межличностного общения, познания и духовного творчества. Первоначально культура понималась как воспитанность, и на этом основании греки отличали себя как цивилизованный народ от варваров. И позже, в Средние века и эпоху Возрождения, культура определялась как цивилизованное поведение, основанное на соблюдении законов, как наличие гуманитарных знаний и владение искусствами. Век Просвещения делает упор на рациональность, а воспитание сводит к управлению на основе разума страстями души. В это же время зарождается критика рационального образа культуры и возникает лозунг «назад к природе». Разумеется, речь шла о природе как идеале культуры, т. е. о некой идеальной жизни в естественных условиях обитания. Такая ориентация способствовала преодолению европоцентристского определения культуры и изучению обычаев так называемых нецивилизованных народов. Сегодня критикуется сведение культуры к рационально-техническим достижениям, и вводятся более широкие критерии рациональности. Культура 12 стала пониматься как система способов обеспечения основных потребностей человека. Инстинкты, сформировавшиеся в ходе эволюции, подвергаются в человеческой истории разностороннему контролю и облагораживаются посредством сначала мифа и ритуала, затем социальных норм, обычаев и институтов семьи, права, собственности, государства. Во всякое время во всех культурах люди, удовлетворяя свои потребности, стремились их цивилизовать и при этом открыли отчасти универсальные (одежда, жилище, питание, игра, труд, язык), отчасти локальные (мифы, верования, ритуалы, традиции и обычаи) способы организации жизни. Развитие человечества, несомненно, связано с фундаментальными движущими силами культуры, которые проявляются уже в мифе и культе, праве и порядке, общении и предпринимательстве, ремеслах и торговле, поэзии и философии. Известно, что далеко не все народы сумели реализовать себя в той форме, которая присуща европейцам. Однако и их культура, несмотря на высокую динамичность, не лишена недостатков. Односторонняя ориентация на научно-технический прогресс привела к опасности разрушения природной основы культуры. Овладев природными силами, современный человек гораздо хуже владеет своими желаниями, чем прежде, он утратил духовное единство с окружающим миром и попал под власть им же самим созданных технических, экономических и политических систем. Намечающаяся опасность кризиса современной культуры, осознание узости ее границ, прежде казавшихся чрезвычайно широкими, предполагает критический пересмотр некоторых устоявшихся представлений и более чуткое отношение к иным культурам, прежде расцениваемым с точки зрения европоцентризма как несовершенные. Это заставляет под особым углом зрения посмотреть на другие процессы, например, в сфере массмедиа, информации, образования. Опасность состоит в том, что различные формы глобализации начинают резонировать и «разогревать» мир до опасной отметки. Признаком этого являются технические и экологические катастрофы, экономические и финансовые кризисы, террористические акты и, наконец, компьютерные вирусы, к опасности которых многие относятся еще слишком легкомысленно. В таких условиях плыть всем в одной лодке чрезвычайно опасно. Для безопасности гораздо эффективнее существование относительно автономных (замкнутых, но взаимосвязанных) хозяйственных систем и культурных сфер. Человечество прогрессировало тогда, когда удавалось создать эффективные условия конкуренции и соперничества культур, когда между ними и внутри них осуществлялись инновационные и репродуктивные процессы. Онтология и антропология Одна из интересных особенностей человеческих существ состоит в том, что они пытаются понять самих себя и свое собственное поведение. Концепция культуры –– самый любопытный ответ из тех, что антропология может предложить для удовлетворения извечного вопроса «Почему?». По своему объяснительному значению эта концепция сравнима с теориями эволюции в биологии, гравитации в физике, заболевания в медицине. Значительную часть человеческого поведения удается понять и даже предсказать, если мы знаем «план существования» людей. 13 Между природой и особой формой воспитания, именуемой культурой, нет никакого «или – или». Культурный детерминизм столь же однобок, как и биологический детерминизм. Оба фактора взаимозависимы. Культура основывается на человеческой природе, и ее формы определяются физиологией. Вместе с тем удовлетворение естественных потребностей человеком обусловлено культурой. Ест ли человек для того, чтобы жить, живет ли для того, чтобы есть, или же просто ест и живет, все это лишь частично определяется индивидуальной ситуацией, так как и здесь существуют культурные традиции. Процесс построения культуры может рассматриваться как дополнение врожденных биологических способностей человека инструментами, которые подкрепляют, а иногда замещают биологические функции, и компенсируют биологические ограничения, в частности, обеспечивают ситуацию, при которой смерть человека не приводят к тому, знания умершего теряются для человечества По мере цивилизационного процесса, человек дистанцируется от окружающей среды и вступает в мир. Человека можно назвать «мирообразующим» в том смысле, что он собирает и пишет текст мира. Мир –– это положение, занимаемое человеком, это нечто, во что он попадает, и что выходит за пределы окружающей среды, в рамках которой замкнуто животное. Вопрос не только в том, кто мы, но и в том, каково наше место в космосе. Человек рассматривается как продукт эволюции или творения, но в том и в другом случае идея человека лежит в основе объяснения и таким образом налицо логический круг. Хайдеггер попытался обойти эту трудность, определив человека как «просвет бытия». Самым большим чудом он считал то, что бытие вообще есть. Причем, надо понимать, оно «есть» для человека. Оно открыто для него, и благодаря этому человек может рассуждать, является оно ему как бытие или как мир. Конечно, тут приходится поправить Хайдеггера, который был противником антропологии, а самого человека считал предметом изучения науки, а не философии. На самом деле противопоставление науки и философии в вопросе о человеке неплодотворно. Именно философская медитация позволяет указать трудности научного определения и, наоборот, данные антропологии корректируют и направляют ход философского размышления. Очевидно, что попытки двигаться вниз по лестнице эволюции организмов, возможно, интересны для палеонтологов, но они бесперспективны для решения принципиального вопроса о том, что есть человек. Онтологическая версия романа о происхождении человека, как и проблема космогенеза, опираются на старую идею всеединства. Принципиальный подход состоит в том, чтобы не предполагать заранее идею человека и не вкладывать ее на более низкие или более глубокие уровни, чтобы затем вывести оттуда закономерное происхождение человека, которое представляется как продукт целенаправленный усилий обезьян, стремящихся стать людьми. На самом деле эти объяснения научных антропологов являются самыми настоящими фантазиями. По Ницше, круг, в который следует вступить философии человека, не герменевтический, а антропотехнический. Это значит, что тема человека уже не может обсуждаться с наивно-гуманистических позиций. Новый подход стал возможен в силу ряда условий и, прежде всего, в результате революционного прорыва мышления XIX столетия, в результате которого можно сегодня говорить о наступлении постметафизической эпохи. Речь идет о повороте к человеческой практике, которая определяется на младогегельянский или на 14 прагматический манер. Также важным является открытие Дарвина. Следует напомнить об импульсах, идущих от Ницше и Фрейда, а также от представителей экстремистских философских движений ХХ в. Важным условием нового подхода к человеку является синхронизация антропологических открытий в области морфологии, палеонтологии, исторической лингвистики с хайдеггеровской экзистенциальной аналитикой. В результате история человека может быть описана как драма формирования им пространства для своего существования, которая не может быть понята без учета истории вещей, как она реконструирована школой исторической антропологии. Европейский миф о происхождении человека определяется пониманием его как продукта или культурного артефакта. Пока ответ на вопрос о происхождении человека давался с точки зрения сотворения мира Богом, философский вопрос о том, как и зачем возник и существует человек, не мог быть поставлен. Снятие теологической блокады обусловило обращение к реальным условиям формирования и существования человека. Человек стал мыслиться как продукт сил, обусловивших онтологические условия возможности его развития. Новые теории происхождения человека опираются на такие факторы и условия, которые сами являются реальными событиями. Однако, историческая антропология, занятая обобщением видимых явлений, не видит человека в его экзистенции. В «Бытии и времени» Хайдеггер считал тупиковым развитие философии в форме антропологии (проект Шелера). Хотя он и восстанавливает вопрос о бытии, однако развивает не столько онтологическую схоластику, сколько философию человеческого бытия в мире, то есть философскую антропологию. Однако, такое простое разделение онтологии и антропологии упрощает и даже искажает соотношение этих двух важнейших перспектив раскрытия и развития философии. Конечно, между ними нет того непримиримого различия, утверждение которого приписывают Хайдеггеру, но это и не означает, что они тождественны. Проект Хайдеггера можно назвать антропологической онтологией или онтологической антропологией. Его особенность состоит, вопервых, в допущении особой близости бытия и Dasein; во-вторых, в понимании его как индивидуального существования. Главная трудность касается обоснования привилегированности Dasein в отношении к бытию. Если претензии разума, трансцендентального субъекта были подвергнуты сомнению, то еще более трудно удостоверить подлинность существования. Рука и орудие В параллель хайдеггеровской критике метафизики как забвения бытия стоило бы написать естественную историю дистанцирования человека от природы. Именно в это время решающую роль в антропогенезе начинают играть культурные достижения. Некоторые авторы считают, что культурная история начинается с насилия, промискуитета, перверсий и ксенофобии. При чтении их работ возникает впечатление, что древним людям приписываются наши извращения. Между тем они были более умеренными и естественными существами. Другие авторы, наоборот, придерживаются концепции подавления природных инстинктов, но впадают в беспомощный идеализм. Кроме спекулятивных существуют и научные эмпирические подходы, в которых культурные и технические достижения выводятся из биологических 15 предпосылок. На самом деле более перспективным кажется синтез различных программ, и в их числе хайдеггеровской теории просвета. Использование твердых орудий в древнекаменную эру привело к уникальной ситуации, когда предсапиенсы так? (Вообще-то так, но можно заменить: неандертальцы) освободились от жесткой детерминированности своего тела внешней средой. Это не означает остановки эволюции тела –– наоборот, в новых искусственно созданных условиях оно начинает очеловечиваться и эстетически совершенствоваться, причем в той мере, в какой удается обратить созданный инструментарий против воздействия природной среды и создать сферу, внутри которой жизнь становится более разнообразной. Выключение тела вовсе не ведет к исчезновению адаптивных механизмов отбора. Только селекция ведется теперь не природной, а искусственной культурной средой. Одомашнивание привело к чему-то похожему на выращивание орхидей в теплице. Человек тоже начинает «дозревать» в жилище –– своеобразном инкубаторе, в котором главную роль играет мать, дающая пищу, а также телесное и душевное тепло. Данные палеонтологии обнаруживают интересную особенность homo sapiens: благодаря эффекту затянутого взросления у них затормаживается процесс монструозолизации, что возможно благодаря сохранению внутриутробной морфологии во внеутробном состоянии. Речь идет о незавершенности новорожденного как биологического существа, выживание которого возможно благодаря опеке взрослых особей. Возникает своеобразное животное-диссидент, нарушающее биологический закон созревания. Это обстоятельство было открыто амстердамским палеонтологом Л. Больком4, который развил теорию неотении. Ее суть состоит в объяснении рискованной недоношенности и затянутого детства, которые управляются в процессе эволюции эндокринологическими и хронобиологическими механизмами. Для человека характерна беспримерная инфантилизация, которая состоит в сохранении младенческой пластичности у ребенка. Это направление обеспечивается усиленной церебрализацией –– возрастанием массы мозга, которая лишь отчасти объясняется эволюционно обусловленным развитием интеллекта. Резкое возрастание массы мозга, формирование неокортекса, рискованный рост черепа еще во внутриутробном состоянии, ведущий к раннему рождению – все это взаимосвязано и предполагает, что после рождения ребенок еще долго будет переживать стадию стабилизации в коллективной теплице и получать компенсацию за раннее рождение материнским теплом. Вместо 21 месяца ребенок вынашивается всего 9, а если беременность продлится дольше, то ребенок упустит последний шанс проникнуть наружу сквозь отверстие матери. Многочисленные эксперименты показали также, что позднее рождение означает не только тяжелые роды, вплоть до гибели ребенка, но и тяжелые психологические травмы. Материнская теплица выполняет функции искусственной защитной среды, необходимой для существования младенцев. Таким образом, интеллект, духовность, способность к творчеству, словом все, что является избыточным с точки зрения эволюции и отличает человека от животного, стало возможным благодаря физиологической заботе о несовершенном от природы существе. Чтобы обеспечить свое существование, человек вынужден заботиться не только о себе, но и о своей искусственной защитной системе –– культуре, технике, этосе своей группы. Чтобы гарантировать свою природную недостаточность, человек начинает жить в 4 Bolk L. Das Problem der Menschwerdung. Jena, 1926. 16 нескольких измерениях и преодолевает врожденную беззаботность животного. Заботу не следует трактовать как заботу об индивиде. Изначальна забота о роде, о цивилизационных достижениях. Становление человека происходит не в естественных, а в искусственных климатических условиях. П. Слоттердайк считает первичной «машиной» очеловечивания человекообразных обезьян инсуляцию, т. е. обитание внутри дома. Но для появления человека необходимы и другие факторы, запускающие антропогенный процесс. Он начинается с того момента, как вещи стали изготавливаться руками и началась история homo technologicus. Важным вкладом в построение теории становления человека стала книга Пауля Альсберга «Загадка человека» (1922). Главный принцип этой теории –– основной механизм антропогенеза –– автор назвал «выключением тела». Так под сомнение был поставлен тезис о том, что культура имеет естественноисторические корни. Прагоминиды открыли способ дистанцирования от внешней среды, начавшийся с производства орудий труда. Важным ее этапом становится освобождение руки, произошедшее в результате создания свободного пространства. Лапа обезьяны, взявшей камень, обрела два измерения: хватательную и контактную зоны. Именнно благодаря руке открылась новая экологическая ниша для становления человека. Каменный век, или век твердых орудий, оказался решающей формационной фазой становления людей. Синтезируя высказывания Хайдеггера и Энгельса (взгляды которых о роли руки и орудий совпадают), можно сказать, что камень не есть выражение человека –– он дает ему шанс вступить в просвет. Удачное или неудачное использование первых орудий открывает примитивную истину. Именно это позволяет считать их не просто продуктом приспособления к окружающей среде в ходе биологической эволюции, а именно способом открытия мира. Каменные орудия есть нечто большее, чем орудия. Протыкая дыры, нанося разрезы, бросая камни, человек стал творцом дистантной техники. Он произошел не от обезьяны, но и не благодаря использованию знаков, а в ходе обработки дерева, камня и других твердых материалов. Он – продукт прототехники. Пралюди были операторами, у которых тело оказалось выключенным из биологического процесса. Непосредственный контакт тела с окружающей средой опосредован камнем. Оберегая от негативных последствий прямого телесного контакта со средой, каменные орудия раскрывают позитивные возможности господства над объектами. Человек окружает себя искусственно созданными вещами, которые задают дистанцию к природной среде и образуют своеобразную защиту от ее нежелательных воздействий. Конечно, примитивного производства орудий еще недостаточно для полного отрыва от окружающей среды. Орудия бросания, разрезания и раздробления становятся и первым инструментом для производства средств производства. Некоторые палеонтологи называют этот период эпохой второго камня и считают производство орудия решающим критерием различия человека и животного. Человек и техника Антитехнологическая истерия, охватившая сегодня Запад, вытесняет тот факт, что именно техника выводит человека из нечеловеческого состояния в человеческое. Она не производит отчуждения, как не является причиной 17 перверсий. Вместе с тем, эти явления сопровождают технический прогресс. В терминах исторической антропологии формирование человека описывается как автопластическое совершенствование. Но при обсуждении процесса антропогенеза важно правильное понимание природы инструментов трансплантации. Сегодня много говорится о преодолении философии разума и о смерти человека. Очевидно, что разум не есть нечто прирожденное. Напротив, он, может быть, самое искусственное, прививаемое цивилизацией изобретение. Ребенка, юношу и даже взрослого долго воспитывают и убеждают, прежде чем он сам научится рефлексировать над своими желаниями и воздерживаться от аффективного поведения. Именно технологии одомашнивания и цивилизации человека и были настоящей причиной роста его разумности. К эффективным культурным техникам формирования человека относятся такие символические институты, как язык, брак, родство, техники воспитания, возрастные, половые нормы и роли, а также война, труд и все ритуалы, порядки и обычаи формирования и самосохранения группы. Эти порядки и образуют богатейший арсенал антропотехники. Они обрабатывают пластичное, незавершенное природой человекообразное существо и формируют необходимые для социума качества. Речь идет о буквальном моделировании человека цивилизационными механизмами, которое осуществляется традиционно дисциплиной, воспитанием и образованием. Конечно, этих практик недостаточно для производства человека: они, скорее, манифестируют, чем реализуют существо человека. Их необходимо дополнить примитивными антропотехниками доместификации. Человек формируется неосознанно в процессе открытия пространства, в котором происходит анатомический и нейроцеребральный дрейф в сторону накопления излишних с биологической точки зрения, но необходимых для развития культуры способностей к конструированию символической картины мира. Человеческий мозг является органом просвета, в нем концентрируется возможность открытия того, что не есть мозг. Обучаемость мозга является продуктом не органической интеллигенции, а существования внешнего мира. Его быстрое и излишнее развитие обусловлено недостатком телесной приспособленности. Важно, что большая часть структуры мозга формируется в послеродовой период. Благодаря этому он становится восприимчивым не столько к биологической, сколько к ситуативной и «исторической» информации. Все большую роль начинают играть не орудия воздействия на предметы, а более тонкий инструментарий символической коммуникации, на упорядочение которой и тратятся все большие усилия. Выражение «язык –– это дом бытия» значит, что он является специфическим местом, где находит приют и живет бытие. Этот дом стоит не на пустом месте, а располагается в уже построенной антропосфере. Сегодня в понимании человека присутствует нечто апокалипсическое. С одной стороны, дикий зверь, живущий внутри нас, по-прежнему толкает к эксцессам и жестокое и сладострастное человеческое племя никак не поддается одомашниванию и гуманизации. Всплески насилия и жестокости поражают всяческое воображение и заставляют даже гуманистов отказываться от оптимистических прогнозов. С другой стороны, если человек –– творение культуры, то и ее достижения не столько радуют, сколько пугают нас. Когда ученые объявили об удачном клонировании, человечество пережило вторую апокалипсическую дату, от которой пойдет новый отсчет времени человеческой истории. Все это заставляет радикально пересмотреть антропологический 18 проект. Пока он определялся двумя антиподами человека: Богом и Зверем. Человек рассматривался то как тайный агент Бога, то как животное. Но сегодня эта противоположность должна быть оставлена в стороне. Человек проявляет себя как нечто монструозное, чудовищное. Так мы снова возвращаемся к открытию греков: самое ужасное на свете –– это человек. Но греки же и нашли ответ на эту загадку. Человек становится страшным, если он лишен места, дома. Именно место продуцирует человека. Таким образом, в основе антроподицеи лежит дом и место. Оно задает особенности телесности, в частности, культивацию красоты, а также характер и поведение человека, его этос. Этот проект представляет собой новую перспективную программу развития философской антропологии. Она мыслится не как схоластическая философская дисциплина, конструирующая сущность человека, а как ответ на самые насущные проблемы человеческого существования. Для характеристики места Хайдеггер пользуется метафорой области, определяя ее как собирание вещей в их взаимопринадлежности. Он «редуцирует» пространство к простору, месту, области. Отсюда возникают странности, которые обнаруживают условность физико-технического пространства. Не место располагается в пространстве, а наоборот, оно само развертывается в игре мест определенной области. Кроме онтологической, возможна и антропологическая коннотация этих слов. Определение пространства как открытости, экстаза, состоящего в пребывании вблизи бытия, дается в понятиях «дом», «родина», «ближайшее», «жительствование», которые являются знаками человеческой экзистенции. Именно эти метафоры дома и жилища позволяют использовать онтологическую концепцию Хайдеггера в антропологии для решения вопроса о том, каким образом дочеловеческое живое существо «осело» между постобезьяной и дочеловеком. Используя хайдеггеровские метафоры, можно ответить, что это произошло благодаря открытию места формирования человека, которое называют домом. Дом, как известно из палеонтологии, является древнейшим состоянием. Домашность является первым и главным условием становления человека, дом – – основа гоминизации. П. Слоттердайк ввел для него понятие сферы. Сфера –– место межличностного, душевного резонанса, где действует пластическая сила, вытягивающая из недоношенного животного человеческое лицо. Это место физиологического сосуществования создает резонанс пластификации людей. Дом как место обитания живых существ создает климат, в котором происходит выращивание человека. Благодаря дому окружающая среда становится человеческим бытием в мире. Эта концепция сферы, полагает Слоттердайк, устраняет «белые пятна», препятствующие пониманию того, как среда становится миром. Сфера, по Слоттердайку, представляет собой такое место обитания, где исчезает террор среды и возникает мир, который есть не что иное, как своеобразная мембрана между внутренним и внешним; медиа всех медиа. Хайдеггер описал ее онтологию в терминах открытости, близости, дома и др. Сферическое –– это промежуточный мир между животным окружением и просветом бытия. Это жительствование в измерении близости и одновременно ужасающей открытости. Это и определяет изначальную структуру отношений жительствования. Сфера также обеспечивает обмен между формами животнотелесного и человеческого символического сосуществования. Процесс гоминизации протекает в сфере дома, который является условием эволюции человека. В свете прежних теоретических трудностей человека следует понимать как продукт того, в чем он никоим образом не 19 предполагается. Таковым является место производства; ситуация, где средства и отношения производства совпадают. Метафора дома позволяет представить место как способ стабилизации внутреннего и внешнего климата, комфортабельность которого обеспечивается техническими средствами. Дом –– изолированное пространство, ограниченное сверху потолком, а с боков стенами жители которого оберегают его тепло и воспроизводят интерьер. Уже древние люди ограждались от непогоды стенами, которые стали первыми средствами манипуляции климатом, в котором протекал долгий период эволюции человека. Объяснение появления человека как «просвета» опирается на принцип дома, который надо понимать не архитектурно, а климатически. Очаг и пещера образовали ту свободную от непосредственного климатического и биогеографического климата нишу или сферу, внутри которой происходило выращивание человека. Инсуляция, а не селекция является специфическим механизмом построения внутреннего пространства. Начало его зарождения относится к сообществам животных и даже растений. Он состоит в том, что всякие нормальные сообщества создают на периферии популяции нечто вроде живых заградительных защитных стен, создающих климатические преимущества для индивидов определенной группы, составляющих ее хабитуальный центр. (Кстати говоря, так называемая децентрация, снимающая различие центра и периферии, опасна с точки зрения выживания). Например, тепловым центром является уже в первобытной орде мать с детьми. Очевидно, что внешняя селекция таким образом нейтрализуется и важное значение приобретают внутригрупповые критерии. Даже на уровне приматов теплые отношения матери к детенышам играют решающую роль в выживании группы. Главным результатом инсуляции является превращение детеныша в ребенка, основанное на партиципации; решающую роль в этом процессе играет протяженное во времени пространство «мать-дитя». Все антропоиды наделены растянутым периодом детства. Это объясняется тем, что риск биологической незавершенности снижается благодаря организации внутренней защиты. Высшие организмы начинают играть по отношению друг к другу роль «окружающей среды». Их успешное развитие вызвано не просто новой экологической нишей, а продуктивной, искусственно организованной средой, внутри которой и происходит образование все более совершенных в эстетическом отношении форм. Еще социал-дарвинисты показали, что для большинства сообществ гуманоидов решающую роль играют неадаптивные внутригрупповые изменения, такие как, например, забота о сохранении и выращивании подрастающего поколения. Эволюция переходит в новую область отношений матери и ребенка (кормление грудью) и направлена на повышение стандартов сенсибильности и коммуникативности. Забота о детях в человеческих сообществах становится столь тщательной, как нигде в животном мире. Можно утверждать, что именно дети были существенным фактором развития культуры и одновременно ее продуктом. Специфическое место становления человека обладает теми же качествами, что материнский инкубатор, в котором младенец пребывает после своего рождения. Дом – это технически сконструированное место, где новорожденный пользуется привилегией материнского тепла. Живое существо день за днем становится человеком благодаря красоте, которая культивируется в автогенном парке. Красота, в атмосфере которой выращивается человек, производится как эффект примитивной техники. Жилище, построенное по образцу утробы матери, 20 поддерживает жизнеобеспечение инфантильного существа, которое фактически пребывает в экзистенциальном времени. Человеческая машина времени работает по принципу регрессивной революции. Субстанция предысторического периода гоминизации характеризуется оставленностью, затянутостью и одомашниванием. Позже наступает время истории как соперничества, конкуренции и войны, которые предполагают другие экзистенциальные качества: предвосхищение, ускорение и укрепление. По-настоящему час языка пробил тогда, когда «запоздалый», с «задержанным развитием» человек накопил достаточный интеллектуальный потенциал чтобы заботиться о создании и сохранении культурной теплицы. Культура и традиции выступают гарантией существования избалованного животного, каким является человек, научившийся использовать свои руки для строительства и обороны своего жилища. Теперь эволюция пошла в направлении создания и сохранения более широкого культурного пространства. Хайдеггер писал о языке, который есть дом бытия. Но что такое язык? Является он средством обозначения или неким «каркасом» мира –– иммунной системой, защищающей человека от воздействий окружающей среды. В противоположность семантике Хайдеггер писал: «Язык есть дом бытия, живя в котором человек эк-зистирует, поскольку, оберегая истину бытия, принадлежит ей»5. Язык –– это не просто медиум, репрезентирующий успешные действия, он сам есть своего рода ценнейшее достижение. По мере того как действия сопровождаются словами, по мере того как слова становятся тем, что колет и ранит, огорчает и радует, происходит удаление от окружающей среды, ширится знаковая сфера человеческого существования. Человек как медиум коммуникативных систем Понимание фундаментальной революции в медиумах позволяет по-новому взглянуть на саму историю разума. Возникает вопрос, а почему, собственно, на него возлагались такие большие надежды, почему он нес ответственность за гуманизацию человека? Если система воспитания построена на чтении книг и лекций, на умении раскрывать значение слов и понятий и таким образом контролировать свое поведение, то очевидно, что это и стало практическим основанием разума. И соответственно, вера в него закатилась вместе с концом книжной культуры и началом кризиса классической системы образования. Но человек не перестанет существовать, даже если он не будет больше читать книг и слушать профессорских лекций. Только это будет другой человек. И этим вызваны разговоры о его «смерти». На смену разумному и экономическому существу приходит новый человек, манипулирующий не только вещами, но и тем, что раньше считалось судьбой: сегодня некоторые люди меняют не только одежду, обстановку, жилье, семью, город, страну, но и лицо, фигуру и даже пол. Но является ли он при этом свободным –– вот в чем вопрос. Платон притязал на то, что философия, как постижение истины, должна быть опорой государственной власти. Между тем у нее оказались серьезные конкуренты: во-первых, ритуальные формы коммуникации, сложившиеся в повседневной жизни людей; во-вторых, технологии государственной власти; втретьих, христианская медиаимперия, управлявшая людьми на основе 5 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме. // Время и бытие. М., 1993. С. 203. 21 божественного логоса. Философия победила благодаря ставке на методы рационального воздействия общества на человека. Сегодня речь идет о закате книжной культуры вообще, следствием которого станет падение интеллектуальных технологий гуманизации человека. В связи со сменой медиумов философствование радикально меняет свою форму. В последние десятилетия все чаще ведутся разговоры о радикальной трансформации метафизики, даже раздаются призывы к ее преодолению, некоторые, несколько преждевременно, даже заявляют о ее смерти. Поскольку все эти вопросы с завидным постоянством, но не получают эффективного решения, постольку необходимо спросить, не нуждаются ли они в уточнении и переформулировании. Вопрос о переориентации в философии следует связывать не только с саморефлексией, но и с изменениями коммуникативных стратегий. Над или под теоретической полемикой относительно статуса философской антропологии развиваются другие процессы, которые, собственно, и определяют отношение людей к рациональности и моральности, т. е. к тому, чем человек отличался от животных. Речь идет о смене технологий власти, которые в свою очередь вызваны изменениями коммуникативных медиумов. ЧАСТЬ 1. ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ СВОЕЙ МЫСЛИ Хотя история термина «антропология» восходит к началу XVII столетия, это вовсе не означает, что она возникла внезапно как продукт гуманизма. На самом деле термин ta antropina возник еще в античности, и именно сложившиеся в этот период подходы в основном и определяют антропологические споры дальнейших времен. Западная антропология может быть образно охарактеризована как аранжировка двух основных мелодий: человека характеризует способность к языку (говорящее существо — zoon logon echon) и способность к общественной жизни (политическое существо — physei politikon zonn). Хотя философская антропология покоится на этом заложенном еще в античности прочном фундаменте, тем не менее, именно сегодня ведутся дискуссии, ставящие под вопрос саму ее возможность. Этим современная эпоха радикально отличается от героической стадии становления философской антропологии в начале Нового времени. Тогда не ставилась под вопрос возможность решать проблемы с точки зрения человека. И в XIX веке велись горячие споры между представителями различных конкретно-научных дисциплин, таких как биология, археология, этнография, за право называться теорией человека. Но они не оспаривали метафизическую идею человека, а только боролись за право ее репрезентировать. Очевидно, что на этом фронте критики выдвигали лишь конкретные определения, которые шли на пользу метафизике, осознававшей себя как привилегированный тотализирующий дискурс. М. Шелер в своей основополагающей работе «Положение человека в космосе» с полным правом писал, что задача философской антропологии состоит в том, чтобы вырабатывать на основе частнонаучных определений единую систематическую теорию человека. В философии и гуманитарных науках человек определяется как носитель разума. Он принципиально отличается от животных своей разумностью, позволяющей сдерживать и контролировать телесные влечения и инстинкты. Благодаря разуму он постигает законы мироздания, открывает науки, изобретает технику, преобразует природу и создает новую среду обитания. Кроме разумности можно указать и другие духовные характеристики человека: только у него возникает вера в Бога, различение добра и зла, осознание своей 22 смертности, память о прошлом и вера в будущее. Только человек способен смеяться и плакать, любить и ненавидеть, судить и оценивать, фантазировать и творить. В своей критике естественнонаучного определения человека представители гуманитарного подхода отметили принципиальную открытость и незавершенность человека, который не имеет от природы заданных инстинктов, обеспечивающих выживание. Более того, человек как биологическое существо является слабым и уязвимым по сравнению с сильными животными. Поэтому не ясно, как он мог столь успешно конкурировать с ними, что стал самой могущественной на Земле силой. Его так называемая природа не является чемто заданным, а строится в каждой культуре по-своему. Поэтому нет оснований говорить о врожденной агрессивности или наоборот солидарности, так как природные задатки, которые есть у каждого человека, успешно подавляются или, наоборот, интенсифицируются обществом. Люди буквально всему должны были научиться сами и все, что они умеют — это продукт культурного развития, воспитания и образования. Человеком не рождаются, а становятся. Забота о себе в античной философии Определяя человека как политическое существо, Платон и Аристотель выводят возникновение государства из необходимости удовлетворения естественной потребности человека в пище, одежде, жилье и т.д., которая может быть эффективно удовлетворена объединением усилий отдельных индивидуумов. Чтобы выжить, человек вынужден сотрудничать и сообща создавать условия своей жизни. Это сотрудничество усиливается по мере специализации и кооперации людей, которые постепенно приводят к возникновению государства. Таким образом, в отличие от философов Просвещения, греческие мыслители понимали государство не как продукт договора, а как результат исторического опыта совместного выживания людей. Важным является различие в оценке естественных потребностей. Если европейские философы принимают христианское отношение ко всему природному и телесному, т. е. усматривают в них источник насилия и хаоса и поэтому вынуждены трактовать законы как запреты, ограничивающие инстинкты, то античные мыслители находят в человеческой природе врожденное стремление к кооперации и взаимной помощи и отсюда считают государство органичным продуктом эволюции живых существ. Аристотель определял человека как политическое животное. Но что это, собственно говоря, значит? Почему человек определяется как животное и при этом политическое? В трактате «О душе» животные классифицируются по способности к общественной жизни, а в качестве критерия используются телесные признаки и формы поведения. Различая «биос» и «праксис», Аристотель приходит к выделению животных, ведущих индивидуальный и общественный образ жизни. Конечно, пчелы, муравьи и другие «политические животные» не являются людьми, и слово «политический» не содержит здесь этического аспекта, а раскрывается как способность сообща добывать пищу, воспитывать детенышей, защищаться от врагов и т. п. В «Политике», где человек определяется тоже как политическое животное, суть дела представляется по-другому. Исследуя совместную деятельность людей, Аристотель употребляет этические категории для описания принципов совместной жизни, которые в работе «О душе» задаются чисто инструментально в понятиях целесообразности экономии и эффективности. 23 Аристотель пишет в «Политике», что человек «есть существо общественное в большей степени, чем муравьи и пчелы». И здесь это «больше» раскрывается не по уровню организации совместной деятельности, а по этическим критериям: только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п. Политические и этические качества человека раскрываются посредством ссылок как на природу, так и на полис. Если потребность в удовлетворении первичных потребностей приводит к сотрудничеству и кооперации у животных, то государство формируется только у людей. Его возникновение Аристотель раскрывает как бы в двух аспектах. Вопервых, как естественный продукт развития семейных и племенных форм единства. Отсюда определение: «Государство принадлежит к тому, что существует по природе». Во-вторых, Аристотель утверждает, что живущий вне государства человек не является нравственным существом. Определение человека как члена полиса приводит к такому пониманию человека, в котором находят место его природные потребности, а также способность к речи и мышлению, которые, как отмечает, Аристотель, «создают основу государства». Отсюда нет никакого противоречия в том, что государство и человек, с одной стороны, возникают по природе, а с другой стороны, раскрываются в этическом и политическом измерениях. Только в государстве человек может удовлетворить свои естественные потребности и рассчитывать на достижение высшей цели –– Блага. Он является более совершенным политическим существом, чем животное, так как его цели более значительны. Они уже не исчерпываются самосохранением, а ориентированы на этические ценности. Так человеческая природа формируется, преобразуется и совершенствуется в полисе. Уже античные философы постоянно испытывали на прочность традиционную систему контроля над человеком. Именно они были первыми, кто подверг сомнению брак, который в «Домострое» предписывается всем государственным мужам, ибо, как члены полиса, они должны были управлять также домом и семьей. Философы были первыми, кто высказывал сомнения в необходимости сходиться с женщинами. Естественно, что в рамках этой стратегии испытания на прочность буквально всех так называемых естественных потребностей, они доходили и до сомнений в эффективности тех способов, которыми античная культура формировала нужный ей тип человека. Ведь вопрос умного, но уродливого Сократа «заботишься ли ты о самом себе?», обращенный к красивому и совершенному Алкивиаду, был обескураживающим и провоцирующим. Он предполагал какое-то новое представление о человеке и о его благе. Это благо незримо и может быть найдено в чем-то высшем, чем культура. Платон и Аристотель чаще всего выступают против установившегося порядка жизни и предлагают некую идеальную жизнь в сфере теории. То, что они советуют, часто является утопией, и это касается как любви, так и политики. Изучение порядков повседневности античного общества обнаруживает, что философская «забота о себе» являлась альтернативой тем дисциплинарным практикам воспитания юношества, которым они подвергались, например, в гимназии. И наряду с критическим отношением к процедурам управления своим телом, которые использовались в греческом полисе, философия часто опирается на сложившуюся систему различий, например, мужского и женского, и пытается их обосновать в форме метафизики холодного и теплого, материи и формы и т.д. Становится понятной граница критической рефлексии, когда без 24 обсуждения благо определяется как умеренность. Древнегреческие мыслители знали о несовершенстве человека, и ужасным «дионисийским» порывам они хотели противопоставить разумность. Однако на практике использовались процедуры закаливания, тренировки, гимнастики и диетики, благодаря которым человек мог контролировать и сдерживать свои желания. Это была тонкая стратегия, сопряженная с риском: с одной стороны, культ телесной наготы и возбуждение телесных желаний, а с другой, сдержанность и самодисциплина. Вопрос о том, на что делается упор в античной этике. на самопознание или на какие-то иные формы самоконтроля и самопринуждения, является спорным. Долгое время полагали, что античные философы ориентировались прежде всего на познание идей, на постижение порядка космоса, чтобы на этой основе регулировать частную и общественную жизнь. Истина –– вот что позволяет ответить на вопрос о том, как жить. Жизнь определяется в античной Греции как мера предела и беспредельного, как упорядоченное бытие. Оно определяется душой, которая, собственно, и есть мера. Страдание –– свидетельство нарушения соразмерности. Например, жажда –– следствие отсутствия влаги в организме, напротив, удовольствие –– восстановление гармонии и поэтому питье доставляет удовольствие жаждущему. Вожделение возникает при отсутствии элемента, необходимого для гармонического равновесия. Однако такая механистическая модель ведет к парадоксу. Страдание оказывается необходимым условием вожделения и удовольствия, которое тем сильнее, чем выше страдание. Платон видит в этом опасную возможность разного рода извращений: чтобы испытать сильные, неслыханные наслаждения, человек способен принять значительные и опасные для него и окружающих страдания. Отсюда античные философы предлагают идеал бесстрастной жизни. Мудрец не испытывает ни удовольствий, ни страданий, ни боли, ни радости, он не плачет, но и не смеется. Но эта, как говорил Платон, «третья жизнь» без страданий и удовольствий оказывается жизнью мертвого человека. Поэтому он ищет иной способ гармонической жизни и связывает удовольствие с душой. Описывая удовольствия от приятного запаха, созерцания красоты, соразмерности и, наконец, от постижения истины, Платон вводит разделение на чистые и нечистые удовольствия. Первым и главным он считает, прежде всего, «естественное благо» вселенной –– истину, красоту и соразмерность. «Удовольствие, –– заключает Платон, –– есть полное и совершенное благо».6 В «Федоне» Сократ накануне своей смерти также рассуждает об удовольствии и страдании: «Что за странная это вещь, друзья, –– то, что люди зовут "приятным"! И как удивительно, на мой взгляд, относится оно к тому, что принято считать его противоположностью, –– к мучительному! Вместе разом они в человеке не уживаются, но, если кто гонится за одним и его настигает, он чуть ли не против воли получает и второе: они словно срослись на одной вершине».7 Как душа приходит в соприкосновение с истиной, если тело непрерывно мешает этому? Что есть благо? Оно может пониматься как моральное и как гедонистическое понятие. Но даже в случае выбора удовольствия следует спросить не только о том, для чего оно, но и о том, на что оно опирается. Сократовский диалог, с одной стороны, нацелен на опровержение принципа удовольствия, но, с другой стороны, не ведет к аскетизму, а, наоборот, стремится определить, в чем состоит 6 7 Платон. Филеб // Платон. Соч. в 3-х т. Т. 3 (1). М., 1971. С. 86. Платон. Федон // Платон. Соч. в 3-х тт. Т. 2. С. 16. 25 истинное удовольствие. Опровергающий разговор заканчивается осознанием незнания как самого Сократа, так и его партнера. Парадоксально, но именно эта ситуация незнания выступает как предпосылка получения подлинного знания. Сократовское опровержение всех мнений оказывается позитивным, ибо расчищает место тому, что должно появиться. Так в рассуждениях об arete обнаруживается, что оно ищется в качестве знания о благе. Оно становится предметом исследования, и этим нейтрализуется тезис о приоритете удовольствия. Благо –– это то, относительно чего понимается и оценивается человеческое существование. Знание о том, что человек существует ради блага, дает четкий ориентир жизни, обеспечивает собственное умение быть. Благо есть некая разновидность смешанного, в котором достигается единство hedone и phronesis. Само по себе наслаждение легко превращается в нечто безмерное. В этом причина того, что Сократ считает естественным отказ от поисков меры в самой плоти и переход к поискам ее в чем-то внешнем. Он устанавливает второй род удовольствий, которые возникают в душе. Это принципиально иной род удовольствий по сравнению с телесными. В отличие от последних их можно назвать феноменами, так как они существуют либо в воспоминании, либо в ожидании, т. е. в актах сознания. В отличие от телесности здесь нет взаимодополнительности удовольствия и страдания, что дает надежду открыть чистое, не смешанное со страданием удовольствие, т. е. благо. Даже если бы оказалась возможной такая телесная гармония, какая встречается у богов, не ощущающих ни удовольствия, ни страдания, то это неприменимо к людям, которые понимают себя в страдании и наслаждении. Попытка мудрецов разрушить этот круг переходом к жизни в теории, в чистом мышлении недостижима для живого человека. Для этого нужно либо стать богом, либо умереть. Несмешанное удовольствие имеет характер радости от происходящего, и его чистота определяется отсутствием нужды. Эти удовольствия внезапны и немотивированны, но их прекращение не вызывает страдания. Открывающееся в нем сущее определяется не самочувствием субъекта, а истиной –– открытостью мира. Платон вводит тонкие различия мотивов удовольствия и отделяет чистую радость открывающегося сущего от радости, связанной с открытием каких-то причин, связей и отношений. Речь идет о простом созерцании сущего. Важным критерием является непреходящий характер такой радости, которая постоянна и не зависит не только от настроения субъекта, но и от изменений положений дел. Платон обнаружил родство мышления и блага и открыл истинное удовольствие, которое не принадлежит сфере движения и становления. Благо как онтологическое состояние предполагает некое бытийное состояние человека, которое неверно отождествлять с удовольствием. Сами по себе ни размышление, ни удовольствие еще не составляют блага. Необходимо определить пропорцию благого смешения hedone и phronesis. Смесь истины и удовольствия –– это «прекрасное», где разные составные части уживаются друг с другом. Важной характеристикой прекрасного остается умеренность или соразмерность. Когда к прекрасному примешано слишком много телесных удовольствий, это разрушает счастливо-безмятежное состояние души, мешает уму, обуславливает забвение себя. Правильная пропорция обеспечивается не случайными смесями, а правильными испытанными методами, предварительно выясняющими уживчивость различных видов удовольствия и знания. 26 Онтологической основой «бытия-прекрасным» выступает благо. Отсюда уяснение сущности блага необходимо для решения вопроса о том, насколько родственны ему удовольствие и наука и их смеси. «Бытие-благим» покоится на умеренности, мере. Это поясняется на примере напитка, в котором сладкого меда должно быть не слишком много, но и не слишком мало. Сущность блага состоит в троякости меры, красоты и истины. Идея блага дается Платоном весьма не определенно. Оно, как «хора», несказанно. Причиной того, обладает ли смешение ценностью или нет, являются мера и мерность. Могущество блага становится видимым в росте прекрасного. Прекрасное охватывает внешний вид и внутреннее достоинство. И оно есть благо, как оно может быть увидено. Мера и отношение позволяют увидеть сущее, как оно есть. Но они являются также и властью блага, определяют сущее так, что оно может существовать, будучи укрощенным мерой. В качестве связывающей меры благо есть то, что воздействует на бытие, исходя из того, что находится по ту сторону бытия. Оформляя сущее, оно составляет его природу, определяет завершенным согласием гармоничного строения –– красотой симметрии. Благо человеческой жизни встречается не как потусторонняя норма, а как красота, т. е. соразмерность внешнего облика, истинного мышления и сдержанного благородного поведения. Сам человек, опираясь на благо, формирует себя в этих трех отношениях. Поэтому мера не задается как внешний масштаб, например, как моральная норма, а выступает как соразмерность поведения, как этика. Именно в аспекте этих трех отношений испытывается знание и удовольствие на предмет близости к благу. Истина сама по себе означает разумность соотношений смешивания. Удовольствие же, наоборот, выдает нечто за большее, чем оно есть. Например, тот, кто погружен в любовное наслаждение, настолько забывает себя, что способен совершить клятвопреступление. Только истина обнаруживает человеческое бытие в его открытости. Удовольствие само по себе безмерно, и оно даже может потерять самого себя в этой безмерности. Сохраниться ему помогает только знание. Так nous занимает место впереди hedone. Испытание наук и удовольствий изначально шло под знаком истины. Этим масштабом истины задаются и «бытие благим» и мера знания, и мера удовольствия, а также их уживчивость, т. е. гармония. Науки превосходят удовольствия в том отношении, что даже неистинные знания предполагают истину, в то время как ложные удовольствия приводят к самозабвению. Даже неточное знание может быть постепенно усовершенствовано, но ложные удовольствия –– это пороки, которые сами по себе не приводят к умеренности. Мера и истинность удовольствия определяется только знанием. Ни nous, ни hedone не являются благом, но тому третьему, которое сильнее, чем они оба, ум более близок. Этим более сильным оказывается у Платона соразмерность обеих, которая определяется тремя моментами: мера, красота и истина, составляющими идею блага. Смешение знания и удовольствия оказывается безопасным для науки, если их «бытие-вместе» определяется идеей блага. Человек понимает свою высочайшую возможность в познании, и это обеспечивает контроль над удовольствиями, которые подобают лишь постольку, поскольку содействуют реализации высшей возможности. Таким образом, проблема этики решается в «Филебе» исходя из того, что мы не божества, а люди, и поэтому речь идет о благе человеческой жизни. Распоряжаясь удовольствием и познанием, ориентируясь на идею блага, человек производит самого себя. Его единство обеспечивается всеобщими 27 бытийными определениями. Чистого разума недостаточно для раскрытия определения блага, и поэтому Платон использует идею прекрасного для опосредования познания и жизни. Само противопоставление истины и удовольствия довольно-таки необычно для античной культуры, которая, хотя и приучала переносить страдания, вместе с тем безусловной ценностью считала наслаждение. Сократ был таким необычным человеком, который противопоставил истину и удовольствие и, более того, саму смерть предлагал воспринимать как разрыв с телесными удовольствиями, которые мешают поиску истины. Только после смерти тела душа сможет прийти в соприкосновение с истиной. Несовместимость истины и наслаждения (пока не станем различать удовольствие и наслаждение, чтобы дать возможность некоторой важной игре слов) стала очевидной в христианстве, которое заняло радикальную антигедонистическую позицию. Вместе с тем, герменевтика, как признание другого, предполагает некоторый диалог истины и удовольствия и даже изменение самих себя и, как следствие, отказ от резкого противопоставления, поиск неких общих интересов. Для наслаждения необходимо знание и, наоборот, познание истины должно приносить удовольствие. Благо как возвышенное и тем самым отсутствующее воплощается как красота, являющаяся мерой истины и удовольствия. Надо сказать, что такой компромисс нашла и христианская культура, в которой культивировались взамен плотских духовные наслаждения. И все-таки вплоть до современности чувственные наслаждения считаются не только неприличными, но и не имеющими ничего общего с режимом истины. Каким же образом наша культура находит компромисс между ними? С одной стороны, можно отметить простую сциентизацию наслаждения, некую науку о праздничном и вместе с тем безопасном образе жизни, некую «эргономику», вычисляющую точную меру между удовольствиями и головной болью. Здесь практически исчезает Истина, т. е. из цели, из высшей ценности альтернативной чувственности она превращается в средство, обеспечивающее наслаждение. Но также парадоксальным образом она нейтрализует и наслаждение. Радость, удовольствие, наслаждение, возможно, степени чего-то единого, чему нет названия. Можно сказать, что речь идет о Благе, но именно оно, столь желанное и влекущее, остается невыразимой тайной, неопределенной мечтой. А жить ощущением тайны, надеждой на исполнение мечты –– это одно из удовольствий души. Благо у Платона это не чистое несмешанное удовольствие как таковое, а некий диспозитив, предписывающий порядок и меру наслаждения. Оно включает в себя истину и красоту и представляет собой удовольствие, организованное в соответствии с порядком истины. Благо –– это, скорее всего, удовольствие от истины, или истинное удовольствие, реально присутствующее как красота, которая и есть некая совершенная смесь, пропорция различного, а именно истины и удовольствия. Покоряя наслаждение красотой, подчиняя его режиму истины, Платон стремился сохранить в философии нечто человеческое. Мера, которую он хотел определить, была не только обузданием желания, но и стратегией его исполнения. Безмерное желание, ничем не ограниченное стремление к наслаждениям истощает и разрушает тело, становится источником страдания и болезни. Человек как политическое животное (Афины и Рим) Феномен власти –– простой и одновременно настолько непостижимо сложный, что чем больше над ним размышляешь, тем он кажется таинственнее и 28 непонятнее. Власть ассоциируется с притеснением людей, превращением их в рабов или винтики социальной системы, она не может осуществляться без насилия и одновременно предполагает покорность. Кажется, что она несет только страдание, в том числе, и тем, кто правит. И вместе с тем без учета скрытого наслаждения властью непонятно, почему к ней стремятся даже те, у кого хватает ума понять, что они сами будут страдать от нее. Однако власть можно описать в терминах порядка и на практике постараться избавиться от насилия. В современных обществах она уже не репрезентируется правительством и не афиширует себя, но, тем не менее, через систему массмедиа настолько приближается к индивиду, что становится его нутром –– системой желаний, системой очевидностей и различий, образующими внутреннюю цензуру как мысли, так и чувства. В такой форме она становится тождественной культуре или цивилизации, образованию или просвещению. Бороться с нею особенно трудно, ибо приходится протестовать не против деспотических лиц или господствующих слоев, навязывающих свою идеологию в качестве универсального мировоззрения, а против самого себя. Сегодня многие полагают, что единственным по-настоящему господствующим классом является буржуазия, чья власть связана не столько с капиталом, сколько с созданием универсального языка. Р. Барт считал формой господства буржуазии письмо и, прежде всего, литературу. Кем бы ни был человек как читатель романов, он становится буржуа, в том смысле, что воспринимает буржуазную систему описания мира. И здесь наслаждение и власть связаны воедино. Ибо немыслима любовь к литературе, если бы с нею не было связано наслаждение. В чем же состоит специфика наслаждения властью, чем оно отличается, например, от эстетического наслаждения или от наслаждения праведника? Их роднит отношение к возвышенному, поэтому читателю романа нелегко отделить удовольствие от текста от наслаждения властью. Пожалуй, одним из немногих власть как стратегию понял Платон, который приступил к моделированию идеального государства, где порядок поддерживается не тиранами и не народом, а знающими людьми –– правителями, заботящимся о благе и испытывающими исключительно возвышенное наслаждение. В государстве Платона подданные попадают в сети власти не путем насилия и мучений, а благодаря занятиям гимнастикой, музыкой и танцами и наслаждению от них. Само идеальное государство у Платона –– это особая настроенность тела и души. Поэтому его учение о государстве оказывается своеобразной политической психологией, направленной на воспитание души. Сила государства не в деньгах или оружии, а в силе духа его граждан. Отсюда формирование души –– философское наставничество служит формированию государственного инстинкта. Политика у Платона оказывается «пайдейей», или политическим воспитанием. Ее нельзя сводить к просвещению или морализаторству, к облагораживанию исключительно души. Тот, кто ориентирован на стерильную духовность или демократию, бывает неприятно поражен чтением платоновского «Государства», в котором воспитание достигается как телесными практиками вроде гимнастики, так и откровенно евгеническим вмешательством в отбор родителей будущих детей. Для тех, кто усвоил общие черты греческого мировоззрения, фантазии на тему идеального государства не вызывают удивления. Отчасти они определяются устройством античного полиса, который казался естественным и наилучшим способом реализации государства, отчасти эстетическиматематическими представлениями об идеальном порядке космоса. 29 Как известно, «Государство» начинается с размышлений о справедливости, в ходе которых обнаруживаются ее основные противоречия. Наиболее сильное впечатление оставляет речь Фрасимаха, который выдвинул утверждение, что справедливость –– это право и благо сильного: «Несправедливость, достаточно обширная, сильнее справедливости, в ней больше силы, свободы и властности, а справедливость –– это то, что пригодно сильнейшему, несправедливость же целесообразна и пригодна сама по себе». 8 Быть же справедливым вообще значит поступать себе во вред. Справедливый человек, лапидарно говоря, везде и всегда проигрывает по сравнению с несправедливым. Не удивительно, что многие стремятся безнаказанно творить несправедливость там, где могут. Желание удовлетворять свои тайные желания, которые осуждаются или запрещаются, кажется неискоренимым. Оно-то и образует основу наслаждения властью. Платон поднимает проблему, которая остается неразрешенной и поныне. С одной стороны, справедливость кажется полезной для общества, хотя там ее нет. С другой стороны, хотя человек взывает к справедливости со стороны других, сам он не всегда способен поступать справедливо и принуждает себя к этому. Античный принцип справедливости, согласно которому каждый должен делать свое дело, вытекает из понимания соотношения целого и частей. Речь идет не о равенстве и правах человеку, а о подчинении индивида государству. Концепция воспитания Платона имела широкие исторические последствия и стала основой политики воспитания в современном национальном государстве. Правда, платоновская теория воспитания не сводится к просвещению. Платон высоко ценит породу. Улучшению облагораживания людей, особенно стражей, он уделяет самое пристальное внимание. При этом не только физические упражнения, но и занятия искусствами, особенно мусическими, способствуют благородному поведению. Воспитательное значение хорового искусства Платон видит в том, что оно глубоко проникает в душу; особенно велико значение ритма и гармонии произведения, ибо они делают человека более благообразным и сдержанным. Платон считает, что нужно начинать с воспитания души воиновстражей, которая должна соединять два противоречивых качества –– верность и послушание по отношению к своим и смелость и даже жестокость по отношению к чужим. Для того чтобы удержаться на грани этих противоречивых стремлений, стражи должны обладать способностью к сдержанности и самоконтролю. В основе традиционной системы воспитания лежало обучение музыке и занятия гимнастикой. Модернизируя эти древние практики, Платон дает им метафизическое обоснование. Музыка предполагает воспитание не только звуком и ритмом, но и голосом. Поэтому он начинает с разъяснения роли мифов. Хотя такие истории не являются вполне истинными, однако они имеют важное воспитательное значение, ибо определяют тип личности. Мифы нужно рассказывать серьезно без какой-либо иронии, чтобы они имели воздействие на восприимчивую душу ребенка. Фактически речь идет о своеобразном подражании жизни богов, о моделировании себя по их поступкам, решениям и даже манерам. Платон настаивает на тщательном отборе мифов, так как они учат благородству и мужеству. Он предлагает варианты своеобразной цензуры, которая должна вычеркнуть из гомеровских историй все как-то унижающее богов и изображающее героев трусливыми. Для того чтобы воспитать в юношах 8 Платон. Государство // Платон. Соч. в 3-х тт. Т. 3 (1). С. 114. 30 рассудительность и стойкость, Платон предлагает оставить в мифах примеры мужественного и сдержанного поведения героев, устранить юмор и шутки в отношении их слабостей. В этой связи предлагается контроль над творчеством поэтов: «Пусть и не пытаются у нас внушить юношам убеждение, будто боги порождают зло и будто герои ничуть не лучше людей». 9 Миф воздействует на душу не только как морально-назидательная история, но и как способ выражения, стиль, воспитательное значение которых не менее важно, чем воздействие содержания. Форму произведения Платон понимает как подражание или повествование и предлагает контролировать ее следующим образом: «Лучше всего, когда подражают надежным и разумным действиям, но гораздо хуже и слабее бывает подражание человеку с расшатанным здоровьем или нестойкому из-за влюбленности, пьянства, либо каких-нибудь иных невзгод».10 В целом же в произведении должно преобладать повествование. Определяя эффективный воспитательный строй и ритм произведения, Платон выбирает наиболее гармоничный, как походящий для сдержанного поведения. Целью воспитания является воспитание сапожника как сапожника, земледельца как земледельца, воина как воина. Именно поэтому Платон критикует подражание, которое будит воображение и культивирует мечтательность. Выбирая подходящие для воспитательной роли песни и мелодии, необходимо учесть, что они должны быть четкими и чистыми, исключающими причитания и подражания голосам животных или женщин. Песенный лад не должен оказывать на душу разнеживающее воздействие. Песнопения должны быть не застольными, а походными, чтобы воспитывать мужественность. Платон рекомендует ввести жесткую цензуру, прежде всего, над поэтами. Надо присматривать за мастерами и препятствовать им, если они вздумают воплотить в образах живых существ, в постройках или в любой своей работе что-то безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное. Кто не в состоянии выполнить это требование, того нельзя допускать к мастерству, иначе стражи, воспитываясь на изображении порока, словно на дурном пастбище, соберут и поглотят дурную пищу, и из этого незаметно для них самих составится в их душе некое единое великое зло. Вслед за мусическим искусством обсуждается воспитательное значение гимнастики, задача которой заключается в облагораживании и укреплении телесной стойкости и сдержанности. Занятия ею также должны начинаться с раннего детства. Стражам «необходимо быть чуткими как собаки, отличаться крайне острым зрением и слухом и обладать таким здоровьем, чтобы в походах оно не пошатнулось от перемены воды, разного рода пищи, от зноя или от ненастья».11 Прежде всего следует позаботиться о простой и здоровой пище, остерегаться пьянства. Излишества в пище, идущие от поваров, приводят к болезням, для лечения которых требуются врачи. Сначала повар, потом врач –– явный признак нездорового государства. Разве не постыдно пользоваться услугами поваров, а потом врачей, разве не постыдно совершать безрассудные поступки, а потом проводить в судах лучшую часть своей жизни как ответчик? Судья и врач в идеальном государстве выполняют психотерапевтическую функцию: они воспитывают сдержанность и лечат тело с помощью души. Однако этим их роль не исчерпывается: «Оба они будут заботиться о гражданах, полноценных как в отношении тела, так и души, а кто не таков, кто полноценен Там же. С. 172. Там же. С. 178. 11 Там же. С. 189. 9 10 31 лишь телесно, тем они предоставят вымирать; что касается людей с порочной душой, и притом неисцелимых, то их они сами умертвят».12 Далее Платон, в соответствии со своим принципом гармонии, указывает на необходимость равновесия в гимнастических и мусических занятиях. Лишь в этом случае сила и мужественность будут дополняться сдержанностью и скромностью. Поэтому необходим специальный попечитель, который бы заботился о гармоничной мере противоречивых качеств мужественности и рассудительности, присущей стражам. Попечители отбираются среди тех стражей, кто ревностно служит государственной пользе. Для них устраивается специальное испытание разными трудностями и обольщениями. Главной воспитательной задачей совершенных стражей является отбор потомства и правильное распределение молодежи по сословиям с целью обучения тому или иному мастерству. Стражи не получают за свою службу ничего, кроме продовольственного пайка. Они оказываются жертвами государства и служат исключительно ему, не получая взамен никаких привилегий. Задача видится в том, чтобы сделать счастливым не какой-либо слой населения, а все государство в целом. Только в таком идеальном государстве будет решена проблема справедливости. Главное состоит в том, чтобы каждый хорошо выполнял свое дело, поэтому следует позаботиться о способности стражей к несению службы, о способности сапожников шить обувь, а не о том, чтобы они получали удовольствие как частные лица. От излишка богатства, как и от бедности, люди плохо выполняют свои обязанности. Одно ведет к лени и роскоши, другое к зависти и злодеяниям. Платон говорит о необходимости ограничить размер идеального государства. Оно должно быть таким, чтобы способствовать наивысшему единству, т. е. не слишком малым, но и не слишком большим. Хорошо воспитанные стражи будут представлять сообщество друзей, у которых все общее. При этом Платон рекомендовал избегать новшеств, которые могут нарушить порядок, и настаивал на строгой цензуре. Начинать следить за порядком следует уже среди маленьких детей, которые приучаются в играх соблюдать правила и превращаются в законопослушных граждан. Далее младшим следует молчать, когда говорят старшие, иметь опрятную наружность и т. д. Рассуждая о добродетелях идеального государства, собеседники сходятся в том, что в нем мужество должно соединиться с мудростью, и это единство выражается в рассудительности. Последней добродетелью идеального государства является справедливость, и она получает неожиданно легкое определение как целостность государства: «каждый отдельный человек должен заниматься чемнибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен ...Заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие — это и есть справедливость»13. Так достигается совпадение личного и общего. Справедливый человек и справедливое государство отвечают одному и тому же критерию: один за всех и все за одного. Понимание этой задачи опирается на допущение, что душевные аффекты являются врожденными, а добродетели зависят от государства, и душа человека должна быть упорядочена по аналогии с государством как целым. Не только государству, но и каждому отдельному человеку необходимо научиться 12 13 Там же. С. 196. Там же. С. 224. 32 согласовывать мудрость и мужество и проявлять рассудительность. Их единство –– это и есть справедливость. По сути дела, здесь речь идет о контроле за удовольствиями. Желание пить и есть вполне естественное. Однако человек может воздерживаться от желаний, и это свидетельствует о том, что в душе есть нечто отличное от вожделеющего начала, которое, по сути, является животным. Оно определяется как разумное начало души. Кроме разума и желания, Платон указывает на третье начало, к которому относятся гнев и другие аффекты. Это яростное начало –– пафос –– необходимо для победы разума над вожделениями. По природе оно даже служит защитником разумного начала, если не испорчено дурным воспитанием. Поскольку в государстве и в душе каждого отдельного человека имеются одинаковые начала, постольку возможен перенос государственной справедливости на индивидуальную. Таким образом, здесь дается онтологическое обоснование единого понятия справедливости. Единство начал в душе осуществляется теми же самыми воспитательными приемами, которые используются для совершенствования государства. Человек, у которого разумное начало управляет вожделеющим, будет честным, надежным и справедливым человеком: каждое из имеющихся в нем начал делает свое дело в отношении правления и подчинения. Итак, справедливость определяется в диалоге, в подлинно внутреннем воздействии на самого себя и на свои способности. Справедливый человек содержит начала своей души в справедливой гармонии и каждому дает выполнять его роль: «Он владеет собой и становится сам себе другом». 14 Эти начала гармонически соединяются в душе подобно тонам в музыке. Так достигается слаженность и рассудительность, и она проявляется в ведении дел, как частных, так и государственных. Платон не отрицает роли аффектов: ярость и гнев против врагов необходимы. Пафос нужен для защиты справедливости, а эрос –– для поиска истины. Однако существуют отрицательные аффекты и вожделения. Трусость и зависть, пьянство и любодеяние –– все это источник зла. Вместе с тем это и естественные желания. Они становятся пороками, когда получают власть над душой. Трусость не была в чести в античном мире, однако и тогда было ясно, что осторожность необходима. Проблема пороков решалась сравнительно просто: вожделение становится злом, когда приводит в расстройство целое, когда оказывается источником болезни и разрушения. Неспособный справиться со своими желаниями человек наносит вред окружающим. Неудивительно, что участники диалога, вознамерившись описать «язвы души», вскоре утратили к этому интерес. Читатель, приготовившийся прочитать длинный список грехов человеческих, подобный тем, что перечисляли средневековые христианские проповедники, будет разочарован. Сведя несправедливость к самозванству желаний и указывая на патогенность их тирании, собеседники приходят к выводу: «теперь смешно проводить такое исследование: если человеку и жизнь не в жизнь, когда повреждается его телесная природа, пусть бы у него при этом было вдоволь различных кушаний, напитков, всевозможного богатства и всяческой власти, то какая же будет ему жизнь, если расстроена и повреждена у него природа именно того, чем мы живем?»15 14 15 Там же. С. 239. Там же. С. 241. 33 Политический театр Историки античности пишут об упадке полисов как автономных единиц и формировании более крупных государственных образований, таких как монархия Александра Македонского и Римская империя. В связи с этим прямая демократия, непосредственное участие граждан в принятии решений, уходит в прошлое, и на смену представителям привилегированных групп общества приходят профессиональные политики и чиновники. С ощущением утраты личного участия в делах государства приходит разочарование в смысложизненном значении политики и, как следствие, культивируется идеал частной жизни. Именно его обоснование имело место в работах Марка Аврелия, Сенеки, Цицерона и других известных римских авторов. По мнению М. Фуко, было бы ошибочным оценивать процесс политической жизни в рамках Римской империи исключительно в терминах упадка общественности, захвата и отчуждения власти профессиональными политиками. Страх перед чрезмерностью и сложностью пространства огромной империи, состоящей из разнородных этносов, усиление государственной власти и неожиданные повороты судьбы в жизни ее представителей, инфляция традиционных добродетелей политика, таких как рассудительность, мужество и справедливость, на самом деле были реакцией старой политической культуры на инновации, успешные и эффективные в изменившихся условиях. Действительно, можно предположить, что прежние историки античности невольно переносили в прошлое переживания собственного существования в рамках крупных бюрократизированных государственных образований Европы. Между тем национальные государства представляют собой весьма своеобразные формы единства, опирающиеся на «дух Афин», но реализующие его посредством государственной системы контроля над всеми сферами общественной жизни, в том числе образованием и чтением. Государственная цензура находилась в противоречии с принципом свободы духа, и это порождало пессимистические настроения и либеральные надежды европейской интеллигенции. Очевидно, что перенос этих настроений и ожиданий в прошлое является неправомерным. Поэтому Фуко предложил модернизированный подход к реконструкции политической жизни Римской империи, которая действительно чем-то напоминает нашу эпоху упадка контролирующей и регулирующей функции национальных государств, становления транснациональных финансовых, экономических и информационных систем. Дело даже не в таких общих чертах повседневной жизни, как снижение роли интеллектуального воспитания, наставничества, основанного на передаче личного опыта от учителя к ученику и развития ориентированных на зрелища форм управления коллективным телом толпы, но и в самой пестроте и сложности общественной ткани. Фуко писал: «Уместнее говорить не об ограничении или прекращении политической деятельности в результате имперской централизации, а, скорее, об образовании сложного пространства, более широкого, не столь прерывистого и гораздо менее закрытого, нежели пространство маленьких городов-государств, –– и одновременно, более гибкого, дифференцированного и не так жестко иерархизированного, как в позднейшей авторитарной бюрократической Империи, которая складывается в ходе великого кризиса 111 века ... Это пространство множественных очагов власти, бесчисленных форм деятельности, напряжений, конфликтов, которые 34 развиваются во всех измерениях, уравновешиваясь разнообразными соглашениями».16 Важным для оценки форм жизни в эпоху Империи кажется то обстоятельство, что Рим, в отличие от Афин, был в значительной мере политической фикцией, нежели неким органичным образованием, снабженным «почвой», «кровью» и «духом». Спектакулярность общественной жизни, столь характерная для нашего общества, весьма успешно была опробована еще в поздней Римской империи и потерпела крах от варваров, не охваченных политической семиотикой Рима. Похоже, в этом состоит слабость и современных стерильных обществ потребления, которые оказываются беспомощными перед лицом грубых форм зла, идущих с Востока. Символические спектакли, разыгрываемые на экранах и страницах масс-медиа, увлекают своих и позволяют манипулировать общественным мнением, но они не действуют на чужих. Упадок патриотизма, отсутствие интереса к политике, культ частной жизни и другие черты, сближающие жителей современных мегаполисов с просвещенными слоями Римской империи, было бы поспешно расценивать как разрушение общественно-политической ткани. В частности, как полагает Фуко, внимание элиты к личной этике, морали повседневных поступков и удовольствиям означает не разочарование и уход от общественной жизни, а поиск нового способа ее осмысления и конституирования себя как морального и ответственного субъекта в новых изменившихся условиях. Ад, Чистилище и Рай в католической теологии Несомненно, эскалация представлений об Аде связана с распадом экклезиального единства, объединявшего ранних христиан, для которых Бог –– это любовь. По мере феодализации Бог превращался в суперзащитника, и это постепенно рождало фундаментализм. Если с нами Бог, и он берет на себя ответственность за все, то и нам практически все дозволено. Но парадокс в том, что между нами и Богом пропасть. Как он может защитить нас? Святые строили свою модель общения Бога и души через исповедь –– Августин был родоначальником этой модели. Разговор души с Богом исключает ложь, а правда –– лучшее лекарство от грехов. Но она не всем была по плечу. Поэтому естественным дополнением исповеди стала конструкция Ада. Ад –– это зона для диссидентов, для тех, кто обманул первую любовь. Если при жизни нас отделяет от Бога непроходимая ни для нас, ни для него граница, если коммуникация между нами, несмотря на заверения Августина, невозможна, то конструирование Ада показывает, как, когда и где мы наконец встречаемся с Богом. Сначала общение с ним протекает как духовный роман, где он присутствует как невидимый собеседник. Но после смерти нам дано лицезреть его. Он оказывается грозным судией, который не знает пощады. Итак, любовь предполагает суд, ее надо оценить и установить: не было ли обмана или измены, и если да, то тогда последует приглашение в Ад. Итак, любовь обретает заступника не на земле, не при жизни получит удовлетворение влюбленный, а после смерти. Справедливость оказывается достижимой лишь в потустороннем мире. Фундаментализм –– следствие трактовки Бога как абсолютного защитника. Но если я умер, то зачем мне защита. Ведь самое страшное уже случилось, и меня уже не нужно защищать. Парадокс, таящийся в конструкции Бога как 16 Фуко М. Забота о себе. Киев; Москва, 1998. С. 93–94. 35 суперзащитника, рождает парадокс: метафизическое, инфернальное зло, вынесенное за пределы мира живых людей, реализуется на земле. Адом станут концентрационные лагеря. Поиск суперзащитника в технологии исповеди и покаяния вызывает сначала у святых, а потом и у остальных верующих инфляцию страха перед ужасным. Такие люди перестают бояться страдания на земле. Теологи насаждают идею абсолютного полицейского: Бог как защитник разрушает изобретаемые человеком средства самосохранения и обороны. В этой связи в Средние века и распространяется образ Ада как места наказания для тех, кто не полагался во всем на Бога и на свой страх и риск хотел защитить себя сам. Это место для отступников и предателей, для тех, кто осквернил первую любовь. Одним из первых, кто это понял, был Данте, надписавший над вратами Ада следующие слова: Был правдою мой зодчий вдохновлен: Я высшей силой, полнотой всезнанья И первою любовью сотворен. (перевод М. Лозинского) Попытка коммуникации с предметом первой любви уводит его из города философов, в страну, где похоронены атеисты. Там мы видим, что происходит с диссидентами первой любви. Бог любви интернирует туда всех, кто предал его чувство. Данте в поисках любимой попал в Ад. Не является ли эта эротическая и одновременно теологическая история намеком на мстительность женщин? На самом деле женщины ценят последнюю любовь. Поэтому мстительность Бога – – чисто мужской синдром, мужчина, предавший первую любовь, переживает чувство вины, которая не дает ему забыть о предательстве. Книга Данте –– это и теоретическая, точнее, феноменологическая психиатрия очищения пыткой. В первой книге фрески Ада поражают удвоенной жестокостью: поражает широта мира страданий, поражает кругообразная структура этого мира, где отсутствуют какие-либо понятные сообщения или указания, и вместе с тем соблюдается какая-то странная ареопагическая иерархия грешников. Геометрия защиты, которая прослеживается в строительстве человеческих поселений, имеющих круговой характер, переносится и на конструкцию Ада. Круги Ада –– самое расхожее выражение. Концентрическая форма лагеря поражает воображение, но постепенно читатель понимает, что иерархия чертей и помощников дьявола повторяет иерархию Бога и ангелов. (Неоплатоники учили о трех кругах, а в Средние века о пяти кругах внешнего и четырех кругах внутреннего Ада) Подземный мир Данте конструируется как ведущая от поверхности к середине земли гигантская воронка, в которую ураганом втягиваются души умерших. У отца западной теологии Августина мы видим образец видеокультурного понимания места для святых. Если полностью отвлечь содержание от формы, то Данте и Августин пользуются одинаковой техникой. Рай Августина –– Божий Град –– в формальном отношении устроен также, как Ад Данте. И это не удивительно, так как у Рая и Ада один и тот же дизайнер. Или все-таки Бог и дьявол –– это разные архитекторы? Но даже если это так, то вечные идеи геометрии действуют в умах того и другого. Город веры, выстроенный в римском стиле, предполагает не только купол, но и подземелье. Тот, кто взывает к небу, должен помнить об Аде. Но если он возможен по милости Бога, то ясно, что его построение является отражением божественной формы. Отсюда перенос принятой католицизмом гомогенной концентрической формы на архитектонику Ада, в которой отражается 36 феодальная иерархия. Как возможно, что Ад повторяет Рай, где иерархия ангелов сливается в хоре вокруг Бога, располагающегося в центре? Очевидно, что Данте в своей конструкции сливает платонический идеализм круговых форм с иерархическим устройством мира. Господство круговой формы, воплощенной в Паноптикуме, сложилось задолго до христианства, и это означает, что Бог не является хозяином круга. Его монополия нарушена, ибо Ад тоже имеет концентрическую форму. Произведение Данте показывает, что творение Дьявола также имеет круговую форму, и там действуют универсальные законы циркуляции, рефлексивности и замкнутости. Так устроены все круговые сферы. Ад –– это двойник божественной сферы. Но если божественная сфера –– это протуберанец света, то Ад это место тьмы. Ад –– это черная дыра в космосе. Круговая форма и количество кругов (девять, семь) позволяют сравнивать Ад и Рай по форме. Однако механизм циркуляции в этих сферах разный. Прежде всего, отличаются центры. Сходство рая и Ада оказывается поверхностным. Ни один сектор Ада не похож на участки мирового целого. Ад –– это антисфера. Данте ошибочно полагая, что Ад и Рай формально похожи. Его предрассудок тот же самый, что лежит в основе догмы об абсолютном заступнике, или догмы о сходстве космоса с божьим миром. Если Бог действительно таков, как это отражалось в господствующих понятиях, то его мир должен быть круглым. На самом деле ни один сектор универсума не имеет значения для Ада, составляющего внешнюю границу мира. Только тот, кто сильно идеализирует Ад, может воспринимать его вслед за Данте как промежуточную кругообразную область мирового диска. Адский лагерь мыслится духом как безопасный только в случае, если он вооружен оптимистической мыслью о морфологическом сходстве. Однако если человек хочет явиться в Ад во всеоружии, то он должен защититься от убеждения, что порядок мира и Ада одинаков. Кто был бы Бог, если бы он не дал каждому свое? В том, что у Ада отсутствует суверенный план, нельзя упрекать Данте. Хорошо продуманный план –– свидетельство плохих намерений. Убеждение, что жители Адского города расквартированы по продуманному плану –– это, конечно, заблуждение. С подобным предрассудком поэт и спускался в Ад. Он не понимает, за что наказаны грешники, а когда узнает, что наказание будет длиться вечно, совершенно бессилен что-либо предпринять. Вергилий постоянно напоминает ему, что в Аду свои порядки, но Данте не удается понять своего хладнокровного умершего коллегу. Лишь относительно цели путешествия в подземный мир оба поэта не сомневаются. Только при посещении самого нижнего круга выясняется, что там делает Данте. Он путешественник, обязанный посетить этот прекрасный и одновременно ужасный город. Итак, Ад –– это часть божественного мира, его нижняя часть. Князь подземного мира занимает нижний покой, находящийся в самом центре Земли. Таким образом, дьявол живет в центре физического космоса и рефлексирует там о своей сущности. Здесь разоблачается истина нижнего, подлунного, земного мира и достигается окончательное прозрение относительно темного бездуховного бытия на грешной Земле. Благодаря посещению князя тьмы оба поэта постигают абсолютную тьму, в которой боль превосходит любой наркоз. Проход через пыточные камеры похож на протокол аудиенции у короля, к которому проводят через многочисленные двери. Несомненно, это реминисценция восточно-персидских приемов посла иностранного государства. 37 Поэтическое путешествие к нижнему полюсу мира отражает инферноцентризм католической космографии. Смысл путешествия в подземный мир в том, чтобы увидеть князя тьмы, Люцифера, восседающего на своем троне. Каков господин, такова и страна. Какова середина, такова и периферия. Цель путешествия в том, чтобы показать экстремум конца. В космологическом смысле середина Ада наиболее удалена от Бога, который располагается в верхних этажах мироздания. В метафизическом и моральном смысле Ад моделируется как возмездие за отказ от коммуникации с Богом. Чтобы совместить метафизический смысл Ада и космографическую сферу и используется геоцентрическая модель бытия. Более того, оказывается, что Ад обладает собственной сферопоэтической потенцией и поддерживается специфической антисферической циркуляцией.17 В ходе спуска оба поэта оказываются в преисподней депрессии, в которой отрицание образует своеобразный круг, круг конца и разрушенной перспективы. Ад открывается как апокалипсис эгоистичности. Низвергнутый ангел, отвернувшийся от Бога, ввернут в самого себя; вихрем негативности он превращен в другое самого себя. Этот вихрь является адским следом просвещенно-метафизического смысла поэтического посещения Ада. Символом такой воли к знанию выступает прекрасная Беатриче, которая призывает поэта с небес и требует, чтобы он совершил столь рискованное путешествие. Но она, кажется, сама не очень понимает, что заставляет поэта пробираться к центру Земли. Не смущаясь непониманием, она берет на себя роль защитницы, хочет стать музой поэта, чтобы дополнять гениального мужа, чувствующего влечение погрузиться в самый центр несказанного, в его меланхолическую глубину. 18 Именно познавательный интерес заставляет поэзию опускаться в самое сердце мрака: Поэт чувствует необходимость постигнуть то, что ускользает от познания –– природу бесконечной негативности, которая бросает свою тень на жизнь. Отказ от коммуникации с Богом оставляет лишь опору на царство каузальности, он приводит в круг крушений –– таково следствие инфернологии Данте. Первообразом такой позиции негативного отрицания является Люцифер. Не только мыслители сохраняют невинность относительно идеи зла, сводя его к недостатку блага. Познеантичные авторы –– Прокл, Псевдо-Дионисий Ареопагит также предполагали бессубстанциальность зла. Данте лишь поэтизирует эти представления монахов. Как портрет черта, так и онтология антисферного пространства поняты поэтом как отрицание и отказ от конкретного стерильно-компактного окружающего мира в пользу перевернутого. Европейская теология –– это медитация о сюрреалистическом центре мира, который расположен вне мира. Середина Земли, с населяющими ее грешными людьми, и духовная сфера Бога, окруженного ангелами, распались в христианстве. Этот раскол единого целого на две части привел к расколу дискурса на язык теологии и язык науки. Наука говорит о мировом целом –– универсуме, теология –– о духе, являющемся тайной Бога. Попытки метафизики соединить эти две сферы в одну, объединить язык науки и теологии оказались по своим последствиям еще более тяжелыми, чем раскол. Теологи под влиянием Платона считали, что бог охватывает и одновременно превосходит мир и все, что в нем существует. Он творец мира, который кроме 17 18 См.: Слоттердайк П. Сферы. СПб., 2005. Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад. 2. Песня 83–84. 38 физических вещей включает поэтическую, энергетическую, эротическую и сверхфизическую сферы. Сама сфера Бога задается как пространственная, но ее топология оказывается весьма необычной: что значит быть серединой сверхпространственного мира, как возможно, что Бог все окружает и одновременно никого не окружает? Если аристотелевский Космос имеет своим центром Землю и окружен небесной сферой, то духовный мир Бога есть нечто принципиально иное. По мере метафизических попыток совместить универсум и божественный мир становилось ясно, что эти миры не соизмеримы. Попытка Н. Кузанского гармонизировать обе сферы была, конечно, фантастической. Наша постметафизическая культура озабочена децентрацией. Это вызвано тем, что две попытки утвердить центр: птолемеевская космология и теология привели к деструктивным последствиям. Геоцентризм выразился в инфернализме, а теоцентризм –– в конструировании удаленной, пустой и холодной сферы Рая. Сначала сфера Бога была небольшой духовной надстройкой над аристотелевским космосом. Но она была отделена от пространственного мира непроходимой чертой. Христианская метафизика пыталась соединить эти две сферы, но на деле они мыслились все более независимыми: земля холодная и грязная и в центре ее Сатана; небо населено бестелесными существами, плавающими в потоках света. Бог мистической теологии превратился в теоретического монстра: Бог больше любой позитивной величины, он везде и нигде, абсолютный минимум и абсолютный максимум. Теология превратила Бога в невидимого созерцателя мира. И хотя без его воли ничего не происходило, тем не менее, его абсолютная ответственность превратилась в полную безответственность. Задуманный как заступник, он превратился в безжизненное холодное существо, спокойно наблюдающее за ужасными страданиями людей. «Легенда о великом инквизиторе» Достоевского как раз и описывает сложившуюся ситуацию: Бог ушел из мира, а когда вернулся, то на Земле уже властвовал Инквизитор по законам дьявола. К чему же привела рационализация религии? Племенные, этнические, народные боги были более человечны и внушали чувство уверенности. Бог теологов и философов превратился в безжизненную логико-математическую сущность, уже никого не защищавшую, а наоборот, отдавшую Землю вместе с населявшими ее людьми на откуп дьяволу. Так встретились абсолютное добро и абсолютное зло. Важно отметить, что все эти представления были не простыми фантазиями. Образ рая вдохновлял утопистов, Ад стал прообразом мест заключения, а по образцу чистилища было построено дисциплинарное общество. В ходе различия царства негативности католическая теология отделила собственно Ад от относительного Ада (Чистилища) и этим открыла горизонт надежды для европейского человечества. В чистилище Данте уже не чувствует себя посторонним наблюдателем. Он сам проходит очищение. Ангел наносит ему на лоб семь букв Р (peccata), символизирующих семь смертных грехов, и он должен ходить по кругам чистилища до тех пор, пока они не исчезнут. Наблюдение в данном случае сочетается с покаянием, поскольку само созерцание чистилища способствует покаянию. Подобно этому в ХХ веке лекции по психотерапии стали одновременно и сеансами терапии. Наоборот, чтение книги об Аде не вызывает никаких моральных переживаний. Разница в стилистике обеих книг вызвана тем, что книга о Чистилище превращает страдание в очищение, порок способствует покаянию. Чистилище обнаруживает экономический порядок божьего царства, основанный на различии между 39 погашенными и непогашенными грехами. Рациональная эквивалентность греха и покаяния обнаруживает, что окончательный расчет производится по ту сторону жизни. Кто превысил свой счет на Земле, расплатится на том свете. Отсюда конфигурация Чистилища получает у Данте банковскую форму: там, где на сцену истории выходит буржуазия, начинают измеряться права человека. Даже на седьмом круге чистилища, где горит очищающий огонь, это правило не знает исключения. Очищающий огонь, где поджариваются сексуально распущенные личности (речь идет об интернированных из сферы спасения классах), оставляет место для добрых намерений, от которых зависит как норма страдания, так и температура огня. Дух и плоть в протестантской антропологии Дух и плоть — наиболее нагруженные различными смысловыми значениями религиозные понятия, и выяснить все эти значения — задача сама по себе чрезвычайно важная. Такие экспликации предпринимались довольно часто и существенно, подчас до противоположности, отличаются друг от друга, что свидетельствует не только об историко-научных затруднениях истолкования Священного Писания, но и об эволюции представлений о духовном и телесном в общем контексте истории культуры. Довольно обстоятельное разъяснение слова «дух», как оно употребляется в Библии, дал Б. Спиноза: для обозначения дыхания, бодрости, силы, таланта, знания, способности, чувства, мысли, воли, огня, высоких страстей, гордости, ревности, мудрости, меланхолии, благоразумия, храбрости, ума, души, жизни. В собственном смысле слова «божий дух» есть благодать, особенная добродетель и благочестие.19 Такая значительная смысловая нагрузка связана с тем, что еврейское слово «руах», которое переводится в Библии как «дух», имеет множество вышеприведенных смыслов, которые по мере развития языков, перевода Библии на латынь закрепляются за другими словами; выделяются дух, душа, ум, интеллект, разум. Аналогичным образом обстоит дело с термином «плоть», который также многозначен. Чаще всего плоть противопоставляется духу, и в «плотское» включается не только тело, но и особые чувства и побуждения, считающиеся греховными. Так, в Библии говорится о плотской мудрости, о плотских законах, о плотской природе человека, порождающей греховные помыслы и поступки, короче говоря, плотским называется все, что противно духу. Между тем, уже ранние богословы, как западные, так и восточные, выделяли еще и третье начало в человеке — душу, считая ее своеобразной ареной борьбы плотского и духовного. В православной традиции наряду с метафизикой души развивалась метафизика сердца. Кроме того, возрождались греческие понятия ума, а также вводись новые, основанные на латинской традиции категории разума, рассудка и интеллекта. Введение третьего термина для обозначения своеобразного посредника в отношениях плоти и духа явилось чрезвычайно важным завоеванием европейской культуры. Душа и разум — чувственное и интеллектуальное начало, сердце и ум , начала любви и мудрости — выражают не чисто божественные, трансцендентные сущности, а человеческие способности, Спиноза Б. Богословско-политический трактат // Спиноза Б. Избранные произведения в 2 т. Т. 2. М., 1957. С. 24–25. 19 40 которые культивируются самим человеком в зависимости от того, ориентируется он на духовное или плотское. Обратимся к трактовке соотношения духа, плоти и души у Пелагия в «Послании к Деметриаде». Основная проблема, которая там обсуждается, — аскетизм, воздержание от телесных влечений, которые трактуются на первый взгляд как приятные, но при более внимательном рассмотрении — опасные и разрушительные. Практика аскетизма исходит из определенных допущений относительности ее возможности и цели. Центральным среди них является допущение о «свободе воли», которое долго считалось еретическим, хотя те или иные представители «гуманизма» в богословии, как западные, так и восточные, опирались на него. В свободе выбора, которая, по мнению Пелагия, санкционирована в Библии («Жизнь и смерть Я дал перед лицом твоим, благословение и проклятие; избери себе жизнь, чтобы жить»,20) состоит специфика человеческой экзистенции. Человек по своей воле может вступить на путь добра или зла. Этот выбор не предопределен природной необходимостью и хотя на путь греховных деяний толкают чувственные влечения, человек все же может им противостоять. Собственно, трактат Пелагия и посвящен технике их преодоления. Прежде всего, в нем вводятся понятия совести и стыда, которые трактуются как внутренние сдерживающие начала человека. Пелагий вполне осознает их значение: «…виновник преступления часто страдает от мук своей собственной совести, оттого неизвестного ответчика преследует тайная кара его собственного сознания».21 Хотя конечной целью аскетического воздержания является райская жизнь (вечное блаженство в загробном мире), Пелагий для его обоснования приводит, например, долг перед родственниками и соотечественниками. «Измеряй величие своей борьбы, — советует он, — величием ее зрителей»; 22 для их спасения необходимо не только избегать зла, но и активно творить добро, исполнять все божественные заповеди. В риторике Пелагия важное место занимает разоблачение мнимой сладости плотских грехов. Ярость, гнев, зависть делают тяжелым существование самого завистника. Чревоугодие, пьянство и прочие пороки губительно воздействуют на здоровье. Подробно критикуются ложь, хула, злословие, которым противопоставляются сдержанность, стыдливость и мудрость. Пелагий в воздержании проповедует умеренность: «Надо не истощать тело, но управлять им».23 Процесс воспитания добродетелей, преодоления вредных привычек — долог, труден и требует терпения и кротости. Подстерегающие вступившего на путь обращения соблазны рассматриваются как нечестивые помыслы, которые исподволь проникают в человеческое сердце. «Со всякой заботой храни свое сердце, ибо от него начало жизни». 24 Грех Пелагий в соответствии с Библией определяет как даже не исполненный помысел: «Грех есть лишь в том помышлении, на которое согласился наш разум».25 Это обстоятельство должно предостерегать от социальной трактовки Втор. 30, 19. Пелагий. Послание к Деметриаде // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 599. 22 Там же. С. 614. 23 Там же. С. 623. 24 Притч. 4, 23. 25 Пелагий. Послание к Деметриаде Указ. изд. С. 613. 20 21 41 учения Пелагия. Он озабочен Страшным Судом и заключает свой трактат описанием бренности жизни, ее чрезвычайной краткости, а также картиной падения великих царств. Воздержание, чистая совесть, самоконтроль и самодисциплина, развитие духовных ценностей, тонкой чувствительности, вкуса и такта в реализации божественных заповедей — все это предназначается не для земной жизни, а для Страшного Суда, на котором сообразно заслугам будет воздаваться то или иное место в Царстве божьем. Пелагий еще не осознает важного позитивного значения духовной психотехники для развития социума. Государство, труд, институты власти он обходит молчанием и вряд ли связывает с ними надежды на спасение человека. Смысл ранних теологических споров о душе, о правомерности трихотомии вместо дихотомии наиболее полно раскрывается в споре Лютера и Эразма, который строил свое учение, исходя из утвердившейся трихотомии. Важное ее значение состояло в том, что она сначала открывала маленький островок для свободы и автономности человека, который постепенно расширялся. В метафизическом плане значительными завоеваниями были реабилитация разума, рассудка, моральных и социальных ценностей. Все это являлось составной частью развития социально-исторической ткани человеческих взаимодействий и протекало на общем фоне становления, развития и перестройки социальных институтов, формирование которых, с одной стороны, осуществлялось при помощи идеологических дискуссий, а с другой — само определяло содержание социально-политических доктрин. В интерпретации Эразма и гуманистов учение о свободе воли сводится к следующим тезисам: – воля человека свободна совершать добро и зло, приобщаться или отвращаться от благодати; – после грехопадения природная свобода была испорчена, однако остались искорка разума, позволяющая отличить добродетельное от недобродетельного, и склонность воли к добродетели; – усилиями разума и доброй воли люди могут заслужить благодать; – существует природная склонность к греху, которая может преодолеваться благочестием.26 Это учение было основано на допущении трехсоставности человеческой природы: тело, или плоть, — низшая ее часть, подчиненная закону греха; дух — высшая, выражающая подобие божественной природе; средней частью между ними выступает душа, которая тянется то к телу, то к духу и вольна примкнуть, куда захочет. «Если она, отказываясь от плоти, перейдет на сторону духа, то и сама станет духовной, если же откинет сама себя к вожделениям плоти, то и сама выродится в тело».27 Как видим, в данной интерпретации выделяется не только душа из духа, но и тело из плоти. Такое развитие дискурса содержало не только положительные моменты. Критика государственных институтов, культуры и философии, которые ранее противопоставлялись духу христианства, теперь переводится в критику «плоти». Вероятнее всего, таким образом исполнялся «социальный заказ» на преобразование телесности и духовности в соответствии с новыми ролевыми установками общества. В работе «Оружие христианского воина», само название которой метафорично, Эразм четко фиксирует главную проблему своего времени. В условиях 26 27 Там же. С. 573. Там же. С. 123. 42 ослабления непосредственного господства и подчинения основной контроль переносится с тела на душу. Если раньше в духовной и светской литературе внимание, прежде всего, уделялось телу, которое тщательно изучалось, маркировалось, а затем наказывалось в намеченные дискурсом болевые точки, в соответствии с научно выверенной мерой того, сколько боли испытать или сколько телесных органов истратить должен подданный в наказание за тот или иной ущерб, нанесенный господину, то теперь точно так же маркируется и метится, тщательно дифференцируется, ранжируется и структурируется внутренняя душевная жизнь — человеческие влечения, желания, потребности. Эразм выделяет «внешнего» и «внутреннего» человека. Первый открыт и, в принципе, оформлен системой. Он как бы жестко закован в прочные цепи: ему предписаны определенное социальное положение, правила поведения, жесты, манеры, богатство, узаконены его отношения с женщиной, детьми, слугами, с соседями, с господином. «Внешний человек» постоянно недоволен собой, его снедают похоть, зависть, власть, деньги: он может нарушить установленные правила и тем самым ввергнуть всю систему в хаос. Вожделение Эразм понимает как тело, проникшее в душу: «В самой глубине души мы носим врага более чем домашнего, более чем родственного. Как ничего не может быть ближе его, так ничего не может быть опаснее». 28 Второй, т. е. «внутренний человек», скрыт от чужих глаз, и поэтому нет иного выхода, как заставить его наблюдать и следить за самим собой. В сфере души Эразм, так же, как и в теле, маркирует не только негативные, но и положительные зоны. Так, душе свойственны возвышенные чувства любви и веры, а вместе с тем хотя и плотские, но важные и необходимые стремления: почитание родителей и родственников, расположение к друзьям, милосердие, желание уважения и т. п. Другая часть души населена низменными, скотскими страстями: похоть, жажда роскоши, зависть, гнев и т.п. Верховным правителем мятежного царства душевных аффектов Эразм считает разум. Этим еще только подготавливается изощренная теория Нового времени, стремящаяся на основе разума преодолеть чувственные вожделения. Однако в силу близости с традицией проповедей, наставлений, института исповеди, покаяния, воздержания Эразм еще не строит свое «оружие» исключительно на разуме, а исходит из уже выработанной церковью психотехники. В разделе, посвященном особым средствам борьбы с низменными пороками, Эразм особое внимание уделяет борьбе со сладострастием: «Ни одно зло не настигает нас раньше, ни одно не преследует более жестоко, ни одно не распространено шире и не влечет к гибели большее число людей».29 Прежде всего, Эразм советует осознать, что это наслаждение не только равняет человека со скотиной, но и опускает его еще ниже, а ведь человек задуман для единения с Богом. Важное место здесь занимает просвещение: вред здоровью, болезни, раннее старение, притупление ума; моральный урон — стыд, отвращение, позор; материальный ущерб — растрата состояния, нищета. В риторике Эразма также используется фигура наблюдателя — Бога, который видит все тайные пороки и не прощает отклонения от духовного пути. Всякий секс, кроме супружеского, связанного с продолжением рода, осуждается. Авторитарные социальные режимы, устанавливающиеся в кризисные эпохи войн и потрясений, с одной стороны, не способствуют использованию техники 28 29 Там же. С. 91. Там же. С. 199. 43 духовного покаяния для смягчения наказания, а с другой — сами определяют репрессивную трактовку христианского учения. В полной мере это видно на примере Лютера, отрицавшего все аргументы учения о свободе воли и оперирующего жесткой дихотомией духа и плоти. Такой категориальный поворот, разумеется, был тесно связан с социальной обстановкой его эпохи, грубость которой не оправдывала надежд на методы самоконтроля и самодисциплины, а требовала насилия и телесного наказания. Естественно, жесткая религиозная позиция, неприятие цивилизации в качестве пути совершенствования человека связаны не только с авторитаризмом, в соответствии с которым бог изображается как разгневанный властитель, которому человек должен повиноваться, уповая на его милость. Предельное отчаяние и униженность человека, безнадежность, обусловленная его повсеместной греховностью, вызваны также и высотой той планки, которую поднимает человеческий дух в поисках абсолюта и совершенства. Последовательные богословы не считают возможным воплощение абсолютных ценностей в человеческих деяниях и достижениях цивилизации. Поэтому так называемый христианский гуманизм — учение о свободе воли и совершенствовании человека, об одухотворении социальной, телесной, разумной природы, во-первых, не является строго религиозным, а, во-вторых, все-таки существенно отличается от культурного гуманизма, признающего человека высшей ценностью. Конечно, идея бога принадлежит не только религии. Она является достоянием культуры и эффективно используется в философии, этике и даже в науке. Вместе с тем, религиозное понятие бога достаточно четко определяется смирением, терпением, покорностью и стойкостью в делах веры, верой и повиновением, мистической благодатью и откровением, отрицанием автономности человека, резким разделением земной жизни, ее социально-политических институтов и царства божьего. Протестантизм несколько ослабил эти оппозиции, но не устранил их. Более того, он оказался даже в чем-то более жестким, чем католицизм. Отрицая церковь, институт папства, индульгенции и т. п., протестантизм освободил человека от власти института церкви, которая реализовалась как репрессивность и инквизиция, т. е. вполне земными средствами, принятыми и отшлифованными «царством кесаря». Однако наряду с расширением внешней свободы произошло сужение внутренней: человек сам должен был усвоить и принять заповеди, видеть и подавлять свои греховные помыслы. Не поступок, а желание стало греховным. На почве самодисциплины и самопринуждения сложился более прогрессивный общественный строй, основанный не на внешнем насилии и принуждении к труду, к соблюдению законов, а на самоуважении, свободе и разного рода «моральных» факторах: признании, престиже, общественном мнении и т.п. Трактат Лютера «О рабстве воли», направленный против воззрений Эразма Роттердамского, представлявшего гуманистическую ориентацию Реформации и развивавшего пелагианское обоснование свободы воли, дает возможность представить последовательно непримиримую точку зрения на единство духа и плоти. Риторика немецкого реформатора первоначально опирается на «космологическую аргументацию»: бог не предвидит по необходимости, а знает, располагает и совершает исключительно по своей вечной и непогрешимой воле. На первый взгляд данное утверждение противоречиво. С одной стороны, отрицается необходимость, а с другой — признается постоянство. Однако оно видится, так сказать, с человеческой точки зрения, 44 разделяющей знание и независимый от познающего субъекта предмет познания, который и задает трансцендентную необходимость. Бог является творцом мира и, следовательно, для него не существует трансценденции: предмет знания и воля, продукт действия у него совпадают. Поэтому воля и необходимость суть одно и то же. Данный пассаж выступает метафизической предпосылкой отрицания свободы воли: бог контролирует весь мир, и ни один поступок человека не совершается помимо его воли. Однако с метафизикой конфронтируют экзистенциально-этические посылки: бог мудр и добр, как же он может допустить грехи и страдания? Думается, единственным выходом из этого затруднения является гуманизм: человек самостоятелен, свободен выбирать; по своему незнанию он, естественно, может ошибаться, по своей слабости — уступать плотским влечениям; но совершенствуя разум, руководствуясь им в жизни, подавляя чувственные влечения, человек может вступить на путь добра, приближающий к богу. Таков, вообще говоря, магистральный путь развития европейской культуры. Почему же Лютер столь непримирим к нему? Э. Фромм выводит позицию Лютера из садомазохистского комплекса, интенсивно развивающегося у представителей мелкой буржуазии в кризисные периоды развития общества: «Сознательно он рассуждает о своей ''покорности'' богу в терминах добровольности и любви. На самом же деле переполняющие его чувства бессилия и злобы превращают его отношение к Богу в отношение подчинения». 30 Неуверенность, сомнения, отчаяние преодолеваются актом веры в господню благодать. Однако «экзистенциалистская» интерпретация учения Лютера, как кажется, осовременивает реформационное сознание. Разумеется, личные переживания мыслителя, в конце концов, оказываются решающими, но они вовсе не являются лишь индивидуальным продуктом, а складываются как «психологизация» и «рационализация» общей социально-исторической ткани, сплетенной из человеческих взаимодействий. Эразм и Лютер — дети одного времени, представители одного сословия и, тем не менее, они дают радикально противоположные ответы на вопрос о смысле человеческого существования. Поскольку социально-психологическая среда порождает такую дихотомию, постольку необходимо рассматривать оба учения как взаимодополняющие. На самом деле данные оппозиции являются своеобразными трансцендентальными актами, и от целого ряда таких противоположностей человечеству не удается освободиться. Опыт преодоления космологических, моральных, гносеологических антиномий показывает, что они снова и снова в той или иной форме воспроизводятся. Это не обрекает на застой, напротив, как снятие, так и постановка «вечных» проблем оказываются важной составной частью культурного процесса, освобождающей от разного рода стереотипов и фиксаций, фундированных дорефлексивным жизненным опытом, который имеет свойство устаревать. Исход спора Эразма и Лютера, несомненно, определялся не только философскими аргументами, но и сложившейся социальной ситуацией эпохи войн, восстаний, наступающих рыночных отношений и ценностей, ситуацией, когда власть вышла из-под контроля дворов — центров ее монополизации и осуществлялась как непосредственное принуждение и насилие. В таких условиях не любовь и гуманизм, а сильная центральная власть и повиновение могли спасти положение. 30 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 66. 45 Риторика Лютера опирается прежде всего на ряд наиболее жестких библейских положений: «Кто согрешит в одном, тот становится виновным во всем»31; «не мир пришел Я принести, но меч»32; «огонь пришел Я низвесть на землю»33; «кто не со Мною, тот против Меня»34. Аналогично жестко, «по-авраамовски», моделируется экзистенциальная ситуация: Бог ниспосылает благодать смиренным, т. е. тем, кто отчаялся и поверил в погибель. Отчаяние и смирение возрастают по мере осознания независимости спасения от личных усилий. Лютер ярко описывает сцены насилия, страдания людей, тщетность всех их замыслов. Ни святые, ни церковные и политические деятели не могут избежать греховных помыслов и поступков. Бог отступился от людей и ожесточил их, он как бы радуется их грехам, предвкушая жестокий суд. Но человеку ничего иного не дано, кроме смирения. «Кто полностью отчаялся в себе, — писал Лютер, — тот ничего не выбирает, но ждет, как поступит Господь». 35 На фоне безнадежного отчаяния, по замыслу Лютера, ничего не остается, кроме веры — повиновения в безошибочное решение бога. Когда церковь скрыта, а святые неведомы, источником божественного откровения остается текст Писания, который Лютер считает единственным ясным и понятным руководством в жизни. Он выступает против канонизации святых и непогрешимости церкви, ибо их святость объявится лишь на Страшном Суде. Бог Лютера — жестокий судья, гневный взор которого видит все тайные дела и мысли человека. Точно так же дух противостоит плоти и обличает ее словом. Здесь нет речи о любви, воспитании и культивировании плоти. Осуждается не только тело и греховные чувства, но и вообще все, что делает человек: «Лучшее из того, что есть у философов, самое замечательное у людей, то, что перед лицом мира кажется честным и благим, перед лицом Бога — плоть, и служит она царству сатаны».36 Люди делают только то, что достойно гнева и кары. Лютер последовательно отрицает не только философскую мудрость и знание, но и устройство жизни на основе законов. Всякий закон либо нормализует, либо регулирует греховные отношения, и все, что оправдано законом, — одинаково проклято. Для обоснования приводится цитата из апостола Павла: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». 37 Столь же негативно относится Лютер и к человеческим деяниям и ссылается при этом опять же на апостола Павла: «Если по благодати, то не по делам». 38 Дела не имеют значения с точки зрения веры. Более того, если не требуется вера, взгляд Лютера не вяжется с расхожим представлением о западной религии, настроенной на позитивные дела и устройство мира. Скорее, он близок позиции Иллариона, с чьим разделением закона и благодати связывают своеобразие восточного православия. Однако Лютер не признает Оригеновой концепции тройственности человеческой природы (плоть, душа, дух). Отрицательно относится он и к такому «посреднику», как сердце: «Всякое помышление сердца человеческого направлено на зло во всякое время». Такова, по-видимому, парадоксальная и вместе с тем по сути довольно последовательная доктрина Иак.2,10. Мф.10,34. 33 Лк.12,49. 34 Мф.12,30 35 Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 329. 36 Там же. С. 480. 37 Посл. Римл.5,20. 38 Посл. Римл.11,6. 31 32 46 веры Лютера. Она основана на грехе: если его нет, то зачем тогда Христос? Здесь совершенно отчетливо просматривается связь преступления и наказания. Отвергая социальную механику, Лютер неявно опирается на нее. 39 Он не способен осуществить коммуникативную революцию. Отвергнув власть церкви и папы, он восстановил не менее жесткую власть Писания. Изменился субъект власти, внешнее насилие перешло во внутреннее самоосуждение. И все-таки история распорядилась лютеранством мудрее. Как показал М. Вебер, протестантская этика подготовила капитализм. Это может показаться странным. Мы привыкли к схемам экономического детерминизма, рассматривающего сознание как идеологическое оправдание экономических отношений. Здесь же показано, что изменение сознания способствовало смене политических и социально-экономических отношений. Но странность еще и в том, что жесткая концепция самосознания Лютера на деле способствовала «гуманизму» — либерализации институтов телесного наказания и принуждения. Обе эти «странности» — продукт непонимания сложности исторического процесса, в котором материальное и духовное не односторонне подчинены, а дополняют друг друга и взаимодействуют: чем репрессивнее сознание, чем строже самодисциплина, чем сильнее самоконтроль, тем либеральнее внешние институты принуждения. И наоборот, чем больше люди говорят о любви, свободе и гуманизме, тем более они полагаются на спонтанность, естественность чувств, тем сильнее анархия и тем жестче институты принуждения и наказания. Природа власти состоит в заполнении всех пустот и в управлении не только телом, но и духом. Поскольку дух — внутреннее достояние личности, то управлять им можно путем внедрения идеологии. При этом оба процесса — усиление политической власти и попытка навязать идеологическое единообразие — взаимопереплетаются. Так, Эразм в заключение полемики с Лютером говорит о негативных политических последствиях его непримиримой идеологии: «Ведь ты не устранил тиранию князей, епископов, теологов и монахов, как ты обычно говоришь, а пробудил ее… Рабство, которое ты собирался искоренить, удвоилось». С этим нельзя не согласиться. Народ, поднятый против государственных и церковных институтов, пришел в состояние брожения, власти же в ответ на это усилили репрессии. Отказ от понтификата также привел к повсеместному надзору и наказанию, теперь каждый наблюдал и осуждал себя и другого. Раньше можно было получить санкцию на отмену того или иного церковного закона, теперь установились более жесткие правила поведения, отступление от которых не прощалось. Ориентация на Писание без учета исторической традиции его истолкований привела к забвению памятников и достижений человеческой мысли. Сами эти индивидуальные интерпретации оказались противоречивыми и спорными, породили огромное количество низкосортной полемической литературы. Опыт Лютера нуждается в исторической рефлексии, ибо без опоры на социальные институты даже религиозная вера и аскеза обречены на провал. Его ошибка заключалась в недооценке как общественных, так и церковных организаций. При всех своих недостатках сформировавшиеся центры монополий и светской, и духовной власти избавляют от прямого насилия со стороны более могущественного соседа. Во всяком случае, остается возможность искать справедливости у высшей власти, которая с точки зрения 39 Эразм Роттердамский. Философские произведения. Указ. изд. С. 580. 47 религиозной и утопической мысли является лишь узаконенным насилием. Поэтому в истории всегда взаимодействуют две тенденции: одна направлена на укрепление, самосохранение социальных институтов, другая — на их разрушение, поскольку они устаревают и мешают развитию новых форм жизни. Духовный процесс также содержит в себе борьбу двух тенденций, при этом он не является «надстроечным», «вторичным», «отраженным» феноменом, а вместе с политической борьбой и трудом составляет часть социальной практики. Душа и сердце в русской религиозной философии В традиции восточного христианства, хранящего платоновское учение о душе, трехсоставность человека не вызывала сомнений и выступала в качестве фундаментального допущения, на котором строились прикладные концепции монастырского, затворнического жития, аскетики и т. п. Так, например, у Иоанна Златоуста кроме дихотомии духа и плоти говорится о душе, в которой выделяются телесные импульсы, воля и ум — руководитель души. Ум не стеснен узами плоти, вожделеющая часть души концентрируется в сердце. Страсти буквально раздирают сердце: одни влекут к божественному, другие — к плотскому. Таким образом, основная дихотомия сохраняется, но проводится через систему посредников, благодаря чему становится возможным сохранение душевной чистоты на пути аскезы и воздержания в условиях земной жизни с ее соблазнами. Соотношение плоти и духа в рамках душевных побуждений рассматривается также Филиппом Пустынником — византийским автором VI в., произведение которого «Диоптра» было переведено в XIV в. на старославянский язык и стало, пожалуй, одним из самых читаемых на Руси. Характерно, что оно начинается с картины грехопадения, однако она рисуется не на материале общественных злоупотреблений, войн, убийств, а на примерах, казалось бы, безгрешной иноческой жизни. Автор взывает к душе: проснись, что спишь, смерть может настать в любой час, приготовься! «Во врачевании нуждаются не здоровые, а больные. Поскольку же я болен многими грехами, излей на меня многую милость».40 Проснувшаяся душа начинает обвинять плоть: «Как свинья, что нечистотам радуется и скверне и каждый день валяется в них, наслаждаясь, так и ты, презренная плоть, вечно этими своими плотскими страстями и усладами постыдными, и скверными деяниями оскверняешь меня каждый день, валяясь в них безбоязненно, словно свинья, и вниз меня влечешь, и никак не позволяешь мне взглянуть ввысь, о горнем помышлять и к горнему стремиться». 41 На это плоть отвечает ей: «Ты руководишь мною». Тогда душа обвиняет плоть в непокорности и в конце концов осознает, что таким образом истязая тело, она может лишиться помощника для молитв, покаяния и свершения добрых дел. Далее автор, обнаруживая ученость, подробно прослеживает зависимость способностей души от развития телесных органов и завершает свою книгу идеей тесного союза души и тела. В известной мере Филипп Пустынник реабилитирует тело и основную вину за греховные деяния возлагает на душевные аффекты. Филипп Пустынник. Диоптра // Прохоров Г.М. Памятники переводной и русской литературы XIV–XV веков. Л., 1987. С. 211. 40 41 Там же. С. 215 48 Данный трактат показателен в том отношении, что при сопоставлении даже с более поздними спорами западных богословов заставляет усомниться относительно широко распространенной точки зрения об ортодоксальном догматизме восточного православия. Гуманизация христианства началась на Востоке раньше, чем в Западной Европе. Строго говоря, европейский гуманизм вообще несовместим с христианством, ибо они ориентированы на разные ценности: гуманизм — не только прославление и уважение достоинств человека, но признание его как автономного, свободного существа (индивида), а главное — высокая оценка его социальных и культурных завоеваний; христианство же деифицирует человека и не может принять индивидуальное спасение посредством добродетельной жизни и творчества. Между тем в действительности эти позиции зачастую переплетались. Богословы незаметно, как бы исподволь, усваивали язык и ценности гуманистов, а те, в свою очередь, — христианские ценности. Результатом такого смешения и является эпоха Возрождения. При всем различии ориентации исихастов и гуманистов их объединяет признание сложной природы человека и вера в возможность индивидуального или общественного спасения, чего нет, скажем, у Лютера. Введение жесткой дихотомии духа и плоти составляет изначальную суть христианства. Именно ею проникнуто средневековое мировоззрение, и осознание этого обстоятельства является гносеологическим источником учения об управлении «страстями души». Что касается тела, то оно подлежит культивации, одухотворению или, как говорили раннехристианские авторы, перерождению. Аналогичный взгляд распространяется и на другие «нехристианские» ценности: брак, труд, социум также нуждаются в переделке в соответствии с христианскими заповедями. Вопрос же о том, насколько жесткие и репрессивные средства при этом использовались, решался прежде всего в зависимости от состояния общества и господствующих институтов власти. В частности, развитие византийской государственности, первоначально опередившей западноевропейскую, привело к пониманию более важного значения душевных страстей, побуждений и желаний по сравнению с телом — его маркировкой, наказанием, пыткой и т. п. Практика инквизиции свидетельствует о том, что это не миновало и церковь, которая есть не что иное, как перенос телесно-принудительных форм насилия, развиваемых в примитивных социальных системах, на духовные практики. В какой степени сохранился «гуманизм» византийского христианства на Руси? Этот вопрос связан, во-первых, с тем, насколько адекватно оно было воспринято и, во-вторых, в какой мере этому способствовала русская государственность. Если принять точку зрения, согласно которой она была менее органичной и развитой, чем западноевропейская (так считал, например, П.Н. Милюков), 42 то поневоле придется интерпретировать русское христианство как более репрессивное. Однако такая точка зрения вовсе не является единственно возможной и верной. Историк Н.П. Павлов-Сильванский в своих трудах убедительно показал, что развитие государственности в России проходило стадии, аналогичные тем, которые прошли страны Западной Европы.43 К тому же центры монополизации власти сложились на Руси «Не христианская духовность, а административное преследование характерно для Руси» (см.: Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. III. СПб., 1909. С. 52). 42 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси. СПб., 1907; Феодализм в удельной Руси. СПб., 1910. 43 49 довольно рано, и это обстоятельство — отнюдь не свидетельство особого «цезарепапистского» духа. Монополизация власти в княжеских дворах означала развитие социальной ткани, дифференциацию сословий, усиление их взаимных зависимостей и обязательств. Эти взаимосвязи контролировались княжеской администрацией, что привело к ослаблению непосредственной зависимости и прямых актов насилия между подданными. Становлению Российского государства предшествовали те же процессы расколов, междоусобиц, войн, что и в Западной Европе. Это обстоятельство также способствовало укреплению особой дальновидности, сдержанности, на базе чего сложилось рациональное правосознание. Специфика российского самосознания состоит в опоре на духовные ценности. В одном из ранних памятников русской духовной культуры — «Сказании о Борисе и Глебе» — мотив непротивления, страдания и любви органично соединен с социальным интересом — подчинением закону старшинства в наследовании власти. Но и на Западе эта тенденция была выражена достаточно ярко: религия, как связь любящих и верующих, всегда оставалась идеалом, на основе которого мечтали не только построить общество как договор, но и общность как духовное единство людей. Различие остается лишь в степени опосредования. Для российского самосознания характерно прямое соединение духовных и социальных ценностей, сердца и разума. Западная Европа раньше осознала опасности такого соединения и уделяла внимание главным образом социально-экономическим гарантиям духовных связей. Весьма своеобразным феноменом русского самосознания является многообразие значений слова «правда», фиксирующих истину как соответствие объективному положению дел; справедливость как гармонию социального порядка; искренность, верность как совпадение внутреннего и внешнего, сказанного и сделанного, как единство теории и жизни. Западные логики и методологи до сих пор пытаются разгадать загадку так называемых перформативов: что значит, когда человек заявляет: «Я клянусь, что говорю истину»? Что добавляет это «Я клянусь», если высказывание проверяется его соответствием действительному положению дел. Такие трудности в основном вызваны «социологизацией» культуры. Социум — это такая организация, в которой, в принципе, не важно, что человек думает втайне или на самом деле. Важно, чтобы он жил и поступал в соответствии с ролевыми ожиданиями. Западный человек вообще меньше озабочен такими проблемами, как любят ли его в действительности, верят ли люди в социальную справедливость, искренне ли говорят и выражают свои чувства другие? Преимущественно это связано с разделением частной и приватной сфер жизни: моральные ценности не исчезают, как полагают некоторые критики западной цивилизации, обвиняющие ее в бездуховности, они просто применяются, так сказать, на своем месте. Наше общество и до сих пор еще во многом имеет средневеководемонстративный характер, но при этом требует искренности, правды, внутренней веры. Впрочем, при сравнении исторических источников все эти априорные оппозиции по большей части оказываются надуманными: они, скорее, помогают поставить проблему, но отнюдь не являются ее решением. Если обратиться к православным Житиям святых, то можно заметить, что для них, хотя и в меньшей мере, чем для теологических трактатов, характерно теоретизирование (теоретические трактаты первоначально заимствовались у византийских богословов). Возможно, в России не было Реформации не только потому, что 50 институт папства, целибат, индульгенции и другие «социологические» новшества не были восприняты в восточном православии, но и потому, что Бог еще не превратился, как у западных теологов, в некоего теоретического монстра, который уже не согревал души людей. «Житие Феодосия Печерского» — один из типичных образцов житийной литературы. Святой отличался безупречным образом жизни, добрыми делами и особенно верой и разумом, т. е. ценностями, далекими от фанатического аскетизма и близкими к идеалам «фронезиса» — практического образа жизни и мышления. Специально отмечалось, что Богом был избран не философ или вельможа, а именно неискушенный в науках и политическом искусстве человек, который на поверку оказался «мудрее мудрого». С ранних лет святой размышлял о том, как спасти свою душу. Он не играл со сверстниками, а работал вместе со смердами и тянулся к книгам, затем ушел со странниками к святым местам. В Житии говорится о терпении и покорности и, вместе с тем, стойкости отрока. В конце концов, как и все другие святые, Феодосии покидает родной дом — уходит в монастырь. Кроме чтения религиозных книг он много внимания уделяет хозяйственной деятельности. Труд и молитва — наиболее характерные средства спасения. Центральное значение придается борьбе с искушениями. Отсюда типичный для русской житийной литературы сюжет о бесах и чудесах: мир наполнен присутствием сатаны и бога, и тем, кто устоял перед соблазнами, господь помогает в критических ситуациях. Важной темой в житиях святых является общение со светской властью. Поскольку восточная церковь не претендовала на верховную власть и подчинялась императору, постольку она искала свое место в государстве. В целом отношение священника и монарха является довольно мирным, святой помогает князю и вельможам добрыми советами; и хотя он бессилен перед властью князя, наставляя его на путь истины и увещевая словом Священного Писания, все же добивается своего. Несколько иначе выглядит западноевропейский святой в описании Г.К. Честертона. Франциск Ассизский, хотя и отказался от жизни в миру, искренне любит окружающую реальность и борется не за личное спасение, а за устройство общественной веры и смирения. Его аскетизм не демонстративен, а является формой жизни. Это не подвиг ради будущего спасения, а повседневность: отсутствие богатства — условие духовной свободы. Конечно, Франциск несопоставим с Феодосием: один — противник монашества и основатель ордена вездесущих, бродячих «братцев», несущих деятельную любовь к людям: другой — основоположник монастырского жития, темные стороны которого еще не проявились. Их сопоставление показывает как общее, так и особенное в менталитете русских и западноевропейских святых. Православный святой ориентирован на «внутреннего человека», он озабочен спасением души, очищением своего сердца от скверны. Именно такого рода опыт духовного возрождения обобщало отечественное богословие. Как указывал епископ Феодор, возражая Розанову, Минскому и Мережковскому, «христианство отрицает раздвоенность духа и тела, как порчу и болезнь, и утверждает в качестве идеала такое единство жизни, чтобы плоть и дух составили гармонию».44 Достижение же такой гармонии требует аскетизма: «Воля, привыкшая к греху, должна быть энергично подавлена». 45 Аскеза 44 45 Епископ Феодор. Пастырское богословие (аскетика). Сергиев Посад, 1911. С. 18. Там же. С. 24. 51 трактуется как терапия, лекарство для людей, заболевших греховными помыслами, и причина ее, таким образом, возводится не к христианству, а к больной плоти. Проповеди, откровения, исповеди, характерные для христианской литературы, реализуют задачи трансформации души и тела с целью приобщения человека к богу. На этом пути встречаются специфические трудности, методы и средства преодоления которых накапливают и передают святые наставники. Выступая проводниками и истолкователями слова божьего, они стремятся передать религиозный опыт и путь спасения всем остальным. Однако их наставления имеют сугубо индивидуальный и личностный характер. В отличие от теоретизирующих отцов церкви, обсуждающих проблемы тринитарности, евхаристии, творения и т. п., разного рода старцы и старицы, странники, отшельники стремились по-человечески понять религиозные тексты, превратить абстрактные схемы богословия в формы жизни, найти путь к Богу без сложных литургий. Естественно, что наиболее доступным средством казалась христианская молитва, в совершенствовании которой и усматривался самый надежный способ бытия-в-Боге. Весьма типичным образчиком такой литературы являются «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», которые можно рассматривать как истолкование и пояснение к известному «Добротолюбию» — собранию текстов виднейших отцов церкви. Это своеобразный перевод сложнейшей богословской проблематики на язык обыденного опыта, а также описание техники христианской молитвы, посредством которой человек может избавиться от разного рода рассеяний и соблазнов, сосредоточиться всем сердцем на разумном и божественном. Книга написана от лица странника, кочующего с котомкой за плечами по Святой Руси в поисках тихих обителей, где можно вести назидательные беседы со схимниками и священниками, с такими же, как автор, ищущими «умного делания» — искусства христианской молитвы, тихими мистиками, которыми в изобилии заселена наша земля. 46 Что такое молитва с семиологической точки зрения? Это ритмично построенный дискурс, посредством которого человек входит в своеобразный «транс» и начинает жить как бы в новом измерении. Означающее молитвы абсолютно трансцендентно и вместе с тем парадоксальным образом сообщается текстом. Здесь слово обретает некое внезнаковое, онтологическое значение, которому присуща внутренняя энергия. Питаясь ею, молящийся преобразует свою душу и сердце, тело и разум, становится святым. Молитва для странника постепенно обретает все более глубокое значение, творя ее, он раскрывает суть бога, познает себя и весь мир, совершенствует свою жизнь. Благодаря молитве сердце его наполняется сладкой любовью к богу и его творениям. Духовные ценности перестают быть чем-то внешним и чуждым, становятся частью душимикрокосма. Достичь такого состояния, а тем более указать к нему путь другим необычайно трудно. За выполнение этой задачи и взялся неизвестный авторисихаст. В начале первого рассказа он увлекательно строит завязку своего повествования: «Я по милости Божией человек-христианин, по делам — великий грешник, по званию — бесприютный странник».47 Однажды странник По мнению исследователей, «Откровенные рассказы» являются искусной стилизацией и сочинены в XIX в. 47 Откровенные рассказы странника духовному своему отцу. Издание Введенской Оптиной Пустыни, 1991. С. 15. 46 52 услышал во время богослужения фразу из Апостола: «непрестанно молитеся», всерьез отнесся к сказанному и задумался: как это возможно, ведь для поддержания жизни необходимо упражняться и в других делах. Решил он тогда искать правду у проповедников, а также совершенствовать практику медитации и молитвы. Наконец, странник встречает старца, который дает ему удовлетворительное истолкование слов «непрестанно молитеся» и наставление, касающееся техники молитвы: «Много дел благих, которые требуются от христианина, но дело молитвы должно быть прежде всех дел, потому что без нее не может совершиться никакое другое дело благое. Не можно без молитвы найти путь к Господу, уразуметь истину, распять плоть со страстями и похотями, просветиться в сердце светом Христовым и спасительно соединиться без предварительной, частой молитвы. Я говорю частой, ибо и совершенство и правильность молитвы вне нашей возможности… токмо честность, всегдашность оставлена на долю нашей возможности как средство достижения молитвенной чистоты, которая есть матерь всякого духовного блага». 48 По словам странника, вначале как будто дело пошло. Потом он почувствовал большую тягость, лень, скуку, одолевающий сон и разные помыслы тучей надвигались на него. Старец констатировал: «Это, возлюбленный, война против тебя темного мира. Впрочем, и враг действует по попущению Бога, следовательно, необходимо испытание к смирению, так как слишком рьяно с неумением нельзя касаться высшего сердечного входа». Однако рецепт делания заключался в том, чтобы произносить молитву сначала три тысячи раз в день, затем шесть, потом двенадцать и так до непрерывности. Взявшись за эту задачу, странник передает отчет о своих самоощущениях: сначала было трудно, затем возникло ощущение нехватки чего-то по выполнению урока. Становится легко и отрадно, когда читается молитва, исчезает желание вести пустой разговор или предаваться фантазиям. Наконец, однажды, проснувшись утром, странник вместо обычной утренней молитвы, которую язык уже не выговаривал, начал творить Иисусову молитву, которая полилась совершенно непринужденно и вытеснила напрочь все повседневные мысли. Непостижимая внутренняя энергия молитвы преобразует все бытие человека, очищает его душу и тело от страстей и вредных помыслов. Все лето странник провел в беспрестанной молитве, был внутренне спокоен, легко переносил утомительную службу в церкви, все встречные казались ему друзьями, сами собой стихли помыслы, ум склонился к слушанию молитвы, а сердце по временам начало ощущать теплоту и какую-то приятность. От молитвы проходили усталость и голод, тело согревалось даже в самый сильный холод, душа не знала обид. «Сделался я какой-то полоумный, нет у меня ни о чем заботы, ничто меня не занимает, ни на что бы суетливое не глядел и был бы все один в уединении».49 Однако это не вершина молитвенной «йоги». Пока достигнута только первая ступень: освобождение от телесных и чувственных влечений, страданий, ощущений. Следует осуществить подъем на следующий уровень: молитва должна происходить внутри сердца, необходимо достичь входа в сердечную страну, постигнуть, что же это такое «внутренний, потаенный сердца человек». Странник встречает в лесу человека, который десять лет жил на хлебе и воде, однако аскеза не освободила его от сомнений: не лучше ли на земле жить 48 49 Там же. С. 21. Там же. С. 31. 53 «попрохладнее и повеселее»? Таким образом, странник убеждается, что изнурение плоти не избавляет от неверия; от мысленных грехов нет иного средства, кроме «хранения ума и чистоты сердца». Свершение подвигов ради царства небесного или из-за страха адских мук — это рабский путь к Богу. «Сколько не изнуряй себя, какие хочешь проходи телесные подвиги: но если не будешь иметь всегда Бога в уме, да непрестанной Иисусовой молитвы в сердце, то никогда не успокоишься от помыслов и всегда будешь удобопреклонен греху».50 Только сердечная молитва закроет путь всем дурным помыслам и сомнениям. Последствия сердечной молитвы трояки и раскрываются: в душе (сладость божьей любви, внутренний покой, восхищение ума, чистота мыслей), в теле (легкость, бодрость, приятность жизни, нечувствительность к болям и скорбям), в духе (просветление разума, понимание Священного Писания, отрешение от сует и познание сладости внутренней жизни). «Сердечная самодействующая молитва была отрадой во всем пути, при всех встречах, она никогда не переставала услаждать меня, хотя и в разных степенях, где бы я ни находился, что бы ни делал, чем бы ни занимался».51 В связи с этим текстом возникает вопрос о смысле «самодействующей молитвы». Как можно было понять, ее назначение состояло прежде всего в самоуглублении человека в божественные тайники своей души, она — средство избавления от посторонних помыслов и соблазнов, помогающее сосредоточиться на переживаниях любви к богу. Для простых смертных молитва — напоминание о божественных заповедях и самоотчет перед Богом, раскаяние в прегрешениях, просьба о заступничестве; для монахов и схимников это орудие сакрального, психотехнического, гносеологического, риторического воздействия на тело, сердце и разум, в результате которого они преобразуются как бы в иные органы, способные воспринимать, понимать и переживать божественные сущности. Однако по мере развертывания наставления о самой действующей духовной молитве становятся ясными масштабы притязаний ее адептов: достигший совершенства «внутреннего, духовного делания» может как бы закончить подвиг аскезы и труда, прикладываемого к непрерывному чтению молитв. Молитва переходит в сердце и действует сама собой, без каких-либо специальных усилий. При этом происходит смягчение сердца и обострение ума, человек проживает как бы в двух сферах: с одной стороны, он участвует в жизни и сам добывает, хотя и минимальными средствами, свой хлеб; с другой — посредством самодействующей духовной молитвы он находится в непрерывном общении с Богом. Данная реконструкция позволяет понять характер религиозных наставлений. Они лишены каких-либо таинств, сакральных, кастовых или профессиональных, в том смысле, что не требуют специальных знаний, обрядов, посвящений герметического или, напротив, теоретического характера. В принципе, любой смертный может повторить путь приобщения к Богу на основе духовной молитвы. Это обстоятельство определяет риторику текста, которая, хотя и лишена традиционных украшений, кажется естественной и вместе с тем оказывается весьма эффективной. Мягко, ненавязчиво, открыто и просто странник сообщает о своей жизни и постепенном вхождении в искусство духовного деяния. Он описывает разных людей, события, происходящие в ними: один, читая Евангелие, избавился от порока пьянства, другой — от 50 51 Там же. С. 47. Там же. С. 53. 54 болезней; на одних накладывается жестокая кара, другие счастливым образом избегают несчастий, страданий и смерти. Все эти события сопоставлены с другой жизнью, которую на этой земле ведет христианин: углубленное чтение священных книг, молитва, обращенная к богу. Такая структура текста образует тонкую, но прочную сеть, захватывающую читателя; возникает желание освоить искусство сердечной молитвы и самому ощутить те приятные и сладостные ощущения на сердце, которые она вызывает. Мечта о прекрасной жизни, стремление к совершенству, живущие в душе каждого человека, обретают зримый характер. Наставление, по сути дела, помогает обрести счастье и любовь, покой и уверенность и тем самым избавиться от гнева и страха, от насилия и лжи, от которых невыносимо страдает не только терпящая, но и действующая сторона. В истории культуры сформировалось несколько типов дискурсов, в которых обсуждаются выбор и реализация жизненного пути. Так, философия использует аргументы разума и морального долга. Дискурс религиозных наставлений, напротив, работает с чувствами и стремится научить человека отвечать на зло любовью. Позиция науки, с одной стороны, характеризуется нейтральностью и признанием объективной необходимости зла, которое объясняется природными инстинктами (агрессивность) или общественными законами, требующими наказания за преступления; с другой — представители науки не в силах избавиться от морализаторства и предлагают рецепты оздоровления жизни на основе просвещения и образования. В связи с отмеченным различием подходов к решению насущных жизненных проблем возникает необходимость их соотнесения, оценки и, возможно, синтеза. Явная неэффективность просвещенного морализаторства и рационализма в вопросах жизни заставляет искать истоки этой неэффективности в негативной оценке исторически существовавших практиках работы с молодым поколением. Менталитет не дается с рождения, а искусственно культивируется, и это касается не только мыслительных привычек и установок, но и культуры эмоциональной жизни. Когда нужно смеяться или плакать, кого любить или бояться, как вести себя в тех или иных обстоятельствах — все это издавна было предметом особой заботы мира взрослых и осуществлялось особыми способами, включающими ритуальные и символические акты. Старинный опыт приобщения и посвящения детей в мир взрослых расслоился на несколько потоков, наиболее важными из которых можно считать герметические практики, сохраняющие процедуры слияния с природными и трансцендентными силами; разного рода обыденные знания и практические навыки; моральные и религиозные проповеди и наставления. Последние в сущности выполняют важную функцию формирования специфических духовных переживаний, на основе которых выстраивается человеческая культура. Забота о душе в христианских наставлениях направлена на отречение от тела и на подготовку субъекта веры. Преобразование субъекта осуществлялось на основе исповеди и покаяния, а также мистических практик молитвы и аскезы, преследовавших цель достижения святости. Сравнивая современные педагогические практики с древними формами наставничества и учительства, нельзя не отметить утрату сложной техники передачи традиций и жизненного опыта, а также пробуждения и интенсификации высших духовных состояний и озарений. Значительные усилия в традиционных культурах прикладывались для формирования духовных и телесных способностей ученика. Подготовка к несению жизненных трудностей 55 включала гимнастику, диетику, аскетику, а также заботу о душе, направленную на преодоление лени, рассеяния, аффектов и страстей. Важнейшей функцией дискурса наставлений и поучений является формирование и интенсификация таких духовных актов и переживаний, как вера, любовь, надежда, свобода, красота, справедливость, нравственная солидарность и т. п. Эти духовные чувства основываются на витальных переживаниях симпатии, радости, доброты, но не сводятся к ним, так как имеют безусловный характер и как таковые не зависят от стечения обстоятельств или самочувствия человека. Поэтому требуется специальная подготовка, направленная на очищение и облагораживание витальных переживаний: подавление агрессивных чувств и интенсификацию любви к высшим ценностям. В христианской культуре обращение человека достигается в основном посредством слова. Наставник выполняет роль медиума, так как его задача заключается не просто в передаче личного опыта жизни, а в приобщении ученика к Писанию. Забота о душе в христианских наставлениях и поучениях направлена на отречение от тела и на обращение к духу. Отсюда вытекает достаточно резкое различие между философским искусством заботы о себе и христианским аскетизмом, включающим, помимо воздержания и молитвы, процедуры исповеди и покаяния. Забота о себе постепенно трансформируется в отречение от себя: духовные акты уже не озаряют субьекта, а истина, которую открывает аскет, уже не принадлежит ему. Центральную роль в христианстве начинает играть дискурс греха и покаяния, реальные функции которого выходят за рамки чисто религиозных задач. На его основе происходит производство нового типа субьекта с такими телесными и душевными качествами, которые необходимы для эффективного управления. Если традиционное общество, основанное на телесном насилии и принуждении, отслеживало поступки и телесное поведение человека, то религия, открывая возможности контроля за душевными процессами –– намерениями, желаниями, целями и т. п., подготавливает возможность перехода к более цивилизованным формам управления, основанным на самоконтроле и самодисциплине. Современная практика работы культуры над телесными и духовными качествами человека больше не связана с аскезой и обращением. Это обусловлено радикальным изменением типа власти, которая реализуется в форме не запретов, а предписаний и рекомендаций образа жизни. Вместо дискурсов о духовном, интенсифицирующих чувства любви и дружбы, добра и справедливости, все более фундаментальное значение приобретают дискурсы о телесном, развиваемые в массовой культуре. Это вызвано тем, что общество стремится управлять не идеями, а желаниями людей. Сложная техника работы над собой и заботы о душе не востребуется властью, которая делает людей такими, какими нужно, гораздо более простыми и доступными способами. Используя рекламу, давая советы о здоровом образе жизни, о режиме труда и отдыха, общество формирует повседневный порядок, который и обеспечивает его устойчивое существование. Любая культура является прочной в том случае, если она не утратила духовных и душевных связей между людьми, и поэтому наряду с формами социальной интеграции должны развиваться и совершенствоваться формы духовного единства. Отсюда одной из важных задач современной философии остается сохранение и развитие традиционной заботы о душе. Истины, которые мы сообщаем ученикам, не согревают их сердца и не учат жизни. Это абстрактные 56 безличные знания, неспособные пробудить волю к поступку или, напротив, противостоять желаниям. Инструментальные знания, которые производит наука, направлены на преобразование мира, но они непригодны для преобразования души человека. Между тем, несмотря на высокий уровень технической цивилизации, человек вовсе не избавлен от тяжелых жизненных испытаний. По-прежнему существуют несчастья, болезнь и смерть, поэтому требуется стойкость, мужество и терпение для того, чтобы их пережить. Таким образом, философия должна сохраняться как форма не только знания и критической рефлексии, но и жизненной мудрости. Учение о сердце как месте примирения духа и тела. Русская религиозная философия стремилась выявить и обосновать все лучшее из накопленного духовного опыта. Так, «философия сердца» П.Д. Юркевича, которая затем неоднократно воспроизводилась П.А. Флоренским и Б.П. Вышеславцевым, несомненно, схватывает коренную особенность русской ментальности, которая культивировалась веками и которая непременно должна сохраняться и развиваться. Хотя у Юркевича речь идет об истолковании Писания, но если сравнить его с вышеприводимыми трактовками (например, Лютеровой), то станет ясно, что в действительности мы имеет дело с творческим подходом, выявляющим самобытность российского духовного опыта. «Сердце, — писал Юркевич, — есть средоточие душевной и духовной жизни человека».52 Идея о сердце как о центре духовной, душевной и, я бы добавил, телесной жизни является весьма ценной метафизической предпосылкой целостного учения о человеке. Во-первых, эта идея ориентирует на глубинное постижение абсолютного в его уникальности и интимности существования в человеке и, во-вторых, служит центром, объединяющим разрозненные концепции в единую философско-антропологическую теорию, способную осмыслить многообразие научных данных о человеке с позиции гуманитарных ценностей. Опираясь на библейские высказывания, Юркевич помещает в сердце волю и желания: свободный поступок, любовь совершаются как сердечные акты. Сердце — центр познания и понимания: человек помышляет, разумеет, видит, прорицает, судит, глаголет, верит, слышит и т.п. именно сердцем. Сердце — средоточие различных душевных чувств, волнений и страстей: оно радуется, ликует, печалится, болит, испытывает смятение, смущение. Сердце — центр нравственной жизни, в нем коренится любовь к богу и людям; оно же является источником ненависти, высокомерия, гнева, злобы, лукавства и других пороков. Таинственная работа совести, стыда, самоосуждения осуществляется также сердцем. Будучи полем взаимодействия противоречивых стремлений, сердце жаждет покоя и счастья, вечного блаженства, и эти интенции к совершенству составляют действенный трансцендентальный интерес всей человеческой культуры, высший мотив любой человеческой деятельности. Метафора сердца объединяет чувственное и рациональное, природное и культурное, мужское и женское. Сердце зависит от телесного самочувствия и, наоборот, сердечная боль угрожает здоровью и самой жизни. Если «плотяное» Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия // Юркевич П.Д. Философские произведения. М., 1990. С. 69. 52 57 сердце ищет телесного покоя и удовлетворения, то сердце духовное ориентировано на высшие ценности. Гармония телесных и духовных центров — высший идеал жизни. Конструкция сердца у Юркевича не лишена некоторого натурализма, что проявляется в «органологическом» подходе к поиску вещественного носителя центра духовных и телесных актов человека. Здесь он следует парадигме физиологии. Сознательная деятельность, мышление имеют своим органом головной мозг. Но мышление — это еще не весь человек. Констатируя душевные, духовные и телесные акты, Юркевич приходит к вопросу об органе их исполнения: «Душа как основа известных нам сознательных психических явлений имеет своим ближайшим органом сердце», 53 «сердце соединяет все силы тела»;54 «в сердце все значительнейшие системы человеческого организма имеют своего представителя, который с этого средоточия заботится об их сохранении и жизни». Привлекая физиологическую гипотезу своего времени о соединении в сердце различных нервных систем, Юркевич предполагает, что оно является специфическим телом духовных процессов. Сегодня «органологический» подход преодолен наукой, и человек рассматривается как интегральная система. Вероятно, Юркевич подразумевал под сердцем как телесным органом все человеческое тело. Исходя из интересной идеи единства духовного и телесного, Юркевич все-таки не смог достаточно последовательно ее развить: у него работают как бы два сердца — центры жизненно-витальных и духовных актов. Кроме того, смутно прорисовывается еще и третье — то поле, где они взаимоборствуют или вступают в коммуникацию. Для философской антропологии эта идея Юркевича является очень важной — существует некий объединяющий духовное и телесное «орган», благодаря которому они могут взаимодействовать. Наиболее ярко выражена Юркевичем мысль о сердце как единстве духовных актов, объединяющем познание и любовь, веру и доказательство, страсть и расчет, моральный долг и добротолюбие. При этом Юркевич высказывает важную мысль о переходных состояниях от телесных воздействий к душевному самочувствию: недостаток пищи, поражение органа ощущаются как голод или болезнь, в результате того или иного изменения в теле складывается определенное душерасположение. Оно является основой жизни, мировоззрения и деятельности. Юркевич интерпретирует библейское учение о сердце как центре трудно уловимых мыслью и, тем не менее, ярко выраженных, интенциональных состояний меланхолии, надежды, радости, любви, святости, веры и др. Он считает неправильным и одномерным сведение сознания к мышлению: «Мир как система явлений жизненных, полных красоты и знаменательности существует и открывается первее всего для глубокого сердца и отсюда уже для понимающего мышления». 55 Мир познания, отражающий объективную реальность, должен быть дополнен жизненным миром, который составлен прежде всего из внутренних душевных состояний. Человек не просто отражает внешнюю действительность, он ее переживает — испытывает радость и скорбь, стремится к добру, любит или ненавидит. При этом обнаруживается тонкая чувствительность, эволюционирующая в процессе культурного развития. Она непереводима в точное, рассчитываемое знание и улавливается скорее Там же. С. 79. Там же. С. 80 55 Там же. С. 82. 53 54 58 искусством, чем наукой. Духовность — весьма таинственное явление. Юркевич приводит легенду о двух учениках Христа, которые признают его не на основе точных доказательств и подтверждающих данных, а как бы видят, точнее — верят в него сердцем. Интенции духа не содержатся во внешних предметах, а являются полаганием особых смыслов, которые не сводятся к сигнификации, а символизируют специфические духовные состояния. Это в чем-то похоже на чтение книги: в черных типографских значках читатель видит как бы целый мир, в котором он начинает жить. По Юркевичу, сердце — это и средоточие уникальности и индивидуальности личности. Отсюда та жажда правды, которая характерна для ментальности сердца. Существуют общие ценности и истины, общие чувства и нравственные оценки, но они переживаются каждым в глубине сердца, и только тогда, когда они приняты им, можно говорить о человеческой личности. Конечно, весьма сложно в познавательном, предметном дискурсе сформулировать суть сердца. Дело в том, что оно и его состояния — совесть, стыд, любовь и т.п. — не есть нечто такое, на что можно прямо указать пальцем. Они не являются предметом рассмотрения, представления. Мы не можем выйти за пределы сердца, как не можем оказаться вне бытия и рассматривать, исследовать его стороны. В своем душевном состоянии мы всегда уже находимся и привносим его в познание и предметные акты как определенный способ смыслополагания и мироотношения. Вместе с тем здесь есть аналогия с познанием: предпосылки интеллектуальных актов тоже как бы даны нам заранее, и мы не можем их видеть и контролировать. Тем не менее, теория познания успешно развивается. Думается, что целый ряд достижений гносеологии и феноменологии может быть эффективно использован и для анализа интенциональных состояний духа. В этом мире есть определенные нормы и ценности, формируются особые такт и вкус, наличие которых свидетельствует о внеиндивидуальной природе сердечных настроений и духовных переживаний. Важнейшее значение «философии сердца» Юркевича — постановка самой проблемы духовности, осознание неразрешимости ее на путях предметного дискурса. По своему значению и влиянию на русскую философию его взгляды чем-то похожи на идеи Брентано, определившие становление феноменологии. И хотя Юркевич не сформулировал идею интенциональности сознания в силу присущей русской ментальности предубежденности по отношению к гносеологизму, тем не менее своеобразие духовного опыта и основное направление его философского усвоения указаны им верно. Непосредственно «философия сердца» Юркевича получила свое дальнейшее развитие в работах П.А. Флоренского, Б.П. Вышеславцева, И.А. Ильина, С. Франка, наиболее же близко его учение о духовном опыте было воспринято и разработано В.С. Соловьевым. Б.П. Вышеславцев, как и П.А. Флоренский, расширяет историко-культурный горизонт «философии сердца»: «…Понятие ''сердца'' занимает центральное место в мистике, в религии и в поэзии всех народов»56. Сердце обнимает собою все явления телесной и психической жизни, Библия приписывает ему все функции сознания. В такой расширительной трактовке остается определить сердце как центр всего, скрытую глубину, тайну и «самость» вещей. Применительно к человеку сердце означает его истинное Я. Вышеславцев Вышеславцев Б.П. Сердце в христианской и индийской мистике // Вопросы философии. 1990. № 4. С. 62. 56 59 определяет сердце так же, и как основной орган религиозных переживаний, место встречи Бога и человека. Это более глубокий центр личности, нежели разум, душа или дух, центр таинственный и непостижимый для человека, так же, как непостижим Бог. В характерной для евразийцев манере Вышеславцев сопоставляет библейское понятие сердца с его пониманием в индийской мистике. Такой тематический анализ оказывается весьма плодотворным, ибо позволяет усвоить качественное различие двух трактовок этого понятия: «…''Сердце'' в индийской мистике… имеет другое значение: оно означает только внутренний мир, скрытую центральность, сердцевинность атмана по отношению ко всему, но без всякой эмоциональной, эротической, эстетической окраски, которая неизбежна в христианском сердце».57 Весьма важными являются мотивы, заставившие Вышеславцева обратиться к «философии сердца». Он исходит из чисто русского, точнее славянофильского неприятия западной цивилизации, тупики которой осознаются сегодня и ее представителями. Установившаяся после Ренессанса безрелигиозная цивилизация делает центром науку, технику, разум. Напротив, восточное христианство, не утратившее платонистических традиций, еще считает центром всего сердце — как источник любви и духовности. Решающим доводом в пользу символа сердца является, согласно Вышеславцеву, то, что оно есть центр любви: любят не умом и не познанием, а сердцем. Христианство, в отличие от индийской мистики, не является бесстрастным: любовь считается сильнее смерти, она — источник и залог бессмертия, стремление к совершенному, которое является вечным. В индийской мистике ее центр неподвижный, нединамический, находящийся по ту сторону познания и действия. Христианская же богочеловеческая любовь есть сублимированный Эрос. Потеря культуры сердца, утрата чувств любви — основные недостатки современной цивилизации; пустота и скука, безвыходная тоска, чувство ничтожности, по мнению Вышеславцева, происходят оттого, что иссякла центральная сила личности, засохла ее сердцевина 58. Культ сердца Христова существует и в католичестве, где оно также является символом любви. Однако протестантские критики указывали на чувственнотелесную трактовку этого культа. Вышеславцев, скорее всего, не без влияния идей М. Шелера, считает весьма важной трансформацию культа сердца в более тонкое феноменологическое учение о сердце как центре духовных актов. Вместе с тем, по его мнению, необходимо сохранение двух символов — духовного и телесного сердца. Телесное сердце есть как бы воплощение или, используя основное понятие трансцендентальной феноменологии, исполнение духа. «Философию сердца» Вышеславцев дополняет трагической диалектикой добра и зла, развиваемой на основе антиномической версии Канта. Сердце как центр духовных актов, в глубине которого таится божественное, свято и безгрешно. Однако безгрешное духовное сердце воплощено, согласно христианству, во плоти. Оно отвечает за помыслы плотского сердца, ибо призвано управлять им. Поэтому все зло, греховные помыслы, гордыня и богохульство имеют своим источником «внутреннего человека», неодухотворенность, искаженность его плоти. Тезис о безгрешности и богоподобии сталкивается с тезисом о 57 58 Там же. С. 68. Там же. С. 71. 60 греховности и демонизме не в чистом разуме, а в человеческом сердце, в котором сходятся два мира — идеальный и реальный. Таким образом, сформулированная антиномия решается не усилиями ума, а религией спасения и преображения. Она опирается на добрую волю, которая, в свою очередь, предполагает свободу. Сам факт греховности богоподобного существа может быть объяснен, по мнению Вышеславцева, только на основе допущения свободы, способности сказать да или нет влечениям тела или стремлениям духа. «…Отнять эту свободу, — полагает Вышеславцев, — означало бы уничтожить всякую заслугу, всякий героизм, всякую святость, всякое творчество, одним словом, уничтожить личность и духовность как высшую ступень в иерархии ценностей»59. Любая свобода предполагает возможность постижения истины. Поэтому центральным тезисом «философии сердца» выступает единство постижения свободы, знания и любви. «Я научу вас истине, и истина сделает вас свободными», — этими словами, выражающими основную мысль Евангелия, завершается работа Вышеславцева. По-видимому, ими же мог бы начинаться или заканчиваться любой философский трактат, ибо что есть истина, свобода и любовь? Что, вообще говоря, мы хотим от ответов на такого рода вопросы? В русской философии они ставятся не как теоретические, а как жизненно-практические проблемы. Формируясь как личное призвание, философия неизбежно становилась проповедью. Эта традиция не должна быть утрачена, но она нуждается в дополнении аналитико-теоретическим подходом к осмыслению философских проблем. Образ и культ Флоренский в своей работе «Иконостас» раскрывает красоту иконописного изображения Христа как отражение божественной красоты. Он же резко протестует против превращения изображений Его и Богоматери в портреты частных лиц. Действительно, уже в религиозной живописи итальянского Возрождения Мадонна все чаще изображается как молодая мать, кормящая грудью здорового младенца. Эволюция иконы Богоматери к изображению обычной женщины требует серьезного осмысления. Ведь икона –– не «семейный портрет в интерьере». Во всяком случае, православие решительно протестовало против превращения иконописи в бытовую живопись. Религиозная живопись Запада, полагал Флоренский, была сплошь художественной неправдой. Художники, не имеющие доступа к первообразам, отказались от церковных канонов и сами стали определять критерии верности изображения на основе эстетических принципов. Иконы же изображают святых, а не просто красивых мужчин и женщин. Флоренский так описывает «самодействующую» способность икон: «Мы сами слышим сладчайший глас Слова Божия, Верного Свидетеля, глас, проникающий своим сверхчувственным звуком все существо святых и приводящий его в совершенную гармонию… Вот, я смотрю на икону и говорю себе: "Се –– Сама Она" –– не изображение Ее, а Она Сама, через посредство, при помощи иконописного искусства созерцаемая. Как через окно, вижу я Богоматерь, Самую Богоматерь, и Ей Самой молюсь, лицом к лицу, но никак не изображению». 60 Флоренский был озабочен преодолением научно-психологической трактовки икон как образов и поэтому 59 60 Вышеславцев Б.П. Указ соч. С. 83. Флоренский П.А. Имена. М., 1998. С. 370. 61 наделял их магической силой. Он считал, что научный подход к оценке силы икон –– это скрытое иконоборчество, и тут он верно почувствовал опасность научной истории религии, развитие которое стимулировалось протестантизмом. Иконоборцы тоже не отрицали субъективно-психологической значимости икон, а сомневались в существовании онтологической связи их с первообразами. Считая иконы «изображениями», они весьма логично заключали, что их почитание и лобызание есть не что иное, как идолопоклонство. Отсюда Флоренский настаивает на самостоятельной способности икон свидетельствовать о Боге. Вместе с тем эта магия является, так сказать, вполне доброкачественной, ибо вызвана святыми силами. Лики святых являются отпечатками первообразов: «Что же есть образ Божий, духовный свет от святого лика, как не начертанное на святой личности Божие Имя?»61 Святые мученики свидетельствуют не себя, а Господа, и собой являют его. Иконописцы –– это свидетели святых свидетелей Самого Господа. Отсюда тезис: «Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: "Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог"». 62 Так Флоренский открывает важнейшую особенность православия, в котором не было столь наряженных поисков доказательства бытия Бога. Икона снимает вопрос о реальности Бога тем, что сама становится божественной и чудодейственной и выступает предметом религиозного поклонения и молитвы. Однако нельзя сказать, что за иконами ничего не стоит, как это предположил Ж. Бодрийяр в своем сопоставлении телеэкранов и византийских икон. Икона и экран одинаково магичны, но источник магнетопатии у них разный. Икона воздействует на верующего ликом, а экран –– маской. Но как их отличить друг от друга? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо глубже вникнуть в технику построения икон и экранных образов. Весьма важным является то обстоятельство, что в постановлении Седьмого Вселенского Собора говорится, что иконы создаются не замыслом живописца, а в силу нерушимого закона и Предания Вселенской Церкви, что сочинять и предписывать есть не дело живописца, но святых отцов, только им принадлежит право композиции, а живописцу остается только техника исполнения. Итак, канон и техника. Можно ли утверждать, что иконы целиком определяются канонами, а не техникой, и что телеобразы, в отличие от икон, как раз не имеют никаких заранее установленных канонов. Насколько велико различие между ними? Флоренский указывает, что церковный канон –– не препятствие, а условие творчества: «Художник, по невежеству воображающий, будто без канонической формы он сотворит великое, подобен пешеходу, которому мешает, по его мнению, твердая почва, что, вися в воздухе, он ушел бы дальше, чем по земле».63 Задачу художника Флоренский видит в том, чтобы постигнуть смысл общечеловеческого канона и самому увидеть сквозь его призму истину. Он спрашивает новых иконописцев: Врубеля, Васнецова, Нестерова о «правде» и полагает, что уже сам факт поисков ими «натуры»" –– свидетельство того, что они не видят неземного образа. «Большинство художников, ни ясно, ни не ясно, просто ничего не видят, а слегка преобразуют внешний образ согласно полусознательным воспоминаниям о Богоматерних иконах и, смешивая уставную истину с собственным самочинием, зная, что они делают, дерзают Там же. С. 369. Там же. 63 Там же. С. 378. 61 62 62 надписать имя Богоматери».64 Такая современная икона есть провозглашаемое в храме вопиющее лжесвидетельство. В чем тайна чудодейственной силы Канона? Ведь рублевская Троица все еще оказывает на нас свое магическое воздействие. Но то же самое можно сказать и о картинах названных художников. Не является ли концепция Флоренского слишком натуралистичной и не требует ли она некоторой культурантропологической редакции? Не являются ли лики святых и самого божественного семейства всего лишь антропологическими и культурными типами, образцами «своих», «родных», от которых резко отличаются другие. Тут возникает частный вопрос о том, почему русские выбрали византийской канон. Был он «красивее» или «роднее» западного, а может быть, красивое и свое тут вообще неразличимы? Концепция Флоренского не опирается на такого рода культурологические предпосылки. Более того, именно их вхождение в историю церковной живописи, по мнению философа, и привело ее к закату. Его концепция строго онтологична и соответствует платонизированному христианству. Он исходит из того, что церковная норма не стесняет творчества иконописца, ибо она является не социальной или культурной, а онтологической. Первоначальные изображения Троицы рассматриваются им как иллюстрации жития Авраама (явление странников) и символы гостеприимства. После того как в XIV в. догмат о Пресвятой Троице был канонизирован, преподобный Сергий Радонежский увидел ее смысл в Мамврийском Богоявлении. Он постиг «небесную лазурь, неотмирный мир, струящийся в недра вечной совершенной любви, как предмет созерцания и заповедь воплощения во всей жизни, как основу строительства и церковного, и личного, и государственного, и общественного»65. Этот новый опыт восприятия духовного мира перенял преподобный Андрей Рублев и написал в похвалу отцу Сергию икону Троицы. По мнению Флоренского, эта икона показывает в поражающем видении Самое Пресвятую Троицу. «Чем онтологичнее духовное постижение, тем бесспорнее принимается оно как что-то давно знакомое, давно жданное всечеловеческим сознанием. Да и в самом деле, оно есть радостная весть из родимых глубин бытия, забытая, но втайне лелеемая память о духовной родине».66 Поскольку речь идет о припоминании, то восприятие «горнего первообраза» нередко принимает загадочные формы и напоминает ребусы. Символ превращается в аллегорию, понятную немногим, и это ведет к отщепенчеству от «всечеловечности», к появлению ересей. С конца XVI в. и в русскую иконопись закрадывается дух аллегоризма. Неспособность четко видеть потустороннее иконописцы компенсируют сложностью богословских построений: «так богословский рационализм соединяется в иконе с типичностью посюсторонних образов, а далее первый вырождается в отвлеченные схемы, условно выражаемые выродившейся из второй –– чувственностью и светской наглядностью. Таков печальный конец, в XVIII в., который тем безотраднее, что нигде, как только в России, изобразительное искусство имело единственную в мировой истории вершину».67 Русская иконопись XIV – XV веков сопоставимая, по мнению Флоренского, только с греческой скульптурой, открывает видения первозданной чистоты в простых и понятных формах, Там же. С. 380. Там же. С. 382. 66 Там же. 67 Там же. С. 383. 64 65 63 которые, будучи церковными, являются общечеловеческими: чем онтологичнее видение, тем общечеловечнее форма. Подлинными иконописцами являются святые. Многие из них писали сами, другие оказывали влияние на мастеров. Они создают «первоявленные» иконы. Далее эти свидетельства размножаются иконниками-копиистами. На них налагаются особые правила воздержания (В соборном определении предписывается смирение, кроткость, благоговейность, хранение душевной и телесной чистоты –– безбрачие). Кроме того, их произведения подлежат контролю (мастер должен предъявить икону святителю, который проверяет не только соответствие канону, но и образ жизни иконника. Право именования иконы принадлежит церкви, самочинная подпись –– это то же, что «подделка подписи начальника на деловой бумаге»68. Это сравнение не случайно. Коммуникативная система, основанная церковью, своим первоисточником имеет опыт откровения. Главным свидетелем является Христос, доставивший подлинное послание. Западная церковь контролирует Слово Божие. «Непрерывность нити свидетельских показаний» обеспечивается институтом священников. Флоренский раскрывает циркуляцию знаков-икон, которые должны писаться «по образу, подобию и существу». Иначе Церковь не может быть спокойна относительно того, не происходит ли омертвения тех или других органов. Флоренский описывает проблему коммуникации на вполне современном языке: артерия, питающая тело церковное небесной влагой, нигде не должна засоряться, и церковные правила имеют в виду именно обеспечить свободный проток благодати от Главы Церкви до самого малого ее органа. Поэтому иконы-копии, миллионами тиражированные иконописцами, должны свидетельствовать возможно живо о подлинной реальности иного мира, и невнятность ее удостоверения, а тем более сбивчивость или ложность нанесет ущерб христианским душам. Рассудок и разум в философии Нового времени Современное слово «разум» ведет свое происхождение от греческого «логоса», в котором синкретично объединены два процесса: собирать, складывать, упорядочивать и говорить, сказывать, называть. Разум раскрывается как разумение, рассуждение, то есть разбирательство на основе права, закона, порядка. Важным в этом значении является и то, что человек мог иметь разум, внимать ему, но не быть самим этим разумом, присвоить или узурпировать его. Объективный разум –– это то, что присуще миру, это сам мир и принцип разумности, который объединяет мир в целое, делает его постижимым. Субъективный разум –– характеристика разумности человека, его возможности рационально познавать и действовать. В таком понимании разум извне приносится в мир и осуществляется волевым субъектом. Однако субъективный разум вовсе не признавался в античности и в Средние века. Там, где речь первоначально шла о бытии, разум определялся как нечто объективное. Именно ему должен подчиняться человек, если он хочет быть разумным. В античности объективный разум принадлежал космосу, порядок которого имел сверхличностное значение, и даже христианская концепция творения меняет статус объективного разума весьма незначительно. Объективное определение разума (логоса) в античности проявляется в его характеристиках. Например, логосу противопоставлялся миф, как сказка, 68 Там же. С. 389. 64 вымысел о мире и богах. Логос –– же философское строго научное учение о сущности мира. Отсюда с понятием логоса связана концепция точного знания, которому противопоставляется мнение. Другая противоположность: «логос» –– «эстезис», то есть чувственное и рациональное. Истина может схватываться разумом, мышлением, а мнения происходят из чувственных впечатлений. В эволюции понятия «разум» наблюдается постепенная его антропоморфизация. Древнегреческие философы считали, что управляющим началом мира является Ум, и это было воспринято учением о божественном интеллекте. Однако идея творения привела в рамках средневековой динамической картины мироздания к длительному спору о соотношении воли и интеллекта: подчинена ли воля Бога его разуму? Волюнтаристы настаивали на примате постулата творения и исходили из божественного: Fiat (да будет). Их противники интеллектуалисты видели угрозу в том, что примат воли приведет к уничтожению разума. В новое время спор воли и разума наиболее впечатляюще представлен метафизикой А. Шопенгауэра. Он высказывал резкий протест против гегелевского единства бытия и мышления, которое, по его мнению, означало порабощение живого процесса становления абстрактной мыслью. Преодолевая гегелевский логоцентризм, Шопенгауэр пришел к волюнтаризму и иррационализму: мир произведен не разумом, а слепой и темной волей, порывы которой определяют желания и поступки человека. Именно Шопенгауэр поставил под вопрос определение человека как «разумного животного», и после него основанием природы человека стали выбирать социум, экономический базис, бессознательное, коммуникацию и т. п. Классическая модель рациональности была подвергнута уничтожающей критике в философии постмодернизма. Воля –– способность человека достигать поставленных им целей в условиях преодоления препятствий. В качестве основы осуществления волевых процессов выступает характерная для человека опосредствованность его поведения за счет использования им общественно выработанных орудий или средств. На ней строится процесс, имеющий значительные индивидуальные вариации, процесс сознательного контроля над теми или иными эмоциональными состояниями или мотивами. За счет этого контроля приобретается возможность действовать вопреки сильной мотивации или игнорировать сильные эмоциональные переживания. Развитие воли, начинающееся с раннего детства, осуществляется за счет формирования сознательного контроля над непосредственным поведением при усвоении определенных правил поведения. Таким образом, разум побеждает волю, но сам при этом оказывается не освобождающей, а репрессивной инстанцией. Однако истолкование разума как формы воли к власти на самом деле не является корректным. Это власть иного рода и она не сводится к стратегии насилия. В греческой философии логос отождествлялся с огнем, светом. Мысль, освещая бытие, дает ему возможность показать себя. Точно так же в христианстве развивалось учение о естественном свете разума (lumen naturale), давшее возможность соединения разумности и святости. Гегель выступил продолжателем этой традиции. Он связывает дух не только со светом, но и дыханием (пневмой) и таким образом соединяет визуальное, внешнее, бесстрастное и символическое, внутреннее, динамическое. Его разум оказывается живым. Возрождая после Канта онтологическую традицию, Гегель разработал такую концепцию единства бытия и мышления, которая основывается на самокритике, где истинный логос выступает как единство 65 субъективного и объективного разума, которое находит выражение в абсолютном духе. Сегодня термин «дух» сравнительно редко используется в философии, и только Гегель на короткое время произвел ренессанс в употреблении этого понятия. «Дух» стал понятием теологии, а «рассудок», «разум», «интеллект» используются в философии и в науке. Важным обобщающим понятием человеческой способности постигать окружающий мир является также понятие мышления. Еще Локк определял его как связь представлений (идей), не проводя при этом резкого разграничения между чувственными и абстрактными представлениями. Способность рассуждения у Канта объединяет рассудок и разум, а у Гегеля пронизывает все формы и виды представления, в том числе и чувственные. Однако сегодня наиболее общеупотребительным синтезирующим понятием является «рациональность». Она не связывается больше с субъективным разумом, а отождествляется с безличными объективными структурами логики, которые в свою очередь связываются не с онтологией или теологией, а с нормами общечеловеческого инструментального действия. Основные понятия немецкой классической философии восходят к средневековому различению «рацио» и «интеллекта», которые ведут свою «родословную» от древнегреческих понятий «нус» и «дианойя». «Нус» в древнегреческой философии представляет собой своеобразное духовное видение, благодаря которому истинно сущие идеи постигаются человеком. «Дианойя», напротив, обозначает операции и процедуры, при помощи которых методически исследуются идеи. В латинской традиции «ноэтическое» и «дианоэтическое» выражается в форме противопоставления интуитивного и дискурсивного. Первое характеризует интеллект, способный к чистому духовному постижению. Второе –– рассудок, т. е. анализ понятий и операции с ними. Таким образом, рассудок и разум обозначают как бы две стороны мышления, которое направлено на нечто, как предмет мысли, и которое является одновременно операцией, процедурой, т. е. собственно размышлением, или исследованием. Обе эти стороны взаимосвязаны: мыслительные операции без предмета пусты, а мысль без логических процедур смутна и невыразима. Душа и тело в философии Декарта и Спинозы Учения Р. Декарта и Б. Спинозы о страстях в начале ХХ века актуализировались в ходе дискуссий между известными психологами. Парадокс состоит в том, что в сознании современного ученого подходы Декарта и Спинозы часто отождествляются, несмотря на их принципиальное различие. Суть споров философов о природе эмоций состоит в том, что одни в соответствии с механико-математическим идеалом науки придерживаются редукционизма и считают эмоции осознанием телесных состояний, другие стараются помнить, что высшие эмоциональные состояния, такие как справедливость, совесть, не только автономны, но и определяют телесное поведение. При этом картезианская программа оказывается близка современной редукционистской парадигме. Декарт считает, что страсти относятся к классу восприятий, имеющих пассивный характер. Он выделяет восприятия внешнего (цвет, тон) и внутреннего (собственного) тела (боль, голод), а также указывает на специфический род пассивных психофизических аффектов, называемых страстями, которые относятся одновременно к духу и телу. Таким образом, страсть является выражением двойственности человека, ибо в ней проявляется единство духовного и телесного. Поскольку для Декарта во всей Вселенной 66 существует только одно тело, связанное с духом, именно человеческое тело, постольку страсти оказываются уникальным соединением раздельных субстанций. Это делает страсти поистине загадочным феноменом. Ведь, по Декарту, состояния сознания и тела не имеют никаких общих свойств, и они не могут взаимодействовать и как-то обусловливать друг друга. Тем не менее, он определяет страсти как восприятия, как ощущения и как движения души, которые принадлежат собственно ей и вызываются деятельностью «жизненных духов». Последние выступают как своеобразные посредники между материей и духом (это тела, мельчайшие частицы, движущиеся по материальным законам от сердца к разуму через шишковидную железу, играющую роль канала связи души и тела). Наука следует своей интеллектуальной традиции, которая оказывается сильнее здравого смысла. В соответствии с ней «жизненные духи» интерпретируются Декартом как психофизические феномены, которые могут быть экспериментально исследованы и математически подсчитаны. Гипотеза параллелизма позволяет переходить от них к душе, которая таким образом оказывается подчиненной физическим законам. Тут возникает простой вопрос, который немногим психологам приходит в голову: если эмоция есть только осознание периферических изменений в организме, то почему она воспринимается как эмоция, а не органическое ощущение? Почему, если человек испуган, он переживает страх, вместо того чтобы осознавать дрожь в коленях и сердцебиение? Декарт рассматривает тело как сложную машину, части которой находятся во взаимодействии и образуют неделимое целое. Тело –– это машина, главной деталью которой является душа. Отсюда для Декарта столь важным был вопрос о месте, где она связана с организмом и сообщается с ним. Таким промежуточным органом считается мозговая железа, осуществляющая взаимодействие тела и души, где движения «жизненных духов» переходят в ощущения и восприятия души. И в ней же производится обратная трансформация: движения духа преобразуются в телесные движения железы, которая переводит духовные переживания в движения «жизненных духов», определяющих деятельность организма. Тело Декарт рассматривает как машину и моделирует первоначально механизм страстей так, как они протекают в бездушном автомате. Такие страсти не содержат в себе ничего психического. Затем Декарт подсоединяет к телесной машине душу. Если вообразить, что автомат воспринимает какую-либо устрашающую фигуру, то жизненные духи приводят в движение орган души –– мозговую железу, где происходит взаимодействие телесной и духовой субстанций. Она направляет движение духов таким образом, что они вызывают страх и бегство. При этом Декарт моделирует и обратный процесс воздействия души на телесные движения. Сначала внешний объект воздействует на жизненные духи, которые выходят из железы, потом они снова входят в железу под воздействием телесных движений. Железа приходит в движение и возбуждает движение крови, определяющее возбуждение организма. Но что, собственно, происходит при подсоединении души к телесной машине, действующей как автомат? Парадоксально, что при этом все остается как прежде. Душа, испытывающая эмоции, оказывается своеобразным зеркалом, отражающим, но никак не влияющим на протекание кругооборота страстей как чисто физиологического процесса. Страсти возникают в душе таким же образом, как и объекты восприятия. По сути речь идет об осознании или 67 познании телесных изменений. Если восприятия –– «картина» внешних объектов, то страсти – это «картина» телесных состояний. Отсюда Декарт определяет страсти как ощущения или восприятия души, вызываемые деятельностью «жизненных духов». Это подтверждается его собственным намерением: отнестись к страстям не как моральный философ, а как физик. Если раньше они рассматривались с психологической стороны, то теперь исследуется их телесная природа. Эта механистическая программа, выполнением которой занималась научная психология, оказалась, по мнению Л. Выготского, удивительно бесплодной: самые разные и часто противоположные эмоции имеют поразительно сходные телесные проявления. Нищета блестящей программы вызвана тем, что в ней с самого начала признавалась бессмысленность человеческой эмоции, игнорировалось ее специфическое психологическое содержание, исключала связь с остальной жизнью сознания. Именно против этого и была направлена теория Спинозы, которая, как считал, например, Э.В. Ильенков, должна лечь в основу современных исследовательских программ. Страсти –– род психических процессов, соединяющих тело и душу (наряду с чистыми (духовными) и телесными восприятиями). Если мышление характерно для духовных процессов, а движение для материальных, то страсти как результат процесса воздействия телесных движений (волнений) на душу свойственны человеку, составляющему противоборствующее единство тела и духа. Животные, по мнению Декарта, всего лишь автоматы. Аналогичное мнение высказывал и Лейбниц: «Всякое органическое тело живого существа есть своего рода божественная машина, или естественный автомат, который бесконечно превосходит все автоматы искусственные».69 Философы Нового времени рассуждали о душе с точки зрения механики. Декарт сравнивал живое тело с функционирующими часами, а мертвое со сломанными. Страсти хотя и возникают в душе, они изучаются не как нечто греховное, а вполне объективно, т. е. в аспекте природы, а не нравов, и в соответствии с тогдашним идеалом рациональности на основе геометрического метода. Проблема видится в том, что, во-первых, понимание страсти как «встречи» телесной и духовной субстанций противоречит всей философии Декарта, основанной на дуализме; во-вторых, «геометрического» метода оказывается недостаточно для описания духовности страстей. Для этого необходимо привлечь методы моральных наук. Однако непоследовательность, в которой упрекали Декарта Выготский и др. современные авторы, это проблема механистической физиологии. У Декарта душа оказывается ареной не взаимодействия и борьбы духа и тела, а точкой касания двух параллельных процессов (точнее, их максимального сближения, ибо параллельные линии не соприкасаются). Но все-таки борьба разума со страстями –– это факт. Для описания воздействия духа на душевные страсти Декарт использует понятие воли, в форме которой разум присутствует в душе. Но и здесь нет подлинного взаимодействия: на мгновение желание и мысль сталкиваются, корректируются и разбегаются снова. Поэтому навязываемое Декарту Спекторским, Выготским и Мамардашвили механистическое понимание страстей не вполне адекватно. Нет никакого противоречия между постулатом о параллельности материальной и духовной субстанций и об их встрече в точке мозговой железы. Несмотря на то, 69 Лейбниц Г. Монадология. Соч. В 4-х т. М., 1982. Т. 1. С. 424. 68 что в ней материальные, или телесные колебания возбуждают душевные движения, последние упорядочиваются разумом. Страсти –– это «движение», «колебание». Важно, что душа рассматривается не как изолированная и автономная система, а как элемент (микрокосмос) универсума. Отсюда своеобразие моральной философии, в центре которой оказалось понятие воли. У Декарта говорится о «твердой» и «мягкой» душе и воле, которая понимается как проводник идей в мире страстей души. «Нет души настолько слабой, чтобы при хорошем руководстве она не могла приобрести полной власти над своими страстями».70 Воля не имеет пределов и границ, ибо она свободна. Страсти, наоборот, проистекают из механики. Столкновение и борьба страстей происходят не в душе, а в мозговой железе, где соприкасаются телесные и волевые движения. Главная проблема нравственной философии состоит в регулировании наших желаний. Средством обуздания страстей является мудрость. В итоге Декарт полагал, что душа имеет абсолютную власть над своими действиями. Спиноза рассматривал страсти не как соединение телесного и духовного, а как чисто психические феномены. Фишер считает, что это шаг к спиритуализму, Выготский не согласен с этим. Он считал, что Спиноза двигался не от тела к душе, а от души к телу. Как человек может управлять страстями души, влечениями тела? Во времена Спинозы философия возлагала надежды на разум, которым наделен каждый индивид и благодаря которому он обретает единство с другими. Прежде всего, благодаря истинному знанию люди могут организовать индивидуальную и общественную жизнь и достичь счастья. Но не только другие люди, а также природа и бог постигаются мышлением. Вместе с тем мышление не обладает нужными для всего этого средствами. Нет ни одного общего свойства между протяженными вещами и идеями, трансцендентный бог непостижим, и мысль бессильна перед аффектами. Таким образом, чтобы наметить программу рационального понимания, а главное, переустройства мира, необходимо было в корне преобразовать онтологию. С этого и начинает Спиноза. Картезианскому дуализму он противопоставляет учение о единой субстанции, которая имеет множество модусов, среди которых Спинозу, как и Декарта, больше всего интересует протяженность природных вещей и идеальность мышления. Когда читаешь возражения Спинозы против дуализма, с ними хочется согласиться. Но необычная философия Декарта, в которой миры разума и природы не соприкасаются, оказывается таким изобретением, которое трудно превзойти. Не удивительно, что собственное учение Спинозы вслед за поэтическим описанием единой и бесконечной субстанции, включающей природу, бога и человеческие действия, сразу же вводит дуализм модусов. Монизм Спинозы во многом вызван тем обстоятельством, что у человека душа и тело находят единство; отсутствие конфликта между ними является критерием их подлинного совершенства. Хотя ссылок на онтологию субстанции еще недостаточно, чтобы дать более или менее эффективные правила для руководства своим телом, однако она оказывается весьма существенной для понимания телесных влечений и душевных желаний. Во-первых, у Спинозы они не противопоставляются мышлению, а выступают его атрибутами. Они менее совершенны, чем чистая мысль, подвержены внешним влияниям и потому не адекватны. Вместе с тем они подлежат эпистемологической оценке и могут быть исправлены истинным познанием. Во-вторых, влечения и желания –– это 70 Декарт Р. Страсти души. Соч. в 2-х тт. М., 1975. Т. 1. С. 505. 69 не просто ментальные состояния, но и продукт движения телесной материи. Но в этом случае они должны оцениваться как следствия телесных взаимодействий, и к ним тогда неприложимы критерии мысли, которая не является причинно обусловленной со стороны материального мира. Декартову разделению духовной и материальной субстанций Спиноза противопоставляет тело как активный единый организм, тождественный своей деятельности. Это обстоятельство служит источником пафоса так называемого деятельностного подхода, согласно которому разделение на физическое и психическое определяется деятельностью, имеющей как бы две стороны: план и действие. Тело, по Спинозе, говоря современным языком, «интерактивно», оно оказывается одновременно активным и подчиненным внешним обстоятельствам; будучи индивидуальным, оно является частью других систем. Отсюда необходимость сознания целого и такого поведения, которое сообразуется с ним. Совершенство, реальность, существование индивида выражаются в такой самодеятельности, которая сообразна наибольшему числу взаимодействий. Таким образом, зависимость от других тел не только не подавляет, а наоборот, расширяет возможности самореализации индивида. Другие тела оставляют на его теле «следы» или «отпечатки», которые переходят с внешней поверхности кожи во внутренние мягкие слои тела и порождают образы, на основе которых строится «идея тела», познаваемая душой. По Спинозе, изменения тела не являются причиной сознания, скорее идея души о телесном состоянии является самим этим состоянием, воспринимаемым под атрибутом мышления. Отсюда образы души в принципе не могут расцениваться как заблуждения. Согласно учению Спинозы, аффекты ненависти, гнева, зависти и т.д., рассматриваемые сами по себе, вытекают из той же необходимости и могущества природы, что и все остальные единичные вещи. Однако это не редукционистский тезис. Речь идет о включении «психологии» как науки об аффектах в парадигму математического знания и, таким образом, не об онтологической, а о методологической «механике аффектов». Аффектом Спиноза называет то, что изменяет нашу способность к действию. Аффекты –– это изменения телесной или духовной активности, вызывающие динамические изменения человеческого существа, усиливающие или уменьшающие его способность к действию. Само мышление включается в эту способность действовать и определяется как «самосознающее действие». Это делает понятным утверждение Спинозы о том, что воля и разум –– это одно и то же. Такой подход позволяет по-новому понять их соотношение. Обычно ищутся ответы на вопрос о том, как разум может регулировать и ограничивать разрушительное воздействие страстей. При этом выясняется, что он совершенно бессилен на практике, и это порождает волюнтаризм в теории. Согласно Спинозе, аффект может быть уничтожен или ограничен только более сильным и противоположным аффектом. Идеи не могут изменить аффекта только от того, что они являются истинными. Идеи сами по себе бессильны, но они включены в действие и таким образом могут направлять и перенаправлять динамику аффектов. Идея добра, например, должна стать предметом желания и активного стремления. Человек выступает у Спинозы как порождение потребностей и жизненной активности, служащей этим потребностям. Психическая жизнь –– параллельный процесс, протекающий в «зеркале сознания». Однако речь идет не об «отражении» потребностей, а о тождестве сознания потребностям. Радикальным 70 следствием тезиса о тождественности является отказ от механистической детерминации как психических, так и телесных процессов, которая характерна для теории Декарта. По Спинозе, изменение психического характера или интенсивности эмоции не ведет к изменению состояния тела, ибо оно и есть само это изменение. Спиноза сохраняет концептуальный параллелизм (душа и тело существуют отдельно, когда мы думаем о них), однако он проводит онтологический или, точнее, методологический монизм и утверждает: то, что мыслится под этими атрибутами, не параллельно, а идентично. Здесь возникает спорный вопрос о материализме или идеализме Спинозы. Спиноза пытается объяснить высшие формы человеческой активности, такие как архитектура и живопись, в терминах описания телесной активности и выступает защитником материалистической психофизической теории. Он не верит, что тело действует по мановению души. Но аргументы Спинозы направлены против дуализма в пользу тождества. Можно утверждать, что он противник как материализма, так и идеализма. Точно так же можно отметить искусственность спора о том, является монизм Спинозы материалистическим или идеалистическим. Дело в том, что обе эти формы предполагают дуализм. Поэтому у Спинозы речь идет о единстве духовного и телесного в рамках действия самосохраняющегося одушевленного тела. Спиноза писал в «Этике»: Как решение души, так и влечение и определение тела по природе своей совместны или, лучше сказать, –– это одна и та же вещь, которую мы называем решением, когда она рассматривается и выражается под атрибутом мышления, и определением, когда она рассматривается под атрибутом протяжения и выводится из законов движения и покоя. В начале ХХ века с попыткой преодоления механицизма выступила «описательная психология» Э. Шпрангера и В. Дильтея, которые видели причину трудностей в том, что психология строилась как объяснительная наука. В этой связи Л.С. Выготский указывал на взаимодополнительность объяснительной и описательной психологии: точно так же как возникновение описательной психологии связано с существованием объяснительной, развитие описательной парадигмы необходимо будет поддерживать существование объяснительной. Выготский даже утверждал, что идея не только объяснительной, но и описательной психологии уже содержалась в Декартовом учении о страстях. Душевная жизнь имеет природную сторону, которая подлежит причинно-объяснительному анализу. Однако он оказывается неэффективным при анализе высших психических функций, которые требуют описательной, понимающей, структурной, телеологической психологии. М. Вартовский считал главным достижением Спинозы преодоление картезианского дуализма души и тела. Такой же точки зрения придерживался и Э.В. Ильенков, который в последние годы своей жизни занимался воспитанием слепоглухонемых людей и размышлял в связи с этим о теоретической психологии. Он говорил о том, что эта наука все еще остается во власти дуализма материального и идеального и не освоила монистическую философию Спинозы. Человек как родовое существо и гражданин мира у Канта Кант считается одним из основоположников философии субъективности. Принцип автономии субъекта он применил не только в теории познания, но и в этике. Канта упрекали за формализм и за абсолютизацию категорического императива, который расценивался как явное ограничение индивидуальной 71 свободы. Его идеи развивались не только в либеральном, но и в социалистическом направлении. Конечно, категорический императив является общим требованием, но он может дополняться разнообразными постулатами той или иной «прикладной этики» и таким образом легко вписывается в любой социальный контекст. Принципиальный вопрос относительно кантовской этики состоит в том, что есть зло, которое не надо желать себе и не делать другому. Во-первых, допущение об изначальном, метафизическом зле выступает необходимой предпосылкой морали. Кант это хорошо понимал, о чем свидетельствует его «Религия в пределах только разума», где содержится рассуждение «О существовании злого принципа наряду с добрым, или об изначальном зле в человеческой природе». Отказываясь от натуралистического истолкования, Кант вынужден допустить «грамматическое» различие добра и зла, без которого невозможно говорить о человеке.71 Во-вторых, то, что по моральным соображениям расценивается как зло, а по эпистемологическим –– как заблуждение, оказывается необходимым условием процветания жизни. Таким образом, зло одинаково присутствует в доктринах Канта и Ницше. Правда, они отрицали применимость понятия метафизического зла к человеку и разбили его на множество различных опасностей, которым эффективно противодействует не запретительная мораль, а разрешительная, т.е. прикладная этика. В-третьих, в сочинениях Канта можно проследить некую эволюцию: сначала человек принимается как склонный к добру от природы, затем нейтральный относительно добра и зла, и, наконец, в каком-то дьявольском виде. Автономность субъекта означает независимость от давления биологических, социальных, национальных, этнических и иных факторов. Это кажется опасным, ибо означает обоснование индивидуализма. Вместе с тем, Кант нашел черту, отделяющую субъективизм от индивидуализма. Автономный субъект сам ограничивает пределы своей свободы. Как кажется, это характерно и для либерального проекта, современные сторонники которого, в отличие от экономиста Ф. Хайека, не признававшего иных регулятивов, кроме рынка, настаивают на соблюдении прав человека. Этот подход хорошо согласуется с кантовскими идеями морального закона внутри нас и «мирового правительства» вне нас, контролирующего соблюдение прав человека, которые неизбежно нарушаются в рамках национальных государств. В принципе, космополитический подход к человеку как гражданину мира не должен вызывать возражений, если применять его в гармонии с другими требованиями. Трудность в том, что как права, так и моральные обязанности, являются универсальным по определению. Однако родина требует патриотизма, семья и дети –– патернализма, профессия –– исполнения должностных инструкций. Гуманный космополит, опирающийся на права человека, неизбежно вступает в конфликт с инстанциями государства. В основе кантовской космополитической программы гражданина мира лежит мораль и разум, что предполагает отказ как от биологической, так и национально-культурной обусловленности. На самом деле концепция человека как родового существа вовсе не приводит к обособленности и замкнутости, а, наоборот, раскрывает вполне реализуемый проект. Тот, кто удовлетворен и гордится собой, не боится чужого. Отсюда «злобно-недоверчивое» отношение людей друг к другу преодолевается не моралью самодисциплины и 71 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 92. 72 самотабуирования, а позитивной этикой добрососедства, дружественности и братства. Сущность человека как родового существа, по Канту, состоит в его разумности. Родовое существо –– это и есть гражданин мира, ибо разум не зависит от цвета кожи и национальности. Более того, он способствует преодолению биологической агрессивности и эгоизма. Качества человека, воспитанные в рамках локальных сообществ, т.е. принадлежность к этносу, группе или сословию считаются источником злобы, конкуренции и войн. Наоборот, разум делает человека космополитическим существом, преодолевающим стресс чужого. Именно это различие и должно стать предметом преодоления. Понимание родовой природы, определение сущности человека как разумного существа и, тем самым, как гражданина мира оставляет описанную дилемму не преодоленной. Как бы мы ни метались между привязанностью к крови и почве, с одной стороны, и принадлежностью к универсальной культуре, с другой, мы приходим к тяжелым проблемам, которые решаются войной. Любовь к родине и ответственность перед предками оборачивается шовинизмом, а космополитизм –– абсолютизацией европейской или иной культуры, которая требует во имя своего утверждения уничтожения чужой культуры. Стало быть, надо менять оба понятия человека как родового, так и всемирно-разумного существа. На самом деле в «Антропологии» Канта отвергается космополитическая позиция. Ведь «гражданин мира» –– это живущее на земле разумное существо, но, как полагает Кант, невозможно определить его характер, так как для сравнения требуется «неземное» существо. «Задача указать характер человеческого рода совершенно неразрешима, ибо решить ее можно было бы, сравнивая два вида разумных существ, исходя из опыта, а опыт не допускает такого сравнения».72 Если нельзя определить природу человека, то ее и нет, И человек является сам себя создающим существом. Наделенный способностью быть разумным, он может сделать из себя разумное животное. Разумность важна для его самосохранения, воспитания, управления собой и другими. Но природа вложила в человека зерно раздора. И Кант видел в этом ее непостижимую мудрость Прагматическая антропология Канта В «Антропологии» человек определяется согласно целям природы как существо, наделенное разумом, и одновременно как способное к агрессии и ненависти. С какой целью вложены эти исключающие друг друга способности, Кант считает непостижимым. Он исходит из их данности и постулирует троякого рода способности или задатки человека, отличающие его от других обитателей земли. То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем Я, бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живущими на земле. Благодаря этому он становится личностью. Самосознание, способность мыслить свое Я Кант и называл рассудком. Однако после хвалебной оды следует предупреждение об эгоизме: человек везде, где только возможно, проявляет и утверждает свое любимое Я. Кант выделил 3 формы эгоизма: логический, который проявляется в игнорировании проверки своих мнений мнениями других людей (противовесом ему Кант считал свободу печати); эстетический –– абсолютизирующий собственный вкус; моральный, исходящий из собственной пользы. Эгоизму он противопоставлял плюрализм, 72 Кант И. Антропология. СПб., 2002. С. 430. 73 свойственный гражданину мира. Не значит ли это, что Кант боялся проявлений эгоизма и искал его причины как раз в «слишком человеческом»? Например, говоря о важной с точки зрения познания способности представления, Кант указывал, что наша способность внимания имеет странную и нехорошую особенность –– непроизвольно устремлять взор как раз на недостатки других. Не построена ли «Антропология» по образцу бэконовской теории идолов? Действительно, кантовский дискурс о человеке –– разновидность критики, свойственной эпохе Просвещения. Она является описанием препятствий реализации морального и познающего субъекта, которые кроются в человеческой природе. Возвышенным речам о человеке, которые представляли собой смесь восторга и ужаса, христианской концепции, сочетающей богоподобие и грехопадение, мыслители Просвещения противопоставили научное понимание человеческой природы: человек –– это просто машина. Эпоха анатомических театров окончательно устранила пространство метафизики и религии, т. к. в процессе вскрытия и детального описания взаимодействия внутренних органов не обнаружилось никакой души. Вместе с тем, это не исключало поисков чудесного, ибо ни один дискурс о человеке не находит признания без обещания разгадки его тайны. Это объясняет популярность знаменитого романа Шелли «Франкенштейн», где искусственно созданное существо приводится в действие электрической и магнетической энергией. Не удивительно, что именно в эпоху Просвещения расцвел спиритизм и спиритуализм. Кант, хотя и писал о внутреннем опыте, однако предостерегал относительно абсолютизации спонтанных состояний, которые характерны для мистики. Наоборот Гегель свою «Философию духа» начал с описания магнетопатии. Очевидно, что он испытывал сильный интерес к сеансам Месмера, и, в отличие от Канта, относился к «ясновидению» скорее положительно, чем отрицательно. Кант придерживался космополитической позиции. Все описанные в «Антропологии» качества человеческой природы сопротивляются признанию как всемирно-гражданского состояния, так и моральности. Наша животная природа, принадлежность, этносу, нации, государству заставляет быть автономными эгоистами, порождает конкуренцию и даже враждебность по отношению к другим. Итак, злобно-недоверчивое отношение людей друг к другу укоренено в антропологические характеристики. Умение сдерживать себя перед их напором и составляет главное качество человека, его достоинство. Таким образом, кантовский дискурс о человеке сохраняет хвалебную риторику, возвышающую человека, внушающую уверенность, что он может реализовать свободу вопреки давлению природных, национальных и государственных сил. И вместе с тем, чего-то не хватало в речах Канта. Человек как гражданин мира оказался слишком абстрактной и малопривлекательной фигурой. Уже Фихте снова восхвалял «замкнутое торговое государство» и видел назначение человека в защите отечества. Недееспособность гражданского общества заставила Европу усиленно заняться воспитанием нации, которая все резче отличалась от совокупности людей, связанных общественным договором. Снова было реанимировано чувство патриотизма. Для сплочения нации потребовалась общность территории, языка, а также культуры и даже вероисповедования. Когда к этому добавилась кровь и почва, т. е. общие предки и земля, от которых произошел и на которой вырос гражданин, то получилось нечто столь опасное, что после Второй мировой войны снова началась критика теперь уже национального государства. 74 Кантовский антропологический проект на практике имел не слишком много сторонников, потому что понятие гражданина оказалась слишком холодным для мобилизации индивидов. На самом деле то, что Кант воспринял как препятствие моральности и гражданству, может рассматриваться как условие общения. Аристотель и другие исходили из того, что люди рождены жить вместе. Кант не сомневается, что человек «предназначен» ходить на двух ногах, наделен разумом и вообще является мирным животным. Вопрос видится Кантом в том, является он общественным или одиноким, избегающим соседства животным. В отличие от Аристотеля, второе решение кажется Канту более вероятным. Этим он выражает дух своего времени и даже считается учредителем индивидуализма, тогда как Ницше –– его носителем, т. е. наследником Канта. Что такое природа человека у Канта? В целом у Канта можно встретить двойственную оценку природы человека. С одной стороны, нет никакой природы человека, ибо он незавершен и не имеет готовых инстинктов. С другой стороны, признаются природные задатки, склонности и желания. От природы человек не зол, скорее, он наделен задатками добра. По мнению Канта, «природа человека» означает его разумность. «Природа хотела, чтобы человек все то, что находится за пределами механического устройства его животного существования, всецело произвел из себя и заслужил только то счастье или совершенство, которое он сам создает свободно от инстинкта, своим собственным разумом». 73 В «Трактате о мире» также учитываются антропологические параметры. Они часто расцениваются моралистами как препятствия для исполнения высших принципов. И все же Кант вынужден с ними считаться. Более того, он исходит из злобно-недоверчивого отношения людей друг к другу. В этом часто видят нарастание мизантропии у стареющего философа. На самом деле, Кант намеренно исходит из отрицательных качеств человека и пытается доказать, что даже «дьявольское существо» приходит к необходимости исполнения нравственного закона. В трактате «О педагогике» он озабочен тем, чтобы использовать природные склонности для выработки морального характера. Кроме «плохих», есть «хорошие» задатки и их надо воспитывать. Дисциплина подчиняет человека законам человечности. «Дети должны воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно лучшего, состояния рода человеческого, т. е. для идеи человечества и сообразно его общему назначению».74 Кант не отрицает природных задатков, а предполагает их воспитание через призму назначения человека. Он полагает, что злых начал в человеке нет. Отсюда план воспитания должен быть составлен с космополитической точки зрения. Под «воспитанием» Кант понимает уход, попечение, дисциплину и обучение. Все это отличает человека от животных. Человеческий род должен своими усилиями постепенно, из самого себя, вырабатывать все свойства, присущие человеческой природе. Одно поколение воспитывает другое. Философия религии Канта базируется на разуме. Кант различал, во-первых, гражданско-юридическую или политическую общность на основе принудительного публичного права, поддерживаемого государством, вовторых, этически-гражданскую общность, основанную на законах добродетели. Государственному объединению предшествует состояние войны, которое Кант 73 74 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения. Т. 6. С. 9 –10. Кант И. О педагогике. Трактаты и письма. М., 1980. С. 451. 75 понимает как необходимость постоянно быть начеку. Этической общности предшествует естественное моральное состояние, при котором каждый по отдельности стремится к нравственному совершенству. Субъектом законов, ограничивающих произвол индивидов, является народ. Но он не является и не может быть моральным законодателем. Моральный закон исполняется не через внешнее принуждение, а как повеление долга. Поэтому необходимо допущение высшего морального существа. Создание морального народа –– это дело Бога. Но и сами люди, полагал Кант, не могут оставаться в стороне. Они объединяются на основе идеи церкви. Кант выдвигает по отношению к ней следующие требования: 1. Всеобщность, принципиальное единство, исключающее секты. 2. Чистота (свобода от суеверий и фанатизма), объединение на основе исключительно моральных законов. 3. Объединение на основе принципа свободы, демократизм. 4. Неизменяемость принципов и целей. Такая общность отличается о любой формы государства и строится как семья, в рамках которой достигается добровольное, всеобщее сердечное единство. Возникает вопрос об отношении всемирно-гражданского и религиозного состояния. Пожалуй, можно представить дело так: всемирно-гражданское состояние преодолевает границы национальных государств и выводит людей на уровень человечества. Не ясно, в чем космополиты, освободившиеся от родины и родственников, находят опору законов? Механизмом признания, например, у либерала Хайека, оказывается рынок. Там нет места морали. Вера в высшее моральное существо, законодателя, остается у Канта важным условием прочной общности. Чистая вера понимается как средство и форма публичного объединения людей. Благодаря распространению свободной моральной веры на земле может установиться божье царство, которое есть ни что иное, как публичное всеобщее этическое государство. «Чистая религиозная вера одна только может обосновать всеобщую церковь, ибо только она является верой разума, которую можно убедительно сообщить каждому, между тем как основанная только на фактах историческая вера может расширить свое влияние не далее, чем это могут достигнуть по обстоятельствам времени и места известия, дающие возможность судить о ее достоверности».75 Кант превратил религию в прагматический инструмент реализации морали: исполнение моральных обязанностей по отношению к другим людям –– это и есть лучшая форма служения Богу. Религия у Канта служит средством основания «божественного государства». Гегель позже отказался от идеи теократии, к которой тяготели русские религиозные философы. Он мечтал об империи духа. Кант отметил, что в человеческом роде заложено стремление к фундаментализму как имперского, так и религиозного типа. Но империи раскалываются на множество маленьких самостоятельных государств, а притязающая на универсальность церковь раздирается сектами. По мнению Канта, истина и добро коренятся в естественных задатках каждого человека. Их публичное признание преодолеет политические препятствия для создания этического государства Являются ли добрые европейцы космополитами? 75 Кант И. Религия в пределах только разума. Трактаты и письма. С. 172. 76 Как бы ни критиковали европоцентризм, идея Европы значима для всех. В эпоху глобализации вопрос об освоении европейского культурного капитала приобретает особый смысл. В венском докладе Э. Гуссерля (1937 г.) Европа определялась как специфическая духовная общность, которая имеет всемирно историческое значение. Внутри этой общности отдельные люди действуют на разных уровнях в разнообразных социальных группах –– семьях, родах, нациях, будучи тесно связанными духовно.76 И у Канта гражданин мира –– это, конечно, европеец. Хотя Кант говорил о союзе народов и осуждал колонизацию, тем не менее, «цель природы» установлена им с позиций европейской морали. Различая дикие и цивилизованные народы, он ориентируется на европейцев. Дикость –– это независимость от законов. Если Канта можно упрекнуть в европоцентризме, то его позиция по национальному вопросу остается неясной. С одной стороны, он говорил о «союзе народов», о вечном мире, чтобы исключить конфликты между национальными государствами. С другой стороны, он признавал конфликт формой развития, что можно расценивать как оправдание войн, в том числе и за национальную автономию. Должна ли каждая нация стать государством и должно ли общество конституироваться в форме замкнутого мононационального государством –– этот вопрос чрезвычайно актуален в постсоветском пространстве. Кажется, он мало беспокоил Канта, который мыслил в мировом масштабе. Может быть, его «космополитизм» –– это реакция на раздробленность Германии или на «национализм» Фихте? Кант различает возрастные особенности людей, а также стадии развития общества (дикие и цивилизованные народы), но не ставит вопроса о расах, нациях, этносах. Вместо политической борьбы за самостоятельное государство он предполагал нечто вроде культурной автономии. Кант считал раздельное существование многих национальных государств лучшей, чем единое всемирное государство, формой сосуществования народов. Он полагал, что бездушный деспотизм –– это кладбище свободы, Поскольку он ослабляет силу народа, а соревновательность и конкуренция способствуют их развитию. Природа разъединяет народы и удерживает от смешения различием языков и религий, но она же своей хитростью, благодаря врожденному корыстолюбию, влечет людей к торговле и общению. Гуссерль также допускал многообразие наций, культур, государств. Европа –– это семья народов, единство которых имеет чисто духовный характер. По отношению к понятиям «раса», «род», «этнос», «природа человека» он осуществлял феноменологическую редукцию. Основанием этого служит наличие идеологических предпосылок в конструкции этих понятий. В их трактовке недопустим натурализм. Они подлежат такой же критике, какой подвергаются идеологические конструкты. Кант признает автономию «порядка природы», который понимается некритически. Остается загадкой, почему он не совершил «коперниканского переворота» в антропологии, как он это сделал в своей теории познания? Не считая человека готовым продуктом природы, не признавая возможности познания вещи в себе, Кант постулирует такие «природные» качества человека, которые кажутся сомнительными. Но можно сказать и по другому. Нравственный закон абсолютен. Однако его исполнение предполагает относительность к средствам реализации. Законы разума Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия. Культурология ХХ век. М., 1995. С. 301. 76 77 реализует конечное земное существо. Поэтому следует принимать во внимание «природу» человека. Интерес Канта к родовому человеку не натуралистический, а «прагматический». Он не пытается обосновать нравственный закон ссылками на примеры морального поведения людей. Наоборот, принимая человека в его безнравственности, Кант пытался найти способ привести людей и народы к исполнению нравственного закона. В работе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» Кант предлагал в качестве предмета истории как науки изучать не переживания и намерения отдельных мужчин и женщин, а человечество в целом. Это напоминает Марксово понимание истории: «Отдельные люди и даже целые народы мало думают о том, что когда они, каждый по своему усмотрению и часто в ущерб другим преследуют свои собственные цели, то они незаметно для самих себя идут к неведомой им цели природы и содействуют достижению этой цели, которой, даже если бы она стала им известна, они бы мало интересовались».77 Но есть и существенное отличие. Редукция действий осуществляется не к мотивам социально-экономического плана, а к природе человека: «то, что представляется запутанным и не поддающимся правилу у отдельных людей, можно было бы признать по отношению ко всему роду человеческому как неизменно поступательное, хотя и медленное, развитие его первичных задатков».78 Конечно, это сильная идеализация истории. Если посмотреть на мотивы человеческих действий, то может охватить печаль: «все в целом соткано из глупости, ребяческого тщеславия, а нередко и из ребяческой злобы и страсти к разрушению».79 Отсюда закономерно допущение «нечеловеческой» цели истории: «поскольку нельзя предполагать у людей и в совокупности их поступков какую-нибудь разумную собственную цель, нужно попытаться открыть в этом бессмысленном ходе человеческих дел цель природы, на основании которой у существ, действующих без собственного плана, все же была бы возможна история согласно определенному плану природы».80 «Средство, которым природа пользуется для того, чтобы осуществить развитие всех задатков людей, –– это антагонизм».81 Под антагонизмом Кант имеет в виду «недоброжелательную общительность людей», стремление как к общению, так и к уединению, а также сопротивление другим ради самоутвеждения. Идиллическое единство ведет к застою. Поэтому он благословляет природу за свойственные человеку неуживчивость, завистливо соперничающее тщеславие, ненасытную жажду обладать и господствовать. Без них все превосходные задатки человечества оставались бы навсегда неразвитыми». Величайшая проблема для человеческого рода –– это достижение всеобщего правового гражданского общества, в котором сочетается личная свобода и принуждение к признанию свободы других. Главную проблему Кант видел в том, чтобы господин, которому доверена верховная власть, заставляющая свободных индивидов подчиниться общепризнанной воле, сам был справедливым человеком. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения. Т. 6. С. 7–8. 78 Там же. С. 7. 79 Там же. С. 8. 80 Там же. С. 8. 81 Там же. С. 11. 77 78 Отношения между государствами Кант рассматривал по аналогии с конкуренцией людей. Он верил, что войны и бедствия, проистекающие от войн между государствами, заставят найти такое гражданское устройство, которое обеспечит безопасность людей. «Проблема создания совершенного гражданского устройства зависит от проблемы установления законосообразных внешних отношений между государствами».82 Кант предлагал описать историю человеческого рода как выполнение тайного проекта природы: образование всемирного гражданского общества. Этот евлогический жест должен воодушевлять людей. В работе «К вечному миру» Кант сформулировал законы, по которым люди живут во всемирно-гражданском состоянии. Должен существовать особого рода союз, который можно назвать «союзом мира», который положит конец войнам раз и навсегда. Его задача в том, чтобы обеспечить свободу государств, причем без принуждения, как в случае объединения индивидов. Путь к этому Кант видит на основе какой-либо сильной республики, по природе своей тяготеющей к вечному миру, которая могла бы стать центром федеративного объединения других государств. Остальные государства могли бы примкнуть к ней, чтобы в соответствии с номами международного права обеспечить свободу. Федерализм в соединении с международным правом кажется Канту достаточным основанием достижения всемирно гражданского состояния: «Не положительная идея мировой республики, а негативный суррогат союза, отвергающего войны».83 Важно отметить, что речь идет не о едином государстве, а о союзе народов, принявших условие всеобщего гостеприимства.84 Это понятие выражает запрет обращаться с иностранцем как с врагом. А в положительном аспекте оно означает право посещения любой страны, или, как говорят сегодня, свободного перемещения по миру. Естественно, Кант сохранил старые философские амбиции. Об этом свидетельствует «тайная статья» общественного договора, провозглашающая право философа публично высказываться об общих максимах войны и мира и рекомендацию правителям их выслушать. Каковы гарантии вечного мира? Кант находит их в природе. Именно она обеспечила возможность жить повсюду. Но и война присуща человеческой природе. Поэтому Кант трактует ее как форму общения. Люди не ангелы. Кант это прекрасно понимал. Но его проект, как он полагал, осуществим, даже если человек является сущим дьяволом: так организовать общественное устройство, чтобы, несмотря на столкновение их личных устремлений, чтобы зло одного парализовало зло другого.85 Итак, становится ясным, почему поздний Кант во главу угла поставил вопрос о человеке, почему его вообще интересовала проблематика антропологии. Он был озабочен поиском «механизма» реализации нравственного закона. Кант не был ни формалистом, ни идеалистом. Где может быть реализован категорический императив? Многие полагают, что только на небе, в мире идеальных ценностей. Но тогда в нем нет никакого смысла. Он должен быть реализован здесь на этой земле. Для доказательства этого Кант и привлекает «закон природы». Принимая несовершенство человека, принимая в самой крайней форме «злобную недоверчивость» людей, их стремление к господству и наживе, он стремился Там же. С. 15. Кант И. К вечному миру // Кант И. Сочинения. Т. 6. С. 275. 84 Там же. С. 276. 85 Там же. С. 285. 82 83 79 доказать, что даже самые эгоистичные и злобные существа вынуждены принять всемирно гражданское состояние. Точно также национальные государства вынуждены не только воевать, но и сотрудничать друг с другом. Если в своих ранних работах Кант считал, что нравственность предполагает свободу человека от давления биологических, социальных и иных факторов, то здесь он не только принимает их во внимание с целью борьбы с ними, но принимает человека как природное и социальное существо и даже признает его условием возможности реализации нравственного состояния: «При помощи эгоистических склонностей, которые естественным образом даже внешне противодействуют друг другу, разум может использовать механизм природы как средство для того, чтобы осуществить свою собственную цель –– предписание права –– и этим способствовать внешнему и внутреннему миру». 86 Кантовская идея вечного мира сегодня. Взгляд на человека как на гражданина мира характерен для Канта, который, исходя из универсальности морали, стремился преодолеть узкое определение свободы границами национального государства. Он искал способ избежать войны между суверенными государствами. Право прекращает естественное состояние среди индивидов. Чтобы преодолеть его на уровне отношений между государствами, Кант предлагает переход к всемирно-гражданскому состоянию. Главный вопрос, возникающий при этом: как обеспечить постоянное самоограничение суверенных государств? Силой, сдерживающей междуусобицу, могла бы стать некая сверхдержава. На самом деле современность открывает новую возможность. Во-первых, после Второй мировой войны возникли новые формы пацификации, порожденные глобализацией. Транснациональные кампании, банки, издательства, информационные концерны существенно ограничивают амбиции правительств тех или иных национальных государств, разрушают их классическую державную политику. Во-вторых, после Нюренбергского процесса в декларациях международных надгосударственных организации и, прежде всего, ООН движение за мир во всем мире приобрело конструктивный характер. Втретьих, мировая общественность институализировалась в форме разного рода негосударственных организаций наподобие Гринпис или Международной амнистии. Проект мирового гражданства вызвал протест у интеллектуалов, защищающих как национальные, так и маргинальные ценности и идиомы. Метафизика и мораль вынуждены оценивать и доказывать свои преимущества, ссылаясь на самих себя. И поэтому попытки выработать универсальный язык (метафизикой, религией, моралью) для оценки любых высказываний и действий на практике приводят к оправданию своего и осуждению чужого. Опираясь на технику деконструкции, Ж. Деррида в докладе на международном коллоквиуме, посвященном теме культурной идентичности, тщательно отследил остатки воинственного европоцентристского дискурса в современных проектах как метафизиков, так и практических политиков.87 Во многом его аргументы направлены против проекта Хабермаса, в основе которого лежат ключевые понятия демократии, разума и нравственности. Деррида указывает на недостатки рациональности, которая тесно связана с европоцентризмом. Как 86 87 Там же. С. 286. См.: Деррида Ж. Другой мыс // Метафизические исследования. № 11. СПб., 1999. 80 выход, он предлагает разум, открытый к другому и открывающий другое внутри своего. «Союз народов», как о нем мечтал Кант, и современное «мировое сообщество», –– конечно, разные институты. Преимущества кантовской модели состоит в том, что мирное сосуществование достигается не «мировым правительством», а свободным решением народов жить в мире. Сегодняшние миротворческие интервенции вызывают подозрение, что универсалистский проект, стирающий границу между своими и чужими, оказывается формой морального ханжества. Более того, он хорошо вписывается в стратегию «маленькой победоносной войны», которая считается политиками вроде К. Шмитта хорошим средством для поддержания боеспособности своего населения. Проблема с правами человека состоит в том, что она может быть переведена в чисто моральную плоскость, ибо основанная на ней политика оказывается аналогичной любой другой фундаменталистской политике. Чтобы избежать этого, следует напомнить кантовскую модель вечного мира, достоинством которой является не разделение, а сближение морального, политического и юридического. Но в каком случае интервенция, направленная на защиту прав человека, может быть одновременно морально, политически и юридически легитимной? Ответ на этот вопрос зависит не столько от общего принципа, сколько от способа его применения. Кант не давал конкретных рекомендаций. Они могут быть выработаны только как продукт согласия политиков и народа. Чтобы выжить в состоянии конфликта и даже без перспективы на достижение согласия, приходится уравновешивать отношения с другим на иной, причем не столько на моральной, сколько на политической основе. Но здесь мы снова сталкиваемся с кантовским различием морального политика и политического моралиста. Предложение Канта соответствует делиберативной позиции, направленной на социальное сотрудничество, на готовность внимать разумным доводам. Именно делиберативная среда предоставляет возможность свободного обмена мнениями, в ходе которого каждый заявляет и защищает собственные интересы, но реализует такие, которые прошли проверку на общественном форуме, т. е. получили общую поддержку. Суть делиберативной политики состоит в том, чтобы образовать общество не только на пути этического согласия, но и за счет уравновешивания интересов и справедливого сопряжения результатов. Таким образом устанавливается внутренняя связь между дискурсами этического самопонимания и юридической справедливости. Ю. Хабермас в своих работах вновь попытался привлечь внимание к кантовской идее вечного мира. Он разработал оригинальный проект включения другого, основанный на стратегии баланса, на искусстве компромисса, на политике договоренностей. Во-первых, как политический проект это предложение весьма перспективно. Оно обеспечивает возможность мирного сосуществования и тем самым дает время для размышлений о способах более тесного с ним сближения по принципиальным вопросам. Во-вторых, оно важно для переосмысления природы моральных решений: если проекты достижения единства людей во вселенском масштабе на основе солидарности (национальной, культурной, гражданской) не удавались, то, скорее всего, и мы не окажемся умнее или удачливее своих предшественников. В концепции национальной демократии формирование политической воли представляется как единодушие представителей гомогенной нации, которая мыслится в качестве естественного субстрата государственной организации: все хотят одного и того же и возгласами выражают принятие или неприятие той или 81 иной альтернативы. Отсюда демократическое равенство трактуется не как право на участие в публичной дискуссии, а как причастность к коллективу, к нации. Согласно демократической схеме, народ утверждается актом конституции, однако последняя сама определяется как выражение воли народа. Отсюда принадлежность к «народу» оказывается некой судьбой, а не выражением свободной политической воли. Важная роль в развитии этого тезиса принадлежит Карлу Шмитту, который в ходе интерпретации конституции Веймарской республики собственно и сформулировал идею национального государства: «Демократическое государство, которое находит предпосылки своей демократии в национальной однородности своих граждан, соответствует так называемому национальному принципу, согласно которому нация образует государство, а государство –– нацию».88 Отличие народа от «человечества», на понятие которого опирается концепция прав человека, приводит концепцию национальной демократии в вопиющее противоречие с разумно-правовым республиканизмом. Последний считает народ продуктом общественного договора, с его стремлением жить по законам публичной свободы. Первоначальное решение приступить к автономному демократическому законодательству осуществляется как правовой акт взаимного признания друг друга в качестве субъектов положительного права. Основные права вытекают здесь не из априорного существования народа, а из идеи правовой институциализации процедуры автономного законодательства. Если все принимают участие в законодательном решении, в акте учреждения конституции, то это обеспечивает всем, даже чуждым друг другу людям, равные права и устраняет произвол власти. Но хотя конституция написана от имени народа, она вовсе не реализует его интересы. Более того, она принимается решением большинства и не оставляет для меньшинства иной формы реализации права на протест кроме террористических актов. Хорошо бы соединиться на духовной основе, как это предлагали русские философы всеединства, но пока время для этого не пришло, следует создавать более реалистичные проекты. Формирование общественного мнения и политической воли осуществляется не только в форме единодушия относительно общих интересов и общих врагов, но и по модели публичных дискурсов, нацеленных на рациональную оценку общих интересов и ценностных ориентаций. Субъекты права –– это не собственники самих себя и не солидарные частицы целого –– народа, а индивиды, достигающие в процессе коммуникации нравственного признания друг друга, что и обеспечивает социальную интеграцию автономных индивидов. Свобода и опыт признания у Гегеля В европейской истории можно выделить несколько типов опыта переживания свободы. Уже античный мир являет собой нечто, удивляющее нас. Чем больше читаешь греческих философов и ораторов, тем меньше понимаешь, как могло оказаться жизнеспособным такое общество. Оно совсем другое, чем наше. В надгробной речи Перикла говорится о том, что величие Афин состоит в том, что свободные граждане готовы отдать за полис свою жизнь. Таким образом, речь идет о тождестве полиса и индивида. Но с современной точки зрения такое общество должно называться тоталитарным. Методы воспитания афинских граждан должны казаться нам совершенно неприемлемыми, и поэтому, когда 88 Schmitt C. Verfassungslehre (1928). Berlin, 1983. S. 231. 82 политики и воспитатели говорят о возрождении идеалов Греции, то они подменяют прошлое современным. Агора стимулировала человеческую телесность и формировала опыт общественности как способность непрерывной риторической речи. С одной стороны, культ тела, а с другой –– понимание его несовершенства привели к развитию практик управления и контроля телом посредством гимнастики, диетики и риторики. И несмотря на осознание собственного несовершенства, ни один народ в мире не пережил так сильно, как греки, единство полиса и человека. Не менее изумительна основа жизни и опыт свободы в христианском средневековье. Церковь –– место любви и единства, покаяния и прощения. Она соединяет людей в духовную общность не только проповедью, но одновременно болью и страданием. Признание совершенства Бога требует признания несовершенства человека, ибо только зная о собственном несовершенстве и греховности, человек может терпеть насилие со стороны других людей и, более того, прощать их. Без этого опыта нравственного признания невозможно сильное государство, в котором соединяется несоединимое –– насилие и примирение, расслоение и единство. Сострадание нечеловеческим мукам Христа –– вот секрет способности прощать других и таким образом сохранять единство в условиях, когда каждый человек испытывал постоянное унижение и насилие. Античный человек умел переносить боль и страдание и был приучен жертвовать своей жизнью ради общества. В этом Перикл и видел причину величия Афин. Но он не умел получать наслаждение от страдания, как это научились делать христиане. Собственно, христианская культура представляет собой подлинную революцию, ибо перерезает пуповину, связывающую человека с природой. Теперь порядок и закон, мораль и справедливость не выводятся, а противопоставляются природе. В эпоху Возрождения расцветают гуманизм и антропоцентризм, провозглашающие свободу человека главной ценностью. Постепенно эти принципы обрастают «строительными лесами», указывающими путь реализации человеческого. Ими становятся разум и его коррелят в нравственной сфере –– понятие долга. Экономия и расчет, задуманные как средства реализации свободы, постепенно становятся самоцелью и заменяют ее. То, что сегодня называют, вслед за Марксом, отчуждением, началось давно, и уже придворное общество приучало к сдержанности, дисциплине, расчету и самоконтролю. Капитализм еще был в далекой неопределенной перспективе, но буйные нравы рыцарского сословия уступали место этикету, благородным манерам, учтивой речи, характерным для придворных. Не только протестантская этика, как считал М. Вебер, но и дворянский этос сыграли важную цивилизационную роль в становлении нового класса буржуазии. Богатые выскочки постепенно заводили салоны, приобщались к культуре и таким образом сохраняли и расширяли не только денежное, но и культурное наследие. В сущности успех европейской цивилизации определялся тем, насколько ей удавалось связать кажущееся несоединимым: с одной стороны, рынок, который порождает агрессию, конкуренцию и вражду, и деньги –– этот желтый дьявол, сжигавший алчностью сердца людей; с другой –– такие культурные пространства, как христианский храм, где культивировалось сострадание и достигалось единство, двор, где культивировалось сдержанное цивилизованное поведение и благородство манер, а также общественное и приватное, становящиеся все более враждебными по мере усиления 83 автономности индивидов. Особенно в России, где, по словам историка С. Соловьева, государство укреплялось, а народ слабел, эта враждебность сохранялась слишком долго. Вообще говоря, появление свободных индивидов поначалу пугало религиозное общество. Так в Венеции, которая издавна была перекрестком торговых путей, раньше всего было осознано опасное воздействие рынка. Что заставит сплотиться автономных индивидов для защиты отечества? Декарт начинает с чистого Я, в своих сомнениях отказывающегося от родины, семьи и даже Бога, который может обманывать. Но он дает человеку разум, который оказывается лучшей заменой религиозных ценностей, вероятно, уже испытывающих сильную инфляцию. Декарт как бы успокаивает своих современников: разум –– вот что сохранит прежние религиозные основы единства. А. Смит также говорил, что рынок не разъединяет, а объединяет людей новыми более прочными связями, способствует коммуникации города и деревни, разных сословий, государств и даже культур. Все приходит в движение, и особенно разительно меняются города и интерьеры жилищ. Для автономных индивидов, совершающих выгодные сделки и покупки, строятся широкие улицы и совершенствуются коммуникации, для восстановления сил после тяжелого трудового дня возводится удобное жилье, для прогулок, отдыха и развлечений разбиваются площади и скверы. Однако французская и русская революции обнаружили нечто иное и непредусмотренное теоретиками рынка и рациональности. А именно –– нищую голодную толпу, которая выплеснулась на широкие улицы и площади, построенные для променадов свободных индивидов. За идеалы свободы было заплачено дорогой ценой, которую можно понять сегодня. Откладывая свободу до лучших времен, сдерживая свои спонтанные порывы, контролируя чувственность, управляя поведением, человек оказывался в рабстве. Творчество и свобода считались фундаментальными характеристиками человека уже в античной философии. В эпоху Ренессанса личность приобрела особую ценность, волюнтаризм которой уравновешивался чувством христианского долга. Если у Платона и Аристотеля человек сам выбирает «парадигму» жизни и стремится к совершенному благу, но обладает лишь свободой выбора, а не способностью к творчеству самих норм, которые принадлежат объективному порядку Космоса, то самоощущение Нового времени проникнуто чувством свободы творчества и переживанием уникальности положения человека в мире всеобщего детерминизма. Человек вечно находится в поиске своей сущности. Уже ветхому Адаму была предоставлена возможность выбора и самоизменения. Будучи образом Бога и зеркалом мира, человек может осуществить не одну, а множество возможностей, он может стать выше или ниже животного, но никогда не равен ему. В немецкой классической философии происходит существенное ограничение в понимании свободы: Кант исходил из понятия долга и сводил свободу к выбору. Сегодня мы мыслим свободу в рамках противоположности всеобщего и индивидуального. Само слово «свободный» означает автономную, самостоятельную личность, обладающую собственностью, распоряжающуюся своим финансовым или символическим капиталом. Различие христианского и буржуазного понимания свободы остро переживал Гегель. В работе «Дух христианства и его судьба» он отмечал недостаток формального законодательства, который видел в универсализации частного интереса и 84 одновременно в подчинении индивидуального общему. Он показывает, что в результате исполнения формальной справедливости преступник и жертва остаются не примиренными. Как эффективную форму признания он выбирает любовь, прощение и примирение. В зрелом периоде своего творчества Гегель связывал самость человека не столько с духовными практиками, сколько с социальными, экономическими и юридическими институтами. Прогресс свободы видится им в достижении такого состояния, при котором человек минимально подвергался, не говоря о принуждении, разного рода опеке. В западной Европе уже в эпоху Просвещения философы выступили против абсолютизма и предложили идею не столько запретительного, сколько разрешительного права. При этом люди становились все более чувствительными к попыткам регламентировать порядок жизни даже со стороны таких безусловных и авторитетных инстанций, как право, наука и мораль. Собственно, история свободы, если брать ее в аспекте «свободы от», представляется, начиная с лозунга о «смерти Бога», как цепь последовательных освобождений. Прогресс свободы Гегель видел в эмансипации разума. Кажется, что подчинение идее является настолько мягким по сравнению с опытом господства и рабства, что здесь происходит совпадение свободы и необходимости. Благодаря абсолютной идее оказывается возможным такой опыт признания, который обеспечивает интеллектуальное, нравственное и даже эстетическое единство людей. Однако после Гегеля развернулась критика разума. Одни мыслители стали критиковать его нечеловеческий характер. Разум инструментален и подчиняет человека логике экономических отношений, делает его холодным и расчетливым. Другие, напротив, отрицательно относились к идее гуманизации разума, считая его изначально гуманным. Все это дает повод поставить под вопрос современное понимание свободы, основанное на принципах автономности и индивидуальности, и попытаться очертить его границы. Всегда ли они служили ориентирами в истории Европы, являются ли они основополагающими сегодня в разных культурных и политических регионах мира? Рождение Я Реконструируя развитие самосознания, Гегель писал, что сначала Я выступает как ночь, абсолютная темнота, которая постепенно освещается образами предметов: «Царство образов –– это грезящий дух».89 Дальнейшее наступление самосознания на предмет проявляется в языке. Знак –– это снятие бытия объекта, превращение его в сущность сознания: «через имя предмет рожден изнутри как сущий. Это первая творческая сила духа».90 Изобретение имен –– это произвол, но закрепленный в знаке. Память –– форма порядка, первый труд пробудившегося духа. Это уже занятие самим собой, отличающееся от воздействия, которое оказывают на сознание вещи. Я становится деятельным и полагает себя как всеобщее. Это происходит на уровне воли: желания лишь кажутся автономными, на самом деле, они зависят от того, чего хотят. Удовлетворение вожделения –– не только уничтожение предмета, но и труд. Человек существо потребляющее и трудящееся. Труд предполагает орудие, орудие предполагает хитрость. «Хитрость –– это великое умение вынудить 89 90 Гегель Г-Ф-В. Йенская реальная философия. Работы разных лет в двух томах. М., 1972. С. 292. Там же. С. 292. 85 других быть такими, какие они в себе и для себя». 91 Благодаря хитрости, полагал Гегель, воля сначала проявляет себя как женское начало. В отличие от «Феноменологии духа», где диалектика желания раскрыта на примере борьбы мужчин за господство, в «Реальной философии» используются две фигуры (точнее, два характера): мужчина и женщина. Один характер –– мужское побуждение –– определен как открытая, прущая напролом сила. Другой –– как злое, подземное, хитрое начало, наблюдающее, как внешняя, открытая сила губит себя. Женщина выступает как сущность, дразнящая, соблазняющая, подсовывающая негативное, опасное для жизни. Отсюда выводится познание. Такой ход не кажется нелогичным, если иметь в виду библейскую историю о грехопадении. Ева соблазнила Адама, и это, конечно, нехорошо. Зато он познал ее, и это уже позитивно. Речь идет не о предметном, а о внутреннем познании характеров друг друга. Познавая себя в другом, каждый снимает себя: «Дразнить (Reiz) –– значит самому приходить в возбуждение, то, что дразнит, означает нечто в себе неудовлетворенное, но такое, что его сущность –– в другом. Это собственное снятие есть его бытие-для-другого, в которое оборачивается его непосредственное бытие ... Другое есть, следовательно, для меня, то есть оно знает себя во мне ... Это познание есть любовь». 92 Она становится началом, точнее, условием нравственности. Гегель расписывает диалектику удовлетворения любовного побуждения, вводит понятие предмета (это сама любовь) и средства любви, коим оказывается семейное владение. Вожделение благодаря собственности обретает, как писал Гегель, «священный» характер. Семья раскрывается как единство следующих моментов: а) любви как любви естественной, рождения детей, б) самосознательной любви, сознательного ощущения и умонастроения и их языка, в) совместного труда и приобретения, взаимных услуг и забот, г) воспитания. Свободное, безразличное бытие индивидов, писал Гегель, это и есть естественное состояние. Важнейшим условием становления социальности является диалектика борьбы одной семьи против другой. Собственно, семьи и являются свободными индивидуальностями, ведущими борьбу за признание: приобретение земли, труд на ней, означает исключение другого. Бытие перестает быть всеобщим. На ранней стадии существования характерны труд всех и для всех, и пользование –– пользование всех. Затем складывается различие всеобщего и абстрактного труда. Всеобщий труд –– разделение труда, экономика. Абстрактный труд –– труд, выходящий за пределы собственных потребностей, механический труд для другого. Отсюда и дух становится абстрактным, анализирующим. В труде Я непосредственно делает себя вещью, формой, которая есть бытие. Это наличное бытие Я отчуждает, делает его чемто чуждым в себе и таким образом сохраняет себя в нем. Человек, по Гегелю, становится личностью тогда, когда достигается совпадение мнений, единство воли Я и другого в феномене стоимости. Так Гегель ставит вопрос о правах индивидов в естественном состоянии. Благодаря праву индивид становится правовым лицом. Право есть отношение лица в его поступках к другим. Признавая другого, самость перестает быть отдельным, независимым индивидом: «Человек необходимо признается другими и необходимо признает других».93 Индивиды нарушают бытие другого Там же. С. 308. Там же. С. 310. 93 Там же. С. 315. 91 92 86 фактом владения (это –– мое). Это еще не собственность, которая предполагает признание права владения. Право направлено не на вещь, а на нечто третье. Я захватил вещь и считаю ее своей, но этого недостаточно. Вещь становится моей собственностью в результате признания других. Чем же, собственно, я владею? Тем, что я захватил, держу в руках, поглощаю? То, что я пометил как свое? То, что я обрабатываю, что является продуктом моего труда? Захваченное становится собственностью благодаря договору. Это отношение признания Гегель характеризует как право. Гегель отвергал теорию общественного договора, ибо считал «общую волю» продуктом государства. Государство же возникает как результат священного насилия великих людей, чувствующих ответственность перед историей. Рассматривая разные формы государства, Гегель расценивает их по степени интеграции в единое целое. Тирания отвергается потому, что она излишня, а не по моральным соображениям. В демократических государствах Гегель различает буржуа (занятого частной жизнью) и гражданина (ориентированного на общество). Свобода понимается Гегелем как полная самодостаточнось. Поскольку речь идет о метафизической самодостаточности и независимости субъекта от всего внешнего, постольку нельзя считать его основоположником философии автономнной индивидуальности. Свобода основана на страхе потерять себя, а также на чувстве безопасности. Очевидно, что в экзистенциальном плане она является выражением стресса чужого. В борьбе за признание на уровне самосознания формируется понятие свободы. Наоборот, в социальном аспекте идеалом для Гегеля является греческий полис, где диалектически согласуются индивидуальность и солидарность. Живая свобода связана не с Я, а с Мы, с народом. Особенность Йенского периода в духовной эволюции Гегеля –– осознание важности таких «неинтеллегибельных» форм опыта, как любовь, и борьба за признание. В «Феноменологии духа» человек задается не как познающий субъект-наблюдатель, а как силовой центр желания. Созерцающий человек поглощен внешним миром: не субъект, а объект показывает себя в познании. Человек вспоминает о себе, когда у него возникает желание, именно оно учреждает сущее в качестве Я. «Только в своем Желании и через посредство Желания, а лучше сказать, в качестве такового, учреждается и раскрывается человек –– раскрывается себе и другим –– как некое Я».94 Именно желание побуждает человека к действию, которое ведет к удовлетворению желания путем отрицания объекта. Таким образом, желание есть пустота, наполняемая объектом. Природа удовлетворяющего свои желания Я будет такой же, что у поглощаемых объектов. Для возникновения самосознания необходим такой предмет желания, который не является природным объектом, как у животного. Им у человека становится само Желание. Человек хочет, чтобы его желали, и этим открывается борьба за признание. Стремление к нему превосходит чувство самосохранения. Человек – – это такое существо, которое рискует своей животной жизнью ради свободы. Так становление человека оказывается связанным со смертельной борьбой за признание. Но для возникновения человека необходимо, чтобы существа, ведущие борьбу за признание, остались в живых. Один уступает другому и ценой отказа от своего желания сохраняет свою жизнь: он признает другого своим Господином, а себя его Рабом. Человек не является просто человеком, а 94 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб, 2003 С. 12. 87 возникает как Господин или Раб. Они являются исходными человеческими фигурами, своеобразными «питекантропами» культурной антропологии. Именно они открывают эволюцию человека как социального и культурного существа. Гегель трансформирует кантовское определение человеческих типов. В «Феноменологии духа» –– это господин и раб, человек сердца и рассудка. После того как Наполеон ввел во многих землях Германии Гражданский кодекс, и там сформировались довольно сильные государства, Гегель становится идеологом национального государства. И это не просто ангажированность. «Для Гегеля государственное верховенство являлось необходимым орудием, способствующим сохранению общества среднего класса, поскольку самодержавное государство, подавив характерную для индивидов разрушительную атмосферу соперничества, может превратить его в некий положительный интерес, присущий всеобщему». 95 То же и у Канта: соперничество индивидов, сословий, партий предполагает сильное государство, ограничивающее их свободу в рамках общего порядка. На смену идее общественного договора приходит идея государства как объективного целого. Рыночное общество не имеет общих целей и интересов, они налагаются государством помимо воли индивидов. Маркузе писал: «Согласно Гегелю, гражданское общество в конечном счете должно привести к авторитарной системе».96 И далее, по поводу вечного мира: «Всеобщий союз народов ради вечного мира был бы господством одного народа, или же этот союз был бы только одним народом: индивидуальность их была бы стерта: универсальная монархия».97 Носителем субстанциального начала является государство. Но не абсолютистское, а народное. Гегель боролся против введения имущественного ценза. Но он же выступал за усиление бюрократии. Это и понятно, ибо собственники пекутся о себе, а бюрократия о государстве. Гегель еще не знал о коррупции. Противоречия «Философии права» –– это противоречия тогдашнего общества. Гегель критиковал либеральную демократию и оправдывал Реставрацию. На самом деле «демократическая оппозиция» в Германии после 1816 г. имела весьма своеобразное выражение: мечтали о Рейхе, о единстве нации и проклинали евреев. Гегель защищал правовое государство, гарантирующее соблюдение прав индивидов от нападок псевдодемократической демагогии. Современное общество не является естественной общностью, в его основе лежит конкуренция свободных индивидов-собственников. Поэтому оно нуждается в силе, превращающей анархию в разумное общество. Свобода и право В работе «О научных способах исследования естественного права» Гегель пытался синтезировать эмпирический и умозрительный подходы к проблематике нравственной философии. Он отмечал важность критического метода, но отрицал кантовское понимание абсолютного как предмета практической философии. Гегель исходил из диалектики всеобщего и особенного как в формальных, так и в содержательных науках, которую он определяет как органическую целостность. Эмпирические науки описывают Маркузе Г. Разум и революция. С. 227. Там же. С. 229. 97 Гегель Г-Ф-В.. Работы разных лет. С. 373. 95 96 88 качества и стремятся выявить сущность многообразного. Например, сущность брака одни видят в деторождении, а другие в общности имущества. Точно так же в наказании одни акцентируют моральное исправление преступника, а другие возмещение ущерба. Однако на этом пути не достигается органическая целостность, не выявляется связь этих определенностей, не решается вопрос об установлении их отношений. Таким образом, перечисляемые эмпирической наукой принципы, законы, обязанности и т. п. остаются расщепленными, положенными как абсолютные чистые формы. Даже если пытаются установить их единство, это достигается аналитически как тождественная определенность. Такая наука может существовать до тех пор, пока не будут указаны противоположные принципы, которые, впрочем, остаются столь же пустыми и формальными, как и первые. Гегель хотел бы избавиться от истории науки, которая в действительности является кладбищем научных идей, и стремился построить некую абсолютную науку, в которой бы «воскресли» ранее положенные принципы и которая бы, несмотря на собственную историчность, несла бы на себе отпечаток вечности. Гегель разоблачает фантазм «естественного состояния», при котором якобы был абсолютный хаос и произвол. Эмпиризм не может дать критерия различия между «естественным» и морально-правовым состоянием. Практически в роли границы выступают современные представления о морали и праве, естественное же состояние рисуется как нечто лишенное государства, морали и т. п. современных институтов. Гегель хотел бы выявить необходимые исток и условия формирования правового состояния. Представление об исходном и абсолютном единстве, содержащемся в хаосе естественного состояния или в неких зародышах человеческой склонности к морали, витало в умах, однако людям не хватало ориентации на поиски сущностной необходимости этих зародышевых состояний, которые также остаются несогласованными и даже противоречащими друг другу. Гегель столь же придирчив и к формальному, априорному методу, который ориентирован на бесконечное, однако постигает его в форме идеального, которое отделено от реального. Поэтому эмпирическое знание справедливо упрекает так называемую метафизику права в том, что она использует добытый учеными материал и подчиняет его искусственным конструкциям, которые не имеют практического применения. Абсолютное должно быть постигнуто не только как идеальное, но и как реальное. Поскольку сущность практического разума у Канта понимается как чистое единство, то все, что выходит за пределы абстрактных обязанностей и законов, уже не входит в его ведение. Чистый разум Канта регулирует только формы, но не содержания. Если максима произвола обладает определенностью, то чистая воля абстрагирована от нее и заключена в форму чистого единства. Законодательство чистого разума есть не что иное, как производство тавтологий, его истины чисто формальны, в то время как реальная истина, напротив, всегда содержательна. Практический разум Канта не способен дать ответ на вопрос, что же есть право и долг. Между тем наиболее интересным является именно содержание нравственного закона. Если собственность положена эмпирически, то законодательство практического разума сводится к тавтологии, что собственность –– это собственность. Напротив, если люди будут убеждены, что собственность должна быть снята, то практический разум должен выдвинуть другую тавтологию: не-собственность есть не-собственность, а то, что хочет быть собственностью, должно быть устранено, ибо собственности нет. Гегель подчеркивает, что весь интерес 89 состоит в раскрытии и доказательстве необходимости собственности. Между тем у Канта она полагается как чистая форма, которая получает абсолютное значение и определяет материю. Так долг состоит в приумножении собственности. По мнению Гегеля, недостаток критической философии состоит в том, что в ней некритически положены самые исходные принципы и понятия. Нравственная философия Канта сама оказывается безнравственной. Гегель рассуждает: Определенность –– помогать бедным –– выражает снятие определенности, которая есть бедность. Если мыслится, что все должны помогать бедным, то либо бедных вообще не останется, либо есть только бедные; в последнем случае нет никого, кто мог бы оказать им помощь, и поэтому в обоих случаях помощь отпадает. Следовательно, максима, мыслимая как всеобщая, сама себя снимает. Если бедность понимается как нечто подлежащее устранению, то сохраняется возможность помощи, но в качестве возможности, а не действительности, как предполагает максима. Таким образом, возникает парадокс: бедность необходима для выполнения долга помогать бедным, но если бедность сохраняется, этот долг не будет непосредственно осуществлен. Нравственность касается отношений одних индивидов с другими, и ее осуществление не сводится к исполнению формальных принципов. Созерцание и форма должны найти единство в абсолютном понятии, которое, по Гегелю, есть и «принцип противоположения и само это противоположение». Абсолютное понятие в качестве множественности субъектов противоположно самому себе в качестве единства, оно представляет собой внутреннее единство противоположностей. Такова диалектическая методология Гегеля, которую он применяет при построении философии права. Благодаря этому удается возобновить диалог истины и удовольствия, прерванный христианской аскезой и не восстановленный в рамках практической философии Канта, которая во многом сохраняет тенденцию подавления чувственности рациональным контролем. Если у Платона и Аристотеля человек сам выбирает «парадигму» жизни и стремится к совершенному благу, но обладает лишь свободой выбора, а не способностью к творчеству самих норм, которые принадлежат объективному порядку Космоса, то самоощущение Нового времени проникнуто чувством свободы творчества и переживанием уникальности положения человека в мире всеобщего детерминизма. Человек вечно находится в поиске своей сущности. Уже ветхозаветному Адаму была предоставлена возможность выбора и самоизменения. Будучи образом Бога и зеркалом мира, человек может осуществить не одну, а множество возможностей, он может стать выше или ниже животного, но никогда не равным ему. Сегодня мы мыслим свободу в рамках противоположности всеобщего и индивидуального. Само слово «свободный» означает автономную, самостоятельную личность, обладающую собственностью, распоряжающуюся своим финансовым или символическим капиталом. Различие христианского и буржуазного понимания свободы Гегель остро переживал. В работе «Дух христианства и его судьба» он отмечал недостаток формального законодательства, который видел в универсализации частного интереса и одновременно в подчинении индивидуального общему. Он показывает, что в результате исполнения формальной справедливости преступник и жертва остаются не примиренными. Как эффективную форму признания он выбирает любовь, прощение и примирение. В зрелом периоде своего творчества Гегель 90 связывал самость человека не столько с духовными практиками, сколько с социальными, экономическими и юридическими институтами. Прогресс свободы видится в достижении такого состояния, при котором человек минимально подвергался, не говоря о принуждении, разного рода опеке. В западной Европе уже в эпоху Просвещения философы выступили против абсолютизма и предложили идею не столько запретительного, сколько разрешительного права. При этом люди становились все более чувствительными к попыткам регламентировать порядок жизни даже со стороны таких безусловных и авторитетных инстанций, как право, наука и мораль. Прогресс свободы Гегель видел в эмансипации разума. Кажется, что подчинение идее является настолько мягким по сравнению с опытом господства и рабства, что здесь происходит совпадение свободы и необходимости. Благодаря абсолютной идее, оказывается возможным такой опыт признания, который обеспечивает интеллектуальное, нравственное и даже эстетическое единство людей. Речь идет о чистом праве, которое не зависит от каких-либо форм принуждения и основано исключительно на свободе. Такой проект представляется явно утопическим. Обычно право считают оправданием силы. У Канта оно ближе к справедливости, которая не прибегает к силе. Гегель попытался снять противоположность силы и справедливости. Его нравственная философия начинается с описания абсолютно несправедливых, даже брутальных действий. Собственно, и Кант начинает с эмпирического и физического владения, которое связано с желанием и захватом, с силой и борьбой. Право есть нечто абсолютно чуждое этим актам «естественного состояния», оно не выводимо из него, его источник –– свобода без принуждения. Конечно, это тоже неслыханная, неэмпирическая свобода. Когда размышляют о свободе, оказываются в тупике: как совместить мою свободу со свободой другого, что заставит меня воздержаться от ущемления прав другого. Ожидание того, что другой станет уважать мою свободу, является утопическим. На самом деле люди ущемляют мою свободу и не сдерживают свою, даже если она наносит мне вред. Я могу на это ответить только силой. Если я не охраняю, не держу собственную вещь, то другой ее тут же присвоит. Благодаря диалектике противоположностей и двойного отрицания Гегель попытался построить генеалогию права исходя из борьбы за признание. Отсюда право у него оказывается примирением силы и справедливости. Метафизика любви Метафизика любви представляет собой интересную и плодотворную разработку христианских идей. Самосознание и разумность как конституирующие признаки человека она дополняет различными формами духовного опыта, объединением разнообразных эмоционально-ценностных актов в единство личности. Развитие этих представлений кажется весьма важным для постановки и решения проблемы ценностей, которая сегодня окончательно запуталась на пути узкогносеологического исследования. Отождествление ценностей с формами знания недопустимо, ибо отношение к ним человека, скорее, любовноучастное, чем рефлексивное. Бытие и ценности оказались оторванными друг от друга в новейшей философии, а снятие этого разрыва предполагалось на основе интеллектуализации ценностей. В частности, категорический императив Канта 91 срабатывал как принцип разума. На самом деле нравственный императив связан с нравственным чувством и непонятен без духовных переживаний любви. Эмоциональная симпатия как способ постижения высших ценностей — это предпочтение высших ценностей. Оно не означает выбора хороших предметов среди прочих. Главным является сама любовь как творческое созидание высшего, совершенного, выступающее стимулом совершенствования как человека, так и предметов его любви. Христианское учение о любви было искажено эпохой утилитаризма. Между тем, оно содержит в себе возможность интенциональной трактовки духовных чувств и тем самым может быть использовано для преодоления недостатков рационалистической философии. Любовь — это не просто дополнение к познанию, некий параллельный канал стихийного, бессознательного приобщения к идеям разума. Дело в том, что высшие ценности не существуют как предметы познания и не могут исследоваться научно-рационалистическим методом: они отрицают наличное бытие и обрекают человека на трансцендирование в сторону высшего и совершенного. Ценности не могут рубрицироваться и квалифицироваться подобно эмпирическим объектам, их иерархия постигается только духовным актом любви. Интенциональная трактовка любви, связь ее с бытием ценностей устанавливает всеобщий и необходимый критерий в сфере эмоциональных феноменов. Благодаря этому метафора сердца получает содержательно строгое выражение: его предмет — ценностные структуры, не зависящие от психофизической организации и единые для всех людей. Недостаточность интеллектуального знания для постижения и раскрытия бытия была осознана еще Платоном. Космос у греков представлялся как прекрасное тело, влекущее своим совершенством; переживание симпатии, таким образом, считалось условием познания мира. Космологическая трактовка любви у Платона связана с преодолением небытия и восстановлением разорванных связей с Космосом. Такая концепция репродуктивна и отражает стремление материи стать идеей, которая задана до и помимо акта любви. Если сводить любовь к влечению, то она исчезает в случае удовлетворения. Чувство любви связано с культивацией тонкой чувствительности к красоте, ценности окружающего мира. Если чувственная любовь направлена на предметы, заставляет их разглядывать, осматривать и исследовать, то любовь духовная связана с улучшением любимых предметов, с открытием их ценности. Если первая, скорее, слепа, то вторая раскрывает глаза и помогает увидеть то, чего не видят другие. Всякий конкретный предмет достигает благодаря любви своей высшей ценности. Таким образом, любовь не только не выводится из воли или симпатии, но сама направляет их на бесконечное восхождение по лестнице ценностей. Новая метафизика любви создается Августином. В ней звучит мотив нисхождения Бога к человеку, преодолевается сведение к познанию и обосновывается открытость мира откровением бога. Восприятие и познание здесь определяются любовью: мыслят, вспоминают то, что любят. Как признание и соучастие любовь преодолевает субъективность познавательной установки. Порядок сердца выражает объективный порядок ценностей; резонанс индивидуально-личностного и абсолютного бытия достигается 92 переживанием духовной любви, которая должна быть наряду с познанием среди основных предметов метафизики. Любовные чувства являются столь древними, что кажутся изначальными. Шелер считал любовь и ненависть антропологическими константами. Это значит, что человеком является тот, кто способен любить и ненавидеть. Тот же, кто после поцелуя с дамой говорит: мокро и невкусно, считается недоразвитым. Различие между человеком и животным по линии любви, конечно, нуждается в уточнении. Как известно, и в мире людей различается любовь животная и любовь духовная. Точно так же биологи немало написали о тонких отношениях самцов и самок, например, в популяциях лебедей. Антропогенез любви весьма мало продвинут, и помехой являются слишком жесткие различия души и тела, духовных переживаний и телесных желаний. Между тем для понимания отношений между мужчиной и женщиной немаловажным является уже само устройство гениталий, предполагающее сексуальное общение лицом к лицу. Кроме того, наши тела являются не автономными, а резонансными системами и предполагают друг друга. Мы судим о специфике любовных переживаний у наших предков преимущественно по книгам. Книги о любви –– это романы, а они являются относительно поздними продуктами цивилизации. Даже в описании любовных отношений у Овидия мы находим нечто странное. Тем более «Домострой» не воспринимается как текст о любви. Он воспринимается, скорее, как свидетельство некой бездуховности, которую навязывает хозяйство. Пожалуй, впервые о таинстве любви говорил Платон, и его рассуждения о первичном и вторичном Эросе подхватило христианство. В дальнейшем эротика Платона была развита М. Фичино и стала за пять веков до появления психоанализа своеобразной «глубинной психологией» европейской культуры. Он задолго до появления теории Гарвея развивает метафору сердца и крови и связывает ее с теорией зрения Платона. Согласно теории Фичино, который в своем «комментарии» к «Пиру» несколько бесцеремонно дописал, на его взгляд, недостающую часть, когда влюбленный смотрит на лицо любимой, его сердце начинает учащенно биться, потом краснеет лицо и начинают блистать глаза. Но любимая бледна и безучастна. Как же можно заставить биться ее сердце в такт сердца влюбленного? Согласно Фичино, кровь влюбленного, накачиваемая могучим мотором, поднимается вверх и концентрируется в глазах. Там она трансформируется во флюиды, и они по воздуху перемещаются в глаза любимой. Там они снова претерпевают трансформацию, превращаются в кровь и вызывают ответное сердцебиение. Эта концепция стала основой магнетизма, который в форме месмеризма стал популярным во всех европейских странах. Пришедший на смену психоанализ во многом опирается на те же представления о соотношении души и тела, что и месмеризм. Хотя Фрейд отказался от гипноза, но в его представлениях о либидо сохраняется «магнетическая» модель, согласно которой между индивидами имеют место отношения притяжения и отталкивания, возникает силовое поле, пронизанное флюидами и влечениями. Вполне возможно, что от этой атрактивной модели вообще невозможно избавиться вполне, и об этом свидетельствует возрождение «флюидной» теории после того, как психоанализ был окончательно переведен Ж. Лаканом в сферу языка. Если вдуматься в то, как вообще возможно любовное чувство и как оно возникает между людьми, то можно придумать два альтернативных ответа, 93 которые как раз и нуждаются в каком-то синтезе, ибо в повседневной любовной практике они постоянно переплетаются, переходят одно в другое, взаимно поддерживают и обогащают друг друга. Первый ответ, который дало бы большинство зрелых, разумных, переживших романтическую иллюзию людей, состоит в убеждении, что в отличие от животного, человеческое чувство симпатии возникает как продукт общения, разговора, диалога, в ходе которого определяется консенсус в понимании важнейших вещей и достигается нравственное признание друг друга. Путь к сердцу женщины лежит через ухо, – – считают сторонники вербалистской модели любви. Вместе с тем, у такой концепции немало проблем, причем не только методологических. Как раз с техникой у нее дело обстоит более или менее хорошо, во всяком случае, она оснащает людей более эффективными и надежными средствами, чем ее противниками. Например, любовная лирика является хорошим инструментом покорения женских сердец. Хотя Платон ее побаивался, она высоко ценится нынешними пастырями человеческого стада, ибо цивилизует темные порывы и нейтрализует животные извращения, а, главное, является подконтрольной и позволяет переприсваивать и перенаправлять любовную энергию в нужном направлении и на пользу общества: любовь хоть и нескромное, но необходимое для рождения и воспитания детей занятие. Энергия любви сублимируется в процессе создания культурных ценностей. Особенно легко, если, конечно, захотеть и постараться, она переводится в любовь к отечеству. Науки о сексуальном, полагал М. Фуко, даже более эффективно и экономно организуют коллективное тело для нужд власти. Философия духовной любви остается в метафизической сфере высших ценностей. Как ценности неосуществимы в наличном бытии, так и духовная любовь не реализуется в чистом виде. В связи с этим возникает задача соотнесения трансцендентального и эмпирического подходов. Христианизация жизни сопровождалась формированием специального дискурса обоснования религиозных ценностей. Если теология оперировала понятиями трансцендентного мира и формировала образ святого — свободного от телесных влечений и социальных детерминаций, то философия исходила из сложной структуры и природы человека и учитывала взаимодействие различных систем желаний и идеалов в сознании индивида. Трансцендируя протестантскую этику, Кант стремился дать теоретическое обоснование возможности реализации нравственного закона в человеческой жизни. Как эмпирическое существо человек подчинен желаниям и влечениям, которые регулируются общезначимыми нормами, обеспечивающими здоровую и счастливую жизнь. Однако в сознании человека существует идея нравственного закона, которая выводит за пределы биологического, психологического и даже социологического масштабов ее измерения. Это обстоятельство расценивалось Кантом как свидетельство высшей природы человека: он не только явление, но и вещь в себе, не только необходимое (подчиненное биологической и социальной детерминации), но и свободное существо. Соотношение нравственного закона с душевно-телесной структурой мыслится Кантом по аналогии с естествознанием. Как законы науки относятся к идеальным объектам и предполагают их хотя бы насильственную реализацию при помощи экспериментальных и технических устройств, так и нравственный закон, конструирующий человека как существо, свободное от витальных и 94 социальных давлений, требует особой техники осуществления. В качестве ее основы выступает долг. Святой поступает исходя из своих потребностей, поскольку они изначально святы. Грешный и вожделеющий человек должен заставлять себя поступать в соответствии с высшим законом. При этом не стремление к счастью, добротолюбие и другие чувства, а жесткий самоконтроль, самодисциплина являются условиями возможности нравственной жизни. Этика Канта многих отпугивала формализмом и отрицанием так называемых нравственных чувств в пользу жестко рационалистически исполняемого нравственного закона. Так, например, М.М. Бахтин упрекал Канта в «теоретизме» и пренебрежении к переживанию уникальной неповторимости жизни. Однако нельзя забывать, что построение этики на чувстве любви предполагает «депсихологизацию» этого чувства, раскрытие его как интенционального духовного переживания, направленного на высшие ценности. Кант не работал с чувством любви потому, что расценивал ее как эмпирическое состояние, ставящее человека в зависимость от объекта, от своих настроений и влечений. Любящий — раб своей страсти и, следовательно, не свободен. Вместе с тем, если бы удалось истолковать любовь как некое «трансцендентальное» чувство, руководимое высшими ценностями, то в этом случае можно было бы соединить внутреннее и внешнее, свободное и необходимое в человеке. Метафизика любви как раз и стремится достичь такого совпадения индивидуального и всеобщего, когда высшие ценности воспринимаются как свои, а не чужие. Таким образом, исчезает формальная принудительность долга, и исполнение нравственного закона получает поддержку не только разума, но и всего человеческого естества. Неудивительно, что существует значительное число философских систем, стремящихся культивировать любовь как такое высшее чувство, которое, оставаясь живым, действующим переживанием, вместе с тем связывало бы человека непосредственно с миром высших ценностей. Может показаться несколько странным, но одним из первых, после Канта, к философии любви обратился Гегель. Молодой Гегель, переживавший увлечение романтизмом, протестовал против формализма социальных, правовых и нравственных законов, стремился преодолеть их недостатки на основе этики любви, соучастия, примирения, прощения, провозглашенной в Евангелии. Христианский призыв: «Любите врагов ваших», — потрясает. Любовь здесь не лозунг, не формальный принцип, а откровение и дар: приношение себя, других и всего мира в жертву любви, прощение и покаяние, сопричастность и единство. Утопия царства любящих и верующих, противопоставление его царству власти и закона кесаря захватывала не только пламенные сердца реформаторов жизни, но и холодные умы философов. В работе «Дух христианства и его судьба» Гегель критикует социальные и юридические практики иудейского и римского общества: признавая цивилизующее влияние социально-правовых законов и институтов власти, он в то же время отмечает формальный недостаток законодательства, который состоит в универсализации частного интереса и в подчинении индивидуального общему. Нравственное несовершенство закона проявляется в механизме преступления и наказания. Исполнение закона не 95 только не восстанавливает справедливость, но и приводит к ее двойному нарушению: сначала преступник переступает черту закона, а потом палач отвергает высшую заповедь «не убий», посягая на человеческую жизнь. Только любовь, прощение и примирение способны восстановить нравственную справедливость. Гегель писал: «Человеку, душа которого возвысилась над правовыми отношениями и не подчинена ничему объективному, нечего прощать обидчику, ибо тот ни в чем не затронул его права; как только кто-либо посягает на объект права, он тотчас же отказывается от этого права. Душа такого человека открыта для примирения, ибо он сразу же может восстановить любую живую связь, вступить вновь в отношения дружбы, любви»98. Проступок полагает наказание, преступление — палача. Такова игра социальной «справедливости», которая не оставляет места восстановлению человеческих отношений в обществе. Чем более скрупулезны законы и сильнее властные структуры, тем больше будет возрастать объем обид и взаимных претензий, тем выше должен становиться уровень социальной напряженности. Нагорная проповедь, по Гегелю, «представляет собой проведенную на ряде примеров попытку лишить законы их характера, их формы законов».99 Гегель полемизировал с Кантом относительно заповеди: «Возлюби господа превыше всего и ближнего твоего, как самого себя». По Канту, это веление долга для разумных созданий, которые способны пасть, но не способны достигнуть этого идеала. Гегель, считая мораль и долг необходимой стороной формального закона, хотел достичь синтеза понятия и жизни и считал лучшей формой его реализации любовь. Он интерпретировал Нагорную проповедь как новое понимание законов, которые должны соединяться со склонностью действовать. Проблема в том, чтобы исполнять закон. Кант видел выход не во внешнем принуждении, а в самопринуждении, основанном на внутреннем чувстве долга. Гегель считал противопоставление долга и закона формальным и хотел достичь их единства. Уважение к закону, идущее от морали, и сам закон, основанный на праве, –– это разные феномены и могут совпасть лишь случайно. Только любовь, как бытие, выраженное в качестве закона, объединяет склонность и закон. Гегель интерпретировал заповедь «Не убий» не как формальный запрет, который позволяет все, кроме того, что запрещено, а как выражение высокого духа примирения, которое снимает враждебность как таковую. «Любовь, –– писал Гегель, –– не ждет от судьи предоставления ей ее прав, но ищет примирения независимо от права».100. «Око за око, зуб за зуб» –– гласит закон. Соответствие воздаяния проступку это священный принцип справедливости, соблюдение которой гарантирует и государство. Но, считал Гегель, Иисус требует полного отказа от права и возвышается над ним посредством любви, в которой вместе с правом исчезает и чувство неравенства. Однако когда речь заходит о требовании стряхнуть с себя жизненные заботы, презреть богатство, оно объявляется общим местом, литанией, которую нельзя принимать всерьез: «Собственность и ее судьба стали для нас слишком важными, чтобы рефлексия такого рода могла быть для нас приемлемой, отказ от них мыслимым». 101 Но Гегель Г.Ф. Философия религии: В 2 т. Т. 1. М., 1975. С. 131. Там же. С. 107. 100 Там же. С. 111. 101 Там же. С. 116. 98 99 96 при том Гегель остается верным своей идее противопоставить закону жизнь в ее прекрасной и свободной сфере, как единение людей просящих, берущих и дающих. Рассуждение о природе закона с точки зрения любви обнаруживает его недостатки. Прежде всего, абстрактный закон предполагает реальное исполнение. Судебный исполнитель –– это живой человек, который может перестать быть судьей. И точно так же, тот, по отношению к кому применяют закон, не есть нечто существующее как элемент закона, а реальное существо. Поэтому необходимо примирение, которого не дает закон. «Лишь проступок создал закон, власть которого вступает в силу с этого момента ... Оскорбленная жизнь встает перед преступником в образе враждебной силы и наносит ему те же удары, какие наносил он».102 Сила христианства в отречении от всего и даже от самого себя. Только это ведет к примирению и прощению. В работе «Народная религия и христианство» противопоставляются субъективная и объективная религии, чувство и рассудок, сердце и разум, религия и теология. Религия –– это не просто историческое или рассудочное знание о боге и его качествах, а порождение сердца. «Религия должна помочь человеку строить его маленький домик, который он тогда сможет назвать своим собственным».103 Религия является переживанием близости божества и выражается только в чувствах и поступках: «Субъективная религия является живой, она есть активность внутри существа и деятельность, направленная вовне».104 Если у грубых людей поведение основано на страхе, то у тонких –– на благоговении и любви. Религия как высокое чувство оказывается эффективной преградой против низких чувств. Гегель считает, что все зависит от субъективной религии. Задача философии религии состоит в том, чтобы «исследовать меры, направленные на то, чтобы учение и силы религии вплетались в ткань человеческих чувствований, чтобы ее побуждения присоединялись к поступкам людей».105 Субъективная религия –– это дело сердца, которое являются источником моральных чувств и, прежде всего, совести. Объективная религия –– рассудок и память, практические знания. Объективную религию можно упорядочить в голове, она позволяет приводить себя в систему, излагать в книге. Молодой Гегель писал: «Когда я говорю о религии, то я решительно абстрагируюсь от всякого научного пли, скорее, метафизического познания бога. Такое познание, которым занимается только резонирующий рассудок, есть теология, но никак не религия».106 Гегель определял Просвещение как желание действовать посредством рассудка. Он служит объективной религии, но не способен превратить теоретические принципы в практические. Он ищет оправдание для всякой страсти, является слугой себялюбия. «Просвещение, –– писал Гегель, –– делает человека умнее, но не делает его лучше». 107 Оно расценивает народные верования как предрассудки с точки зрения действительных истин. Однако, полагал Гегель, какой же смертный отважится решать, что такое истина? Там же С. 124. Гегель Г.Ф. Работы разных лет. Т. 1. М., 1972. С. 65. 104 Там же С. 51. 105 Там же. С. 54. 106 Там же. С. 53. 107 Там же. С. 58. 102 103 97 В последующих своих сочинениях Гегель усматривает основания жизни уже в реальных институтах труда, власти, общения, познания, однако принцип любви все-таки продолжал генерировать дискурс, характерный для поздней гегелевской философии: необычность его понятий, построение специфической логики разрешения противоречий — все это, несомненно, имеет своей почвой открытие им в ранние годы межличностной коммуникации в форме нравственной любви. Романтизация данной формы коммуникации отчетливо проявляется в учении о государстве, которое Гегель определяет не только как социальную систему, но и как духовную интеграцию. Задача «одухотворения» общества является весьма актуальной для современного обществоведения, которое, к сожалению, видит лишь один выход совершенствования общества — развитие «социальной технологии». Между тем любое общество живет духовной связью и единством составляющих его людей, и поэтому раскрытие смысложизненного аспекта социальных и культурных институтов, гуманизация жизни — не просто некое «моральное» украшение, но само ядро социума. Развивать духовные чувства как онтологическую основу общественной жизни — это и значит преодолевать отчуждение человека от им же самим созданных учреждений. В погоне за все более совершенными технологиями и формами организации общественной жизни люди не успевают их осмыслять и одухотворять, воспринимают как внешние, чуждые институты, насильственно интегрирующие их в те или иные общности. Сфера духовного перемещается в мир иллюзий, мечтаний, утопий, которые отрицают все то, что создано реальным трудом, завоевано опытом жизни. Преодолеть этот разлад, примирить телесные и духовные интенции, направить их на содружество — важная задача философии и метафизики любви. Теономная антропология (Соловьев и Шелер) Важной новацией методологии исследования духовных процессов является учет взаимодействия и взаимосвязи материальных и духовных явлений, переход от монистической или дуалистической позиции к признанию принципа дополнительности. Этот принцип особенно актуален в наше время, когда разочарование в интроспективном методе привело к господству объективистской позиции, реконструирующей духовные явления на основе протекания нервных процессов, телесных состояний, поведения, реакций или, как в социологии, сводящей содержание сознания к интеракции, нормам и институтам социального общения. В противоположность этой установке необходимо допустить автономность интенциональных и ценностнокогнитивных актов сознания, которые может исследовать и содержание которых может сообщать или не сообщать только человек. Конечно, человек может заблуждаться относительно своих чувств, мыслей, ценностей и т. п., и поэтому его нужно исследовать по делам, а не по словам. Однако история редукционизма показывает, что дело и поступок, реакция и средства, нормы и действия сами во многом зависят именно от внутренних душевных состояний. Поэтому выявление разнообразных симпатических актов, их иерархизация и анализ сети их взаимодействий составляют важнейшую проблему науки о духе, решение которой должно в корне преобразовать и практику воспитания личности. В то время как современная педагогика и культура в целом продолжают метаться между духом и телом, с равномерностью маятника отдавая дань сначала одному началу, а потом — другому, следует напомнить 98 простую, но весьма плодотворную идею об одухотворении витальных и телесных актов и о необходимости сохранения витально-телесной основы на высших ступенях развития культуры. Поэтому допущение об их иерархии нуждается в переосмыслении: высшие ценности духа затормаживают и командуют низшими аффектами. Однако высшие функции сознания не обладают витальной энергией, и даже с точки зрения выживания и приспособления к среде «человек разумный» деградирует в сравнении с животными. Репрессивное отношение к телесно-витальной основе угрожает существованию духа, который без психической и телесной энергии остается совершенно бессильным. Переоценка классической философии разума, поворот к изучению антропологических оснований культуры наметились в философской антропологии XX в., наиболее ярким представителем которой можно считать М. Шелера. В своей известной работе «Сущность и формы симпатии» он раскрывает приоритет интенционального духовного акта любви, описывает многообразные формы и способы исполнения этого акта на различных ступенях биологической и социальной эволюции. Комбинируя платоновские представления об Эросе с данными биологии и антропологии, Шелер пересматривает утилитарное естественнонаучное понимание половой любви. Увлеченный католической харизмой, он вместе с тем стремится синтезировать христианскую любовь не только с биологической, но и с социальной эволюцией. Человек, по Шелеру, прежде всего житель духовного царства: «…как духовная сущность он подчиняется новому порядку и новому единству, основанному на любви» 108. Этот порядок любви не отменяет, а одухотворяет и облагораживает бытийно-энергетическую и социально-формирующую составляющие культуры. Теономная антропология Шелера исходит из нетрадиционного понимания самой сути философствования как соучастия и сотрудничества человека с бытием, которое состоит в исполнении высших ценностей. Такая установка резко отличается от классической и исключает возможность рассмотрения бытия как бы извне, с позиций нейтрального наблюдателя. В этом Шелер един с Хайдеггером и Витгенштейном, основной пафос философствования которых также был связан с осознанием невозможности рассматривать, оценивать, описывать бытие как бы снаружи. Настаивая на участности человека в бытии, Шелер вместе с тем стремится избавиться от традиционного гуманизма, ставящего человека в центр мира, человека не только наблюдающего, но и преобразующего и покоряющего мир. Человек Шелера — не своевольное существо, ставящее превыше всего свои потребности и интересы, а такая единственная сущность во Вселенной, благодаря которой мир обретает свое самосознание. Изучая человека в этом аспекте (как исполнителя внемировых ценностей), Шелер дает ответ на вопрос метафизики о том, что есть абсолютно сущее бытие. Акт философствования он определяет как смирение, готовность служить вещам, миру и Богу, и, думается, эти «экзистенциалы» являются важным дополнением хайдеггеровской аналитики Dasein. 108 Scheler M. Gesammelte Werke. Bern., Muenchen., 1953. Bd. 2. S. 293. 99 Шелеровская концепция феноменологии, лежащая и в основе антропологии, находит свое воплощение в общей теории человека, согласно которой центром личности выступает дух, бессильный и свободный относительно телесных и витальных аффектов, зато способный направлять волю на осуществление тех или иных поступков. Благодаря духу человек возвышается до божественных ценностей и таким образом впервые становится человеком. Вместе с тем он не отбрасывает, а сохраняет и культивирует низшие функции — облагораживает окружающую действительность, стремится к красоте телесного облика и доброте сердца. Этим преодолевается репрессивное отношение к природе, животным, телу и полу, которое характерно для технической маскулинной культуры. Вечно струящийся от Бога поток любви и ответная человеческая любовь задают динамику личности. Благодаря порядку любви, человек приобщается к Богу, к другим людям, ценностям, миру. Шелер, в отличие от Платона, настаивает на бесстрастности любви, раскрывает ее как спокойное обладание полнотой бытия. Ее динамический аспект определен не влечением к наслаждению, а стремлением к сущности и высшим ценностям. Поэтому любовь имеет творческую природу; она всегда и везде созидательна, продуктивна, а не репродуктивна, и представляет собой активную деятельность трансцендирования от низших ценностей к высшим. В отличие от Канта и других протестантских философов долга, Шелер исходит из примата любви. Феноменологическая трактовка любви приводит к редукции ее телесночувственной оболочки и связанных с нею влечений к обладанию объектом. Во втором издании книги «Сущность и формы симпатии» телесно-чувственные компоненты любви представлены как равноправные с духовными. Здесь Шелер комбинирует ницшеанские биологические импровизации с космической мистикой Эроса у Платона. Половая любовь трактуется как личностная встреча высочайшей космической концентрации, как выражение вселенской любви, инструментом которой выступают любящие. Такая космически-мистическая трактовка любви дополняется христианским переживанием любви как духовного чувства, выводящего человека за рамки животного существования. Человек, полагал Шелер, должен был понять как независимый от биологической природы дух, подчиненный новому порядку и новому единству, основанному на любви, что она возможна лишь в свете идеи Бога, как движение и переход к божественному. Это определяет теоморфизм учения о человеке, который явственно проступает в заключительной части известной работы Шелера «Место человека в космосе». «Личность», как известно, по своему происхождению понятие религиозное, а не философское. Оно сформировалось в ходе затяжных споров о тринитарности, инкарнации и евхаристии и применялось первоначально по отношению к Богу, а не к человеку. Признавая бога перволичностыо, Шелер стремился избавиться от новоевропейской традиции активизма и гуманизма. Человек осуществляет личность дуалистически: он дитя не только Бога, но и природы. Поздний Шелер настаивал на том, что человек способствует саморазвитию Бога. Это проявляется в его стремлении к любви и совершенству, к преодолению телесночувственных аффектов и страстей, к достижению духовности. Поскольку духовность трактуется Шелером не только как рефлексивный, но и 100 интенциональный акт переживания любви, веры, надежды, доверия, примирения и т. п., то контакт Бога и человека приобретает личностный характер. Личность Бога — не идея, а предмет любви, она не познается, а сопереживается и сострадается. Шелер критикует сведение личности к предмету или субстанции и определяет ее как центр исполнения и переживания духовных актов. Она не сводима к мыслящему Я, а существует в полноте осуществления интенциональных актов. Собирающим началом личности выступает сверхличный дух, но ее единство имеет уникально-индивидуальный характер; чем свободнее индивид от давления биологических и социальных условий, тем он уникальное. Исполнение высших ценностей личность осуществляет на основе индивидуального вкуса и такта. Индивидуальность — это своеобразная вещь в себе — непостижима, как и внешняя реальность, но вместе с тем она образует горизонт, необходимый для реализации интенциональных актов. В своих работах Шелер вводит понятие психического, телесного и личного Я. Шелер выделяет внешнее и внутреннее, индивидуальное и общее тело. При этом тело выступает не как машина, которая исполняет команды духа, а само фундирует специфические духовные чувства и переживания. В работах по социологии знания Шелер настаивает на приоритете эмоционального восприятия мира перед рациональным: любовь к природе выступает как предпосылка ее познания, констатирует сохранение телесных кодов и ритмов в развитии культуры. Цель человеческой жизни — не просто достижение материальных благ, душевного комфорта, свободы и независимости. Путь жизни направлен к святости, которая является высшей ценностью. Святость Шелер раскрывает через труд и образование. Труд возвышает и цивилизует человека; образование приобщает к высшим образцам духа и связано не только с познанием, но прежде всего с усвоением добра, красоты, святости, милости, любви и признания. В процессе образования складывается такой индивидуальный микрокосмос, который со-причастен миру и богу, соучаствует в жизни других личностей. Война напомнила нам, отмечал Шелер, что наш мир был и остается единым и неделимым целым, в котором мы существуем не поодиночке, а как моральное единство. Это единство отдельных личностей реализуется благодаря воспитанию чувства нравственной солидарности, составляющего основу естественного человеческого разума. Анализируя общественную природу человека, Шелер отмечал, что ее нельзя раскрыть на основе биологических, социальных факторов. Общность как духовное единство выстраивается на любви, а социальная система — на принуждении. Поэтому общая личность — это не сумма индивидов, а центр специфических духовных актов, главными из которых выступают нравственная солидарность, вина и покаяние. Метафизический смысл и назначение любви состоит в том, что она является силой, благодаря которой дух может господствовать над телом и внешним миром. Идеи, будучи нематериальными, соединяются с душевными страстями, сильнейшая среди которых есть любовь, и, таким образом, становятся основой 101 человеческой деятельности, воплощающей эти идеи в различных сферах действительности. Любовь –– индивидуальное и в то же время возвышающееся над индивидуальным эгоизмом чувство. Если разум преобразует индивидуальную телесную форму и эгоистическую душевную структуру на принципах социальности, опирается на конвенциональное тождество Я, то любовь выводит не на формальное равенство, а на органическое всеединство. Эта тема является основополагающей в русской философии. Метафизики любви, развиваемые в ее традициях, отличаются ориентацией на высшие духовные ценности, что не ведет к репрессивному отношению к плоти, хотя и включает аскезу, направленную на ее одухотворение. Особый интерес в этой связи представляет философия любви В.С. Соловьева, который задолго до Шелера высказал и обстоятельно обосновал идею о приоритете духовной любви. Задача любви заключается в том, чтобы из двух создать одну абсолютно идеальную личность. Однако физическое соединение не решает этой задачи и выступает, по мнению Соловьева, скорее препятствием, чем условием. «Смысл и достоинство любви как чувства состоит в том, что она заставляет нас действительно всем нашим существом признать за другим то, безусловно, центральное значение, которое в силу эгоизма мы ощущаем только в самих себе» 109. Это положение напоминает заповедь: «Возлюби ближнего, как с самого себя». Трактовка любви как нравственного долга, с одной стороны, возвышает ее, а с другой — обедняет. Парадокс заключается в том, что в противоположность познанию любовь вводится как чувство, дополнительно привлекающее не только истиной, но и красотой: влечет то, что красиво, гармонично, совершенно, и поэтому любовь предполагает совершенствование как объекта, так и субъекта. Связь любви с красотой делает ее капризной и не столь надежной, как знание, содержание которого объективно и общезначимо. Именно последнее обстоятельство и питало поиски новой феноменологии телесности, отказ от чувственной красоты в пользу духовной. Однако этот путь был связан не только с находками, но и с потерями: умерщвлением плоти, извращениями. Со всеми этими трудностями Соловьев сталкивается, как только переходит к обсуждению вопроса о половой любви. Несомненно прогрессивными, по сравнению с наукой о сексе, являются взгляды философов на принятые в обществе нормы полового общения, допускающие физическую близость без любви. Однако нейтральность ее относительно физической близости, допущение разнообразных форм сексуальности (важен не способ сближения, а единение в Боге) приводит к трудной проблеме перверсий, которую в соответствии с общепринятой в то время стратегией умолчания Соловьев не обсуждает. Он подвергает осуждению и чисто духовную трактовку любви: «Ложная духовность есть отрицание плоти, истинная духовность есть ее перерождение, спасение, воскресение». 110 Данный тезис при всей его метафизической привлекательности на практике приводил к жестким репрессиям и попыткам конструирования новой феноменологии телесности: 109 110 Соловьев В.С. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1989. С. 511. Там же. С. 529. 102 подобно ученому, учитель морали конструирует идею человека и затем при помощи изощренной психотехники реализует ее в ментальности. Бог творит мир, Христос — церковь, а мужчина, считая жену пассивным началом, берется оформить ее как «вечную Женственность», понимая последнюю уже не как идею, а как «живое духовное существо». С редким у мужчин тактом Соловьев, однако, не спешит брать плетку, чтобы образумить иных ветрениц. Он считает, что условием реализации идеала выступает многообразие различных факторов, которые выполняются в ходе теокосмической и духовной эволюции человечества: ваше собственное перерождение связано с перерождением Вселенной. Это обрекает на неудачу попытки индивидуального спасения в любви, но не оправдывает ли оно социальные меры, ее регулирующие, в частности брак и «лупанарии»? Отказываясь что-либо менять в действительности из-за страха перед последствиями, не сводится ли философия вновь к «некритическому позитивизму»? Может показаться, что концепция В.С. Соловьева не только романтична, но и реакционна, ибо она затушевывает реальные практики любви, основанные на насилии, мучении и истязании. История сексуальности весьма далека от того духовного восхождения к космическому единству, к которому призывает философ. Эта история — скорее прогресс в направлении утраты внутренней свободы и независимости, совершенствования механизмов подчинения индивида обществу. Поэтому, может быть, самое лучшее — вообще не говорить и не писать об этой интимной сфере, поскольку всякий дискурс о любви опасен тем, что всегда использовался во вред человеку, от которого все ждут только признаний и откровений, чтобы вернее проконтролировать его побуждения и чувства. Верным доказательством несостоятельности концепции считается и неудачный личный опыт Соловьева, а также те трагедии, которыми в конце концов завершались попытки его последователей соединить земное и софийное. Ответом на эти замечания могло бы быть следующее возражение: разве практикуемые сексуальные отношения не лишены недостатков, разве физическая близость и узы брака полностью удовлетворяют человека, наконец, разве не растет в современном обществе число лиц с аномальной сексуальностью? Идеализм Соловьева оказывается более достойным и, во всяком случае, более ответственным, чем прагматизм науки о сексе. В силу своей связи с властью наука вовсе не заинтересована в совершенствовании любви, а эксплуатирует сложившиеся сексуальные практики, рационализирует и интенсифицирует их, предлагает рецепты более экономной и эффективной реализации. Напротив, философия любви изначально ориентирована на преодоление несовершенства этих практик, на их одухотворение. Трудность философской эмансипации пола и любви связана с тем, что они являются не только идеологиями и инструментами власти, но и формами жизни, как биологической, так и духовной. Поэтому однозначно отрицательные оценки пола — то ли по религиозным соображениям (как это имело место у иных богословов), то ли по политическим (как у Фуко и его последователей) — в равной мере ошибочны. На фоне этих общих недостатков, казалось бы, крайне противоположных концепций идеи Соловьева выглядят более гуманными, ибо 103 оставляют возможность духовного. совершенствования коммуникации телесного и Любовь является не только способом трансцендирования к идеальному миру ценностей, но и формой социализации и цивилизации человека. Эту тему развивал В.В. Розанов, сознательно эпатировавший как жесткие нормы морали, так и романтически-идеалистические нормы духовной любви. Противоположность взглядов В.С. Соловьева и В.В. Розанова можно рассматривать и в аспекте различия языческой и христианской трактовок пола, а также трансцендентально-духовного и социокультурного подходов. Язычество связано с культивацией чувственно-телесной природы, а христианство как реакция на «беспредел» чувственных наслаждений выступает против пола в его физиологическом и душевном аспектах. Рассматривая пол как систему греховных влечений и помыслов, сформированных в дохристианской культуре, религиозные проповедники открыли подводную часть айсберга — систему страстей, желаний, наслаждений, мечтаний и хотений, над которой надстраивается тонкая видимая часть культуры — идеи и теории. Если смена мировоззрения и его идейно-идеологической сферы осуществляется механизмами риторики и аргументации, то преобразование чувственнотелесной сферы ментальности основывается на чувстве страха и вины, любви и ненависти, воспитание которой опирается на применение специфической психотехники. Розанов представляет большой интерес и для истории феминизма, ибо он свободен от мужского шовинизма и рисует «дохристианский» образ женщины, больше опирающийся на древние сказания, чем на романы, где женщина представлена как машина для наслаждений. Конечно, его идеал — не матриархат, однако самостоятельная, разумная, опрятная, «мягкая и ароматистая» жена, к тому же не сварливая и не болтливая, достаточно четко противостоит христианскому облику женщины как средоточия зла и греховности. Философия любви Розанова реабилитирует сексуальность, подавляемую в христианстве. В ней указано противоречие современной культуры. С одной стороны, она базируется на институтах семьи и брака, регулирующих и гарантирующих нормальные права и свободу людей. Эти институты обеспечивают воспроизводство рода, воспитание и социализацию детей, накопление общественного богатства. Именно в семье прививаются телеснопрактические и душевно-чувственные навыки и формы сознания, являющиеся почвой более рафинированной духовно-интеллектуальной культуры. С другой стороны, культура подчас не только не совершенствует семейно-брачные отношения, а разрушает их своими жесткими предписаниями. Аналогично церкви, духовная культура стремится внедрить идеал «святого семейства» и вытеснить пол, зов которого рассматривается как природная необходимость, несовместимая с высокой духовностью. Это противоречие выражается и в теориях любви, ориентированных либо на секс, либо на анемичную любовьдружбу. 104 Отвращение к совокуплению Розанов связывает с индивидуализацией, с духовным ростом людей, стремящихся заявить «нет» всему природному и родовому. По его мнению, культура должна не противопоставлять дух полу, а одухотворять его: назначение лирики, эстетики вкуса и манер, этики взаимного признания и уважения, науки, искусства и т. п. состоит в культивировании пола, который, как подземный, бурлящий поток, выступает источником творческой деятельности. Современная литература перестала быть носителем старинного искусства любви, ибо ее дискурс оказался деформированным установками воли к власти и нуждается в серьезном лечении. В силу прагматизации и инструментализации специализированных дискурсов философские концепции Соловьева и Розанова кажутся весьма привлекательными из-за своей синкретичности. Сталкивая вместе прагматическую и мировоззренческую тематику, они позволяют создать такой язык, который оказывается эффективным орудием исследования, просвещения и освобождения. Поскольку целый ряд общечеловеческих ценностей и интересов утрачен современной наукой, постольку их внедрение (прежде всего — ориентация на свободу и самосовершенствование) в инструменталистские речевые практики представляется крайне актуальным. Развиваемые Соловьевым и Розановым противоположные и тем не менее взаимодополняющие друг друга точки зрения на природу и смысл любви связаны со стремлением не просто исследовать сексуальные практики и дать эффективные рекомендации управления ими, но и способствовать совершенствованию и одухотворению этих практик. Сверхчеловек Ницше Идея сверхчеловека поднимается уже в самых ранних сочинениях Ницше. Она является ответом на деградацию людей в рамках современной цивилизации. Но кем является сверхчеловек –– этого Ницше не мог определить до самого конца, и чтобы попытаться понять это, нельзя выхватывать те или иные «слоганы». В период увлечения Вагнером и Шопенгауэром Ницше мыслит в терминах культа великих людей, свойственного его эпохе. В «Рождении трагедии» роль спасителей человеческого рода берут на себя веселые алкоголики, ярко переживавшие в состоянии подпития родственную связь не только друг с другом, но и со всем сущим, включая ужасную тайну бытия –– саму смерть. Затем он берет на вооружение дарвиновскую формулу эволюции, героем которой выступает вид, а не индивид. Роль последнего не так значительна: сохранение, передача генетического наследства и маленькие плодотворные мутации –– вот в чем состоит назначение отдельного человека. Бессмертен род, а не индивид. В своей «позитивистской» стадии интеллектуальной эволюции Ницше комбинирует эти биологические метафоры с «аполлоническими» и в формулах «знание-власть», «культурная политика», «власть искусства» находит их синтез. Наконец, во фрагментах «Воли к власти» Ницше завершает свой портрет сверхчеловека как самого умеренного существа, вполне владеющего своими страстями, управляющего своим поведением, разумно планирующего свою жизнь. Воля к власти здесь реализуется как искусство жизни, в которой человек учится управлять самим собою. Кто же он такой сверхчеловек –– «белокурая бестия», селекционер или санитар культуры, методично уничтожающий слабых человеческих особей, одинокий герой, наподобие фанатичных мстителей из американских кинобоевиков, или, 105 наконец, интеллектуал, порвавший со своей профессией и окунувшийся в мутные волны жизни, чтобы добиться успеха, а потом покончить жизнь самоубийством? Каждый читатель «Заратустры» понимает его по-своему, что, впрочем, и советовал делать Ницше. Он не был свободен от романтизма, однако все-таки не настолько от него зависел, чтобы создавать сусальные истории, которые манифестируют нереализованные желания, порожденные скукой повседневности. Без учета воздействия ее структур невозможно правильно понять то, что заставляло грезить именно в направлении «Заратустры». В этом сочинении описывается трагическая судьба нового посланника, который учил о сверхчеловеке. Эту идею иногда понимают как плод «инспирации» –– необычайно яркого переживания, осенившего Ницше. На самом деле она имеет долгую предысторию. Прежде всего, это понятие возникает как итог размышлений о самоформировании и самовоспитании, характерных для «Несвоевременных». В работе «Шопенгауэр как воспитатель» Ницше описывает поиск закона, на основе которого формируется в молодой душе представление о самом себе. Суть его в следовании образцам. Воспитание –– это не просто многознание, а подражание великим людям прошлого. Только таким путем, подражая им, можно достичь вершин. Истинная самость не внутри, а вне меня, она не человеческая, а сверхчеловеческая. Путь к ней открывается благодаря возможности обещания. В таком понимании речь идет не о биологии и евгенике, а о культурной работе над собой, о пластике души, которая должна быть подвергнута суровой самодисциплине, благодаря которой человек может господствовать, прежде всего, над самим собой. Для этого еще в «Человеческом, слишком человеческом» Ницше нашел точную формулировку: Стать господином над самим собой, если раньше тобою правили некоторые нравственные нормы, то теперь ты должен управлять ими. Они всего лишь инструменты, среди других и твоя задача научиться использовать их для осуществления высших целей. Таким образом, речь ведется о самовоспитании, о культурном атлетизме. В «Заратустре» это приобретает биологический тон: человек произошел от обезьяны, но ушел в сферу цивилизации, сохранив при этом черты животного. Человек –– переходное существо, движущееся от обезьяны к сверхчеловеку. «В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и уничтожение».111 Обезьяна напоминает ему о животном и вызывает стыд, болезненный стыд –– это и есть память, благодаря которой он возвышается к сверхчеловеку. Метафоричность биологических терминов становится все понятнее по мере прочтения книги. Целью развития является преобразование не только мозга, но и тела человека. Но верно ли бы мы поняли пафос книги, если бы ограничились указанием на необходимость совершенствования мускулатуры, нервов, сухожилий и т. п.? Да это просто комично! Ницше опирался на современные ему представления об эволюции. В 1881 г. в Сильс-Мария он прочитал немало книг по биологии. В целом относясь к учению Дарвина достаточно критично, Ницше синтезировал две идеи: вопервых, идею развития, которая была применительно к культуре разработана Гегелем и последователями исторической школы; во-вторых, идею эволюции биологической субстанции. Дарвинская идея о происхождении человека из животного, конечно, пошатнула веру в своеобразие человека. Следствием биологии также стало понимание духа как функции тела. Этим обусловлен 111 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 9. 106 интерес Ницше к физиологии и стремление понять разум как телесный орган. Однако следует иметь в виду, что дарвинизм –– лишь одно из направлений, которым интересовался Ницше, а, главное, что идею эволюции Ницше применил к человеческой культуре настолько своеобразно, что ни о каком национал- или социал-дарвинизме Ницше не может идти и речи. Более того, именно дарвинизм способствовал тому, что он критично оценил идею прогресса. Конечно, селекция сверхчеловека опирается на логику дарвинизма: если развитие направлено от животного к человеку, то почему оно на нем должно остановиться? Отсюда предположение о возможности сверхчеловека как высшего биологического типа. Хотя у Дарвина не встречается термина «сверхчеловек», биологический футуризм не был ему чужд. Очевидно, что такого рода фантазм вытекает из идеи развития. Сам Дарвин, впрочем, оставался скептиком и не считал возможным продолжение эволюции от человека к сверхчеловеку. Зато оппоненты Ницше Д.Ф. Штраус и Е. Дюринг, указывая на деградацию некоторых биологических видов, предрекали человеку светлое биологическое будущее. Особенно в разного рода популярной литературе по дарвинизму сверхчеловек понимался как новый биологический тип, и мы сегодня должны помнить, что Ницше противопоставлял им свое оригинальное культурно-историческое понимание сверхчеловека. Следует учесть популярность Т. Карлейля и Р. Эмерсона, уподоблявших сверхчеловека расе героев, святых, гениев ученых и художников. В многочисленных биографиях Лютера, Шекспира, Наполеона великие люди характеризовались как продукт глубоких качественных трансформаций человеческого рода. Ницше возражал не только против дарвинизма, но и против идеалистической абсолютизации роли культурной элиты, и критиковал как биологические, так и культурно-социологические теории. Он высмеивал понимание сверхчеловека как наполовину святого, наполовину гения и указывал на ложность его определения как идеального типа человека высшего рода. В новом предисловии к «Рождению трагедии» подвергаются сомнению притязания святости, которая ориентировала на отказ от мира. Также атлетический герой и «правитель-художник» (Цезарь-Борджиа) не считаются больше образом сверхчеловека. Во время создания «Заратустры» Ницше сплавлял в нем наполовину идеалистические, наполовину религиозные черты. В пятой книге «Веселой науки», написанной после «Заратустры», сверхчеловек рисуется как актер и имморалист. В «Генеалогии морали» речь пойдет о «белокурой бестии», но не о биологическом, а о культурном типе, который Ницше заимствовал у эпохи Ренессанса, раскрывшего витальную энергию человека. Если есть сверхчеловек, то почему нельзя допустить существование внутри нас сверхзверя? Человек –– это самое ужасное на свете, так он охарактеризован в греческой трагедии. «Зверь в нас должен быть обманут; мораль есть вынужденная ложь, без которой он растерзал бы нас». 112 Осознав себя свободным, человек наложил на себя ограничения в форме закона. Ограничивающий проявление зверского начала в человеке порядок не является чем-то чисто внешним и неизменным. Практическое значение имеет не сам по себе моральный закон, а способ его исполнения в физиологической и психической материи, в характере, «хабитусе». 112 Там же. 107 Положению об абсолютности христианской морали соответствует допущение о неизменности характера. Ницше подвергает сомнению то и другое. Если рассмотреть историю человеческого рода, то обнаружится весьма значительная трансформация представлений о плохом и хорошем. «Порядок ценности благ, – – отмечал Ницше, –– непостоянен и неодинаков во все времена».113 Сегодня справедливость реализуется через суд, а личная месть считается преступлением. Однако так было не всегда. Поэтому Ницше предлагает расценивать жестоких и безнравственных людей, как некие реликты прошлого. В силу недоразвитости, умственной и культурной отсталости некоторые люди не получили всестороннего развития и ведут себя в современном обществе, как в первобытной орде. Они угрожают нашему мирному существованию, но можно ли вменить им это в ответственность? Главное, как жить с ними. Если их собрать и посадить в одно место, то общество, как показал Мандевиль в своей «Басне о пчелах», деградирует. А если предоставить им свободу, то не станет ли общество жить по законам маркиза де Сада? Конечно, есть клинические больные и насильники, вопрос об изоляции и наказании которых не вызывает сомнений. Но как достичь понимания и взаимного признания, например, между образованными и культурными и низшими слоями общества, качество жизни которых весьма различно? Как быть в отношениях между старшим и молодым поколениями? Старики не просто консервативны, они более жестоки и архаичны, ибо условия их жизни были более суровыми (если общество деградирует, тогда все переворачивается). Как показал Руссо, цивилизация не обеспечивает автоматического роста нравственности и гуманности. Высшая культура не ограничивает, а лишь придает выражению, реализации низменных инстинктов некую утонченную форму. Современный человек, гордящийся своей цивилизованностью, оказывается равнодушным и даже жестоким к другим, и не испытывает сострадания к боли и лишениям других людей. Таковы не только преступники, но и светские люди, расточающие комплименты и улыбки, но в душе остающиеся пустыми и холодными. Идеалы «простодушного», «нецивилизованного» человека предполагают метафизическое допущение греха. На самом деле область нравственных представлений находится в постоянном колебании: не аскеза и страсть, а познание –– вот лучшее средство самовоспитания и преодоления диких задатков. Ницше пытается осмыслить рост цивилизованности во всей ее сложности. Он показывает, что такие понятия, как добро, благодарность, сострадание имели в древности специфическое значение. Например, он раскрывает архаичную благодарность как своеобразную форму мести: оказывая благодеяние, один свободный человек унижает другого свободного человека, который в отместку за это оказывает первому ответную благодарность. Тут нет речи о «добротолюбии». Исследуя иерархическое общество, Ницше постепенно впадает в пафос относительно «морали господ». «Хорошим» среди сильных и свободных мужчин, связанных в первобытную общину инстинктом возмездия, считается тот, кто отвечает добром на добро и злом на зло. Дурным считается не тот, кто наносит вред –– например, мужественный враг, а тот, кто возбуждает презрение. Напротив, слабые и порабощенные вырабатывают иные оценки плохого и хорошего: «здесь всякий иной человек считается враждебным».114 113 114 Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Там же. Т. 1. С. 269. . Там же. С. 270. 108 Ницше полагал, что наша современная нравственность выросла на почве господствующих родов и каст. Однако уже здесь он предпринимает попытку микроанализа моральных чувств современных людей. Например, он указывает, что сострадание перерождается в «христианскую ипохондрию», что доброта и любовь при их чрезмерной экзальтации подвергаются инфляции. Вообще, Ницше предлагает сосредоточить внимание при анализе современной морали не на принципах, а на телесных проявлениях высоких идеалов: дружеское расположение в общении, улыбка, теплое рукопожатие. Автопортрет здорового человека по Ницше таков: «Удачный человек приятен нашим внешним чувствам, он вырезан из дерева твердого, нежного и вместе с тем благоухающего. Ему нравится только то, что ему полезно; его удовольствие, его желание прекращается, когда переступается мера полезного. Он угадывает целебные средства против повреждений, он обращает в свою пользу вредные случайности; что его не губит, делает его сильнее. Он инстинктивно собирает из всего, что видит, слышит, переживает свою сумму: он сам есть принцип отбора, он много пропускает мимо».115 Добродушие, приветливость, сердечная вежливость являются ни чем иным, как «непрерывным осуществлением человечности». Именно они, а не провозглашение принципов сострадания и гуманности, свидетельствуют о преодолении эгоистического инстинкта в культуре. Ницше, вслед за Ларошфуко, предложил дистанцироваться от морали сострадания, которая не способствует энергичной борьбе с несчастьем. При этом он открывает тонкое извращение этого чувства у слабых людей, которые стремятся нарочно вызвать сострадание, чтобы причинять боль другим людям: «жажда вызывать сострадание есть жажда наслаждения самим собою, и притом на счет ближних».116 Этот привело к резкой оценке христианского сострадания, как формы власти слабых над сильными. Антропологический поворот в философии ХХ века В 20–30 годы ХХ столетия три автора внесли особо важный вклад в развитие философской антропологии. Это М. Шелер (Место человека в космосе), соединивший методы феноменологии и основные идеи философии жизни, Г. Плесснер (Ступени органического и человек), синтезировавший обширный биологический материал и философскую рефлексию, заявивший, что биология без философии слепа, а философия человека без биологии пуста, и, наконец, К. Лёвит (Индивидуум в роли человека (Mitmenschen)). Эти пионерские работы были творчески развиты в дальнейшем, и среди авторов, оставивших значительный след в развитии философской антропологии, нужно выделить Дж. Мида, Ж-П. Сартра, А. Портмана, Э. Кассирера и А. Гелена. Дальнейший крутой поворот в антропологии связан с деятельностью К. ЛевиСтроса, который существенно обогатил эту науку как фактическими данными этнографии, так и новым методом, который он назвал структурным. Данный метод имеет не только техническое, инструментальное значение, но радикально изменяет мировоззрение, так как обращает внимание исследователя не столько на содержание мифов, обрядов, обычаев и др. форм миропонимания, сколько на выяснение структуры отношений, образующих специфику коммуникативных связей первобытных людей. Их необычность объясняется не воображением и фантазией или некими кровожадными инстинктами, а своеобразием структур 115 116 Ницше Ф. Ecce Homo. Там же. Т.2. С. 700. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. С. 273 109 родства и способов освоения природы. Например, разного рода табу выступают как нормы, регулирующие отношения людей. Не только работы К. Леви-Строса способствовали глубоким изменениям проблематики и методологии философской антропологии, которая до сих пор искала ответ на вопрос о сущности человека в исследовании взаимодействия духовного и телесного, в соединении результатов биологии и наук о духе. В Германии основатели Франкфуртской школы, творчески развивавшие идеи К. Маркса, критически относились к пионерским работам в области философской антропологии. Главный упрек заключался в том, что антропология, указывающая на фиксированную природу человека, становится тормозом исторического развития. После войны эти аргументы развил Ю. Хабермас, который выдвигал в качестве основных динамических характеристик истории способность человека к критической рациональности и открытой демократии и считал антропологический догматизм, выражающийся в ориентации на вечную природу или идею человека, опорой политического догматизма. Внутри самой философии также формировался протест против антропологической парадигмы, и он был выражен уже Хайдеггером, который в своей, в сущности, антропологической, посвященной анализу человеческого существования работе «Бытие и время», в противовес гуманистической и антропологической точке зрения, выдвинул проект фундаментальной онтологии, в которой человек был поставлен в зависимость от бытия. В своих поздних работах, особенно посвященных критике научно-технического покорения мира, Хайдеггер считал моральность и гуманизм слишком хрупкими основаниями, не выдерживающими давления воли к власти. Этот момент был обстоятельно развит в новейшей французской философии, которая исходила из приоритета желания власти, диспозитивами которой оказываются как научнотехнический, так и гуманитарно-антропологический дискурсы. Природа человека представляется в работах Делёза и Гваттари как продукт работы власти, которая не обманывает людей, а делает их такими как нужно, обрабатывая не только мысли, но и волю, телесные желания и потребности. Можно, так или иначе, снимать высказанные возражения, чем и занимаются сторонники сохранения традиционной антропологической парадигмы. Например, явно несправедливым выглядит обвинение в догматизме, так как именно философская антропология обратила внимание на открытость человека миру, на его динамизм и стремление к самоизменению. Вместе с тем, нельзя отрицать то обстоятельство, что сегодня философия перешла в новую постантропологическую эпоху, для которой характерен отказ от идеи человека как высшей ориентирующей общественное развитие ценности. Он связан так или иначе с успехами биологии, которая определяет человека как цепь молекул и генетических кодов; с открытиями социологии, которая эффективно объясняет мораль и мировоззрение как надстройки над базисными социальными и экономическими институтами; с претензиями этнологии, которая указывает на неуниверсальность человеческого. Однако главным мотивом такого отказа являются трудности прежде всего философского характера, которые вынуждают сомневаться в абсолютных идеях и ценностях, выступавших прежде в качестве незыблемых оснований, обеспечивающих возможность построения философии как строгой науки. Кризис антропологической парадигмы необходимо расценивать как часть более общего процесса, который наиболее интенсивно выражен в ницшеанской критике христианской морали и других 110 абсолютных ценностей. Ницше говорил о смерти Бога, теперь говорят о смерти человека и даже самой философии. Мы живем не только в постантропологическую, но и в постметафизическую эпоху, в которой традиционная философия имеет разве что антикварную ценность. Пессимизм и оптимизм –– вот две, по сути, взаимозависимые формы мироощущения, имеющие трансисторический характер. Поэтому все сказанное о смерти Бога и Человека можно воспринимать и по-другому. Речь идет о критике устаревших представлений, которые ориентируют на поиски неизменной природы или вечной сущности человека, и о выработке новой, более реалистической модели человеческого. Совершенно нетерпимым является тот факт, что красивые, возвышенные разговоры об идее человека ведутся на фоне все более дегуманизируемой действительности. Поэтому философская антропология «после смерти человека» должна поставить в качестве своей главной задачи: во-первых, критическую рефлексию исторических представлений о человеке и исследование тех реальных функций, которые выполнял дискурс о человеке в истории культуры; во-вторых, анализ, диагностику и терапию тех мест, культурных институтов (таких, как семья и школа, научная аудитория и казарма, предприятие и больница), в которых осуществляется производство человеческого, включая его не только духовные, но и психофизические характеристики. Также необходимо отметить и то, что развитие специальных (биологического, социологического, этнографического и др.) дискурсов о человеке вовсе не имеет того рокового для философской антропологии значения, как об этом говорят сами представители конкретных наук. На самом деле большие философы всегда учитывали научные открытия, а крупные ученые интересовались философией. Например, трудно сказать, чему больше обязана теория –– Дарвина социальным идеям или биологическому материалу. Поэтому речь должна идти о взаимодействии, о поиске более эффективных форм дополнительности философско-антропологического и конкретного (естественнонаучного и гуманитарного) подходов. Для этого их представители должны отказаться от претензий на абсолютное и тотальное превосходство. Строго говоря, научный и философский дискурсы о человеке несоизмеримы, и при этом биологические знания о человеке в такой же мере относятся к идеальным объектам, как философско-антропологические учения. Социальное и индивидуальное, природное и культурное, эмоциональное и рациональное, духовное и телесное – – все это теоретические противоположности, закрепленные сложившейся специализацией научных дисциплин. Однако науки должны смириться с тем, что они изучают те или иные аспекты абстрактного человека. Это обстоятельство выдвигает на первый план необходимость разработки прикладных наук, которые по необходимости оказываются междисциплинарными и вынуждены согласовывать философские, гуманитарные и естественнонаучные знания. Таким образом, разговоры о кризисе философской антропологии необходимо существенно уточнить. Во-первых, речь идет о кризисе абсолютистских претензий отдельных представителей антропологической парадигмы, т. е. о кризисе антропологического мышления, ищущего основания культуры в идее или в природе человека. Человек рассматривается как субъект познания и практики, и по его меркам осуществляется оценка любых явлений природы и произведений духа. Но на самом деле не только природа, но и созданные человеком вещи и институты становятся самостоятельной реальностью, 111 развивающейся по своим законам, и эти системы в свою очередь предъявляют свои требования к человеку и его деятельности. Например, знания, перерабатываемые и используемые современными компьютерами, не соответствуют антропологическим критериям. Однако выход заключается не столько в «гуманизации» машин, сколько в организации более эффективного взаимодействия их с человеком. Бытие и человек (онтологическая антропология М. Хайдеггера) Хайдеггер задал новое понимание бытия, а не только способов, методов его постижения. В частности, он различал бытие и сущее: бытие –– это бытие сущности, но оно не является этой сущностью, ибо определяет сущности как сущности. Другой тезис Хайдеггера состоит в том, что бытие как таковое предшествует тому роковому разграничению, которое западные философы проводят между бытием как сущностью и существованием. Итак, первый вопрос: если бытие не является сущностью, то как оно может быть бытием сущностей? Хайдеггер писал, что мы должны обращаться к бытию как таковому через рассмотрение особого рода сущностей, которые имеют к нему привилегированный доступ, а именно Dasein. Особенность человеческого существования в том, что в нем раскрываются другие сущности, включенные в мир. Для описания особого характера включенности Dasein в бытие Хайдеггер использует понятие Anwesenheit –– присутствие, которое не является сущностью. Способом бытия Dasein является существование. Это слово Хайдеггер использует в его греческой этимологии, как присутствие внутри или снаружи. Существуют не все, а только такие сущности, у которых есть мир, которые раскрывают себя, как раскрывающие другие сущности. Мир Dasein описывается Хайдеггером не только как социальная среда, но как возможность. Другой особенностью Dasein является не активно-деятельный, а, скорее, пассивный характер присутствия. Dasein есть сущее, для которого в его бытии речь идет о самом этом бытии.117 Таким образом, важнейшим модусом бытия является существование, в котором оно и является. Экзистенциальный характер «данности» бытия позволяет утверждать, что приоритет онтологии оказывается формальным, и она фактически строится как антропология. Протест Хайдеггера против антропологии и психологии вызван тем, что обычно они скрывают то, что важно для онтологии. Протест против приоритета антропологии в философии вызван также новым пониманием человека, который задается не как субъект действия, а как медиум бытия. Это тесное сближение бытия с Dasein проявляется в том, что Хайдеггер использует для их описания одинаковые предикаты существования, присутствия. В силу этой близости возникают трудности с тезисом о том, что бытие не является сущностью. Возможно, имея ее в виду, Хайдеггер и акцентировал онтологическое понимание человека: его сущностью является присутствие при бытии. Но тут тоже возникает вопрос, вызванный индивидуальностью, сингулярностью Dasein. При этом Хайдеггер дистанцировался не только от психологии и антропологии, но и от социологии. Вопрос о смысле бытия в «Бытии и времени» характеризуется как трансцендентально-феноменологический, а позже преодолевается как кантианский. Отказ от него называют «поворотом», знаменующим поздний этап эволюции Хайдеггера. На самом деле различать в творчестве философа раннюю 117 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 42. 112 или позднюю стадии, конечно, можно и нужно, однако, не следует это абсолютизировать. И в поздних работах Хайдеггер писал о бытии, постоянно отсылал к понятиям, введенным в «Бытии и времени». Модель «поворота» как радикального отказа от якобы кантианской установки (вопрос о смысле бытия) удобна для решения проблемы различия онтологии и антропологии. Можно объяснить поворот от классической онтологии к неклассической отречением от католической теологии в пользу протестантизма. Но затем был атеистический и потом снова католический период. Эти искания Хайдеггера, кажется, намекают на взаимоотношения онтологии не только с антропологией, но и с теологией. Действительно, обращение к аристотелевской концепции бытия вполне закономерно для воспитанника иезуитского колледжа. Невидимый Бог посылает свое послание с самым надежным посыльным, который передает его своим ученикам, а те иерарху церкви, который непогрешим. Далее оно передается служителям церкви, которые ведут особо чистый образ жизни (целибат) и благодаря этому передают послание в неискаженном виде. Неклассическое, «экзистенциальное» определение бытия вполне вписывается в схему протестантизма, где каждый имеет послание (печатный текст Библии) и сам, без посредничества священников может разобраться в истине. При этом он самостоятельно ведет подсчет своим грехам и сам искупает их добрыми делами. Но протестантизм понимался философами по-разному. У Канта и Гегеля субъект, дух наделены деятельным характером, они конструируют бытие и на этой ниве сотрудничают и даже конкурируют с Богом. Отсюда закономерно вытекает антропологический поворот, осуществленный Фейербахом. Однако после «смерти Бога» незамедлительно была констатирована и «смерть человека». Хайдеггер, интенсивно изучавший Ницше, не мог этого не принимать. Отсюда отход от экзистенциального проекта и поздний «поворот». Хайдеггер попросту исключил активную, проективную, волевую способность Dasein. При этом приходится разрывать существование и присутствие. Бытие дано как присутствие и уже не зависит от типа существования Dasein. Происходит отказ не только от трансцендентального, но и от «существующего» субъекта. Так сохраняется единство и порядок бытия. Не обошлось здесь и без политических коннотаций. Разочарованный в волевой решимости вождей, Хайдеггер с конца 1930-х годов начал удалять всяческие проявления волевой активности субъекта. Ее символом становится техника, трактуемая как забвение бытия. Но и тут «человеческий фактор» дезавуируется: демонизм техники и конец метафизики расцениваются как способы уклонения самого бытия. Возможно, этим вызван отказ Хайдеггера от покаяния. Парадоксальным образом попытка обосновать независимое от существования Dasein, самостоятельное существование бытия, которое определяется как присутствие, сопровождается явным антропоморфизмом языка. Последний содержит все больше человеческих метафор, на место Dasein приходит фигура мыслителя-поэта. Антропологический проект Шелера Хайдеггер отождествил с неокантианской теорией ценностей и указал, что человек может быть правильно определен как «слуга» бытия, а не господин (познающий субъект), конструирующий мир в понятиях. Наоборот, рассуждения позднего Хайдеггера явным образом центрированы на человека. Конечно, утверждается, что речь идет о бытии, однако это читается как чисто формальное утверждение, ибо ясно, что речь идет о человеке, способном входить в просвет бытия. Собственно, человек и есть 113 этот просвет, во всяком случае, язык, техника, искусство –– главные антропологические константы являются экстазами и медиумам бытия. Несмотря на пророческий тон, высказывания и оценки Хайдеггера неоднозначны. Усиливаются апокалипсические настроения: на место удивления в философию пришел ужас. После войны Хайдеггер часто пользовался метафорой забвения или уклонения бытия. В «Письме о гуманизме» он писал о безродности и бездомности людей. Это вообще непонятный текст, может быть, потому что был написан на французском языке. В «Письме о гуманизме» Хайдеггер писал: «Сверх того, и прежде всего надо еще наконец спросить, располагается ли человеческое существо –– а этим изначально и заранее все решается –– в измерении "живого", animalis. Стоим ли мы вообще на верном пути к существу человека, когда и до тех пор, пока –– мы отграничиваем человека как живое существо среди других таких же существ от растения, животного и Бога?»118 Вопрос Хайдеггера направлен против биологического и метафизических подходов к человеку. Если мы мыслим его как animalis, то недомысливаем как humanitas, и наоборот. Хайдеггер определял существо человека как «стояние в просвете бытия», как эк-статичность. Стало быть, эк-зистенция присуща только человеческому существу. Поэтому для определения человека следует задуматься о сути своего бытия, а не расширять естественнонаучную информацию о морфологическом отличии человека от животного. Даже «animalis» человека, которая определяется на основе сравнения его с животными, на самом деле зависит от эк-зистенции: «Если физиология и физиологическая химия способны исследовать человека в естественнонаучном плане как организм, то это еще вовсе не доказательство того, что в такой "органике", т. е. в научно объясненном теле, покоится существо человека». 119 Это не означает признания метафизического подхода: наделяя человека бессмертной душой, разумностью, личностью, невозможно компенсировать недостатки натуралистического подхода. С философской точки зрения существует большой разрыв между открытиями палеонтологии и их истолкованиями. Фактов много, но все они уложены в крайне убогие, да к тому же фантастические схемы. Поэтому хайдеггеровское определение человека как просвета бытия кажется более смелым и плодотворным, чем устаревшие естественнонаучные подходы. Становление человека можно и нужно понимать не только как процесс совершенствования его нейрофизиологии, но и как создание, собирание бытия вокруг себя. Именно сегодня, когда расшифровка генетического кода показала, сколь ничтожно различие человека и животного, вновь актуален вопрос о своеобразии человеческого. Проблема в том, что нельзя отрицать ни соседства, ни пропасти, как соединяющих, так и отделяющих нас от животных. Человек ощущает свою близость богам, противопоставляя себя животным. В этом проявляется экстатичность его бытия. Однако Хайдеггер дистанцировался и от теологической трактовки человека. Просвет для него –– это не открытие Бога в Иисусе Христе. «Крайняя путаница, однако, получилась бы, если бы кто-то захотел истолковать фразу об эк-зистирующем существе человека так, словно она представляет собой секуляризированный перенос на человека высказанной христианской теологией мысли о Боге ("Бог есть его бытие")». 120 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. М. 1993. С. 198 Там же. 120 Там же. 118 119 114 Хайдеггер предостерегал относительно непродуманной постановки вопроса о человеке как предмете или личности. Его сущность в том, что он делает просвет бытия своей заботой. «Поскольку растение и животное, хотя всегда и очерчены свей окружающей средой, однако никогда не выступают свободно в просвет бытия». Как бытие касается человека и как оно заявляет на него свои права? Хайдеггер так отвечает на свой вопрос: «Способ, каким человек в своем подлинном бытии пребывает при бытии, есть экстатическое стояние в истине бытия».121 Онтологическая установка не отвергает ни естественнонаучной, ни гуманистической позиции. Но они не раскрывают достоинства человека. Явится ли сущее как сущее, будут ли присутствовать Бог, история и природа, зависит не от человека. Но от него зависит, осуществится ли его существо так, чтобы отвечать этому событию. Антропологическая попытка объяснения происхождения человека столь же уязвима, как и мифологическая, ибо в ней скрыто предполагается, что Бог, сотворивший Адама по своему подобию, сам в определенной стадии своего развития был человеком. Это вызвано тем, что человек оказался настолько превознесенным, что иначе, чем через резонанс с тем, кого по традиции называют Богом, невозможно вывести его происхождения. Результат, приписываемый божественному творцу и протектору, по сути, и должен быть объяснен на основе механизма, благодаря которому произошла деанимация животного и открылась возможность для Da-seienden вступить в просвет. Человек –– это не животное и не объект, но он как бы живет в них. Эта партиципация человека и животного, человека и объектов преодолевается экстазом, благодаря которому окружающая среда превращается в мир. Собственно, бытие-в-мире и означает экстатическое преодоление человеком животного статуса. Важное значение онтологической антропологии состоит в том, что она прояснила различие между миром и окружающей средой. Между тем слово «окружение» содержит указание на круг, в который попадает живое существо и который должен раскрыть или разорвать человек. Открытость миру –– сущностная особенность человека, признаваемая и биологами. Окружающая среда означает открытость живого существа природе и одновременно это своеобразная клетка, в которой оно пребывает и тем самым сохраняет себя в единстве с природой. В «правильной» окружающей среде животное осуществляет бесперебойный обмен веществ, сохраняет и воспроизводит свой вид. Хайдеггер характеризовал положение животного как промежуточное между безмирностью и мировостью. Как окружающая среда мир раскрывается, так сказать, пунктирно, только в тех качествах, которые обеспечивают выживание животного. Онтологической особенностью homo sapiens является экстатичность, отношение к миру не как к «клетке», а как к открытой системе. Благодаря этому образуется мир и самость, которая может формироваться самостоятельно. Теория эволюции пытается вывести происхождение человека из линии развития животного. Но это бесперспективно. Место человека в мире определяется принципиально иначе, чем место животного в окружающей среде. Отсюда «место» должно быть раскрыто не в физических, а в метафизических параметрах. Положение человека не ограничивается заданными условиями, его место задано не границами, а горизонтом. 121 Там же. С. 201. 115 Сознание и бессознательное Философия склонна к поискам абсолютного действия даже после крушения универсальной парадигмы. В постклассическую эпоху вместо сознания стали утверждаться иные опоры объяснения человека, такие как труд и коммуникация, власть и либидо. Среди них наиболее сильные, впечатляющие изменения произвел психоанализ. Его представителями был обнаружен тайный исток «человеческого», генеалогия которого уперлась в инстинкты, считавшиеся преодоленными духом. Дом сознания оказался надстроенным сверху и оборудованным погребом: внизу располагался мощный парогенератор, производящий желания, а сверху –– надзирающая и запрещающая инстанция, распределяющая и регулирующая давление пара наподобие клапана Уатта. Таким образом, между самыми фундаментальными феноменами человеческого бытия обнаружилась весьма тесная связь, а философии пришлось иметь дело с плотной сетью сплетенной из разнородных нитей и капилляров, по которым циркулировала и обменивалась энергия либидо. Кто господствует над этой энергией, кто держит в своих руках кончики нитей? Традиционная схема человека базируется на дихотомии духа и тела, но само их различие является подвижным. Античность не только не признавала репрессивно-аскетического отношения к телу, но и культивировала заботу о нем в форме гимнастики, диэтики и т. п. Нагота человеческого тела, запечатленная в античной скульптуре, свидетельствует о том, что красивое и гармонично развитое тело является столь же высокой ценностью, как и красивая речь и поэтому не должно скрываться от глаз людей. Христианское Средневековье стыдится тела, но его политика также не сводится к аскезе и запретам. Всякая культура строит свой образ тела, и таковым для средневекового общества является одухотворенная плоть, контролирующая, дисциплинирующая и сдерживающая аффекты и желания. В Новое время философы считали разум господствующей и контролирующей аффекты способностью человека. Этому классическому пониманию противостоит романтическая установка на своеобразную «метафизику экстаза», согласно которой спонтанная чувственность ближе к природе, она в принципе не подлежит искажающему воздействию власти и, стало быть, выступает опорой истины и подлинного бытия. Понятие бессознательного как модус экстатического и внерационального, как выражение стратегии воли к жизни, которую сковывают знание и мораль, первоначально разрабатывалось в русле этой традиции. Фрейд естественнонаучным образом приступил к изучению архипелага бессознательного. При этом главной его мыслью представляется подход к нему как к энергетическому базису, рациональное использование и расходование которого должно быть изучено и поставлено под контроль. Этим подходом определяются функции понятия желания или либидо, которые не исчерпываются, как думали некоторые исследователи психоанализа, возрождением понятия природы. В нем можно выделить два разных полюса: экспликацию динамики желания, включая цель и объект, исполняемый и отсутствующий; понимание либидо как первичного влечения в работе «По ту сторону принципа удовольствия», где этот процесс исследуется в двух режимах: Эроса и Танатоса. Изначальная энергия рассекается на два потока, задающих психику, телесность и их отдельные органы. Наиболее интересной аналогией выглядит характеристика этих влечений как бесконечного повторяющегося процесса, имеющего кибернетический, т. е. стохастический характер. 116 Бесконечное повторение при условии отсутствия единства Танатоса и Эроса указывает на нечто иное, а именно на то, что наслаждение это, прежде всего, энергетический процесс. Именно в этом состоит своеобразие фрейдовского подхода к удовольствию, которое обычно раскрывается как чувство, связанное с потреблением, созерцанием, пониманием, моральным удовлетворением и т. п. Желание выступает как либидо, как производительная сила способная к разнообразным превращениям и изменениям в самых неожиданных формах, и как энергия, канализируемая и используемая в различных системах для производства необходимых аффектов, т. е. превращаемая в нечто иное. Эта сторона желания описана Фрейдом при разъяснении принципа константности, соединяющего эрос и реальность. Именно здесь ярче всего проявляется сходство с Марксом, который использовал понятие рабочей силы в качестве основания общественной системы. Как и эрос, она подчинена своему принципу константности, который реализуется в законе стоимости, обеспечивающем обмениваемость разнообразных продуктов труда. Другой режим энергии присущ либидо, которое, как кажется, не регулируется и не контролируется в рамках общественной системы труда или дискурса, ибо это энергия смерти и разрушения. Но фактически эта энергия оказывается столь же позитивной, как и та, что циркулирует по сетям порядка и используется для воспроизводства. Она отличается лишь чрезмерностью и поэтому тематизируется Фрейдом не как биологические регулярные ритмы, а как «химические» реакции, имеющие взрывной характер, вызывающие страдание, и в этом по своим последствиям подобные «кризисам» Маркса. Таким образом, нельзя считать, что Фрейда интересовал некий невыразимый или запретный предмет или содержание мечтаний. Для него самым важным было изучение преобразования энергии желания в разнообразных формах манифестируемого содержания, от описания сновидений до научного и художественного творчества. Фрейдовский подход к анализу сознания, выявляющий в культурных феноменах следы архаичных желаний, является выражением попыток разоблачения сознания, начатых Марксом и Ницше. Классическим теориям культурного творчества, ориентированным на раскрытие роли высших ценностей, они противопоставили «генеалогический» и «социологический» методы редукции сознания к фундаментальным практикам труда и власти. То же самое можно сказать и относительно морали. Фрейд видел в ней ограничитель исходных инстинктов Эроса и Танатоса и считал ее источником навязчивый невроз. Воля к власти угрожает существованию и поэтому для её обуздания необходимо культивирование чувства виновности, но последнее делает индивида несчастным и неудовлетворенным. Так противоречие основных инстинктов переходит на высших фазах развития в другие конфликты, которые, в частности, и задают динамику культуры. Сети порядка, полиморфная техника власти делают механизмы сублимации исходной энергии все более тонкими и опосредованными. Становление наук о сексе изначально связано с управлением и контролем. Поэтому психоаналитик, вырывающий признание о запретном, о неосознаваемом, не столько открывает истину, сколько продуцирует новую реальность. Это связано с тем, что современное общество удерживает порядок не запрещением желаний а, напротив, их интенсификацией. Сегодня энергия либидо, о воспроизводстве которой очень заботился Фрейд (называвший свой подход «топико-экономическим»), оказалась попусту растраченной и перестала питать культуру. 117 Так получилось, что не только вера, но и иные формы эмоционально-волевого опыта, например, наслаждение и власть, были препарированы и нейтрализованы рационализмом. Гедонист и влюбленный, верующий и властвующий –– все должны предстать перед судом разума и отчитаться перед ним, получить оправдание и рациональное обоснование мотивов и последствий своих действий. Эту рационализацию можно наблюдать в диалогах Платона, который искал пути соединения разума и бытия, разума и власти, разума и наслаждения. Ему удалось найти достаточно пластичный компромисс бытия, истины, власти и удовольствия. В чем состоит Благо, мы, конечно, не знаем. Оно не презентируется ни само по себе как чистое бытие, ибо является чистым отсутствием. Оно не состоит в чувственных удовольствиях, но и не сводится к созерцанию истины, ибо мы все-таки люди, а не ангелы. Оно не реализуется устройствами власти, которая далека от чистой справедливости. И все-таки их единство, понятое как гармония и мера, презентируется прекрасным, которое и есть наиболее удачная форма проявления чистого Блага. Христианство предприняло серьезное наступление на власть, наслаждение и истину и заклеймило их как похоть и грех, однако, как заметил Ницше, само стало жертвой культивируемой ею правдивости и в гораздо более радикальном варианте предприняло рационализацию указанных типов абсолютного действия –– власти, наслаждения, веры и знания. То, что было пионерским в античности и в Новое время, стало банальным для нас, и мы не видим никаких проблем в том, что все эти формы подлежат описанию, обобщению, анализу в языке. Так власть, понимаемая Платоном как форма заботы о себе, как искусство управления самим собой, включая контроль за телесными и душевными аффектами, у нас сводится к идеологической манифестации и юридической легитимации. Проблема власти выглядит таким образом: сама по себе она является выражением иных интересов –– экономических, политических, и поэтому выражается в форме идеологии. Далее она подлежит критике как частный интерес, незаконно институциализированный в качестве универсального. В такой конструкции власти исчезает ее «почвенный», бытийный характер, о котором писал Хайдеггер, а также ее внутреннее, антропологическое основание, состоящее в наслаждении властью. Но если почва и желание власти неискоренимы, то как бороться с ней, если люди не просто обмануты властью, а устроены так, что сами ее желают, как можно говорить об ее устранении? Эти вопросы, свидетельствуют о недостаточности критико-идеологического подхода и ставят задачу разработки иных техник ее изучения и прежде всего психоаналитических. В своей работе Фрейд во многом повторяет стратегию Платона. Однако чувствуется влияние следов христианской традиции, которая вынуждает осуществлять сложную игру страдания и наслаждения и, главное, показать, как они связаны. Если для Платона они отличаются достаточно резко, хотя и он, сводя удовольствие к познанию, вынужден стирать границу между ними, то Фрейд непроизвольно делает то, что Платону просто не приходило в голову: раскрыть сложную взаимозависимость страдания и удовольствия. Платон стирает границу наслаждения и познания и таким образом подчиняет одно другому. Для Фрейда в этом уже нет вопроса и он говорит о сублимации первичных удовольствий, о вытеснении их и у него, таким образом, получается парадоксальный вывод, что современный цивилизованный человек может 118 страдать от получения первичных удовольствий, которые запрещаются культурой. Есть еще один сходный момент: как и Платон, Фрейд говорит о балансе страдания и удовольствия и предлагает свой «топико-экономический» подход, в котором связывает наслаждение и бессознательное. Однако Фрейд далек от того, чтобы думать, что наслаждение находит там некое спокойное тихое место, где оно реализуется без помех. Если бессознательное есть некое гетто для существования наслаждения, то оно там все-таки подвергается известному ограничению и подчиняется определенному порядку. Важно понять, что бессознательное — это не просто способ познания, символизации или манифестации наслаждения. Скорее, оно там не познается, а реализуется, и поэтому бессознательное расценивается как своеобразная работа. Работа наслаждения? Не только. Всякое действие встречает противодействие, и работа бессознательного с наслаждением осуществляется в двух режимах —Эроса и Танатоса. В результате внедрения режима экономии наслаждение организуется, и таким образом нейтрализуется все то темное, оргиастически-дионисийское, так пугающее древнегреческих мыслителей. Лакан упрекал Фрейда за натурализм и перевел психоанализ в плоскость языка. Вместе с тем он все отчетливее осознавал не столько освободительную, сколько репрессивную роль дискурсивизации. Это проявилось в его известной работе «Стадия зеркала»: ребенок, отставая какое-то –– относительно недолгое, правда, –– время от детеныша шимпанзе по развитию инструментального мышления, способен, однако, уже в этом возрасте узнавать свое отражение в зеркале именно в качестве своего собственного. Происходящее на стадии зеркала выступает как идентификация, т. е. как трансформация, происходящая с субъектом при ассимиляции им своего образа. Первичная символическая матрица Я возникает прежде, чем Я будет объективировано в диалектике идентификации с другим, и прежде, чем язык восстановит функционирование этого Я во всеобщем в качестве субъекта. Эту первичную символическую матрицу Лакан называет «Я-идеал», имея в виду источник вторичных идентификаций. Принципиально для Лакана то, что эта матрица возникает до социальной детерминации (первичная стадия зеркала длится с 6-то до 18-ти месяцев). Зеркало — способ установления связи внутреннего мира с окружающей средой. Но у человека связь с нею затруднена некой трещиной, изначальным раздором, о котором свидетельствует беспомощность новорожденного и отсутствие у него двигательной координации. Человек рождается преждевременно. Отсюда он изначально временное существо. Лакан писал: «Стадия зеркала, таким образом, представляет собой драму, чей внутренний импульс устремляет ее от несостоятельности к опережению — драму, которая фабрикует для субъекта, попавшегося на приманку пространственной идентификации, череду фантазмов, открывающуюся расчлененным образом тела, а завершающуюся формой его целостности, которую мы назовем ортопедической, и облачением, наконец, в ту броню отчуждающей идентичности, чья жесткая структура и предопределит собой все дальнейшее его умственное развитие».122 Переход от внутреннего к внешнему наталкивается на необходимость «инвентаризации» собственного тела. Первоначально тело воспринимается как расчлененное, и это проявляется в агрессивной дезинтеграции, в сновидениях, 122 Лакан Ж. Инстанция буквы. М., 1999. С. 11. 119 где фигурируют разъятые члены. Лакан ссылается на Босха и на шизоидные симптомы фантазматической анатомии. При переходе от зеркальной стадии к социальной Я превращается в аппарат, для которого всякое движение инстинкта несет опасность, что наглядно демонстрируется Эдиповым комплексом. Для обозначения свойственной этому моменту либидинальной нагрузки используется понятие «первичного нарциссизма», благодаря которому обеспечивается сборка и сохранение Я (позитивная роль «зеркала»). Он предшествует сексуальному либидо, которое ведет к деструкции, разрушению и связано с инстинктом смерти. Так в символическом отвергается все связанное с наслаждением. Например, женщина как означающее не существует: собственно сексуальное влечение и связано с ее нехваткой. Но то, что было отвергнуто символическим, появляется не как фантазм, не как зашифрованное сообщение или символическое выражение желания, а как организация наслаждения — симптом. Понятие симптома также претерпело у Лакана существенную эволюцию. Сначала оно определялось как шифрованное кодированное сообщение для Другого. Собственно, симптом являлся истиной этого кодированного непонятного сообщения. Он проявляется как нарушение коммуникации, как экскоммуникативный символ. Такое понимание симптома направляло на поиски техники расшифровки прерванной или нарушенной коммуникации. Симптом как бы адресован психоаналитику и содержит призыв расшифровать его подлинное значение. Однако возникает вопрос: почему расшифрованный и истолкованный симптом не исчезает, а продолжает существовать? Это вызвано тем, что симптом –– не только структура скрытого смысла, но и структура наслаждения. Человек не в силах отказаться от своего симптома; даже если он выявлен и разоблачен, он любит наслаждение больше истины. Сначала Лакан связывал наслаждение с фантазмом. Симптом в отличие от фантазма является таким означающим, которое может быть истолковано и проанализировано. Наоборот, фантазм противится истолкованию, он не ориентирован на коммуникацию, на понимание Другого, он предполагает его неполноту. Мы охотно анализируем и истолковываем симптомы, например оговорки, но мы настолько сильно находимся во власти фантазма, что неспособны признаться в испытываемом при этом наслаждении. С этим связано различие двух стадий психоаналитического процесса: интерпретация симптомов и переход за фантазм. Лакан столкнулся с тем, что пациент успешно проходит стадию дистанцирования и анализа фантазма, но это не избавляет от симптома. Для объяснения этого вместо симптома Лакан ввел понятие «синтома» как конфигурации означающих, пронизанных наслаждением. Как единство наслаждения и смысла «синтом» выступает в качестве онтологической субстанции, имеющей исключительно положительное, реальное значение. Но тогда получается, что именно он является альтернативой безумию, которое характеризуется утратой связи с реальностью. Определяя женщину как симптом мужчины, Лакан имел в виду, что, конечно, с ними связано множество проблем, но без них было бы еще хуже. Истина и наслаждение оказываются совершенно несовместимыми: истина открывается при условии неузнавания травматической Вещи –– наслаждения. Для описания их корреляции Лакан вводит понятие «пристежки», означающее точку, в которой субъект «пришит» к означающим. В идеологическом пространстве плавают означающие: «свобода», «общество» и др. Затем в цепочку включается некое господствующее означающее («коммунизм»), 120 ретроактивно придающее им «коммунистическое» значение. Тогда оказывается, что действительная «свобода» возможна только при условии преодоления формальной свободы, которая на самом деле оказывается формой порабощения, «государство» оказывается основанием господства и т. п. Либеральнодемократическое «пристегивание» артикулирует значение по-другому. Здесь также срабатывает логика трансфера, в которой происходит отставание означаемого по отношению к потоку означающих. Трансфер состоит в иллюзии, что значение элемента не задается введением господствующего означающего, а заложено с самого начала в его форме как имманентная сущность. Мы оказываемся под властью трансфера, как только нам начинает представляться, что действительная свобода «по своей природе» противостоит буржуазной формальной свободе, что государство «по природе» является орудием господства и т. п. Главный тезис Лакана состоит в том, что значение хотя и характеризуется постепенным имманентным, закономерным истечением его из сферы идеальных сущностей, возникает, тем не менее, произвольно. Точка пристежки репрезентирует Другого, т. е. синхронический код. Однако парадокс состоит в том, что парадигматическая структура существует только в той мере, в какой она воплощается в сингулярном элементе. Здесь возникает проблема идентификации. Лакан различает две ее формы: символическую (отождествление субъекта с каким-либо значимым признаком Другого) и воображаемую (отождествление с воображаемым другим путем отчуждения, вынесения своей идентичности вовне, на своего двойника). Я воображает себя самодостаточным субъектом собственных действий и не узнает своей зависимости от Другого, от символического порядка. Воображаемая идентификация и состоит в отождествлении себя с привлекательным образом, а символическая — в отождествлении с самим местом, откуда при взгляде на самих себя мы кажемся привлекательными. Воображаемая идентификация осуществляется с оглядкой на другого, поэтому всегда следует ставить вопрос, для кого субъект играет взятую на себя роль. Разрыв между тем, как я вижу себя, и той точкой, из которой я вижу себя привлекательным, выступает причиной истерии. Истерик подчинен мазохистской стратегии, он унижает себя, избегает того, что может привести к удаче, и это он делает для такого другого, которым является он сам. Превознесение достоинств простого человека возникает как продукт взгляда на него из точки, занимаемой аристократом или бюрократом. Наиболее разрушительный эффект в этих условиях имеет тогда не превознесение достоинств, а разоблачение недостатков «простого» человека. Лакан открыл, как в процессе игры символической и воображаемой идентификации субъект вводится в то или иное социально-символическое поле, где ему вручаются те или иные «мандаты». Существует разрыв между высказываемым и высказанным, который репрезентируется вопросом: чего же ты хочешь? Истерик говорит одно, а хочет совсем другого. Субъект всегда «пришит», «приколот» к означающему, которое репрезентирует его другим. Так он получает символический мандат, место в интерсубъективной системе символических отношений. Этот мандат, с одной стороны, совершенно произволен, и нигде не написано, что Я может быть профессором или королем. Истерия –– это свидетельство ошибочной интерпретации, неспособности принять символический мандат. Истерик открывает объект в субъекте, который и окликает меня как профессора, короля и т. п. Психоаналитик стремится 121 освободить от оправдания Другим. В отличие от страха иудаизма христианская любовь является своего рода истолкованием желания Другого, предлагающем себя ему в качестве объекта. Уловка любви, –– отмечает С. Жижек, –– состоит в том, что она накладывает одну нехватку на другую, аннулируя ее взаимным наложением.123 Фантазм возникает как ответ на вопрос «чего ты хочешь?» и одновременно обеспечивает координацию нашего желания. Фантазм — это не исполнение желания, а его подготовка. Желание, структурированное фантазмом, одновременно есть защита от желания Другого. Лакан говорил: «не уступай в своем желании», и это имеет отношение к финальному моменту психоаналитического лечения, к «переходу за/через фантазм». Желание, в котором мы не должны уступать, это желание другого по ту сторону фантазма. Таким образом, максима Лакана предполагает отказ от фантазматических желаний и отказ от заполнения пустоты нехватки в Другом. Отсюда в качестве лечения предлагается не истолкование, а переход за фантазм: не символическое истолкование, а уяснение того, что по ту сторону фантазма ничего нет. Я и другой (коммуникативная антропология) Герменевтика определяется как искусство и даже наука понимания. Но что такое понимание? Всякий продукт труда, результат действия, высказывание и даже реальное положение дел могут быть интерпретированы по меньшей мере двояко: как доступное наблюдению событие и как значение, подлежащее пониманию. Мы либо говорим о том, что имеет или не имеет места, либо говорим что-нибудь кому-нибудь другому, так что последний понимает то, что говорится. Констатировать то или иное положение дел можно не вступая в коммуникацию, условием которой является понимание. Теоретическое употребление языка предполагает отношение знаков и значений, коммуникативное же включает, по меньшей мере, еще два отношения: сообщая о положении дел, имеющемся в мире, говорящий выражает свое мнение и налаживает коммуникацию с другим. Герменевтика как наука или искусство понимания проделала достаточно сложную эволюцию, включающую прежде всего понимание ее методологического статуса. Сегодня, после отказа ее представителей от универсалистских амбиций 1970-х годов, предпринимаются попытки уточнить ее цели и задачи в рамках общего «интерпретативного поворота» философии. Таким образом, возникает идея некого «метагерменевтического» проекта, нацеленного на понимание самого понимания. Попытка определить, что такое понимание, неизменно наталкивается на препятствие. Как лбом в стену, мы упираемся в некоторые в очевидности, которые сами себя удостоверяют, или в достоверности, которые хотя и общепризнанны, но недоказуемы. Парадоксально то, что в предельных случаях мы не понимаем, почему мы понимаем. В отличие от исторической, юридической, религиозной, искусствоведческой и т. п. герменевтик, философская герменевтика обращает внимание на предпосылки понимания, образующие условия его возможности, совокупность которых обеспечивает то, что Гадамер называл предпониманием. Поскольку в случае понимания не возникает проблем, постольку философскую герменевтику можно определить как науку о непонимании. Чаще всего с ним 123 См.: Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. 122 сталкиваются в ситуации перевода с одного языка на другой. Гадамер считает фигуру толмача парадигмальной, и генеалогию понимания выводит из перевода. Подобная ситуация истолкования является универсальной при работе с любыми текстами и сообщениями. Гуманистические послания древности не всегда понятны для нас и требуют не только их осовременивания, но приобщения к истории нас самих. Этот аспект самоизменения в процессе понимания другого является настолько важным, что был сформулирован поздним Гадамером в форме универсального постулата, названного им как «добрая воля к пониманию». Включенность в герменевтику этики, способность диалога вовлекать другого и изменять себя на основе приобщения к раскрывающейся в разговоре сути дела – – эти блестящие перспективы также нельзя воспринимать некритически. Добрая воля к пониманию легко оборачивается «доброй волей к власти», поэтому в интересах сохранения как собственной индивидуальности, так и своеобразия другого, совсем не целесообразно добиваться единообразия. Единый для всех универсальный горизонт понимания – это большое несчастье. Конечно, мы пока страдаем от различий, ибо мир далек от гомогенности, но «прореживание» дискурса от идиом, осуществляемое отнюдь не герменевтически, а дисциплинарно-идеологически, или в форме современных масс-медиа, это настолько серьезная опасность для развития культуры, что она породила постмодернистскую реакцию, столь же одностороннюю в своей мультикультурности, как и монокультурализм. Непонимание в этническом, национальном, гендерном и иных аспектах кажется безусловно отрицательным. Если в случае познания или усвоения традиции непонимание является плодотворным, так как заставляет обратить внимание на скрытые предпосылки понимания и, в частности, на тенденцию понять новое на основе старого, прошлое на основе настоящего, то непонимание другого в жизненной плоскости кажется настоящим бедствием, ибо приводит к конфликтам. Но и попытка «включения» другого в собственное миропонимание не так безобидна. Например, любители истины и удовольствия, мужчины и женщины, представители разных этносов или конфессий, как они могут договориться, если для этого требуется полное преображение и даже перевоплощение? Вместе с тем, реальным, практически осуществимым способом эмансипации остается попытка совершенствования повседневных форм коммуникации. Эта политика, если мы не хотим всплеска военно-революционного насилия или терроризма, по-прежнему может строиться только на компромиссе и соединении разнородного, на уравнивании и выравнивании резких различий. Попытка достижения национального или мирового единства на фундаменталистской основе, будь то православие, мусульманство или Интернет, если будет насильственно осуществленной, приведет к гораздо худшим последствиям, чем многие думают. Во-первых, моделей единства столько же, сколько людей, и поэтому во имя одного единства придется пожертвовать представителями другого, а формой протеста останется террор. Во-вторых, как это показал еще Мандевиль в известной «Басне о пчелах», единство приведет к стагнации. Наиболее разумным выходом, как и во все времена, остается искусство компромисса, т. е. взаимное признание другого. Это требование не должно остаться неким моральным идеалом, а воплотиться в технических и ментальных структурах коммуникации. Важной проблемой, требующей глубокой философской рефлексии, является вопрос о дискурсе коммуникации. Одни считают универсальным средством 123 общения научно аргументированный дискурс. Другие надеются на эстетический дискурс, который обладает преимуществами в осмыслении целого. Наконец, третьи призывают опираться на морально-этический дискурс об ответственности и справедливости, чтобы контролировать особенно опасные по своим последствиям научно-технические открытия, а также избежать эстетизации зла и насилия, которая характерна для современной видеопродукции. Однако абсолютизация морального дискурса, и это заметил еще Ницше, оказывается не менее опасной, чем эстетическая позиция. Обостренное чувство справедливости может стать источником революционных протестов, которые уже не принимают во внимание права противоположной стороны. Таким образом, остается возможным только такой подход, который ориентируется на диалог и коммуникацию. Герменевтика Другого Поскольку понимание, истолкование, взаимопонимание являются условиями любой коммуникации –– научной, политической, повседневной и т. п., постольку герменевтическое просвещение становится главным медиумом культуры. Однако Гадамер, который хотя и назвал свою книгу «Истина и метод», возражал против ее применения в качестве научной методологии и указывал на то, что проблема понимания возникает прежде всего в ненаучных контекстах –– будь то в повседневной жизни, в истории и литературе. Философская герменевтика ставит себе задачу прояснить обычные процессы понимания, а не систематические подходы или методы сбора и анализа данных. Смена позиции Гадамером показывает двусмысленность союза «и» в названии «Истина и метод». Его можно понимать как соединительный и как разделительный. И если в 1960-е годы сам Гадамер и читатели его книги были склонны понимать герменевтику как дополнение позитивной методологии как в естественных, так и в социальных науках, то позже Гадамер понимает «метод» как нечто противоположное «истине»: ее можно достичь только благодаря продуманной и отработанной практике понимания. Герменевтика как деятельность является скорее искусством, но никак не методом. Герменевтика имеет дело с различными отношениями между говорящими и слушающими, между языком и миром: высказывания воспринимаются как выражение, во-первых, намерений говорящего, во-вторых, межличностного отношения, в третьих, объективного положения дел. Кроме того, она не может игнорировать и отношений данного высказывания к системе языка в целом. Когда говорящий высказывается в рамках социального контекста, он вступает в отношения не только с наличным положением дел, но и собственными намерениями и ожиданиями, а также с нормами и правилами мира социального взаимодействия. Тот, кто участвует в процессе коммуникации (выражая собственное намерение, передавая чужое мнение, давая обещание или отдавая приказ) –– тот всегда принимает перформативную установку, в которой высказывание функционирует не только как сообщение, но и как речевое действие. Она допускает чередование позиций третьего лица (объективирующая установка), второго лица (нормативная установка) и первого лица (экспрессивная установка). Если сравнить объективирующую установку ученых с перформативной установкой говорящих в контексте социального взаимодействия, то отсюда вытекают три важных последствия герменевтического образа действий. 124 Во-первых, интерпретатор отказывается от привилегированной позиции абсолютно знающего и вовлекается в обсуждение смысла и значения высказываний о положении дел. Во-вторых, в перформативной установке интерпретатор ищет влияние контекста и выясняет, совпадают ли предпосылки и допущения говорящих и слушающих. В-третьих, интерпретатор озабочен пониманием не только пропозиционального, но и более широкого знания, образующего смысл жизненного мира. Он является участником процесса социального взаимодействия и не конструирует, а принимает его нормы и предпосылки. Возьмем процесс толкования некого передаваемого по традиции текста. Сначала интерпретатор будто бы понимает фразы, но затем убеждается, что это не так, ибо контекст интерпретации оказался неаутентичным. Так встает задача реконструкции тех предпосылок и оснований, исходя из которых текст может быть понят как по-своему рациональный. Ясно, что такого рода основания оцениваются с позиций того, что сам интерпретатор считает рациональным и моральным. Конечно, это не означает, что наши представления о рациональности являются окончательными. Напротив, в ходе сравнения с другими типами рациональности они подвергаются критической проверке. Интерпретатор, таким образом, должен брать на себя законодательные, исполнительные и одновременно критические функции. Язык выполняет в культуре по меньшей мере три функции: во-первых, воспроизводства культуры или актуализации предания (на эту сторону обращал особое внимание Гадамер); во-вторых, функцию социальной интеграции или координации социальных агентов (теория коммуникативного действия); втретьих, функцию социализации (проект социальной психологии Дж. Мида). Можно ли отсюда сделать вывод о том, что нынешние социальные науки должны быть в конце концов замены чем-то иным? Одни считают, что это должна быть герменевтика, другие –– что нейрофизиология и генетика. Одни предлагают вернуться к старой романтической теории «вчувствования» Дильтея, другие вообще отказываются от объяснения и считают, что различные походы и интерпретации отражают лишь разные ценностные ориентации, третьи готовы отбросить веберовский тезис о ценностной нейтральности номологически определяемой науки, но в то же время ищут пути согласования герменевтической и объективирующей установок. К ним относится, прежде всего, Хабермас, предложивший теорию коммуникативного действия. Интерпретаторы в силу вовлеченности в социальное взаимодействие хотя и перестают быть нейтральными наблюдателями, однако по той же самой причине получают возможность изнутри обеспечить себе беспристрастную позицию. «Коммуникативное действие» опирается на такие символические (языковые или не языковые) акты, при помощи которых субъект может понимать и контролировать действия окружающих его людей.124 С одной стороны, коммуникативное действие направлено на сообщение, с другой, на переговоры: языковое сообщение достигает своей цели, если принимается другими членами языкового сообщества. При этом с точки зрения деятельностного подхода важно не столько содержание, сколько форма, благодаря которой осуществляется достижение консенсуса. Понимание будет достигнуто, если 124 Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2001. С. 43. 125 слушатель воспринимает сообщение и может ответить «да» или «нет». Однако понимание неверно ограничивать чисто речевым актом, так как цель общения лежит вне зыка. В таком случае его можно определить как часть социального действия. Однако понимание –– это не сами действия, а их координация. Социологов, таким образом, понимание интересует настолько, насколько оно способствует кооперации действий Оправдано ли исследование социальной деятельности в терминах понимания? Очевидно, что социальный процесс не сводится только к пониманию, в своих целях он явно управляется экономическими и политическими интересами. Компетентные решения принимаются предпринимателями на основе экономических норм. Право и законы рыночного обмена образуют институциональные рамки стратегических действий предпринимателей. Однако эти ориентированные на экономический успех действия связаны с необходимостью понимания, ибо социальное действие оказывается одновременно коммуникативным. Теория коммуникативного действия видит свою задачу в соединении экономического и нравственноисторического действия путем организации общественной критической рефлексии по поводу стратегических решений. Если в герменевтике понимание задается онтологически, то в социологии оно должно опираться на консенсус совместно живущих людей. Автор и герой Наследие М. Бахтина становится все более популярным как у нас, так и на Западе и осваивается представителями самых разных направлений в современной философии. Среди них можно отметить, прежде всего, герменевтико-коммуникативную парадигму, которой Бахтин близок своими исследованиями о внутренней диалогической природе слова. Диалог отличается от монологически построенного дискурса познания тем, что в нем имеет место не освоение и присвоение, а признание самостоятельности другого. Вместе с тем, Бахтин осознавал, что диалог с другим происходит в неком общем проблемном поле понимания, и обращал внимание на то, что этот общий смысловой горизонт может оказаться искаженным идеологиями, которые в его время выступали основой коммуникативных процессов, протекавших на той или иной части поверхности Земли. Бахтин продумывал возможности борьбы с идеологией и сначала надеялся на роман, где познавательная, этическая и эстетическая коммуникация выступают как взаимосвязанные. Постепенно он все больше убеждался в идеологической ангажированности литературы и видел в качестве радикального средства эмансипации карнавал и анекдот. Но, если разобраться, редукция жизни к архаике приводит к более примитивным и брутальным формам репрессивности. Нигде, как в анекдоте и народной шутке, не содержится так много обидного и грубого. Конечно, на фоне насилия над национальными, сексуальными, культурными и иными меньшинствами анекдоты о чукче или еврее выглядят как формы эмансипации от репрессий, однако они не переходят на уровень сознательных действий общественности и выступают лишь формами сублимации или освобождения от вины, которая, несомненно, распространяется на все общество, волей-неволей участвующее в репрессивной политике. В ранних работах, посвященных герменевтике автора и героя, Бахтин опирается на коммуникативный опыт и раскрывает проблематику Я и Другого. Герой –– существо, переживающее настоящее как ценностно несовершенное и обремененное опытом ответственности. Он недоволен настоящим, ибо 126 ориентирован этически; эстетическое переживание настоящего ему не дано. Это христианский моралист, который соизмеряет себя и свои поступки с высшими ценностями. Он переживает опыт вины и не способен ни насладиться настоящим, ни вписаться в него. Для этого он должен посмотреть на себя и на окружающий мир глазами другого. Способное выйти за пределы озабоченного отношения к миру, Я оказывается в позиции автора. Именно он воспринимает жизнь героя как завершенное целое. Если герой до самой смерти и даже в самый ее момент живет в будущем, ибо надеется исправиться и улучшиться, то автор, наоборот, как бы завершает жизнь героя, ибо дает ее целостный образ, в котором даже кажущиеся герою нелепыми события получают свой смысл. В эстетике в зависимости от ориентации на внешнее или на внутреннее тело Бахтин различает экспрессионизм и импрессионизм. Эстетика вчувствования переносит центр тяжести на внутренние переживания, которые становятся объективно значимыми благодаря искусству. Экспрессивная эстетика, наоборот, воспринимает тело как внешнюю форму, выражающую внутреннее душевное содержание. По мнению Бахтина, оба направления отвлекаются от коммуникации, и особенно критически он оценивает эстетику игры, в которой видит не выходящий за пределы самопознания способ жизни. Внутри игрового поля каждый настолько серьезно озабочен собственным успехом, что неспособен на эстетическую оценку, которая предполагает вненаходимость. Надо сказать, что игровой, смеховой, карнавальный элемент человеческой жизни Бахтин освоил несколько позже. В ранних работах он настаивал на том, что эстетическое целое является продуктом не индивидуального переживания и фантазии, а коммуникации автора и зрителя. «Изнутри себя самое жизнь не может породить эстетически значимой формы».125 Слившись с предметом восприятия, человек теряет позицию вненаходимости и тем самым исключает возможность коммуникации, перестает обогащать предмет собственными позициями внутри целостного окружающего мира. Некоторый прогресс в направлении признания коммуникации Бахтин видит в понятии «симпатического сопереживания», которое связано с отказом от эмоциональноволевой установки: «Симпатически сопереживаемая жизнь оформляется не в категории Я, а в категории Другого, как жизнь другого человека, другого Я ... Именно симпатическое сопереживание –– и только оно –– владеет силой гармонически сочетать внутреннее переживание с внешним в одной плоскости».126 Бахтин оказался чрезвычайно чувствителен к проблеме другого. Кажется, что его интерес реализуется в том же русле, что у Шелера и Бубера. На самом деле проблема другого ставится им принципиально иначе. Если симпатическая теория ищет единства на основе сопереживания, интуиция Бахтина находит в другом не просто предмет сочувствия, ибо в таком виде происходит его присвоение и колонизация, а равноправного партнера, взаимодействие с которым определяет становление познавательной, эстетической, нравственной и иных форм социальной и культурной деятельности. Можно сказать, что Бахтин нашел новую коммуникативную парадигму гуманитарного познания: «Когда нас двое, то с точки зрения действительной продуктивности события важно не то, что кроме меня есть еще один, по существу, такой же человек (два человека), а то, что он другой для меня человек, и в этом смысле простое сочувствие моей 125 126 Бахтин М.М. Автор и герой // Эстетика словесного творчества. М., 1969. С. 63 Там же. С. 74. 127 жизни не есть наше слияние в одно существо и не есть нумерическое повторение моей жизни, но существенное обогащение события, ибо моя жизнь сопереживается им в новой форме, в новой ценностной категории –– как жизнь другого человека, которая ценностно иначе окрашена и иначе приемлется, по иному оправдана, чем его собственная жизнь».127 Бахтинская концепция другого складывается по ходу критики эстетики переживания, ценностно-волевой и моральной установок, а также гносеологии, опирающейся на понятия субъекта и объекта. Бахтин видит в коммуникации Я и Другого источник не только познания, но и этического и эстетического опыта. Эмоционально переживаемый предмет страсти захватывает человека изнутри и не дает возможности отстранения. Чтобы занять какую-то позицию по отношению к переживаемому, необходимо отвлечься от предмета: чтобы пережить любовь или ненависть как эстетически целостную форму, необходимо перестать любить или ненавидеть, т. е. выйти за пределы ценностного переживания: «Я должен стать другим по отношению к самому себе –– живущему свою жизнь в этом ценностном мире, и этот другой должен занять существенно обоснованную ценностную позицию вне меня». 128 Нравственная позиция, по мнению Бахтина, не отвлекается от предмета и смысла переживания. Она характеризуется отказом от субъективной точки зрения, которое выражается в покаянии. Этические нормы –– это то, что выше меня. Эстетическая рефлексия абстрагируется от смысла ради формы. Эстетическое оформление переживания состоит в отвлечении от трансцендентального, ценностно-смыслового и в своеобразном уплотнении потока переживаний в завершенное целое –– индивидуальную душу. Наиболее типичным продуктом эстетизации внутренней душевной жизни является биография. Она принципиально отличается от самих переживаний, которые, будучи этически окрашенными, являются отрицанием, протестом против эстетического завершения. Человек живет по формуле «все-ещевпереди» и отказывается признать себя абсолютно исполненным в тот или иной период своей жизни, в том или ином событии или свершении. В сочинении, посвященном формам времени в романе, Бахтин прибегает к таким средствам объективации душевных переживаний, как сюжет, фабула и ритм. Смысл их в том, чтобы вписать переживания в контекст окружающего мира, в котором они формировались и развивались. Объективация переживаний во времени является продуктом памяти как онтологического основания эстетического действия. Органичной пространственно-временной формой души и выступает ритм. Бахтин определяет ритм как ценностное упорядочение внутренней данности, предопределяющее желания и стремления, переживания и действия, преодолевающее границы между прошлым и будущим в пользу прошлого. Ритм выступает как синтезирующий фермент моментов времени. С одной стороны, как форма фиксации и консервации прошлого, он является формальным. С другой, как форма предвосхищения будущего, он является открытым для новых возможностей и таким образом выступает как некая «открытая форма». Слово, образ и звук Согласно религиозной герменевтике, Священное писание имеет значение, вопервых, чувственно-буквальное, во-вторых, отвлеченно-нравоучительное и, в127 128 Там же. С. 78. Там же. С. 100. 128 третьих, идеально-мистическое, или таинственное. П. Флоренский настаивал на мистическом характере общения: слово –– это медиум коммуникации не просто между людьми, но между двумя мирами –– видимым и невидимым. Само общение для него –– это не обмен информацией, а прежде всего духовное общение, в котором слова имеют вторичное значение, которое может меняться в зависимости от глубины духовного проникновения в невидимую суть вещей: «Мы верим и признаем, что не от разговора мы понимаем друг друга, а силою внутреннего общения, и что слова способствуют обострению сознания, сознанию уже происшедшего духовного обмена, но не сами по себе производят этот обмен. Мы признаем взаимное понимание и тончайших, часто вполне неожиданных отрогов смысла: но это понимание устанавливается на общем фоне уже происходящего духовного соприкосновения».129 Отсюда усвоение читаемого происходит на трех уровнях –– как звук, как понятие и как идея. Философия языка П.А. Флоренского опирается на словесный язык и устную речь. О специфике письма он почти не упоминает, видимо считая, что оно –– всего лишь записанная речь. В языке им выделяется внешняя –– интерсубъективная и внутренняя –– индивидуальная формы. Это старое гумбольтовское различие соединяется с более поздней лингвистической трихотомией «фонема –– морфема –– семема»: фонема –– сплав ощущения, чувства плюс усилие артикуляции и слуха, плюс звук; морфема –– общее понятие, выявляемое этимологически и получившее грамматическую форму; семема –– это «живое» значение, меняющееся в процессе разговора: «Благодаря тому, что семема слова непрестанно колышется, дышит, переливает всеми цветами, слова в речи оказываются неповторимыми и каждый раз звучат заново». В слове береза фонема б-е-р-е-з-а составляет костяк слова, но она еще не обозначает ни дерево известного вида, ни тем более того смысла, которое обретает это слов у поэтов. Плоть этого слова определяется этимоном (ближайшее этимологическое значение слова) –– от корня бере-, который образует группу слов, означающих свечение (брезжить). Суффикс -з и окончание -а отливают это впечатление белизны в грамматическую форму существительного женского рода, т. е. в некий предмет. Таким образом, корень слова дает содержание, а грамматическая форма –– логическую форму вещности, или категорию субстанции. Таким образом, если фонема выражает звучанием общее впечатление от белизны, то морфема закрепляет понятие качества и сущности. Семему слова береза Флоренский трактует весьма широко, как продукт первобытных представлений о дриадах, а также ботанических и прочих научных характеристик этого дерева. Далее семема березы включает также и художественно-поэтические ее воплощения. Наиболее интересным представляется попытка Флоренского соединить позитивистскую трактовку научного языка с игрой слов у поэтов-футуристов. Их эксперименты наиболее ярко раскрывают магическую силу слова: оно является не просто носителем тени значения, а обладает собственной энергией воздействия. Футуристы отвергают универсальность профессорской формы коммуникации, в которой слово воздействует на умы благодаря значению. У футуристов слова не имеют никакого смысла, они воздействуют на ухо, как мелодия песни. 129 Флоренский П.А. Имена. М., 1998. С. 229. 129 Возможно, именно это обстоятельство и определило интерес Флоренского к звуковой материи слова. Фонему он связывает с усилиями, работой голосовых органов и тела в целом: одно слов произносится легко, другое –– трудно, сама артикуляция слова вызывает определенное настроение, как, например, слово улыбка. Мышечные усилия, совершаемые при произнесении, составляют особый волевой фон речи. Звуки и их звучание в ухе также составляют важный компонент фонемы. Звук характеризуется тремя параметрами: высотой, силой, окраской. Если записать мелодию слова, например, кипяток, то получится следующее: а) неударяемый слог ки есть восходящий звукоряд, имеющий наибольшую задержку вначале; б) слог пя имеет ту же высоту, но звук здесь не восходящий, имеющий задержку в конце; в) в ударяемом слоге ток тон гласного все время восходит и понижается лишь на последних вибрациях, а остановка приходится на самой верхней ноте. «Каждая из написанных нотных строчек должна была бы быть замененной целой партитурой, необходимо говорить о фонеме как о сложной системе звуков даже самой по себе, помимо других элементов слова, являющейся целым музыкальным произведением. Независимо от смысла слова, она сама по себе, подобно музыке, настраивает известным образом душу». 130 «Кипяток живет кипящ». Это не бессмыслица, а музыкальная пьеса и миф: звучание воспроизводит переживание прыжка, видится попрыгунчик, существо, обитающее в котле, душа домашнего горшка. Поэт узнается по голосу, по мелодии, тональности стиха, и именно они, а не содержание слов, являются главными в поэзии. Голос, «шуму вод подобный», и составляет главный дар поэта. Каждый из нас был когда-либо покорен голосом другого настолько сильно, что забывал себя. Но такие голоса встречаются редко. Еще Платон думал о том, как укротить рапсодов, которые своим пением сбивают с героического пути гражданина полиса. Почему же музыка обладает столь сильной, возможно, самой сильной властью над человеком? Звучит в ней бытие, как полагал Ницше, или она резонирует с внутренними вибрациями и ритмами нашего тела, как считал Шопенгауэр? А может быть, она напоминает нам о голосе матери, который мы подобно птенцам различаем среди тысячи шумов, ибо от этого зависит наше выживание? Этот голос звал нас наружу, когда мы покоились в плаценте, он приглашал к трапезе, давал утешение и наставлял на героический путь словами колыбельной песни. Звуки родной речи исторгают из нас слезы или смех, потому, что мы, как члены одного рода, обладаем некоторыми общими переживаниями. Материнский язык представляет собой прочную защитную систему. Благодаря ей человек находит себя и свое место. Как мужской продукт язык –– это разновидность мифа, героической песни, которая выводит человека из лабиринтов самоощущений на широкий общественный простор, где всегда есть место подвигу. Сегодня мелодика нашего родного языка претерпевает радикальную трансформацию. Какие мелодии слушают, какие песни поют наши современники –– вот важный антропологический вопрос. Критическая антропология М. Фуко С именем Фуко связывают критику гуманизма и лозунг о «смерти человека». Обычно полагают, что Фуко зачеркивает проект антропологии, ибо считает человека ансамблем структур, которые делают его возможным. Это похоже на 130 Там же. С. 234. 130 Марксово определение человека как совокупности общественных отношений. Точка зрения Фуко близка и аристотелевскому определению человека как политического существа, при этом политическое раскрывается как система дисциплинарных пространств, определяющих не только внешнее поведение, но и психические реакции. На самом деле, проект Фуко оказывается антропологическим, хотя в нем утверждается «смерть человека». Так, он говорил о недопустимости рассматривать общество как некую абстрактную сущность, существующую вне и помимо индивидов, ибо оно интегрировано в самые интимные уголки их души и тела. Все это позволяет утверждать, что провозглашенная Фуко «смерть человека» была не чем иным, как отрицанием гуманистической установки, основанной на вере в то, что человек способен ограничить власть разумностью или моральностью. Напротив, власть делает человека таким, как ей нужно. Политическая антропология М. Фуко озабочена не конструкцией или легитимацией «хороших» демократических институтов, а установлением диагноза болезни общества. Чтобы исправить человека, необходимо вылечить общество. Поэтому Фуко определяет философа как клинициста цивилизации. Фуко исходил из установки, что порядок власти был и остается изначальным, и этим резко отличался от философов Просвещения, которые считали его продуктом конвенционального соглашения людей, изнуренных анархической борьбой всех против всех. Этот порядок Фуко понимает шире, чем власть в форме права или политики, и определяет его как условие возможности что-либо познавать, оценивать, говорить и чувствовать. Этот порядок проявляется в категориальных структурах философии, научных классификациях и даже в визуальных кодах искусства. Вместе с тем, Фуко дистанцируется от стремления открыть власть в ее чистом виде или постичь ее последние цели или причины. Сущность власти ускользает от всех, и поэтому нельзя доверять даже собственным очевидным столкновениям с ней. Она в принципе не является чемто, на что можно указать пальцем. Такая позиция оказывается неприятной во многих отношениях. Во-первых, она исключает возможность каких-либо путчей или революций, в основе которых лежит представление о концентрации власти в руках узкого круга лиц, локализованной в определенных институтах и т.п. Вовторых, она пессимистически настраивает относительно возможности как-то улучшить власть. Эти проблемы заставляют Фуко искать новую стратегию субъекта в его игре с неуловимой, анонимной и вместе с тем всепроникающей властью. Слишком наивно думать, что можно ухватить ее сущность и таким образом исправить и легитимировать ее эмпирические формы. Власть функционирует как совокупность микроскопических и анонимных структур, определяющих мысли и представления человека, интегрирующих его анархические спонтанные переживания и желания в коллективное тело государства. Человек определяется у Фуко не как субъект, т. е. господин, а в буквальном значении этого слова, как под-лежащее (sub-jectum, sujet), т. е. марионетка власти: «Человек, о котором говорят и к освобождению которого призывают, с самого начала выступает результатом угнетения, которое гораздо древнее, чем он сам. Его душа живет в нем и задает экзистенцию, которая сама есть сцена господства, где исполняется власть над телом. Точно так же душа –– это инструмент политической анатомии, темница тела».131 Образом надзирающей и 131 Фуко М. Надзирать и наказывать. 131 наказывающей власти выступает Паноптикум Бентама, идея которого уже давно воплощена в тюрьмах и больницах, школах и казармах, в монастырях и университетах. Задача этих дисциплинарных пространств состоит в том, чтобы путем точечных чувствительных воздействий на тело добиться подчинения индивидуального тела коллективному, сделать душу индивида подобием общественной машины. Если у Гоббса и других философов просвещения власть выводится как результат общественного договора и добровольных ограничений, принимаемых с целью самосохранения, то у Фуко порядок сам формирует своих суб-ектов. Это переворачивает традиционную политическую антропологию: «Необходимо постичь материальную инстанцию угнетения в ее конституирующей субъект функции. Это противоположно тому, что исследовал Гоббс в "Левиафане", или общая теория права, для которой проблема состояла в том, чтобы конституировать из множества разнонаправленных воль и индивидуумов единую политическую волю или лучше –– единое государственное тело».132 Этот поворот в политической антропологии приводит к деконструкции всей практической философии эпохи Просвещения. Фуко показывает неоправданность надежд на сексуальное освобождение при помощи психоанализа. Напротив, именно медикофицированный дискурс о сексуальности закабаляет человека гораздо эффективнее, чем прежние негласные нормы и запреты. Такова эволюция власти от права на смерть и телесного наказания к надзору и далее к формированию внутренней самодисциплины и самоконтроля за своими душевными аффектами. Чем интенсивнее человек озабочен сексуальными проблемами, чем больше он интересуется и практикует психоаналитическое просвещение, тем сильнее он попадает под власть психиатрической инквизиции и вынужден признаваться в том, что даже сам в себе не знает и не подозревает. Очевидна квазиполицейская функция психоаналитика, который внедряет общепринятую рациональность в самые интимные уголки человеческой души. Это пример того, как понятие освобождения выполняет на практике порабощающие и угнетающие функции. Но не попадает ли в эту дилемму между Сциллой и Харибдой власти сама диагностика и археология М. Фуко? Несомненно, его теория власти проблематична. Основной ее смысл связан с пониманием того, что разум вовсе не занимает в общественном пространстве привилегированного места, из которого он может наблюдать и осуждать историю. Он сам зависит от того, что выступает условием угнетения. Таким образом, и «археология» вовлечена в эту игру и определяется в зависимости от власти. Более того, она диагностирует далеко не все дифференциации знания-власти. Например, она пренебрегает теми различиями искусства и техники, на которые опирался Хайдеггер, авангарда и рынка, на которые указывают сторонники постмодернистcкой эстетики. Фуко рассматривал человека в горизонте возможного бытия: Я –– это другой, Я не то, что обо мне говорят. Он постоянно стремился увидеть то, что есть, и то, что кажется очевидным, по-другому, и это означает также, что то, что есть, могло или может быть иным. Он называл свою теорию продуктивным пониманием свободы и говорил о возможной возможности, открывающейся при переходе за границы общепринятого и нормального и обнаруживающей Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1998. С. 81 132 132 головокружительную пустоту, закрытую общественным принуждением, в которой только и может по-человечески жить человек. В своей генеалогии он показывал, что вещи возникали случайно, и что хотя они имели основания появиться, но в этом не было жесткой неизбежности: Отрицая необходимость, только и можно постигать сущее в горизонте открытости, постигать, что наличное вовсе не заполняет собой все пространство возможного. Так сходятся поиски нулевого пункта исторического становления, генезиса в генеалогии и археологии Фуко и пустого пространства в его утопии свободы как перехода в мир возможности как возможности быть другим. Однако постоянная кристаллизация возможности в действительность, сопровождающаяся различениями разумного и неразумного, нормального и ненормального, не оставляет пустоты. Собственно, всякая программа, даже если это утопия, т.е. нечто, относящееся к пустому пространству, ведет за собой закон и порядок. Сам Фуко как человек и мыслитель, по-видимому, понимал это достаточно хорошо и стремился обеспечить свободу необходимости выбора: «Я думаю, –– писал он, –– что этический и политический выбор, который мы делаем каждый день, состоит в том, чтобы определить, что есть главная опасность. Он считал, что подлинное философствование не чуждо желанию и фантазии, иллюзии и мечтательности, ибо истина как бы находится в другом мире, в то время как наш реальный мир уже охвачен сетями власти. Философствовать –– это значит пытаться изменить сами рамки и нормы мышления, которые мешают делать и быть по-другому, чем есть. Фуко далек от манихейского понимания мира как юдоли зла, но постоянно напоминал об опасности власти. И если «мировое зло» непреодолимо, то опасности можно избежать. В этом состоит, можно сказать, оптимизм политической антропологии М. Фуко. Буржуазное общество стремилось очистить свои ряды не только от бродяг и нищих, но и от тех, кто бездумно растрачивает время в удовольствиях вместо того, чтобы производить товары. Неудивительно, что борцы за сексуальное освобождение отождествляли себя с политическими революционерами и занимали критическую позу по отношению к власти. Несомненно «Эросу и цивилизации» Г. Маркузе присущ пророческий пыл и жаркий пафос соединения революции и наслаждения. Гипотеза подавления оказывается не только теоретической, но и экономической и социальной. Она подтверждается как очевидным фактом запрещения сексуальности, так и самим функционированием власти как запрета. Отсюда возражения Фуко имеют комплексный характер. Он высказывает сомнения и в исторической очевидности подавления секса и в том, что сущность власти сводится к подавлению. Наконец, он высказывает предположение о том, что сам критический дискурс и манифестация сексуального наслаждения сегодня выступают как новые стратегии власти. Панорама европейских дискурсов о сексуальном не подтверждает гипотезу подавления. Поэтому Фуко выдвигает свою идею: «Общество, которое складывается в XVIII веке — как его ни называть: буржуазным, капиталистическим или индустриальным, — не только не противопоставило сексу фундаментальный отказ его признавать, но, напротив, пустило в ход целый арсенал инструментов, чтобы производить о нем истинные дискурсы. Оно не только много говорило о сексе и принуждало к этому каждого, но предприняло попытку сформулировать о нем регулярную истину. Как если бы оно подозревало в сексе некую фундаментальную тайну. Как если бы оно 133 нуждалось в этом производстве истины».133 По мнению Фуко, в ходе этой игры, собственно, и конституировалось знание о субъекте, и не потому, что сексуальность является онтологическим качеством человеческого, а потому, что такая стратегия власти оказалась наиболее эффективным способом контроля и управления, т.е. одомашнивания, цивилизации и гуманизации стадного животного, каким является человек. Соглашаясь с тем, что общество не только не запрещало говорить о сексе, но, напротив, постоянно интересовалось тем, как обстоит дело у граждан по этой части и рекомендовало наиболее эффективные способы реализации удовольствия, т.е. проникало туда, где раньше ему не было места — в сферу приватного, интимного, тем не менее, можно возразить, что таким образом подавлялся не только спонтанный, неконтролируемый секс, но и даже считающийся полезным. Фуко указывает, что удовольствие при этом не было изгнано, но само переместилось в сферу дискурса: «Мы изобрели, по крайней мере, иное удовольствие: удовольствие, находимое в истине об удовольствиях, удовольствие в том, чтобы ее знать, выставлять ее напоказ, обнаруживать ее, быть зачарованным ее видом, удовольствие в том, чтобы ее выговаривать, чтобы пленять и завладевать с ее помощью других, хитростью выгонять ее из логова — специфическое удовольствие от истинного дискурса об удовольствии».134 Таким образом, задача психоанализа –– не в достижении райской гармонии и решении проблемы одновременности достижения оргазма, а в производстве нового типа удовольствия, связанного с производством дискурса о сексе. Так реализовалось в наше время требование о пропорции и мере истины и удовольствия, о которой мечтал Сократ. Но тогда проблема отношения общества к сексуальности заметно усложняется. С одной стороны, возникает соблазн, которому, собственно, и поддался Фуко, когда писал второй и третий тома своей «Истории сексуальности»: противопоставить современной науке о сексе старинное искусство эротики, которое было нацелено именно на получение удовольствия. С другой стороны, — осмыслить тот факт, что режим циркуляции удовольствия современное общество перевело в режим циркуляции знаков, что и сделал Бодрийяр, показавший, что семиотизация секса привела к его исчезновению. Все мы, получающие и передающие знаки сексуальности, превратились в транссексуалов. В первом томе Фуко выбирает иной путь. Он называет дискурсы о сексе диспозитивами власти, и это объясняет тот факт, почему она, вместо того чтобы и дальше подавлять циркуляцию знаков сексуальности, овладевает дискурсами о ней и таким образом находит новую более эффективную стратегию управления, основанную не на запрете, а на совете и научной рекомендации. Реально это проявляется в том, что общество, овладевая механизмом производства истины о сексе, уже не боится интенсифицировать его и доводит до совершенства старинную тактику признания: знаки сексуальности и удовольствие от них она разрешает для того, чтобы каждый пережил свою греховность, раскаялся и стал послушным. Ведь как можно управлять людьми, если они не чувствуют за собой никакой вины? Фуко писал: «Западу удалось не только и не столько аннексировать секс к некоторому полю рациональности, в чем, безусловно, еще не было бы ничего 133 134 Там же. С. 170. Там же. С. 172. 134 примечательного, — насколько мы привыкли со времен древних греков к подобным «захватам», — нет: удалось почти целиком и полностью поставить нас — наше тело, нашу душу, нашу индивидуальность, нашу историю — под знак логики вожделения и желания. Именно она отныне служит нам универсальным ключом, как только заходит речь о том, кто мы такие».135 Как ученые, так и проповедники морали уже несколько веков делали из человека детище секса. Это произошло не потому, что в глубине каждого из нас прячется нечто вроде полового маньяка Крафта-Эбинга, чудовища современных фильмов-ужасов или, на худой конец, интеллигентного носителя эдипова комплекса. Изменилась стратегия власти, которая уже не может быть сегодня понята ни в терминах насилия и запрета, ни в терминах закона. Она уже не опирается на право на смерть, а функционирует как полиморфная техника управления жизнью в форме советов и рекомендаций специалистов. Открытие новой формы власти, исследованием которой Фуко занимался самым непосредственным образом, стало причиной его негативного отношения к психоанализу как Фрейда, так и Лакана. По мнению Фуко, хотя они и отказались от упрощенной гипотезы о подавлении секса, тем не менее, сохранили традиционное представление о власти в терминах сущности, локализации и желания. Кроме упрощенного понимания власти, согласно которому она может говорить только «нет», традиционная точка зрения представляет ее как нечто диктующее свой закон сексу, предписывающее ему некий порядок, ограничивающее недозволенное и невысказываемое при помощи дискурса права. Наблюдая в действительности все более тонкие и изобретательные механизмы власти, Фуко критически расценивает ее юридическую интерпретацию. Он писал: «Под властью, мне кажется, следует понимать, прежде всего, множественность отношений силы, которые имманентны области, где они осуществляются, и которые конститутивны для ее организации; понимать игру, которая путем беспрерывных битв и столкновений их трансформирует, усиливает и инвертирует; понимать опоры, которые эти отношения силы находят друг в друге таким образом, что образуется цепь или система, или, напротив, понимать смещения и противоречия, которые их друг от друга обособляют; наконец, под властью следует понимать стратегии, внутри которых эти отношения силы достигают своей действенности, стратегии, общий абрис или же институциональная кристаллизация которых воплощаются в государственных аппаратах, в формулировании закона, в формах социального господства».136 Власть нельзя выводить из какой-то точки, очага суверенности, института господства, распространяющегося от высшего к низшему. Власть исходит отовсюду, и поэтому она вездесуща и является совокупным эффектом различных флуктуаций. Фуко указывал, что власть не есть нечто, что захватывается или утрачивается, она не располагается в каком-то внешнем привилегированном пространстве, но имманентна формам жизни и может производиться в семье и в иных социальных институтах и группах. Это приводит к трансформации стратегий эмансипации. В современном обществе уже нельзя освободиться всем и сразу путем революции или иного протеста. Более эффективными оказываются множественные акции сопротивления и среди них –– самые невероятные и даже дикие и неистовые. Такой образ власти и сопротивления, согласно которому власть не стоит перед нами фронтально, а 135 136 Там же. С. 177. Там же. С. 192. 135 окружает нас со всех сторон, не располагается вне нас как инстанция порядка и цензуры, а захватывает нашу душу и даже тело, приводит к весьма пессимистичным выводам: мы не можем доверять даже собственным обидам — этому очевидному столкновению с властью, даже чувству справедливости, нарушение которого всегда считалось критерием репрессивности общества. Мы не можем доверять даже собственному критическому дискурсу, направленному на обличение власти. И все-таки Фуко не смог остановиться в своей критике, хотя и понимал, что она может быть нейтрализована и даже использована властью в ее интересах. Он призывал к ответственности и полагал, что нельзя доверять кому-либо свои открытия, если не уверен, что они не нанесут вреда другим людям, не станут частью стратегий управления ими. Так он наложил запрет на публикацию всего того, что сам не подготовил для печати. Но, вопервых, архивы его публикуются как пересказы тех, кто с ними работал; вовторых, даже если бы он был жив, то вряд ли смог запретить бесчисленной армии комментаторов и интерпретаторов «прореживать» свой дискурс. Может быть, Ж. Бодрийяр стал таким читателем Фуко, который более серьезно воспринял все сказанное им о многоликой стратегии знания-власти.137 Сам Фуко хотя и возражал против их отождествления, все-таки не смог выбраться из сетей. Бодрийяр из чтения Фуко сделал вывод, что лучше всего вообще не соприкасаться с сетями знания-власти и не заниматься дискурсивным анализом. Отсюда и лозунг «забыть Фуко», чем-то напоминающий вывод старого Хайдеггера относительно метафизики: не стоит заниматься преодолением метафизики, нужно предоставить ее самой себе. Если критика сексуальности живет тем, что продуцирует парадоксальное удовольствие и таким образом порабощает, а не освобождает от сексуальности, то следует занять какую-то иную позицию. Если апология искусства эротики способствует не развитию, а, напротив, регрессу и деградации наслаждения, то это значит, что тактика избранная Фуко в последующих томах «Истории сексуальности», также не достигает своей цели. В этих условиях возможности развертывания нового дискурса о сексуальном для Бодрийяра, несомненно чуткого читателя Фуко, сужаются до того, что не оставляют иного выбора, кроме как пройти весь путь до конца вплоть до фазы самоистощения секса в транссексуальности. Реквием сексуальности В книге «Забыть Фуко» Бодрийяр подверг критике концепцию знания-власти Фуко и существенно углубил его подозрение относительно сексуального освобождения. По мнению Фуко, отказ от ограничений и запретов привел к тому, что власть овладела дискурсом сексуальности и таким образом нормализовала казавшуюся обществу бесполезной тратой энергию либидо. Конечно, Фуко сильно преувеличил значение сексуальной революции. На самом деле культура давно и эффективно справлялась с нормализацией иррациональных страстей и желаний. Сексуальная революция поставила на место эротики секс и этим перечеркнула прежние достижения, состоявшие в том, что любовные страсти были поставлены на службу укрепления семьи, рождаемости и воспитания детей. Секс перестал быть формой коммуникации и признания другого, ибо превратился в средство индивидуального наслаждения и самоутверждения. 137 См.: Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000. 136 Фуко в последние годы своей жизни исследовал историю формирования эротического дискурса в Греции и Риме. Негативное отношение к развитию этого дискурса в европейской культуре помешало мыслителю увидеть его позитивное значение. И Фуко и Бодрийяр в целом положительно воспринимали сексуальную революцию, но их огорчали ее последствия. По мнению Бодрийяра, все стало сексуальным, и от этого секс как бы растворился и исчез. Энергия либидо, о воспроизводстве которой очень заботился Фрейд (называвший свой подход «топико-экономическим»), оказалась попусту растраченной и перестала питать культуру. Наблюдая за изменениями антропологического вида и сексуальных ориентаций у молодежи, можно прийти к выводу: мы все становимся транссексуалами (если точно в философском смысле понимать смысл этого слова, означающего выход за пределы сексуальности); мы становимся «полыми» или, точнее, бесполыми людьми, занимающимися сексом исключительно знаково и механически. Может показаться, что трансексуальное, трансэстетическое и трансполитическое –– это благо. Люди перестали считать секс и политику главными проблемами, освободились от «зова пола», от власти идей и тирании вождей. Они лишились как полового, так и государственного инстинкта. Родина, мать, жена, дети –– все это перестало быть тем, что раньше люди берегли и защищали преданно и безрассудно. С растворением сексуального обрывается еще одна нить, связывающая человека с «почвой». Пол не выбирают, поэтому мужчины и женщины связаны узами взаимного влечения и зависимости, которые с рациональной точки зрения кажутся не только невыносимо тяжелыми, но и унизительными. Интеллигентные люди стыдятся половой любви и стремятся превратить ее в своеобразный духовный роман. Казалось, сексуальная революция положила конец этой тирании духа. Однако полное поражение духовной любви привело к тому, что секс превратился в нечто механическое. Сначала «умер Бог», потом стали бороться против собственности, власти, государства и мужского господства. Сегодня философы объявили о смерти человека и, наконец, самой философии. Все эти манифесты от безобидных философских призывов и вызывающих насмешку феминистских лозунгов до грозных идеологических манифестов и шумных политических акций сопровождаются часто незаметными изменениями повседневных форм жизни. Улучшение условий труда и подъем материального благосостояния, урбанизация и борьба за комфорт, пластическая хирургия и изменение пола, распространение новых религий и формирование новых масс-медиа — все это коренным образом изменило человеческую жизнь, которая оторвалась не только от своей природно-биологической основы, но и от социума и культуры, как они строились на протяжении веков. Осознание того, что поведение людей определяется не столько рекомендациями разума, сколько борьбой индивида с природой, с другими людьми, с самим собой за признание, борьбой, исход которой определяется равновесием противоборствующих сил, приводит к необходимости изменения классического способа философствования, согласно которому любое начинание, будь то религиозное, научное или политическое, должно строиться на рациональной основе. Бодрийяр и Фуко –– в чем-то близкие и вместе с тем располагающиеся по разные стороны современной границы «классического» и «неклассического» авторы. Фуко –– «клиницист цивилизации» ставит диагноз смертельной болезни современности и видит лекарство в возвращении к античной «заботе о себе». 137 Бодрийяр описывает ее в терминах не медицины, а теории катастроф. Он не выписывает лекарства и не обещает возможности спасения. При чтении его работ возникает чувство безысходности и, вместе с тем, того особенного спокойствия, которое наступает у бывалых солдат перед боем. Какие бы меры предосторожности мы ни принимали, как бы ни старались обеспечить свою безопасность, в конце концов, все решит судьба. Поэтому в «Войне и мире» Толстого Кутузов перед сражением не суетился, а безмятежно спал и даже похрапывал. Противоположность концепций сексуальности Фуко и Бодрийяра можно выразить примерно так: для Фуко секс — орудие угнетения; общество не замалчивает секс, а наоборот, эксплуатирует его. Конечно, это опасно, однако создается эффективная система защиты, нейтрализующая чрезмерность и эксцессы. Парадокс сексуального освобождения Фуко, сам переживший сексуальную революцию, видит в том, что чем больше люди думают или говорят о нем, тем в большую зависимость от него попадают. Действительно, наблюдая сложный «танец» защитников демократического общества в дебатах о порнографии, можно убедиться, что в кажущейся непоследовательности политики общества относительно секса (с одной стороны, его демонстрация на экранах осуждается, а с другой стороны, поощряется) проявляется определенный порядок. Он останется скрытым, если видеть его в рационализации, т. е. в разработке строгой и, так сказать, общественно полезной — экологически и демографически целесообразной теории. И, наоборот, он станет явным, если отказаться от такого просветительского отношения к сексуальности. Если классическое общество ориентировалось на открытие истины о сексе, которая мыслилась в форме понятия, упорядочивающего сексуальное поведение, то современная технология власти опирается на кажущиеся бестиализирующими зрелища. Государство начинает интересоваться, как обстоят дела с сексом у его граждан. Власть проникает в сферу интимного, создает нужный ей порядок, опираясь на критерий истины. Люди сами начинают искать истину о сексе, и этим обусловлена популярность психоанализа. Гуманизирующе-цивилизующее значение исследований и разговоров о сексуальности видится в открытии истины, на основе которой сексуальные отношения приобретают строгий упорядоченный характер, а разного рода «извращенцы» подвергаются лечению или изоляции. Фуко (представитель одного из сексуальных меньшинств) предпринял восстание против технологии управления сексуальностью на основе идеи истины. При этом он совершил кажущийся неожиданным поворот в сферу духовности. Его обращение к сексуальным практикам и теориям античности вызвано отрицательным отношением к технологиям современного общества, которые, как он думал, основаны на порядке истины и на воле к знанию. Современным попыткам создать науку о сексе он противопоставляет искусство эротики, культивирующее наслаждение. Бодрийяр иначе оценивает стратегию и тактику власти по отношению к сексуальности. Прежде всего, он не переоценивает «волю к знанию». Манифестация истины о сексе, скорее, ширма, чем подлинная технология власти. Да, существует институт медицинского контроля за патологиями сексуальности, в основе которого лежат моральные и политические устаревшие догмы. Да, существует достаточно широкий слой разного рода психоаналитиков и консультантов, которые рекомендуют, как «правильно» заниматься сексуальной деятельностью и избавляют от разного рода сбоев и аномалий. 138 Однако не медико-судебный контроль, не «биовласть», осуществляемая посредством специалистов, составляют арматуру порядка сексуальности. Безжалостно эксплуатируемая масс-медиа и рекламой, она подлежит не нормализации, а интенсификации, доходящей до эксцессов. Современное общество, по сравнению с классическим, являет собой картину хаоса и упадка. Довоенные авторы с тревогой наблюдали за омассовлением общества и технизацией мира, ибо видели в этом угрозу гуманистическим ценностям. В современной обстановке, напоминающей об эпохе «хлеба и зрелищ», гуманисты –– всего лишь небольшая секта защитников интеллектуальной книжной культуры. Бодрийяр уже не верит в возрождение господства слова и теории над нечеловеческим в человеке. Он не мыслит себя «клиницистом цивилизации», ибо это предполагает веру не только в истинный диагноз, но и в эффективность рецептов спасения. Разум уже не может нас спасти. Общество отказалось от рационального контроля со стороны государства за экономическими, политическими, информационными и иными процессами. Национальное государство утратило способность регулировать циркуляцию товаров и денег, издание книг и журналов. Тем более оно оставило мысль об управлении сексуальностью с целью сохранения генофонда нации. В результате глобализации гигантский мировой механизм начал работать «в разнос». То, что происходит в сфере сексуальности, дикие бестиализирующие зрелища, это лишь отдельные метастазы болезни, охватившей современный мир. Его уже нельзя спасти рецептами просвещения, критики идеологии и сексуальной революции. Все давно знают, что большие идеологии развалились, а секс у всех на виду и о нем постоянно говорят. Однако в результате такого «освобождения» возник коллапс, грозящий неминуемым взрывом, который уже трудно предотвратить. Перефразируя Хайдеггерово «нас может спасти только Бог», рецепт спасения Бодрийяра можно выразить так: нас смогут «освободить» только природные катастрофы, только они заставляют нас «одуматься». Мнение Бодрийяра — несомненно авторитетное; его оценка современности настолько самокритична, что не оставляет надежды на спасительную роль разума. Но, спросим мы, живущие «после оргии», не хранит ли эта оценка верность идеалам гуманистов-шестидесятников, не являются ли сами эти идеалы ограниченными? Вернемся к Римской империи, кровавые технологии которой внушали такой ужас греческим гуманистам, что многие из них, подобно Августину, сочли, что противостоять их бестиализирующему воздействию может только христианская аскеза. Сегодня дикие зрелища эпохи упадка Рима репрезентируются на наших экранах, и мы видим в этом одичание людей. Отличие Бодрийяра от гуманистов состоит только в том, что он уже не верит в способность разума и книг остановить это одичание. Но спросим себя, не содержат ли открытые Римом технологии нечто позитивное? К сожалению, негативное отношение к ним, выработанное гуманистами, не способствовало изучению ни их генеалогии, ни их позитивной роли в управлении большими массами людей. Между тем, следы римской культуры присутствуют в современности не только в форме права. Европейская культура сделала ставку отнюдь не только на открытую греками установку на истину. Ее жизнеспособность связана с остающимися в тени аскетического идеала телесными практиками. С точки зрения рационализма и гуманизма, разного рода развлекательные зрелища и тем более фильмы ужасов и эротика являются данью нечеловеческому в человеке и подлежат если не запрету, то ограничению. Наоборот, с точки зрения политика, управляющего 139 стадом таких «домашних животных», какими являются люди, именно эти зрелища вовлекают их в открытую общественную жизнь, отвлекают от протеста и способствуют «цивилизованному» образу жизни. Сексуальная революция в ходе виртуализации наслаждения ставит радикальный вопрос: кто я, мужчина или женщина? Политические и социальные революции, прототип всех остальных, поднимают вопрос об использовании собственной свободы и своей воли и последовательно подводят к проблеме, в чем, собственно, состоит наша воля, чего хочет человек, чего он ждет? Вот поистине неразрешимая проблема! И в этом парадокс революции: ее результаты вызывают неуверенность и страх. Оргия, возникшая вслед за попытками освобождения и поисками своей сексуальной идентичности, состоит в циркуляции знаков. Но она не дает никаких ответов относительно проблемы идентичности. Мы стали транссексуалами, как ранее стали политически индифферентными существами. Это может казаться окончательным распадом порядка и стать поводом к возобновлению начатого Хайдеггером разговора о признания почвы и судьбы. Однако современники, кажется, вовсе не страдают от этого, охотно прибегают к услугам пластической хирургии, а некоторые даже изменяют пол. То, что М. Мерло-Понти казалось немыслимым — отказ от своего лица, стало обычным делом. При этом речь не идет о метафизическом отказе, трагизм которого чувствуется в знаменитых романах Кобо Абэ, и даже не о смене масок, как у Кьеркегора, а о позитивном акте построения себя. Если у Фуко «практики себя» реализуются в сфере духовности, если Бодрийяр расценивает современные технологии телесности как искусственное протезирование органов, необходимых для потребления все более искусственных продуктов современной индустрии, то для большинства людей, прибегающих к услугам пластической хирургии, коррекция фигуры, смена лица и даже пола кажется не утратой природной или культурной идентичности, а обретением нового, хотя и искусственного, но вполне онтологического статуса. Современный человек меняет знаки не потому, что утратил связь с почвой, наоборот, он меняет саму почву и судьбу, которые ранее считались незыблемыми. Попытаемся еще раз вникнуть в проблему соотношения души и общества. С одной стороны, возможно решение, опирающееся на предпосылку о приоритете душевной жизни. Человек рождается с набором потребностей, обеспечивающих самосохранение. Строго говоря, они не антисоциальны, так как общество состоит из индивидов и, стало быть, забота о себе необходима для существования общества. Тем не менее, между социальными нормами и «естественными потребностями» возникает конфликт, который решается не полным запретом, ибо это привело бы к смерти индивидов, а культивированием этикета, созданием моральных и иных ограничений, которые касаются форм и способов еды, секса и т. п. Таким, в общем-то, простым образом решается проблема социального контроля биологической жизнедеятельности. Управление потребностями превращается в формы власти, а этикет и правила поведения –– в диспозитивы. Отсюда Ницше разоблачает душевные и моральные чувства как формы самопринуждения, а Фуко, считая душу сценой господства, вообще не желает о ней говорить. Но чисто теоретически возможен и иной ход для объяснения странного союза общества и индивидуальной души. Если власть, как допускал Ницше, первоначально принадлежала сильным, что мешало им институциализировать такую систему власти, которая способствовала реализации их самых 140 необузданных желаний. Но даже при чтении Транквилла не возникает впечатления, что имперская машина власти служила удовлетворению их ужасных желаний. Не являются ли они искусственно созданными, и не должны ли властители именно так себя и позиционировать? Потребности и желания человека социально обусловлены. Удовлетворение потребности в еде, любви и т.д. возможно в общении с другими, и поэтому они являются формами коммуникации. Человек странное существо. С одной стороны, как показывают подвиги святых подвижников, он долгое время может обходиться без еды, питья и женщин. Разного рода минимумы и рекомендации –– это социальный миф. С другой стороны, именно человек способен к таким эксцессам по части еды и секса, что с ним не сравнится ни одно животное. Естественно, «люфт» между аскетом и обжорой используется обществом. Старое выражение «любовь и голод правят миром» не потеряло своего значения. Очевидно, чувство голода, как и остальные потребности, искусственно стимулируются. Человек может жить на хлебе и воде, но «прогибается» из-за бутерброда: приученный к «нормальному питанию» и удовлетворению «естественных потребностей», он становится марионеткой власти, которая, смоделировав «потребительскую корзину», манипулирует его поведением. Контрольные вопросы. 1. В чем состоит отличие «заботы о себе» от самосознания? 2. Охарактеризуйте отношения человека и Бога в христианской религии. 3. В чем отличие понимания страстей в религии и философии? 4. Как определял Кант природу человека? 5. Зависит ли свобода от права? 6. Какова роль борьбы за признание в антропологии Гегеля? 7. Считаете ли вы страдание и сострадание позитивными переживаниями? 8. Что такое коммуникация, и какую роль в ней играют слова, звуки и образы? 9. Охарактеризуйте антропологический поворот в философии ХХ в. 10. Как связаны биологическая незавершенность человека и культура? 11. Как вы понимаете хайдеггеровское определение человека как просвета бытия? 12. Опишите своеобразие антропологического понимания власти у Фуко. 13. Каковы последствия «сексуальной революции»? 14. Как вы понимаете соотношение свободы и индивидуальности? 15. В чем смысл тезиса о смерти человека? Литература Августин. Исповедь. М. Издательство АСТ. 2003. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., Искусство. 1979. Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. Бодрийяр Ж. Америка. СПб., Наука. 1999. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., Добросвет. 2000. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.//Избранные произведения. М., Прогресс. 1990 Гадамер Х.Г. Истина и метод. М., Прогресс. 1988. Гегель. Философия духа. М., Издательство социально-экономической литературы.. 1959. Герменевтика и деконструкция. СПб., БСК. 1999. С. 243–255. 141 Губин В.Д., Некрасова Е.Н. Философская антропология. М., Университетская книга. 2000. Гумилев Л. Этногенез и биосфера земли. Л., ЛГУ. 1985. С. 6–37. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., Книга.1991. . 4–27. Ильин И.А. О русской идее // Ильин И.А. О грядущей России: Избранные статьи. М., Воениздат. 1993. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. СПб., Наука. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., Прогресс-Академия. 1992. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., Искусство-СПб. 1994. Марков Б.В. Знаки Бытия. СПб., Наука.2001. С. 244–261. Марков Б.В. Философская антропология. СПб., Лань. 1997. Марков Б.В. Храм и рынок. СПб., Алетейя 1999. Марков Б.В. Человек и общество в процессе цивилизации СПб., Философское общество. 2003. Марков Б.В. Человек и общество в процессе цивилизации. СПб., 2003. убрать Милюков П.С. Очерки по истории русской культуры. М., Республика. 1994. С. 9–17. Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч. в 2 тт. Т. 2. М., Мысль. 1990. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. М., Прогресс. 1987. Платон. Государство // Соч. М., Мысль. 1971. Т. 3(1). Рикер П. Герменевтика и метод социальных наук. М., Медиум. 1995. Рено А. Эра индивида. СПб, Наука. 2002. Соловьев В.С. Смысл любви // Соч. в 2-х тт. М.: Мысль, 1988. Спиноза Б. Этика // Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. М., Издательство политической литературы. 1957 Тённис Ф. Общество и общность. СПб., Владимир Даль. 2002. Фуко М. Забота о себе. СПб., Алетейя. 1999. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие. М., Республика. 1993. Хёейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., Прогресс-Академия. 1992. ЧАСТЬ 2. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ПОСЛЕ «СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА». Дуальность природы человека Осознание двойственности своей природы –– фундаментальное событие в жизни человека. С одной стороны, как и любое животное, он подчиняется физическим и биологическим условиям выживания, но с другой, определяется социальными нормами, обладает сознанием свободы и стремится к исполнению духовных идеалов добра, справедливости, красоты и истины. Двойная детерминация человека задает динамическое напряжение, питающее культуру, и «сублимируется» в форме ее основных оппозиций: человек-животное, природа-общество, дух-тело, человек-бог, добро-зло и т.п. Значение этих «больших» метафизических противоположностей состоит в том, что они символизируют вечную загадку человека и стимулируют поиск своего назначения и места в мире. Неверно думать, что как таковые метафизические представления о человеке –– это либо фантазии и утопии, либо идеологические двойники реальных отношений между людьми, т.е. нечто такое, что в любом 142 случае ненужно и бесполезно. Романтические утопии скрывают жестокую реальность, а идеологии ее оправдывают. Как видно из истории, источником культурного взрыва являются не только новые технологии, но и идеи и, прежде всего, представления человека о самом себе, его цели и идеалы, которые хотя и не выполняются полностью, однако существенно определяют социальные, экономические и культурные завоевания человека. Вместе с тем нельзя закрывать глаза на историческую обусловленность и культурную относительность этих различий. Прежде всего, следует иметь в виду, что они не являются данностями. Какими бы самоочевидными и естественными ни казались противоположности человека и животного, мужчины и женщины, духа и тела, тем не менее, они не являются извечными и в каждую эпоху понимаются и реализуются по-разному. Причиной тому является не только недостаток знания, но и различные способы производства человеческого, связанные как с технологиями, так и проектами, которые и составляют саму суть культуры. Человеком не рождаются, а становятся, но что такое человек и кем он должен стать –– эту загадку каждая историческая эпоха решает по-своему. Разумеется, существуют традиции, которых люди должны придерживаться, чтобы выжить в ходе инноваций, однако именно изменения окружающего мира заставляют искать новые возможности самоосуществления. Важным методологическим вопросом является обсуждение тех реальных функций, которые обеспечивают данные различия: как и при каких условиях они возникают и каково их значение в системе общественного порядка. Трудность решения вопроса о природе, происхождении и реальных функциях данных различий связана с тем, что они развиваются как бы на двух уровнях. С одной стороны, философия, а потом и наука, пытаются уточнить эти различия и дать им четкое определение. С другой стороны, пытаясь доказать истинность и тем самым сделать определения действующими нормами поведения, мыслители сталкиваются с тем, что их рассуждения оказываются как недоказуемыми, так и невыполнимыми. Фундаментальные предпосылки, такие как различия природного и социального, божественного и человеческого, мужского и женского, плохого и хорошего, прекрасного и безобразного и т. п, складываются до познания и сами составляют неявную основу любых рассуждений. В культуре существует значительное число положений, которые, будучи самоочевидными и общепринятыми, тем не менее, не могут быть доказаны научным путем ссылками на опыт или логическое доказательство: тот, кто сомневается в существовании внешнего мира, в наличии сознания и т. п. всерьез, а не на философском диспуте, не считается нормальным. И это не случайно. Если сомневаться в этом, то недоказуемо и все остальное. История подобных различений уходит корнями в некогнитивные практики, и поэтому ее реконструкция должна не только опираться на определения, даваемые тем или иным философом, но и выявлять реальные структуры, в рамках которых они складываются и функционируют. Человек и животное Уже у древних народов, которые признавали несомненное превосходство сильных животных над человеком и даже наделяли своих богов их внешностью, встречаются мифы, повествующие о превосходстве и особом назначении человека. Несомненно, все это связано с практиками приручения и одомашнивания диких животных, что дало мощный импульс развитию человеческого общества, но также интенсифицировало чувство превосходства 143 человека над человеком и сделало «естественным» господство и принуждение. Во всяком случае, не вызывает сомнений то, что различение человека и животного и обоснование превосходства человека, осуществляемое на космологическом, биологическим, моральном уровнях, служило оправданием власти над природой и эксплуатации животных. Однако морфологическое сходство с высшими млекопитающими и особенно человекообразными обезьянами обескураживало мыслителей и, вероятно, поэтому столь рано и столь остро встал вопрос о признаках, отличающих человека от животного. Человек отличается прямохождением, наличием руки, умением изготавливать орудия труда, речью, а также внутренним своеобразием: только он испытывает стыд, создает культуру, помнит прошлое, умеет смеяться и плакать, знает о своей смертности и т.п. Вместе с тем некоторые из перечисляемых признаков можно найти и у животных: птицы ходят на двух ногах, пчелы пользуются языком танца, чтобы сообщить о нахождении медоносов, муравьи образуют сообщество, не уступающее по сложности организации человеческому. Кроме того, дистанция между человеком и животным несимметрична: различие между инфузорией и шимпанзе не меньше, а может быть больше, чем различие между обезьяной и человеком. Очевидно, что различие человека и животного должно лежать в какой-то иной плоскости. Но тогда вообще исчезает основание для их сравнения. Следовательно, то странное упорство, которое ученые проявляли в сравнивании человека именно с животным, не объясняется наличием «объективных» различий. Оно вызвано ценностными предпочтениями и жизненными ориентациями. Некоторые философы и, в частности еще Платон, пытались противостоять обыденной установке и считали, что различение человека и животного во многом связано с различениями благородных и низших сословий в обществе. Между тем именно от Платона и берет свое начало дуалистическое определение человека как зоологического существа (двуногое без перьев) и как носителя разума. Правда, Платон не исключает переселения душ и в том случае, если человек при жизни недостаточно использовал потенции разума, его душа может воплотиться в животном. Иначе описывает человека Аристотель. Целостную душу он разделяет на множество духовных способностей, высшей и бессмертной среди которых он считает разум –– чуждый природе и сближающий человека с божествами. Аристотелево учение развивает резкое деление материи и формы, ставит человека на вершину иерархии живых существ. Моральный пафос в описании человека, преобладающий у христианских мыслителей, только в XVIII веке ослабляется сначала у Линнея, а потом у Дарвина. Однако и Линней не освободился от предпосылок старой антропологии, так как характеризовал человека не только по физическим, но и по духовным признакам. Как homo sapiens человек образует вершину лестницы живых существ. В противоположность этому пониманию человека еще досократики развивали эволюционный подход и настаивали на самостоятельности культурного прогресса. Идеи Демокрита и Эпикура были обстоятельно разработаны Лукрецием в поэме о «Природе вещей». Однако в XIX веке эволюционизму противостояли не только догмат о творении, но механистическое мировоззрение. Поэтому Дарвин осуществил настоящую революцию в сознании людей. Он начинал с разработки идеи селекции, благодаря которой соединил принципы каузальности и развития. «Борьба за существование» и «отбор» –– это основные понятия теории Мальтуса, 144 разработанной применительно к обществу и направленной на контроль и ограничение рождаемости. Дарвин использовал их для описания развития в царстве животных и при этом существенно изменил все еще действующую аристотелевскую категориальную структуру, в основе которой лежало различие материи и формы, рода и вида. Он допустил изменение формы под влиянием случайных индивидуальных отклонений, которые оказывались необходимыми в новых условиях изменившейся среды и которые постепенно приводили к фундаментальной перестройке всего организма. Дарвин исключил внешнюю целесообразность, управляющую ходом развития живого: природа сама по себе цель и она управляет всеми изменениями жизни. Критики дарвинизма считали аккумуляцию индивидуальных отклонений недостаточной для объяснения возникновения новых видов, так как оно должно соответствовать «плану природы». Дарвин и Геккель построили монистическую теорию на механической основе, и в этом состояла ее уязвимость. Поэтому всегда актуальной остается задача, поставленная Гёте, который исходил из единства всего живого и из пантеистического единства природного и божественного. Теория эволюции завораживала, прежде всего, тем, что переход от животного к человеку описывался как плавный и постепенный. Именно этим объясняется интерес ее сторонников к поискам «переходного звена». Эти поиски дали интересные результаты, но сами по себе они не решают главной проблемы и, более того, вытекают из неправильного ее понимания. Исходная мысль Дарвина была революционной и состояла в новом взгляде на феномен происхождения. У истоков человеческого рода находилось непохожее на человека существо. Однако логика эволюционизма и историзма толкала к тому, чтобы вывести его из «обезьяны» и тем самым преодолеть разрыв между истоком и современным состоянием. И это естественным образом привело к утрате специфики человека. Желание выстроить развитие природы в одну линию, неспособность допустить множество гетерогенных и при этом взаимосвязанных регионов живого являются основными догмами биологической антропологии. В ее рамках утрачивается вопрос о сущности человека, который вновь подняла философскокультурная антропология ХХ столетия. Другим недостатком споров о различении животного и человеческого является неявное принятие моральной дихотомии добра и зла в качестве основы классификации. Например, агрессивность, неразумность, подчинение поведения инстинктам, желаниям и влечениям считаются отличительными признаками животных, в то время как человек рассматривается как существо, выпавшее изпод власти эволюции, наделенное божественным разумом, ценностями и идеалами, чувствами любви, сострадания, солидарности и т. п. И до сих пор, размышляя о человеческой агрессивности, мы списываем ее на «природу», забывая о том, что она старательно культивировалась в человеческой истории, ибо выступала условием войн, конкуренции, соперничества и других движущих сил цивилизации. В истории культуры происходили существенные сдвиги в понимании как животного, так и человеческого. Прежде всего, теория эволюции выводила человека из животного и тем самым отбросила гипотезу о божественном творении. Абсолютное различие человеческого и животного было подвергнуто пересмотру в ходе развития медицины и физиологии. XVIII и XIX века –– это время всплеска интереса широкой общественности не только к археологическим раскопкам, обнаружившим черепа и скелеты древних людей, 145 но и к анатомии. Сам термин «анатомический театр» свидетельствует о том, что публичное вскрытие человеческого тела производилось не только с научной целью его изучения. Вместе с патологоанатомами люди предпринимали интересное и увлекательное путешествие в глубь человеческого тела. Их взору предстал удивительный универсум –– взаимосвязанная система костей, связок, мышц, нервов, кровеносных путей, химических и электрических реакций, связывающих внутренние органы. Но при этом не обнаружилось места души, духа, разума и т. п. сущностных сил человека. Так сцена религии и метафизики, на которой разыгрывались душевные драмы, уступила место иной сцене, на которой сущность человека принимала облик машины. Метафора машины стала ведущей в европейской культуре. Ее значение состояло в том, что она объединила природное и божественное, духовное и телесное в человеке. Старинный роман «Франкенштейн», получивший недавно впечатляющую экранизацию, показывает логику работающего скелета –– «живого трупа», мертвые органы которого приводятся в движение электрически-спиритуалистической энергией. Однако менее заметными остались действительные воздействия машины на реальных живых людей. Техника не только инструмент и средство для увеличения и усиления способностей человека. Даже снабжая человека разного рода протезами, приборами, инструментами и органами, она содействует превращению его в свой придаток. Но и сознание подлежит существенной модификации: часы, паровая машина, наконец, компьютер –– все это требует от человека особых качеств точности, самоконтроля, преобразования и управления информацией. Например, часы, собственно говоря, находятся не на руке, а в голове человека: какой смысл иметь самые точные часы, если человек не приучен приходить в назначенное время? Таким образом, размышляя о противоположности человека и животного, нельзя ограничиться абстрактными философско-теологическими и биологическими дихотомиями. На самом деле в культуре произошли существенные сдвиги, изменившие традиционные границы. Так, биология, занимающаяся описанием жизни популяций животных, установила наличие у них кооперации, дифференциации, коммуникации, а также практического интеллекта, которые прежде приписывались только человеку. Наоборот, историки и культурологи отмечают важную роль биологических факторов даже в современном обществе. Историей правит не только разум, но и «основной инстинкт», поэтому для понимания исторических событий приходится учитывать страсти и аффекты, желания и влечения, определяющие поведение людей. Научные открытия и теоретические дискуссии сопровождаются важными переоценками места и роли животных на уровне повседневного сознания. Уменьшение сектора дикой неокультуренной природы, уничтожение опасных животных привело к тому, что животное больше не воспринимается как нечто низкое и злое и уже не может служить символом низости самого человека. Однако учитывая положительное значение экологической парадигмы, воспитывающей любовь к живому, нельзя забывать о необходимости различения животного и человеческого, природного и культурного. Нельзя забывать и о контроле за воздействиями разного рода вирусов и микроорганизмов на человеческую популяцию. Истребление крупных хищников еще вовсе не означает, что человек раз и навсегда завоевал обширную экологическую нишу. При всех своих завоеваниях и достижениях он продолжает оставаться весьма уязвимым организмом, продолжающим вести 146 борьбу за выживание, и должен сохранять в себе способность удерживать и расширять сферу своего обитания. Другое дело, что формы выживания и сохранения должны изменяться. Взгляд на эволюцию как борьбу за существование и естественный отбор –– отражение скорее человеческого, чем животного сообщества. В мире животных и людей существуют, как показал оригинальный русский философ Кропоткин, взаимная помощь, поддержка, кооперация. Такой синергетический подход является чрезвычайно важным для сохранения и выживания человека. Он привык бороться с природой и рассматривает микроорганизмы и вирусы по аналогии с крупными хищниками. Они вызывают у него столь же сильный страх. Но человек выжил благодаря не только уничтожению, но и одомашниванию животных. Так и сегодня одной из важнейших задач цивилизации является превращение неуправляемых микроорганизмов в своих союзников. Тело Тело считается неизменной природной данностью, и поэтому тезис о его преобразовании для нужд общественного целого может вызвать протест. Как можно изменить тело? Разумеется, оно рождается, растет, стареет и умирает, его можно подвергать хирургическим операциям или пыткам, но чувство тела — всегда некоторый фантом. Тело –– не только организм. Еще в древней легенде о грехопадении Адам и Ева не приобретают и не утрачивают какихлибо органов, но в результате внушенных дьяволом помыслов телесность их радикально меняется. И наоборот, потеря каких-либо телесных органов или частей не обязательно нарушает феноменологию тела (например, «болят» утраченные конечности). Тело не является природной данностью, а формируется как базисная символическая система, образующая горизонт «предпонимания» мира. Уже в древних обществах осуществлялась тщательная селекция и стигмация тела, включающая его раскраску, а также формирование путем физических упражнений и обрядов необходимых качеств, например, воина, охотника и т.п. По мере исторической эволюции вместо маски человек обретает лицо, жесткие позы (боевые или торжественные) уступают место свободным манерам, строго соответствующий общественному положению костюм сменяется многообразием моды. Однако за всем этим скрывается все более изощренная техника формирования телесности, основанная на дрессуре. Философия тела должна становиться с учетом окружающей среды. Благодаря телесному контакту с матерью ребенок обретает первичные символы своего тела и окружающего мира, которые становятся снова значимыми в кризисных ситуациях, испытываемых взрослым человеком. Первоначально не существует разделения на субъект и объект, так как тело — не наблюдатель, а участник событий. Тело и внешний мир формируются и адаптируются в процессе освоения пространства, обретения навыков обращения с предметами. В результате общения с людьми происходит дрессура тела, в которой ограничиваются биологические влечения и инстинкты и формируются духовные ценности. В процессе вытеснения и замещения витальных чувств вырабатываются переживания любви, сознания, вины, долга и т.п. Бытие с другим существенно преобразует как тело, так и окружающий мир: на основе оппозиций субъекта и объекта происходит новая маркировка пространства, ландшафта и телесных зон. Данность собственного тела является феноменологической очевидностью, и поэтому так мало людей, сомневающихся в существовании собственного тела. 147 Совокупность внутренних органических ощущений, напряжение мускулов, влечения, желания, потребности, переживания страха, гнева, восторга и т.п. кажутся естественными и самоочевидными свидетельствами данности тела. Однако пробуждение желаний и переживаний происходит в результате искусственных раздражающих воздействий со стороны другого, который и культивирует мое тело. Поэтому, страдая и наслаждаясь, рассматривая себя в зеркале, используя свои органы чувств для восприятия внешнего мира, я вовсе не автономен, а, напротив, весьма жестко детерминирован схемами тела, гештальтными влечениями и т.д., которые сформированы в процессе общения с другим. Внутреннее тело связано с наружностью, наличной средой, образующей неорганическое тело человека: окружающий ландшафт, искусственно создаваемые предметы обладания, наслаждения, потребления, определенным образом формирующие развитие как самих влечений, так и органов получения наслаждения. Они создают пространство существования, вызывают новые страсти и аффекты, задают новые пороги чувствительности, интенсифицируют те или иные переживания. Внутреннее тело преобразуется в процессе вытеснения витальных переживаний и замещения их этическими ценностями, Для внешнего тела значимыми выступают эстетические нормы. И те и другие коммуникативны: на основе морали и долга вырабатываются внутренние чувства вины и покаяния, благодаря которым преобразование тела становится внутренней проблемой отдельной личности, сдерживающей и контролирующей свои побуждения и витальные аффекты. Точно так же формирование наружности, внешнего вида и манер осуществляется сначала на основе жестких регламентаций, а затем становится делом вкуса и внутреннего такта отдельного человека. В различные исторические периоды тело контролируется по-разному. В традиционных обществах власть регламентирует внешнее тело: форма одежды, маска, личина, поза, жесты, манеры и церемонии — все это четко определяет поведение и является неким подлинным документом, удостоверяющим социальную принадлежность. Характер такой власти можно почувствовать, столкнувшись с феноменом самозванства на Руси. На что рассчитывает самозванец, претендуя на место, уже занятое легитимным, освященным церковью монархом? Самозванец предъявляет народу некие знаки царской власти, например, метки в форме креста на собственном теле. По мере развития общественных отношений контроль переносится с внешнего тела на внутреннее. Объектом надзора и манипуляций становится душа, забота о которой перешла в сферу открытого дискурса уже во времена античности. Философы, священники, писатели, а затем психологи сделали анализ душевных явлений своей специальностью, не подозревая об опасности таких исследований, которые раскрывают тайны человеческой души. В современном обществе, казалось бы, отсутствуют жесткие запреты и каноны, регламентирующие внешний вид, манеры, одежду и т.п. Однако существуют неявные коммуникативные нормы, организующие как форму, так и внутренние аффекты тела. Сначала религия, а затем художественная литература с ее искусством словесного портрета и описания душевных переживаний выработали образцы для подражания, в соответствии с которыми организуются внешность, манеры, чувства и переживания людей. Современная наука активно включилась в процесс цивилизации рационализации душевной сферы. Сложился корпус специальных знаний и рекомендаций, регулирующих ритм 148 труда и отдыха, удовольствий и развлечений, навязывающих здоровый образ жизни. Квазинаучный дискурс описания тела и души считается объективным, подтвержденным медико-биологическими исследованиями. Между тем, в нем неявно присутствуют разного рода моральные и правовые нормы, благодаря которым научные рекомендации становятся инструментами политического управления и манипуляции жизнью. Эмансипирующую функцию стремится выполнить художественная литература, которая считает ошибочным рациональное осуждение телесно-душевной сферы и стремится описать свободную, аутентичную телесность, существующую независимо от интенций на обладание, насилие, наслаждение и потребление, искусственно внедренных в душу человека обществом конкуренции. Тела насилия и покорности, наслаждения и воздержания, сексуальности и извращения продуцируются обществом. Именно в создание такой телесности и втянута литература, которая моделирует своими героями и персонажами то, что может и должен любить или ненавидеть современный человек. Портрет героя всегда дается с точки зрения Другого, и это делает его моделью, которую читатель реализует своей жизнью. Таким образом, осуществляется своеобразная инкарнация социально-политических конструкций. Осознавая политическую ангажированность классики, современное искусство стремится противопоставить «нормальному» герою, выступающему опорой общественного порядка, маргиналов, разного рода «подпольных людей», которые уже не связаны с господствующими слоями, не являются защитниками их норм и ценностей. Более того, в современной художественной литературе представлен настоящий зверинец, наполненный отталкивающими персонажами с искаженной феноменологией телесности. Если романтики использовали разного рода безногих, горбатых, уродливых личностей в качестве носителей свободного сильного духа, то сегодняшние писатели моделируют явно шизофренические типы: человек-маска, человек-ящик, человек-крокодил, человек без лица и т.п. Для того чтобы идентифицироваться с героем, читатель вынужден перестраивать свои чувства и учиться по-новому воспринимать мир. Эти фантастические субъекты с их странными переживаниями выявляют действующие в социуме структуры ментальности или протестуют против них тем, что изображают тело и мир без Другого138. Говоря о воздействии религиозного, литературного или медицинского дискурсов на феноменологию телесности и духовности, мы сталкиваемся с интересной, но малоизученной проблемой соотношения рациональных и эмоциональных структур сознания. Если рациональность опирается на логику, общепринятые нормы и складывается и ходе аргументированных дискуссий, то сфера эмоций считается экс-коммуникативной и не детерминированной рациональностью. Как же в этом случае реализуется основное допущение о том, что разум может и должен контролировать сферу чувств, если учесть, что сам он должен быть свободен от ценностных предпочтений и эмоций? Существует известный спор между этикой долга и этикой чувства. Считается, что человек должен контролировать свое поведение и воздерживаться от поступков, которые заставили бы окружающих сомневаться, имеют ли они дело с человеческой сущностью. Вопрос в том, как это достигается. Зная правила Другой трактуется как условие любви и духовной коммуникации (Бахтин) или как главный виновник деформированного властью и насилием взгляда на мир (см.: Waldenfels В. Der Stachel des Fremden. Frankfurt am Main, 1991.) 138 149 добра, люди далеко не всегда им следуют. Между тем существуют довольно эффективные психические чувства, такие, как страх и стыд, вина и честь, которые достаточно сильны, чтобы противостоять напору витальности. Однако они редко принимаются во внимание философией, которая стремится управлять человеком на основе идей и высших духовных ценностей. Страх и стыд считаются недостойными разумной личности, они в сильней степени аффективны и их формирование резко отличается от методов рационального познания. Современная педагогика, используя дискурсивные формы воспитания, не замечает, что их действие основывается, во-первых, на психическом вытеснении витальных эмоций и подстановке их на место высших ценностей и, во-вторых, на вторичном замещении, в рамках языка и механизма метафоры, обыденных чувственных значений слов другими значениями, символизирующими идеи. Операции вытеснения и замещения осуществляются не только невротиками и психотиками, которые символизируют осуждаемые обществом влечения в понятиях или образах, допускаемых сообществом, но и нормальными людьми, которые успешно инкарнируют в свой внутренний мир понятия, нормы и ценности, выработанные в рамках социального мира. История цивилизации — это история не только разума, но и страха. Страх как форма приспособления и выживания организма приобретает в процессе цивилизации все более сложные и утоненные формы. При этом общество, с одной стороны, усиленно культивирует страх, например, как орудие власти, а с другой — сталкивается с задачей его редукции, как, например, в случае подготовки солдат регулярной армии. Исходной формой социального страха является страх перед другим, перед внешним, где располагается зона насилия, наказания, голода, смерти и т.п., но есть и зона свободы, где человек чувствует себя вполне уверенно — у себя дома, в кругу родных и друзей. Именно в отношении к этим «территориям» сегментируется чувство страха и удовольствия. На первичные формы страха надстраивается другие. Например, дети и подростки контролируют свое поведение на основе страха перед взрослыми. Это показывает, что энергия чувства страха может питать и поддерживать какие-то более высокие ценности и благодаря этому использоваться для преобразования аффектов в соответствии с общественными нормами, так что и без угрозы прямого наказания ребенок в силу наложенного табу может отказаться от непосредственного удовлетворения желания. Человек как половое существо Пол, а также различие мужского и женского обычно считается природной данностью. Культура состоит в ограничении зова пола и регулировании отношений между мужчинами и женщинами. Ее роль при этом нельзя сводить к запрещениям. Нетрудно заметить, что сексуальность не только подавляется, но, напротив, интенсифицируется в процессе цивилизации. Даже в Средние века, которые обычно считают образцом репрессивности, осознание сексуальных желаний как запретных приводило к интенсификации переживаний для последующего переприсвоения и использования их энергии обществом. Средневековые рыцари, приняв обет служения Прекрасной Даме, становились мужественными и терпеливыми воинами. В буржуазном обществе фривольный дискурс о сексе остался под запретом, однако он постепенно находил место в литературе, где подвергся рационализации и морализации. «Декамерон» и «Пятнадцать радостей брака» при внимательном чтении обнаруживают целую сеть новых правил, регулирующих эротические желания и возможности их 150 реализации. Секс становится важным элементом управления поведением. Ловкие мужчины и хитрые женщины благодаря умелому использованию сексуальных потребностей добиваются значительного роста благосостояния. Наиболее ярким проявлением управления сексуальностью являлся научный и педагогический дискурс. Его развитие свидетельствует о том, что пол стал важной общественной проблемой, и общество стало вменять разуму контроль за сексуальностью. Демистификация натуралистического понимания полового диморфизма впервые находит яркое выражение уже в «Пире» Платона. Один из участников диалога, Аристофан рассказывает, что раньше природа людей была не такой, как теперь. Существовали люди третьего пола –– муже-девы: «тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у этих двух лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две ... Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, –– так же, как мы теперь, но любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом»139. На первый взгляд этот рассказ кажется типичным организмическим мифом, повествующим о природной эволюции человеческого тела, ностальгически сообщающий о прекрасных старых временах, когда люди были сильными, как боги. Однако в пересказе Платона миф получает некоторые важные акценты. Прежде всего, шарообразность древних людей намекает на то, что от природы тело дается как бы без органов, которые постепенно создаются цивилизацией. Далее сообщается, что первые люди обладали чудовищной силой, а по самомнению не уступали богам: Страшные своей силой и мощью, они питали великие замыслы и посягали даже на власть богов. Они даже пытались совершить восхождение на небо, чтобы напасть на богов. Подобно гигантам, андрогины тоже вступили в борьбу с богами, и этот захороненный в истории религии миф говорит о том, что боги конструировались по образцу жестоких правителей. В ходе этой взаимной борьбы происходит и совершенствование власти. Если гигантов Зевс поразил молнией, то с муже-девами он поступил иначе, разрезав каждого из них пополам, чтобы они, во-первых, стали слабее, а во-вторых, полезней, потому что их число увеличится. Воспринимаемый как организмический, миф Платона на самом деле выступает первым трактатом по политической антропологии: стратегия «разделяй и властвуй» приводит к разделению и установлению взаимной зависимости мужского и женского. Итак, мужское и женское –– не природное, а культурное различие. Можно дополнить афоризм Симоны де Бовуар: мужчинами, как и женщинами, не рождаются, а становятся. Разделение полов –– акт власти, устанавливающей взаимную зависимость и угнетение полов. Разделенные на половинки люди начинают искать друг друга, и это стремление отвлекает их от борьбы с богами. Здесь впервые пол используется как признак несовершенства человека, и этот знак падшести был использован также в Ветхом Завете. Миф Платона раскрывает тактику власти, направленную на организацию и контроль за порядком сексуальности. Первоначально не упорядоченная зависимость полов, основанная на взаимном стремлении к соединению, приводила к хаосу: «когда тела были рассечены пополам, каждая половина с 139 Платон. Пир // Платон. Соч. в 3-х тт. М., 1970. С. 116–117. 151 вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому, что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины»140. Зевс реорганизовал тела половинок с целью оплодотворения посредством совокупления, а также заложил, кроме тяготения друг к другу, возможность удовлетворения, что позволило достичь равновесия работы и секса. Благодаря игре влечения и зависимости порядок становится эффективным. Соединив наслаждение и власть, цивилизация навязывает иерархию полов и гарантирует удовлетворение в рамках определенного порядка господства и подчинения. Миф, рассказанный Платоном, актуален и сегодня, так как власть усиленно эксплуатирует сексуальность и, подобно Зевсу, умножает и упорядочивает взаимную зависимость мужского и женского. Миф Платона интересен и тем, что он не ограничивается политическими или культурными метафорами, а использует понятия биологии. Современная техника генной инженерии, возможность искусственного оплодотворения и даже выращивания детей в «пробирках» ставит человечество перед необходимостью нового осмысления пола. Выход из кризиса пола видится в нескольких направлениях. Одни авторы отмечая ослабление роли мужчин в жизни общества и наступление женщин на рынок труда, считают, что это не угрожает мужскому началу как таковому. Очевидно, что женщины как администраторы и политики просто перехватывают выпавшее из мужских рук знамя и более активно реализуют наступательный, предприимчивый и завоевательный мужской дух. Действительно, урбанизация жизни приводит к тому, что женщины вытесняются из сферы домашнего хозяйства и воспитания детей, ибо эти традиционные занятия становятся объектами современной экономики, и втягиваются в процесс производства. Это приводит к уменьшению рождаемости и трансформации семьи. Но и на эти очевидные кризисные события ученые дают позитивный ответ. Современная наука позволяет освободить женщин от выполнения репродуктивной функции. В связи с ухудшением экологической ситуации и ростом врожденных детских заболеваний, возникает проект постепенного отказа от тела и поиска неорганического носителя сознания. Угрожает ли существованию общества распад традиционной семьи? На самом деле она не ограничена функцией воспроизводства, а всегда подстраивается под нужды производства и эволюционирует в процессе цивилизации. Например, в классической буржуазной семье мать представляется как совокупность благ, а отец воплощает ограничивающее начало закона, который регулирует доступ к благам на основе затраченного труда. Если раньше для обоснования мужского господства философы ссылались на порядок бытия, то психоанализ Фрейда прибегает к ссылкам на «эдипов комплекс», который трактуется как априорный, т.е. присущий всем временам и народам. Очевидно, что центральную роль в продолжении рода играет женщина. Именно она зачинает, вынашивает, рождает, выкармливает и воспитывает ребенка. Нет ничего удивительного, что первоначально в роли богов выступали женщины- 140 Там же. С. 118. 152 матери. По мере утверждения мужского господства сложилась необходимость изменения мировоззрения, пересмотра традиционных мифологий. Первоначально разделение мужского и женского опиралось на метафизику теплого и холодного. Главным свойством души является теплота. Чем теплее душа, тем меньше нужно одежды. Повышению теплоты способствует и речь, которая заставляет загораться души энтузиазмом. Эти свойства тела базировались и на разделении полов. В Афинах женское тело считалось холодным и не общественным. Поэтому женщины носили одежду и сидели дома. Темное, изолированное пространство лучше соответствует их физиологии, чем залитая солнцем площадь. Впоследствии Аристотелем была создана концепция материи и формы, в которой главное значение придавалось духовному организующему принципу. Женщина как носительница материи, как необходимая сторона разделения труда, строго говоря, не участвует или, точнее, остается пассивной стороной творения. Соединение мужчины и женщины, разделенных на основе представления о технологической целесообразности, описывается на основе осуществляемых ими действий. Зачатие выступает как особого рода организованное движение, главную роль в котором выполняет мужчина, являющийся отцом ребенка. Аристотелевская метафизика выступает итогом реорганизации половых отношений в античной Греции. Именно в ней обосновывается приоритет мужского, как носителя активности и формы и вторичность женского, как носителя пассивной материи. Метафизика материи и формы Аристотеля остается действующей и сегодня. Иерархия мужского и женского переходит из сферы метафизики в сферу рациональности и морали. Деление на высшее и низшее, совершенное и несовершенное, плохое и хорошее, активное и пассивное, разумное и неразумное так или иначе и сегодня ассоциируется с разделением на мужское и женское. Их дифференциация становится особо эффективной тогда, когда из природной превращается в культурную. Сексуальная энергия «сублимируется» и используется в практиках воспитания. Аскеты и политические революционеры, поэты и ученые, так или иначе, получают творческую энергию из первоначального разделения полов, которое, подобно напряжению электрической батареи, питает их культурную деятельность. Психосоциогенез сознания Вопрос о природе сознания относится к одному из труднейших в философии. С одной стороны, факт наличия сознания является неоспоримым для любого индивида, с другой — попытки его определения приводят либо к тавтологиям, либо к ссылкам на то, что сознанием не является. Понимание сознания как внутреннего, данного интроспективно процесса, выдвигает проблему интерсубъективности. а объяснение его за счет сведения к внешним стимулам и факторам приводит к утрате его специфики. Слова известного психолога У. Джемса: «Вот уже 20 лет, как я усомнился в существовании сущего, именуемого сознанием»141, и сегодня могли бы стать эпиграфом основополагающих сочинений по психологии, в которых сознание сводится к отражающей, регулирующей и управляющей практической деятельностью функции. 141 Джемс У. Существует ли сознание? // Новые идеи в философии. М., 1910. № 4. С. 10. 153 Успехи объективистского подхода к анализу сознания не вызывают сомнений. Это и теория информации, и моделирование психологических процессов, а также достижения современной нейрофизиологии, которые удачно дополняются теорией интеракции (социального взаимодействия), теорией решений, теорией рационального действия и т.д. Суть данных подходов состоит в отказе от попыток описать внутренние процессы сознания, как они непосредственно даны человеку: относительно сознания он может заблуждаться точно так же, как и насчет внешних явлений. Содержание сознания зависит от познания окружающего мира, от языка, социальных и биологических кодов, организующих поведение. Такие теории оправданы тогда, когда не возникает вопроса о человеческой уникальности и индивидуальности, и достаточно изучать человека как рациональное животное. Однако в гуманитарных науках редукция сознания к его биологической или социальной основе оказывается неправомерной по той причине, что утрачивает специфику духовного опыта, и, прежде всего, таких его феноменов, как любовь и ненависть, страх и стыд, вера и покаяние, нравственная солидарность и насилие. Эти чувства невыводимы из каких-либо социальных или биологических структур и составляют неотчуждаемое достояние человека; они могут развиваться или деградировать в процессе цивилизации, но не возникают внезапно и не исчезают вовсе. Более того, наличие этих духовных первофеноменов является условием этики, эстетики, религии и других культурных дисциплин. То обстоятельство, что о человеке можно говорить тогда, когда он занялся трудом, усвоил язык и вступил в социальные отношения, а также обрел способность любить, верить, надеяться, страдать и наслаждаться, не означает, что все перечисленное как бы дано от рождения. Нормы коммуникации, духовные ценности и переживания складываются и развиваются в процессе социальной жизни и передаются от поколения к поколению как традиция. Однако современное общество, ориентированное на познание и просвещение, мало внимания уделяет формированию волевых, эмоциональных, мнемических, ценностных структур сознания. Между тем, необходимость исполнения социальных ролей, следование нормам и правилам поведения предполагает умение контролировать свою волю и телесные потребности, душевные аффекты и чувства. В силу репрессивного характера социальных требований современный человек оказывается перегружен стрессами, что ведет к депрессии и фрустрации или к перверсиям. Это свидетельствует о неэффективности «просвещенческих» методов работы с сознанием: знание причин вовсе не избавляет от душевных болезней, и, как это ни парадоксально, чаще всего именно иллюзия помогает человеку выжить. Категории души и тела, духа и плоти, сердца и разума сегодня редко употребляются в теории познания. Между тем, в свете современных проблем психиатрии стоит более внимательно отнестись к старому аппарату анализа сознания, образующему достаточно плотную сеть, гибко охватывающую сферу телесных, душевных и духовных феноменов. Категории тела, души и духа претерпели в ходе развития культуры значительную эволюцию. Античность характеризуется космологическим миропониманием, в рамках которого большое значение имело здоровое и гармонично развитое тело. Знание и культура строились в аспекте заботы о нем. Средневековье трансцендировало «дух», противопоставляя его «плоти», как греховному началу. Тело, а заодно и душевные страсти, аффекты, таящиеся в «сердце», оказались под подозрением. 154 Христианская забота о душе — это, прежде всего, радикальная деформация структуры сознания, центром которого становятся духовные ценности. В Новое время это место занимает разум, управляющий телесной и душевной машинами. В этот период складываются новые оппозиции: дух — материя, дух — природа. В первом случае дух трактуется как имматериальная субстанция, носитель сознания, во втором — как атрибут субстанции. На эвристические функции символики души и духа указывал К. Юнг. Анализируя сказки, сновидения и даже научные концепции, он пришел к выводу, что дух, выступающий в сказках в образе мудрого старца, дающего советы в затруднительных ситуациях, является непреходящим символом истории культуры, задающим ей творческую энергию.142 В отличие от духа, символизирующего мужское начало, душа выступает носителем женского начала, еще не окультуренного институтами собственности, семьи, права и т.п. и поэтому символизируемого стихиями воды и земли. Такая трактовка духа и души активно разрабатывается в феминизме: в силу того, что мужчина рождает не ребенка, а идею, как мужское начало реализуется в таких деяниях, как власть, познание, право, закон, производство, техника и т.п. Душа, напротив, выражает женское начало культуры, дающее рост всему природному, эмоционально значимому. Старая легенда о стране с молочными реками хранит историческое воспоминание о периоде матриархата, который, если говорить о последствиях основанной на патриархате цивилизации, выглядит более душевным, гуманным и природным.143 Христианское понятие духа вводилось в противовес плоти, которая трактовалась как низкое и подлое место, где таятся злоба и коварство, гнев и ненависть. Это оппозиция трансформировалась в концепцию, согласно которой хозяином сознания выступает разум. Вместе с тем, по мере развития психологии накапливался материал о непроизвольных действиях, непонятных фобиях, неврозах, свидетельствующий о том, что существует нечто независимое от рациональных целей, сопротивляющееся коммуникативным нормам, не поддающееся обсуждению или осуждению в рамках открытого дискурса. Это сопротивляющееся и в то же время анонимное начало сознания было названо бессознательным. Открытие бессознательного можно сравнить с коперниканской революцией, превратившей Землю из центра Вселенной в одну из небольших планет Солнечной системы. В сознании было открыто грозное и в какой-то мере опасное для разума начало, не признающее оппозиций Я и Другого, добра и зла, субъекта и объекта, истины и иллюзии и т.п. Познание его сопряжено с большими трудностями: к нему не применимы упорядоченные категории рассудка. Не случайно первобытные народы почитали и в то же время боялись одержимых, ибо ими властвует бессознательное. С одной стороны, они использовали их как оракулов, а с другой — стремились одеть сознание догматами, ограничивающими его эмоционально-образную стихию. Душа (погречески «псюхе») — нечто, что порхает от цветка к цветку (лат. «анима», пламя), является символом бессознательного. Все, что касается анимы, тщательно табуируется в культуре. Анима — выражение женского, русалочьего (так эволюционировало значение этого слова), она — как бы змея в раю Jung С.G. Zur Phenomenologie des Geistes im Marchen // Bewusstes und Unbewustes. Frankfurt am Main, 1977. S. 92. 142 143 Moltmann-Wendel E. Das Land, wo Milch und Honig flisst. Gutersloh, 1987. S. 11. 155 рассудка и порядка, угрожающая моральным устоям общества. Она ближе к телесному, где нет резких оппозиций добра и зла, где нескромность здоровее, чем нравственные запреты. Многообразие видов и форм духовного опыта, накопленного в традиционных культурах, современное общество редуцировало к научному познанию, связанному с реализацией теоретических моделей в человеческом и природном материале. Рационализация жизни и техническое покорение природы громко манифестируется, но кроме упрощенных идеологических лозунгов типа «знание — сила» существуют изощренные практические приемы, направленные на превращение природы в сырье для удовлетворения потребностей, на преобразование естественной системы влечений и желаний в машины потребления продуктов технической цивилизации. Объективный, лишенный ложного морализаторства анализ показывает, что человек как рациональное существо планирует и желает того, что осуществимо имеющимися в его распоряжении техническими средствами, следует в своей жизни нормам поведения, отвечающим требованиям наличной общественной системы. Но почему же тогда человек так страшится своих созданий, боится утратить себя в своих творениях? Почему одной из нервирующих проблем нашего времени становится проблема отчуждения? Не свидетельствует ли это о том, что внутренняя человеческая природа протестует против насильственной идентификации с общественной системой, навязывающей необходимые для ее функционирования специфические формы ментальности. Между тем люди стремятся сохранить свое Я и аутентичные душевные переживания, а в стрессовых состояниях они прибегают к медикаментам и алкоголю, чтобы восстановить утраченное равновесие. Вера в «естественность» чувств, настроений, в их правдивость опирается на опыт жизни, включающий, прежде всего, становление чувства тела, адаптацию с внешней средой и навыком владения орудиями. Конечно, феноменологическое чувство, отличающее некоторый душевный и телесный опыт в качестве естественного и аутентичного, не является, строго говоря, адекватным, так как оно тоже продукт цивилизации. И все же оно достаточно четко фиксирует противоположность различных типов чувствительности и душевности, формирующихся в традиционной жизненной практике при исполнении человеком ролей и функций социальной машины. Такое противоречие — неизбежное следствие развития цивилизации, которая включает рационализацию психического опыта, использование его энергии для функционирования общества. Вместе с тем, решение данного противоречия предполагает и некоторый компромисс, ибо полное подавление «пассионарности» приведет к тому, что общество лишится людей, способных его защищать и развивать. Любая общественная система держится не только на рациональной экономике, политике, технике, социальной организации, но и предполагает специфический менталитет, выражающий умонастроения людей, их чувства, ценности, идеалы. Издатели журнала «Одиссей» писали в своей программной статье: «Объективные предпосылки человеческой деятельности не действуют автоматически; люди должны так или иначе воспринять и осознать их для того, чтобы превратить в стимулы своих поступков. "Субъективные" же эмоции, идеи, предоставления, верования оказываются мощными факторами 156 общественного поведения человека». 144 Понятие менталитета, активно используемое в современном общественном дискурсе, призвано восполнить упрощенную модель сознания, в которой господствующим центром выступает рациональность, к тому же смоделированная по образцам инструментального и целерационального действия. Это понятие охватывает не только знание, мировоззрение, идеологию, но и эмоционально-образные, духовно-ценностные, волевые акты сознания. Менталитет включает и историческую феноменологию телесности, характеризующую машину влечений и желаний тела. Формирование менталитета не исчерпывается ссылкой на просвещение или рациональный дискурс. Это хорошо подтверждает неэффективность научной критики разного рода суеверий, предрассудков, верований и т.п. Как бы ни стремились объяснить их страхом, невежеством, иллюзиями, все эти аргументы не проникают в ту специфическую ткань сознания, которая сплетена из эмоциональных переживаний, желаний, иллюзий и надежд. С аналогичными проблемами сталкивается и социальное просвещение, стремящееся обосновать законы, право, мораль, как продукты рационального обсуждения и договора, принимаемые для самосохранения человеческого рода. Историки, например, постоянно сталкиваются с какой-то непостижимой природой власти и государства, явно не сводимой к тем рациональным функциям, через которые они определяются наукой. Если институты власти и их центры созданы для регулирования отношений между различными группами, для закрепления прав и обязанностей, чтобы каждый не притязал на чужое и не защищал свое силой оружия, а прибегал к защите закона, то почему тогда власть непременно стремится овладеть душой и телом человека? В архаичных или тоталитарных режимах центральную роль в формировании общественного единство играет вождь, который, как правило, является невротической и даже патологической личностью, и именно в силу этого обладает «соборной» силой, канализирующей человеческий энтузиазм в нужном направлении. Опыт парламентских организаций также показывает, что принимаемые законы вовсе не являются продуктами чистого разума, а, скорее, выражают некоторое равновесие сил и воль общественных групп, достигаемое в жизненной борьбе. Парламентская риторика — суть вторичный процесс; однако и она отличается от теоретических дискуссий, ибо постоянно апеллирует к моральным нормам, традициям, настроениям и желаниям избирателей, включает в себя множество неанализируемых предрассудков и стереотипов массового сознания. Повсеместное онаучивание всех областей жизни базируется на квантификации, классификации и манипуляции сферой опыта, который сложился в процессе исторической адаптации к природе и коммуникации между людьми. Поскольку такой опыт выступает одновременно и фундаментом познания, то замена его идеологическим или рационально-научным дискурсом может привести к ослаблению социально-политических институтов, питающихся духовной и психической энергией людей. Ученые и философы эмпирической ориентации, как известно, настаивали на приоритете опыта, понимая его как некую форму соприкосновения с самой реальностью, как единственный источник знания. Считалось, что наблюдения и восприятия, осуществляемые индивидом с нормальными органами чувств, не могут оказаться ложными: заблуждения возникают из-за неправильных 144 Человек в истории // Одиссей. М., 1989. С. 6. 157 интерпретаций, поспешных обобщений, субъективных пристрастий и т.п. Что касается рационалистов, то они также выводили из зоны критики разум и источник лжи усматривали в аффектах тела и страстях души, искривляющих зеркало сознания. При всем различии культ разума и эксперимента оставался объединяющим началом: опыт эмпиристов оказывается разумным, а теория рационалистов — реализуемой. Опыт у эмпиристов имеет весьма мало общего с концепцией спонтанной чувственности, ибо «нагружен» теоретическим содержанием мере его концептуализации и символизации. Точно так же теория — не простое умозрение, а конструирование идеальных объектов, которые затем реализуются экспериментально. В обоих случаях речь идет о производстве искусственных технических систем, в которых при определенных контролируемых параметрах устанавливаются законообразные отношения между объектами. Отсюда вывод: законы существуют не в природе, а возникают в то время и в том месте, где путем экспериментального или технического выполнения теоретически требуемых условий создаются искусственные объекты с контролируемыми и регулируемыми взаимосвязями. Это дает основания утверждать, что отражение объективной реальности — суть вторичная задача научного познания, выполняемая лишь настолько, насколько это необходимо для решения проблемы реализации теории. Лишь негативный опыт свидетельствует о неподвластности сущего и о самостоятельности законов природы, сопротивляющейся попыткам технического насилия над нею. До некоторой степени аналогичную игру естественного и искусственного опыта можно наблюдать и на примерах преобразования социальной действительности. Успехи реализации идеализированных моделей механики вдохновляли попытки общественных деятелей, проповедников морали и революционеров на создание некоторых рациональных искусственных систем, обеспечивающих справедливость, в которых люди выступали бы сознательными исполнителями общественно предусмотренных ролей и функций. Однако жизнь существенно ограничила эти попытки. Социальные науки вынуждены опираться на стихийный исторический опыт и обыденное сознание. Поэтому их формирование по образцу естественнонаучных теорий выдвигает серьезные трудности. Как сконструировать социальный мир, пригодный для человека, как воплотить его на практике, как устранить насилие и построить идеальный миропорядок, воплощающий принципы добра и справедливости? Ф.М. Достоевский, согласно которому просвещение неспособно сделать поступки людей разумными, писал в «Записках из подполья», что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевают ему разум и выгода. Помимо духа и разума в человеке действует смутная сила души и немая, но властная стихия тела. Душевно-телесные импульсы обычно противопоставляются разумным запретам и рассматриваются неисторически. Это препятствует пониманию механизмов взаимодействия телесного и духовного, которое определяется общественной дифференциацией. В ходе воспитания и образования формируются не только знания, но и способы, нормы и образцы выражения чувств, переживаний, влечений и т.д. Каждая эпоха создает свой тип героя — завоевателя, рыцаря, придворного, буржуа, пролетария и т.п., — обладающего не только определенной идеологией, но и ментальностью. Каждая общественная система должна решить задачу формирования субъектов, обладающих чувством патриотизма, верой в разумность общества, готовностью исполнять социально 158 значимые роли, мужеством и решимостью отстаивать и бороться за идеалы и ценности. При этом важно вытеснить негативные естественные чувства (страх, лень, отвращение), но сохранить питающую их энергию и использовать для реализации социально значимых переживаний. Однако сегодня попытки государства внедриться в сферу приватной жизни приводит к отрицательной реакции людей. Это вызвано, с одной стороны, индивидуализмом людей, а с другой –– отрывом государства от нужд простых людей. Тоска, скука, отвращение к общественным ценностям угрожают существованию общества не меньше, чем внешняя опасность. Если процессы формирования общественного и индивидуального сознания более или менее изучены, то влияние общества на душевные переживания или телесность человека не только не изучено, но и вообще оспаривается. Считается, что тело и чувства подлежат контролю на основе сдерживающих их аффективность разумных ограничений. Однако диалектика духовного и телесного не исчерпывается надзором и репрессивностью, а включает достаточно изощренные механизмы изменения феноменологии тела. Культура стыда и чести Культуролог Н. Элиас в своей большой работе «О процессе цивилизации. Социогенетическое и психогенетическое исследование» рассматривает цивилизационный процесс не как запланированный разумом и целенаправленно осуществляющийся в науке и технике результат человеческой деятельности, а как переплетение на уровне повседневной жизни разнообразных практик воспитания, познания, труда, власти. Реорганизация человеческих отношений, осуществляющаяся в ходе эволюции власти, «цивилизует» человеческое поведение в определенном направлении. Образование центров монополии власти ведет к уменьшению личных зависимостей, к расширению круга лиц, опосредующих отношения господства и рабства в форме «власти над телом» правовыми нормами в форме «власти над душой». Этим «цивилизуются» не только внешний вид и поведение, но и намерения, чувства и переживания человека. Особенно большой вклад в этот цивилизационный процесс внесло придворное общество: манеры поведения, речь, этикет, сдержанность и самодисциплина стали образцовыми для последующих вступающих на арену истории движущих классов и слоев общества. Моделирование психического аппарата, «рационализация» переживаний и «психологизация» идей находятся в тесной связи с изменениями общественного устройства. Стремления и усилия отдельных людей могут совпадать или быть разнонаправленными, однако историческим фактом является то, что в результате сложения в общем целенаправленных и рациональных действий отдельных людей возникает такой порядок, которого никто не предусматривал и не планировал. «Этот порядок, –– писал Элиас, –– не рациональный (если под "рациональностью" понимать возникающее подобно машине целенаправленное согласование человеческих усилий в одном направлении), ни иррациональный (если под "иррациональностью" понимать нечто возникающее спонтанно и беспричинно). В сравнении с человеком он может определяться как природный или естественный порядок, и как то, что Гегель назвал сверхиндивидуальным "духом"... Однако нельзя не сказать, что "дух" и "природа" в равной степени оказываются недостаточными для объяснения цивилизационного процесса»145. 145 Элиас Н. О процессе цивилизации. М., 2003 Т. 2. С. 314. 159 Если попытаться дать простой образ, характеризующий процесс цивилизации, можно сравнить поведение человека на пустынной дороге и на улице большого города. Продуваемая ветрами и поливаемая дождями ухабистая лесная дорога символизирует простое, основанное на натуральном хозяйстве военизированное общество. Главная опасность на ней –– разбойники или хищники, и поэтому путник все время готов схватиться за оружие. Его телесный «габитус» и психический аппарат «выдрессированы» на самосохранение жизни в прямой и открытой борьбе. Напротив, структура городского ландшафта задает совсем иную модель психики. Здесь опасность разбойного нападения сведена до минимума, но зато многократно увеличивается возможность попасть под колеса автомобиля или натолкнуться на встречного прохожего, а это приводит к усилению сдержанности, самодисциплины, предусмотрительности. В современном обществе главная опасность состоит в неконтролируемых аффектах, под влиянием которых человек может совершить незапланированное, нерациональное и тем самым социально опасное действие. Дифференциация людей, все возрастающая степень взаимозависимости и необходимости согласованных действий приводят к возрастанию самоконтроля и самопринуждения. Именно в этом цивилизационном процессе, а не в истории «чистого разума» следует искать причину победы рациональности, расчетливости и экономичности в нашу эпоху. Кроме того, эта победа не приводит к полному изгнанию аффектов, желаний и фантазмов. Они тоже модифицируются. Если воображаемое для средневекового человека было тождественным реальному, и он строил свое поведение в соответствии с символическими культурными кодами, то, начиная с Нового времени, граница между реальным и иллюзорным, субъективным и объективным проводится поновому. Формируя критерии рациональности в соответствии с политикоюридическими и экономическими потребностями, общество вынуждено фиксировать и даже производить нерациональное и неэкономичное, антиобщественное и наказуемое. Специальные учреждения –– тюрьмы и больницы наполняются лицами, поведение которых отклоняется от общепринятого. Внутри самого человека задается переживание противоречия плотского и духовного, разумного и неразумного. Страх телесного наказания, усиленно культивируемый в традиционных обществах, в частности, процедурой публичной казни, по мере развития косвенных связей между людьми, конкуренции и соперничества как внутри, так и между группами, приводит к совершенствованию чувствительности, вследствие чего формируются более тонкие формы репрессии — стыд, неловкость, грех, вина и т.п. Если в страхе всегда есть нечто животное, родовое, и поэтому страх телесного наказания культивируется в патерналистских обществах, основанных на личностных отношениях, то чувство стыда уже связано с некоторыми формальными отношениями. Из-за страха потерять уважение в глазах окружающих человек весьма озабочен своим внешним видом, манерами, речью, поведением и т.п. Страх и разумность вовсе не исключают друг друга. Отсутствие страха не случайно характеризуется как безрассудство. Поэтому можно даже предположить, что страх является не чем иным, как формой рационализации чувственности, способной приостановить аффективное поведение. Не удивительно, что страх культивируется не только на индивидуальном, но и на общественном уровне. Сегодня именно благодаря разумности возникает страх войны, экологической катастрофы, эпидемических заболеваний и т.п. 160 Дополнительность страха и разума была выявлена экзистенциальной философией, представители которой парадоксальным образом использовали страх перед ничто для доступа к подлинному бытию. Доказывая существование ничто ссылкой на ужас, охватывающий человека перед бездной, Хайдеггер, по сути дела, воспроизвел религиозный опыт страха перед леденящим душу взором Бога-судьи. Таким образом, страх не только преодолевается по мере развития общества, но, напротив, тщательно культивируется. Человек, переживший в детстве опыт страха, получает мощную психическую энергию, которая может служить носителем высших духовных ценностей. Формирование чувства стыда и чести обычно относят к средневековому обществу, высшие представители которого при помощи этих чувств регулировали и контролировали свое поведение. Они основаны на значительно более высокой степени дальновидности и расчетливости, чем это имеет место в спонтанном чувстве страха. Конечно, чувство стыда и чести имеет более глубокие корни и наблюдается в развитой форме уже в античном обществе. Оно является исторически изменчивым, и этнографические исследования свидетельствуют о значительном разнообразии того, чего стыдятся люди в различных культурах. В принципе, чувство стыда — особая «тонкая» разновидность страха, основанная на дальновидности и расчете, подавлении непосредственных влечений из-за возможности общественного осуждения. Стыд — состояние промежуточное между страхом и виной. Вина и следующее за ней раскаяние связаны с проступком, с сознательной рефлексией и моральным осуждением. Нравственное значение покаяния заключается в примирении, ибо нераскаявшийся преступник остается постоянной угрозой для общества, которое в случае отсутствия практики покаяния вынуждено постоянно наращивать репрессивный аппарат телесного насилия. Покаяние как форма самопринуждения открывает возможность установления более либеральных и демократических форм общественного устройства. Чувство стыда позволяет пресекать в зародыше возможность асоциального поведения. Оно основано на страхе попасть в унизительное положение перед другими, на повышенной чувствительности к своей неправоте, боязни собственной деградации. Стыд преодолевается иначе, чем страх, который нейтрализуется либо уничтожением источника опасности, либо замещением его другими чувствами. Стыд исходит как бы изнутри человека. И голос совести остается постоянным двойником индивида, осуждающим не только проступки, но и побуждения к ним. Стыд, таким образом, это не просто конфликт внутреннего и внешнего, а состояние сознания, характеризующееся напряжением отношений между Я и Сверх-Я. Абстрактное отношение индивидуального и неиндивидуального переживается человеком как моральный конфликт, который, в свою очередь, базируется на энергетическом потенциале телесной угрозы и наказания или чувства любви и уважения к другому. Стыд –– это осуждение со стороны другого, перенесенное в план самоутверждения и самоуважения; его интенсивность связана с опытом страха, перенесенным в детстве, и последующим опытом любви и уважения к взрослым. Уменьшение страха телесного наказания и интенсификация стыда свидетельствует о трансформации принуждения в самопринуждение и позволяет говорить о возрастании уровня цивилизованности ролей. Здесь самоконтроль и самодисциплина из инструмента сохранения стабильности общества и его законов становится средствами самосохранения и 161 самоутверждения человека в качестве полноправного представителя общества или социальной группы. Благодаря этому социальные коллективы существуют не только в силу внешних принудительных связей, но и благодаря духовной интеграции и идентификации. Чувство стыда, эволюционирующее к формированию общественного мнения, становится мощным регулятором социального поведения. Некоторые критики европейской культуры обращают свой взор к Востоку, где развита индивидуальная психотехника подавления влечений и желаний. Она кажется актуальной в связи тем, что европейская культура ориентирована на покорение и преобразование природы с целью удовлетворения своих потребностей, но, как кажется, совсем не располагает способами их ограничения. Одна если обратить внимание на мощный механизм общественного мнения, имеющий опору в чувстве стыда и страха потери самоуважения, нетрудно заметить, что цивилизационная система самоконтроля, скованная на самоосуждении, ничуть не менее эффективна, чем восточная аскетика. Например, проблема курения в европейских странах успешно решается не столько путем тренировки воли по системе йоги, сколько моральным осуждением со стороны некурящих, которые задают невыносимую систему отторжения курильщиков от здорового респектабельного общества. Чувство стыда тесно связано с рационализацией жизни и дифференциацией индивидуального сознания, которое своим развитым аппаратом Сверх-Я, Я и Оно способно выполнять две очень существенные функции. С одной стороны, предельную рационализацию поведения, исключение аффективных действий и планирование поступков, просчитанных на несколько шагов вперед, учитывающих сложные опосредованные взаимосвязи с другими людьми в сложных дифференцированных общественных системах, с другой — самодисциплину, самонадзор, упорядочивающие внутреннее Я. Отсюда рационализация –– управление «внешней политикой» (поступками), а стыд и моральная педантичность –– управление «внутренней политикой» (склонностями, побуждениями и мотивами). Важнейшей составной частью механизма саморегуляции является Другой не контрагент действия или противодействия, а наблюдатель испытывающий чувство неловкости. Я испытываю стыд. Другой — неловкость. Оба чувства предполагают страх перед нарушением общественных запретов. Поэтому становление и развитие данных чувств связано с изменением пространства опасности и его структуры. Для первобытных людей оно идентично с дикой неокультуренной природой, с чужими людьми. В ходе общественного развития происходит дифференциация этой территории опасности, формируется различие в восприятии ее отдельных зон. Так, например, охотник не просто боится леса в целом, но выделяет в нем особо опасные участки. По мере специализации и разделения труда, с возникновением городских сословий природный ландшафт перестал быть полем труда и битвы и включился в пространство отдыха. Становится возможным наслаждение от красот природы, которая приобретает линии, краски, формы, имеющие эстетическую, а не, скажем, военную ценность. Таким образом, с исчезновением разбойников, диких опасных животных, по мере окультуривания лесов и распашки земель существенно меняется феноменология восприятия природы. Точно так же меняется сектор страха, который вызывает один человек у другого. Если раньше всякий чужак воспринимался как потенциальный противник, автоматически включавший машину страха или агрессии, то по мере 162 расширения взаимосвязей между различными группами опасность чужого также воспринимается дифференцированно. В мирном цивилизованном обществе другой воспринимается с точки зрения внешнего вида, манер, жестов, речи, намерений, поступков и т.п., зона опасности возникает в случае утраты самоконтроля или нарушения общепринятых норм приличия. Под подозрением оказывается внутренний мир другого: что он задумал, каковы его намерения, чего он хочет. В силу этого необычайно развивается наблюдательность, восприимчивость к косвенным признакам тайных намерений, на этой базе складывается и все более утонченная эстетика наслаждения и отвращения, сопровождающая отношения Я и Другого. Она хорошо представлена в искусстве словесного портрета, укорененном в жизнь придворного общества с его интригами, победа в которых связана не столько с умением владеть шпагой, сколько с манерами, речью, искусством читать по глазам и т.п. При этом важно отметить, что первичные жестокие чувства не исчезают в цивилизованном обществе, но проявляются в определенных критических ситуациях, например, во время войны, и в силу этого же специально поддерживаются в специальные дни. Историк культуры Н. Элиас описывает одно из характерных для Парижа ХVI в. зрелищ: под грохот музыкальных инструментов при большом стечении народа, в присутствии двора в честь праздника было сожжено две дюжины живых кошек.146 Насилие и жестокость как необходимые качества военизированного общества должны были специально культивироваться. Например, рыцарский менталитет до сих пор описывается через призму романтических представлений.147 При более глубоком проникновении в психологию средневекового общества сначала поражает тот факт, что тонко воспитанное рыцарство было довольно трусливо на войне: число участников и погибших в рыцарских войнах не идет ни в какое сравнение с потерями регулярных армий; рыцари не были героями, способными стоять под пулями, они в этом смысле были нормальными людьми, не способными подавить страх. Другое поражающее исследователя рыцарского этоса обстоятельство — безжалостное убийство мирных жителей и проявляемая при этом свирепая жестокость. Существовал кодекс рыцарской чести, запрещавший убивать поверженного и просившего пощады противника в поединке, однако он не действовал в отношении мирного населения завоеванных городов. Культивация наслаждения от убийства была вызвана экономической нецелесообразностью использования пленных: Европа была перенаселена, нужны были пустые земли, а не рабы; оставить город не разрушенным, а жителей не умертвленными значило оставить возможность ответной агрессии. Буржуазное общество, построенное на иных экономических основах, представляющее собой более разветвленную сеть социальных межнациональных взаимодействий, основанное на регулярных армиях, центральном законодательстве, полиции, прессе и т.п., заимствует демонстративный этос рыцарства, применимый к избранному обществу, и переносит его на все сферы жизни. Небольшие островки тонкой рыцарской чувствительности разрастаются до размеров архипелага, и это вызывает серьезную проблему подавления витального и агрессивного опыта. Она решалась христианскими практиками исповеди и покаяния, методической 146 147 Там же. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987. 163 техникой самоанализа и самодисциплины в протестантизме и, наконец, дошедшими до современности методами психоанализа. Наряду с этим остался незамеченным процесс подавления, а точнее — отказ от культивации витальных чувств на уровне повседневности. Это привело к удивительному факту, зафиксированному в психологии: современный человек характеризуется не столько избыточностью, сколько дефицитом чувствительности. Культура, воспитание, педагогика по традиции используют репрессивную технику подавления чувственности, однако она оказывается бесполезной, ибо современный человек нуждается скорее в раскрепощении, чем в подавлении витальной сферы чувств. Снижение чувственной энергии расценивается историками, культурологами, политологами как настоящая трагедия. По мнению Л.Н. Гумилева, «пассионарность» — необходимое условие существования этноса. К. Юнг также считал, что современное человечество растратило сокровища, веками культивируемые нашими предками в форме духовного опыта переживаний и страстей. Социологи видят угрозу в утрате личностных связей и чувств, которые скрепляли людей в традиционном обществе. Утрата страстей и влечений разрушает игру греха и покаяния, на которой спекулировала власть. Может быть, поэтому современное общество инстинктивно предпринимает попытки реанимации чувственности в форме производства дискурса насилия, извращения, ужасов и т.п. Искусство любви Философский дискурс о любви развивается на культурной почве, исследование которой — необходимое условие понимания тех или иных теоретических моделей. В свою очередь, философское и, особенно, художественное моделирование жизни не остается простой «надстройкой», а будучи реализованным в сознании и поведении людей, вплетается в ткань цивилизационного процесса. Поэтому разделение между, так сказать, житейскими практиками любви, наставлениями на эту тему и философскими, научными концепциями, а также литературными описаниями страстей и переживаний оказывается механическим. На самом деле имеет место эволюция дискурсов о любви, но такая, в которой старое не отрицается, а сохраняется. Сравнивая старинные наставления и поучения об искусстве любви и жизни с современными философскими рассуждениями или научными рекомендациями, можно констатировать значительное расхождение целей и ориентации этих дискурсов. Старинные учителя жизни ориентировали учеников на познание и изменение самого себя. Преодолеть лень, рассеянность, склонность к аффективным действиям, научиться концентрировать волю и внимание, терпеливо переносить трудности и не бояться смерти — все это предполагало не только теоретические, но и практические занятия гимнастикой, диетику, аскетику, т.е. совершенствование не только познания, но и тела. Напротив, современные ученые и моралисты исходят из понятия о всеобщем субъекте, принятие функций которого связано уже не просто с культивацией телеснодушевной природы индивида, а с ее вытеснением. Высшие духовные чувства хотя и питаются энергией витальных переживаний, однако не выводятся из них. Поэтому всякая культура, в том числе и современная, должна наряду с познанием разрабатывать специфическую технику, благодаря которой оказываются возможными подавление или селекция витальных переживаний, своеобразное очищение души для подготовки места 164 для высших ценностей. В дохристианской культуре отречение от витального Я происходило ради спокойствия души. Поэтому наставления об истине, благе, любви озаряли жизнь субъекта, давали мудрость и свободу. При этом человек не ставится в центр Вселенной, а понимается как ее часть, соответствующая целому. На первом плане познания стоит проблема приспособления к органическим кодам и ритмам, а не технического покорения природы. Начиная с христианства духовные практики трансформируются из заботы о себе в отречение от себя: истины, которые открывает ученый-аскет, уже не предназначены какому-либо отдельному человеку, они для всех и в то же время ни для кого . Люди утрачивают осторожность, необходимую при производстве, передаче и использовании знания. Знание становится высшей ценностью и мотивом жизнедеятельности. Это предполагает особую практику, прививающую способность получать наслаждение от познания. Душа и тело современного человека вовсе не предоставлены самим себе. На самом деле на каком-то скрытом от познания уровне происходит массированная переработка и трансформация человеческой субъективности с целью создания людей, способных выполнять функции и роли социальной машины. Современная практика работы с телом и душой уже не связана с аскезой, очищением, отречением, преображением и т.п., она не пользуется также испытанными методами телесного наказания и угрозы. Конечно, существует крайне редуцированный опыт наставничества и воспитания, передаваемый от старших младшим. Но в целом господствует просвещенная педагогика, основанная на передаче знания. Все это заставляет сделать предположение, что современная культура опирается на дискурс, который является универсальным средством познания, образования и воспитания. Классическим образцом дискурса наставлений в искусстве жизни являются «Нравственные письма к Луцилию», написанные Сенекой своему молодому другу. Главное, поучал Сенека, найти свое место и оставаться самим собой. Эти советы кажутся смешными в эпоху все ускоряющегося темпа труда и развлечений, увеличивающегося числа все более поверхностных контактов и значительных расстояний, преодолеваемых в поисках работы и отдыха. Но именно в этих условиях обостряется проблема сохранения самого себя, возвращения своей сущности посредством неторопливой медитации или воспоминаний. Как уберечься от полного растворения в потоке повседневных дел? Такая постановка вопроса может показаться эгоистичной, но разве забота о себе не является условием проявления заботы о других? Сегодня, как и во времена Сенеки, самосохранение невозможно вне участия в общественном разделении труда. И все же главное, советовал Сенека, не стремиться к лишнему и не бояться смерти. Ради мудрости можно пожертвовать достатком, ибо к философии можно прийти и не имея денег на дорогу. Сенека учит не бояться одиночества. Именно благодаря ему человек способен обрести себя и прийти к потребности в близком друге. Человек живет как страдающее и вожделеющее существо, руководствующееся своими страстями. Его сердце исполнено любовью и ненавистью, обидой и сентиментальным прощением. Благодаря им человек привязан к семье и обществу, земле и роду. Только поверхностный человек может рассчитывать на то, что эти чувства можно устранить и сделать руководителем поведения разум. Семейная и общественная жизнь повсеместно реализуются в каких-то своеобразных «фигурах», среди которых можно назвать не только любовь или примирение, но и борьбу, скандал, обман, измену, недоверие и т.п. Эти 165 «фигуры» сменяют друг друга в жизненной драме по своей собственной «логике», правила силлогизма которой образованы часто неосознаваемыми глубинными стремлениями типа фрейдовских Эроса и Танатоса. И все-таки нельзя отрицать, что человек всегда стремится поступать разумно и оправдывать свои действия. Разум, на основе которого Сенека хочет достичь спокойствия и бесстрастия, понимается им иначе, нежели в современной культуре. Прежде всего, это выражается в разработке его не как средства манипуляции другими, а как медикамента индивидуального спасения. Инструментальный рассудок не подвергает сомнению родовые чувства и социальные ориентации, он лишь намечает наиболее эффективный путь их реализации и достижения намеченных целей. Разум Сенеки — это способность к критической рефлексии наиболее фундаментальных предпосылок, в рамках которых возникают и решаются житейские проблемы. Например, инструментальный разум ориентирует на создание таких руководств, которые описывают прагматические действия, направленные на достижение богатства, власти, удовольствия от жизни и т.п. Напротив, рефлексивный разум подвергает сомнению сами ценности и ориентиры социального жизненного мира. Но не только это. Сенека отличается от современного леворадикального интеллектуала тем, что на место подвергнутых критике и отрицанию предрассудков, переживаний, чувств и настроений стремится поставить другую ментальность. Чувствам он противопоставляет не чистый разум, а другую феноменологию тела и души, дающую спокойствие перед лицом несчастий, ударов судьбы, старости, болезней и, наконец, смерти. Отсюда своеобразие дискурса «Писем». Это не научный и не метафизический трактат, в систематической доказательной форме исследующий страсти и заблуждения, противопоставляющий им иерархически организованную структуру понятий. Погоне за удовольствиями, славой, богатством, властью, в которую включены и рациональные рассуждения о средствах их достижения, Сенека противопоставляет другие жизненные реалии: болезнь, несчастье, старость и смерть. Интенсификация этой «танатологической» стороны сознания, тщательное, хотя и несколько занудное описание ее средствами языка и составляют основой техники, которая служит работе над собой. Меланхолические размышления о бренности славы, мимолетности молодости, преходящести чувственной любви и т.п. как бы раздвигают здесь бытие во времени и формируют новую ментальность, основанную на осознании смертности. Концепция Сенеки является по сути своей глубоко «экологической», так сказать, ресурсосберегающей: прожить жизнь рационально — значит прожить ее с наименьшими затратами на других и с большей пользой для себя. И это не эгоизм, ибо нормальный, здоровый, лишенный агрессивности индивид гораздо полезнее для общества, чем «пассионарий», ориентированный на завоевание мира. В рамках традиции, культивирующей искусство жизни, формируется дискурс любви, также существенно отличающийся от ее художественных описаний или научных объяснений в современной культуре. Классическим образцом его по праву считается «Наука любви» Овидия. Эта книга воспринималась по-разному и, видимо, наиболее частым является понимание ее как наставления по эротике. Специфика Овидиевого искусства любви состоит в ориентации на нормальные человеческие отношения, лишенные излишней идеализации и романтизации. Хотя это искусство не связано с введением мистических, демонических или возвышенно лирических чувств и переживаний, его нельзя сводить и к 166 демонстрации техники секса. Сам Овидий видит задачу в том, чтобы обобщить и передать молодым в виде истин о любви свой опыт покорения женщин, т. е. знания о получении эротического наслаждения. С одной стороны, он опирается на исходное влечение, присущее людям от природы, с другой — стремится создать особую чувствительность к Другому, позволяющую длительное время, независимо от капризов любовного инстинкта или порыва, получать наслаждение от общения и совместной жизни. Как возможна любовь, как можно говорить или писать о любви? Эти вопросы, как кажется, свидетельствуют о недостатке сообразительности или о неопытности. Любовь — это естественно присущее любому человеку чувство, и каждый по-своему когда-нибудь его переживал. Однако сравнение различных описаний этих переживаний показывает, что они возникают не сразу и не автоматически, что они даже не подчиняются чисто внешним обстоятельствам, а связаны с какими-то внутренними установками и механизмами сознания. Как бы ни был физически совершенен предмет любви, влюбленный проделывает большую работу по его конструированию, идеализации, очищению и т.п. Даже эротическое чувство не является непосредственно данным, оно специально интенсифицируется, наделяется положительными или отрицательными свойствами (любовь-обладание или любовь-страдание) и поэтому подлежит тщательной шлифовке, включающей выработку приемов тонкого обхождения, совершенствование и постановку оптики (влюбленного взгляда), изменение внешнего вида, манер и т.п. Особая проблема — язык любви. Влюбленные, как правило, безъязыки и могут только бесконечно утверждать «я тебя люблю» или бесконечно спрашивать «ты любишь меня?». Не случайно все сочинения о любви — это либо истории, воспоминания о прошлой любви, либо наставления и исследования, которые также написаны дистанцирующимися от переживания любви авторами. И все же сравнительно с такими сочинениями «Искусство любви» Овидия выигрывает в том отношении, что опирается на широкое понимание языка любви, включающего не только речь или письмо, но и взгляды, жесты, прикосновения, позы и т.п. Семиотическое значение приобретает внешность, лицо, глаза, волосы, одежда и даже предметы и обстановка, в которой живут любящие. В конечном счете, любовная коммуникация представляется как сложная игра, включающая в себя разнообразие правил, выполнение которых приводит к обоюдному наслаждению участвующих в ней партнеров. Согласно Овидию, это игра состоит из нескольких этапов. Прежде всего, необходимо выбрать предмет любви. Овидий дает подробные рекомендации относительно места и времени, в пространстве которых удобнее всего осуществлять «охоту». Выбрав угодье, следует соответствующим образом настроить зрение, слух и обоняние для того, чтобы интенсифицировать чувствительность к предмету любви. В отличие от романтически-лирических требований к возрасту, внешности и социальному происхождению (благородству) влюбленных, Овидий никоим образом не связывает любовь с фиксированными представлениями об объекте, в соответствии с которыми романтик стремится подобрать реального человека (и поэтому всегда ошибается). Влюбленный в какой-то мере сам создает образ объекта своей любви или, как выражается Овидий, выбирает его из существующего многообразия, отвечающего любому вкусу. Следующая задача — добиться любви. В принципе, поэма Овидия имеет и инструментально-методологическое назначение: индивидуум нормальной 167 внешности, среднего ума и достоинств может при помощи соответствующей техники вызвать любовь у любого другого лица противоположного пола. Овидий исходит из того, что безмолвная страсть кипит в сердце каждого и, если учитывать специфику ее проявления у мужчин и женщин, можно, не прибегая к насилию, достичь обоюдного удовольствия. Женщины — скромнее, тогда как мужчины — откровеннее; но первые — жарче и безумнее, вторые же помнят о мере и законе, они более расчетливы и экономны. Учитывая это, мужчины должны проявлять терпение и осуществлять целый ряд обходных маневров. Овидий советует заручиться поддержкой служанки, которая может нашептать госпоже в нужные моменты о достоинствах ухаживающего, приносить от него записки. Далее нужно переходить к преследованию, сопровождать его томными взглядами, вздохами и нежными прикосновениями. Мало разбудить эротическое чувство, важно направить его в нужном направлении, именно на подателя писем, а не кого-либо другого. Особенно опасайся друзей, наставлял Овидий, которые берутся играть роль посредников. Как превратиться из влюбленного, из одного среди многих поклонников в любимого? Овидий предлагает прежде всего неутомимо изображать преданность. Для того, чтобы стать из заурядного любимым, нужно обратить внимание на свою внешность: не дешевое украшательство, а опрятность, чистота, приятный запах, достойный и немного печальный облик — вот что подобает влюбленному. Овидий не советует терроризировать любимую жалобами и откровенным проявлением чувств. Важнее развить способность к комплиментам, мягкой вкрадчивой речи, которая эффективнее тиранического дискурса любящих страстно и безрассудно. Конечно, описанные средства можно расценивать как дешевые уловки, но у Овидия они предлагаются не как технические методы завоевания женщины. Предлагаемый им дискурс имеет творческий, продуктивный характер: вступая в игру, люди не остаются холодными исполнителями, а зажигаются взаимной страстью. Секрет эффективности любовных наставлений Овидия заключается, таким образом, не в том, что они заменяют «приворотное зелье», дают власть над телом другого, а в том, что они формируют, создают и саму любовь. В результате происходит как бы взаимный обмен: влюбленный создает любимого, и наоборот. Если романтические авторы исходят из допущения априорности взаимной любви, которая вспыхивает внезапно, захватывает с первого взгляда и длится до самой смерти, то Овидий настаивает на приоритете любовной игры, в процессе которой возникает, интенсифицируется и культивируется эротическое чувство. Нередко секрет Овидиева метода сводят к формуле: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Действительно, Овидий призывает к сдержанности и терпению, но не с целью стать холодным дерзким обольстителем, вроде Дон Жуана; речь идет о влюбленном, жаждущем не покорить женщину, сделать ее средством удовлетворения собственной страсти, а вызвать у нее ответное чувство, и тем самым прийти к взаимному признанию и наслаждению. Открытость и взаимное равенство выступают необходимыми условиями любви. Следующая задача любовного искусства — сохранить любовь. Добыча бьется в сети, охотничий труд закончен. Теперь, полагает Овидий, важно не потерять завоеванное, ибо страсть может захлестнуть и тем самым погубить любовь. Такая установка также обусловливает отличие искусства любви от дискурса романтиков, который ничего не сообщает о том, как сохранить любовь в условиях обыденной жизни. Классические романы вообще заканчиваются 168 процедурой венчания. В них описываются препятствия любви, и этим осуществляется задача зарождения любовного чувства, однако не принимается необходимых мер предосторожности, связанных с управлением и культивированием его в сфере повседневных отношений. По мнению Овидия, в этой фазе отношений между влюбленными важно терпением и рассудительностью обуздать капризы страсти. Красноречие, эрудиция, а также соучастие и сопереживание, взаимное внимание, шутки и ласки приводят к тому, что жизнь остается приятной и легкой, свободной от подозрений и безобразных сцен ревности. Любовь в чем-то подобна воинской службе и опирается на привычку. Но она требует также разнообразия и маленьких праздников, ибо угасает в результате лени и пренебрежения. Как спасительное средство Овидий рекомендует вести тонкую игру, основанную на ревности. Однако он расценивает измену как некорректное нарушение правил и рекомендует, если она внезапно случилась, скрывать ее, чтобы не ранить друг друга слишком больно. Прочтение Овидия может вызвать некоторое разочарование у тонких романтических личностей, не признающих условностей, предпочитающих строить отношения на искренности. Однако если учесть, что романтическая любовь, основанная на взаимном признании и неопосредованном духовном общении, является одним из самых ненадежных предприятий на свете, то стратегия Овидия, эксплуатирующая телесно-чувственные практики взаимного наслаждения и приятной жизни, оказывается заслуживающей внимания. Любовь в понимании римского поэта — некое цивилизующее начало, заставляющее делать жизнь менее тяжелой и однообразной, более интересной и содержательной. Она доступна всем и не имеет препятствий –– внешность, возраст, социальное положение не являются помехой на ее пути. Чрезмерная страсть, по Овидию, — это своего рода болезнь, от которой он считает своим долгом предложить эффективные средства. «Лекарство от любви» — поэма, где даются советы, как избежать любви к нестоящему человеку, который бессовестно эксплуатирует влюбленного, пользуется им для удовлетворения своих низких интересов. Чтобы избавиться от фантома любви, Овидий советует завести несколько возлюбленных, чтобы река страсти растекалась по едким руслам; сначала притвориться холодным, а затем эта игра на самом деле остудит чувство. Избавляться от любви, как и культивировать ее, следует медленно и осторожно. Ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве, ибо оно является питательной средой для страдания и ведет к тому, что неудовлетворенность парадоксальным образом превращается в источник извращенного наслаждения. Неразумный эрос также нуждается в руководстве, но оно тоже не имеет ничего общего с манипуляцией в духе садомазохистского комплекса, а направлено против мучений любви. Если она приносит страдания, ее следует вытеснять трудом, развлечениями, путешествиями и т.п., а также использовать некоторые психотерапевтические приемы Я для расколдовывания очарования: представлять возлюбленную в неряшливом, некрасивом виде, перебирать ее недостатки и оплошности. Руководства Овидия могут показаться наивными и даже не относящимися к сущности любви, в которой не должно быть ничего искусственного. Однако если сравнить их со стратегиями, предложенными в поздних дискурсах, то можно убедиться, что, в отличие от современных практик, они обладают целым рядом достоинств. Чувства нынешних, даже образованных, культурных, рафинированных героев пронизаны структурами обладания, исследования, 169 признания, которые превращают любовь в источник сильнейших душевных драм. Современный влюбленный озабочен изоляцией предмета своей любви от всех возможных посягательств. Интенция на обладание и охрану собственности искажает оптику, делает взгляд пристальным и подозрительным: если герой вдет, что его подружка заказывает обед официанту с той же улыбкой, какой одаривает его, он испытывает сильнейшие муки ревности. Ревность здесь — уже не средство возбуждения любви, а страсть к исследованию, которая вытесняет любовь, начинает жить ее энергией. Патологически-извращенный характер приобретают разговоры влюбленных. Сначала речь используется как способ сказать о невыразимом любовном чувстве. Но она не для этого создана. Существует свой язык любви, которым сегодня владеют немногие. Речь, интенсифицированная подозрением, становится меткой, это знак не любви, а измены. Дискурс тщательно анализируется: возлюбленная может лгать и отрицать, однако подозревающий влюбленный разрабатывает изощренную систему анализа обмолвок, оговорок, очных ставок, взаимных противоречий и т.п., на основе которых он выносит окончательный приговор. Слияние эротической и познавательной установок формирует особую ментальность — некоего монстра, искусственное происхождение которого, впрочем, осознается лишь при сопоставлении его с другими культурноисторическими формами любви. Стремясь избежать любви-обладания, любвиисследования, современные герои интересуются возможностями ранее осуждаемых эротических практик. В «Содоме и Гоморре» М. Пруста, в «Человеке без свойств» Р. Музиля, в «Выигрышах» X. Кортасара и других признанных сочинениях XX в., затрагивающих проблемы любви, «нормальным» отношениям между мужчинами и женщинами противопоставляются перверсивные, которые расцениваются как свободные от принуждения и насилия. Однако надежда найти девственные острова, где может иметь место «подлинная» любовь, свободная от искажающего взгляда Другого, от конфликтов субъектно-объектных отношений, является иллюзорной. Перверсивные практики заражены своеобразными комплексами Отца и Матери, Эроса и Танатоса, и это делает их эротику весьма сложной извращенной конструкцией, логика которой оказывается весьма гибельной для подчиненных ей людей. Имея в виду такие последствия, следует признать, что моральные нормы при всей их жестокости все-таки обеспечивают, хотя трагическое и конфликтное, выживание. Сравнительный анализ представленных стратегий искусства любви и жизни помимо оценочных суждений поднимает вопрос о том, каким образом в истории цивилизации происходило изменение такого, казалось бы, частного (по крайней мере, касающегося лишь двоих, стремящихся соединиться личностей) чувства, как любовь. Для этого необходимо рассмотреть эволюцию дискурсов и проанализировать основные фигуры репрезентации любовных отношений. Общество интересуется любовью граждан не только в связи с демографической проблематикой. Совершенно ясно, что господствующие моральные нормы регулируют вовсе не размножение, а формируются как защитные механизмы, охраняющие от эксцессов и страстей с их гибельными последствиями. Дискурс о любви должен выполнять, таким образом, двоякую функцию. С одной стороны, интенсифицировать и культивировать чувство любви, так как его энергия является базой реализации прочих абстрактных социальных ценностей. С другой — сформировать процедуры вытеснения и замещения, переводящие 170 витальную энергию в социально-культурную плоскость, выполняющие роль шлюзовых отверстий, канализирующих бессознательное, защищающие от бесконтрольного иррационального проявления сексуальности. Радикальное изменение в фигурах любовного дискурса осуществляется в христианской литературе. Как уже отмечалось, институт исповеди и покаяния создавался с целью управления чувствами и переживаниями на основе репрессивного отношения к телесности. Одновременно ставилась задача перерождения плоти, т. е. замещения витальных переживаний духовными. Эта задача решалась на основе создания специального языка, пригодного для описания внутренних настроений, влечений и т.п. Их кодификация и классификация оказалась достоянием широких масс людей. Христианские святые открыто сообщали о своих вожделениях, подробно описывали их виды и формы, а также обстоятельства, при которых они возникали. С одной стороны, это проецировало особую эротику, а с другой — создавало разрешенные способы ее проявления. Фигуры искушения, греха и покаяния становятся ведущими в литературе, они определяют менталитет людей, проникают интимные отношения, логика которых оказывается подчиненной риторике любовного дискурса, выработанной в христианстве. Средневековая поэзия и рыцарская сублимация любви трансформируют культуру стыда в культуру вины и чести. Образуются новые фигуры любовной речи. Они осуществляют трансформацию эротического влечения в наслаждение от исполнения сложного ритуала служения Прекрасной Даме, который далее используется для поддержки социальных ценностей — служение государству, совершение воинских подвигов и т.п. Таким образом, куртуазная поэзия упорядочивала духовный мир личности, формировала манеры, речь, образцы поведения, представлявшие цивилизационную ткань придворного общества. Служа любви, рыцарь преобразовывал свою душу и тело, формировал особый менталитет, на котором держалось военизированное общество. Многообразие любовных дискурсов в истории культуры доказывает несостоятельность одного из фундаментальных в психоанализе ощущений, а именно гипотезы о подавлении сексуальности. Уже в ранних христианских сочинениях, например, в «Исповеди» Августина, детально описываются язвы и грехи мира. Чтобы стать святым, христианин должен испытать разнообразные искушения. В исповедях проповедях подробно маркируются грехи, описываются противоестественные склонности, формируется исследовательский интерес к полу, а также к механизмам памяти, воображения, представления. Точно так же реализация христианского идеала в повседневной жизни приводила к необходимости резкого разделения греховного и духовного, приобщения к тому и другому, что, в свою очередь, заставляло развить как бы две эротики, а также конструировать сложные механизмы сублимации одной в другую. Таким образом, определенная расстановка ценностных акцентов, при которой любовь к духовным ценностям считалась наиболее высоким чувством, не должна отвлекать от того факта, что дискурс о теле и чувственных страстях получил в христианском обществе распространение и развитие. Можно высказать в свете этого факта несколько парадоксальное утверждение, что эпоха Возрождения, которую обычно считают реабилитацией сексуальности, на самом деле вовсе не совершила революции, в результате которой стало возможным говорить о ранее запрещенном. Резкая эротизация литературного дискурса эпохи Возрождения сопровождалась слиянием различных традиций: античного любовного романа, лирических сочинений позднекультурного 171 Средневековья, реалистической народной литературы. Однако было бы упрощением считать, что представленный в «Декамероне» Бокаччо дискурс служит исключительно изображению радостей земной жизни, чувственной любви и освобождению от репрессивного христианского морализаторства. На самом деле в риторические фигуры этого дискурса помимо описаний типичных любовных сцен, выступающих своего рода руководствами для читателей, входят достаточно эффективные защитные средства, контролирующие любовные связи. Риторика любовной речи, изобретенная в эпоху Возрождения, может быть понята в связи с общецивилизационными изменениями, произошедшими в это время. Христианские обличения плоти вызваны кроме всего прочего спецификой реализации властных отношений, которые в Средние века осуществлялись на основе контроля за телесным поведением. Нарушение общественных норм каралось телесным же наказанием. В эпоху Возрождения формируется широкий общественный слой, управляемый механизмами чести, долга, совести, которые сформировались первоначально в рамках узких замкнутых сословий, вроде рыцарского, и затем были усвоены в качестве образцов повседневного поведения буржуазии. Литературный дискурс этой эпохи выполняет не только сублимирующие, но и компенсирующие функции: телесные практики переводятся в дискурсивную плоскость, и читатели научаются получать удовольствие от текста. Жесткие запреты традиционного общества загоняют секс как бы внутрь сознания, сублимируют его в производство запретных желаний, но тем самым интенсифицируют извращенные фантазии. Перевод этих переживаний и влечений в дискурсивную плоскость облегчает их моральное осуждение, позволяет формировать новые защитные механизмы. Внимательное чтение «Декамерона» позволяет сделать вывод, что в его текст встроены механизмы критико-иронической оценки описываемых любовных сцен, которые эффективно воздействуют на чувства стыда, совести и чести и тем самым предохраняют от разрушительных воздействий сексуальной фантазии. Конечно, по сравнению с христианским отношением к плоти, проза Бокаччо имеет огромное эмансипирующее значение: она легитимирует эротическое наслаждение, раздвигает застывшие рамки морали: считаются дозволенными различные уловки и обман мужей-ревнивцев, безобразных и жадных жен, вообще обход различных препятствий, а самое главное — провозглашается право любить. Вместе с тем, интенции эротического воображения пропускаются сквозь частое сито разного рода житейских трудностей, и тем самым отпадает охота к их действительной реализации. Таким образом, возникают новые защитные механизмы, благодаря которым правила буржуазной морали, сформировавшиеся как отражение институтов буржуазной семьи и собственности, реализуются весьма эффективно. В буржуазном романе секс уже не является самоцелью. Особенность его описания — связь с другими дискурсами. Фигуры любовной речи до боли напоминают фигуры экономического театра собственников. Известное сочинение «Пятнадцать радостей брака» представляет типичный образец эксплуатации секса экономическими интересами: жена, размышляя о том, как получить от мужа деньги на новое платье, приходит к конструированию сложной тактики, основанной на обещании и отказе в эротических удовольствиях. Как в этом, так и в последующих подобных сочинениях содержится угрюмо-житейский подход к сексу; трудности, неудачи и опасности 172 сексуальной жизни, воспитание детей, хозяйственные заботы, болезни и усталость — все это начисто разрушает восторженно-эротический тон прежней лирической литературы, романтизирующей любовь, абстрагирующейся от прозы жизни. Такой тон не случаен. Благодаря ему формируется побуржуазному умеренное переживание сексуального инстинкта, который уже не сублимируется в культурных формах, а просто вытесняется трудом и заботами повседневной жизни. Таким образом, сексуальная сфера вовсе не замалчивалась и тем более не подвергалась только запретам. Можно говорить об эволюции механизмов ее сублимации и вытеснения социальными ценностями. В европейской культуре уже давно как запрет, так и эмансипация сексуальности выступают сторонами общей тенденции к управлению и контролю спонтанной чувственности. Столь же значительными являются последствия онаучивания дискурсов о душевном и духовном, которое происходит независимо от морализирующих оценок. Гуманитарные дисциплины, религия, философия, искусство, претендовавшие на заботу о душе, на самом деле не имеют абсолютного значения. Сегодня уже нельзя не замечать, что о ней пекутся тихие и незаметные труженики: педагоги, психотерапевты, конфликтологи и т.п. и достигают при этом самых эффективных результатов. Их нельзя расценивать исключительно как пособников репрессивной власти, заставляющей людей думать, желать, чувствовать, видеть и понимать так, как это необходимо в ее интересах. На самом деле, вклад этих практических дисциплин в реальную эмансипацию человека огромен, так как именно они освобождают людей от устаревших различий, срабатывающих на уровне чувств и желаний. Что мы сегодня понимаем под страстью? Духовную интенсивность, психическую энергию, физическую силу, словом, некую мощь, динамику человека, особую эмоциональную интонированность его сознания. Говорят о холодном рассудке и горячем сердце. Со страстью ассоциируются слезы или смех, горе или радость, любовь или ненависть. Страсть кажется проявлением самой сущности живого, которое ненасытно и перехлестывает через себя самого. Страсть –– это желание, которое вызвано нехваткой. Совершенно недостаточно определить «патос» как переживание, хотя это определение кажется соответствующим родовидовому отношению. Обычно страсть противопоставляется рассудочному познанию как форма переживания. На самом деле в отличие от аффекта переживание –– это некий вторичный процесс, рефлексия о том, что было. Оно есть не что иное, как попытка воскресить то, что прошло и уже умерло, в том числе и угасшую страсть. Позиция философии, религии, этики, искусства в отношении чувственности характеризуется в основном как политика контроля, подавления или сублимации страстей. Культурно-воспитательная политика, хотя и опирается на негативное определение, тем не менее, оказывается двойственной. Прежде всего, искусство оценивает чувство выше рассудка. Это проявляется в его ориентации на мир страстей и переживаний. Вместе с тем, они воспринимаются как аффекты, подлежащие сдерживанию, подавлению или управлению. Ницше указал на то, что христианская политика укрощения страстей не только не эффективна, но и опасна. Подавленные желания находят выход в реактивных чувствах злобы и ненависти. Фрейд назвал ресентимент «бессознательным», охарактеризовав его как важнейшую форму работы. Как всякая рабочая сила, психическая энергия подлежит эксплуатации и должна использоваться для производства продуктов культуры. Так возникло понятие сублимации, суть 173 которой в трансформации и использовании «первичных позывов», «влечений» для стимуляции занятий культурным творчеством. Скука, апатия, т.е. отсутствие страстей и интересов –– вот главный враг человека. Борьбу воли и скуки мастерски описал Шопенгауэр. Как неудовлетворенное существо человек испытывает желание, но как только предмет его достигнут, тут же наступает пресыщение и скука. Человек не знает, куда девать себя, пока не окажется рабом новой страсти. Итак, желание приходится терпеть хотя бы потому, что ни наука, ни религия не могут существовать и развиваться без увлеченных страстью людей. Страсти являются мотором, прежде всего, современной экономики, которая рассчитана не столько на удовлетворение, сколько на производство желаний. Но мы оказываемся в рабстве совсем у других страстей, чем наши предки. Желания становятся искусственными, даже извращенными и ужасно коверкают жизнь. Воля к власти, которую Ницше отождествлял с волей к жизни, сегодня проявляется как нечто извращенное: власть перестала быть ареной борьбы свободных и равных мужчин, рожденных властвовать. Она превратилась в стратегию господства слабых над сильными и стала формой всеобщего отчуждения человека от своей родовой сущности. Страсти, особенно связанные с любовью или дружбой, понимаются как нечто приватное и даже интимное. Между тем, как хорошо показал П. Дюрр в своей книге «Интимность», они являются продуктом культуры. 148 Можно пойти еще дальше и раскрыть страсти с коммуникативной точки зрения, что и сделал Н. Луман.149 Он поставил вопросы о том, как страсть становится предметом коммуникации, как она протекает на интимном уровне, как расширяются возможности для сообщения о своих интимных переживаниях. Ясно, что общество состоит из людей, а они являются переживающими существами. Но, кажется, общество озабочено тем, чтобы использовать своих граждан исключительно как субъектов труда, права, политики. Они формируются не как индивиды, а как представители той или иной профессии или социальной группы. Начиная с XVII столетия, когда появляются журналы, а в них печатаются романы, страсти становятся предметом внимания и культивирования. Их манифестируют, они становятся условием брака и иных социальных действий. Роман в письмах становится формой сообщения об интимных человеческих чувствах. Вопрос в том, являются они ответом или, наоборот, вызовом? Вопреки общепринятому мнению о том, что капитализм подавляет страсти, некоторые исследователи указали на то, что именно для буржуазного общества становятся интересными и важными чувства индивидов. М. Вебер показал трансформацию религиозного чувства в страсть к наживе и накоплению капитала. В работах Н. Элиаса раскрыт процесс психосоциогенеза, в ходе которого аффекты находят цивилизованную форму разрядки. М. Фуко в своих исследованиях клиники, казармы и тюрьмы описал изощренные процедуры дрессуры, в ходе которой воспитывались автономные индивиды эпохи Нового времени. По мере усложнения социальной ткани, в нее вплетаются чувства и страсти, поэтому возникает потребность в контроле за сферой интимного. Но те способы кодификации и ортопедии, которые описал Фуко, составляют лишь часть созданных в то время практик. Другая часть включает то, что сам Фуко 148 149 Duerr P. Intimitaet. Fr. a. Main., 1990. Luhmann N. Liebe als Passion. Fr. A. Main., 1994. 174 позднее назвал духовными практиками создания себя. Поскольку внутренняя жизнь человека проявляется в публичной сфере, постольку насаждаются самоконтроль и самодисциплина, более эффективные, чем традиционный запрет. Рассматривая страсти с коммуникативной точки зрения, мы должны различать знаки и коды, с одной стороны, и реальные чувства, с другой. Пожалуй, самой первой попыткой кодификации чувств является аристократическое искусство страсти, которое отличалось от вульгарных проявлений сексуальности. На место грубых форм ухаживания приходит тонкое искусство амурной страсти, которое отличается возвышенным идеализмом. Совершенно очевидно, что рыцарская любовь культивировалась не только с целью облагораживания высших сословий, которые обучались контролировать свои страсти, но и с целью сублимации страсти на ниве войны. На смену средневековой рыцарской галантности в Новое время приходит романтическая любовь. При этом меняются: форма кода, основание любви, антропология, упорядочивающая коды. Суть произошедших изменений состоит в ориентации не на идеализацию, как в Средние века, а на рефлексию. При этом основные усилия тратятся не столько на облагораживание объекта любви, сколько на его познание и работу воображения. Надстройку общества образует семантика, благодаря которой становится возможной преемственность социальной жизнедеятельности. Она скрепляет опыт и чувство в словесной форме болтовни и мудрости, теоретических и фактических суждений. Эволюция семантики меняет способы упаковывания опыта и открывает новые возможности выражения чувств. Она образует опору, на основе которой осуществляется управление смысловыми комплексами. Идейное наследие обеспечивает возможность развития социальных отношений, и даже революционные изменения социума не приводят к фундаментальной смене семантической надстройки. Конечно, возможны и семантические революции, причем на фоне относительно стабильной социальной жизни. Но, вообще говоря, не следует их различать механистически, ибо их связь органична. М. Бахтин полагал, что в сталинскую эпоху семиотическое и социальное соединялись самым вульгарным образом. Семиозис являлся жизнью, а жизнь –– семиозисом. Сегодня не только простые граждане, но и сами политики порой принимают за реальность то, о чем говорится с экранов телевидения. Чисто семиотического истолкования общества недостаточно для раскрытия социальной жизни людей. Его необходимо дополнить коммуникативным подходом. Например, дискурс о любви –– не просто выражение интимного сердечного чувства духовной или животной природы, а символический код, посредством которого информируют о том, о чем, кажется, невозможно сообщить. Здесь возникают две проблемы. Во-первых, если слепая страсть осуждается в любой культуре, то как кодифицируются чувства, чтобы обрести общезначимое и общепринятое выражение? Во-вторых, как сами чувства, точнее, их выражение в некой общепринятой форме становятся коммуникативными медиумами. Знаки страсти так же необходимы для жизни, как и мудрые слова. Коды образуют, производят социально одобряемые чувства. Без них, строго говоря, невозможны и переживания, ибо большинство из них являются реактивными. Они связаны не столько с внутренними потребностями организма, сколько с переживаниями, обусловленными и даже навязанными социальными нормами. Да, есть чувство голода, и все переживают 175 потребность в пище. Большинство людей едят, занимаются любовью, работают и отдыхают. При этом они испытывают определенные и, вероятно, похожие чувства, вызванные удовлетворением или невозможностью реализации этих основных человеческих потребностей. Возможно, таким же образом обстоит дело и с «высшими» потребностями, которые порождены культурой. Но в каждую эпоху, даже в рамках одного общества, люди по-разному удовлетворяют свои потребности и по-разному оценивают те или иные способы их удовлетворения. В итоге получается достаточно пестрая, но упорядоченная картина мира чувств. Если подойти к этому чисто философски, то такое, хотя и пестрое, единообразие, должно вызывать удивление. Действительно, чувства, как интимные внутренние переживания, даже одинаковых событий должны быть, во-первых, совершенно уникальными, а во-вторых, неповторимыми даже в жизни самого индивида, который по-разному переживает свои завтраки, обеды и ужины и, тем более, сексуальные контакты даже с одним и тем же партнером. Как удается нормализовать не только проявление, но и само переживание слепых страстей? Ведь они капризны, и мы сами, даже будучи цивилизованными людьми, испытываем такие желания, которые направлены не только на реализацию социально одобренных ценностей, но и на их отрицание. А не послать ли к черту весь этот порядок, господа? Так можно, перефразируя Достоевского, выразить основной закон чувства, которое не желает укладываться в прокрустово ложе цивилизованного поведения. Никто не может предсказать, что он будет чувствовать, даже если его желание окажется удовлетворенным. Скука, вызванная пресыщением и единообразием, толкает людей на безрассудные поступки. Чем же мир чувств нормальных людей отличается от страстей безумцев? Как люди находили партнера для интимных отношений? Была ли любовная страсть движущей силой его поиска? В традиционном обществе пространство проявления интимных чувств было чрезвычайно узким, и общество ограничивало и тщательно контролировало всяческие попытки его расширить. Например, запрещались до- и внебрачные интимные связи, а поскольку осуждалось проявление интимных чувств, то ни о каком глубоком познании душевных переживаний другого не могло быть и речи. Как же тогда находили спутника жизни? Очевидно, что его выбирали старшие родственники. Автономизация интимных отношений, социальная регрессия страсти происходит в условиях кризиса буржуазного общества, когда стабильность порядка обеспечивается личными средствами. В начале XVIII в. французы считали постоянство бессмысленным, а англичане культивировали брак, хотя там имели место не только любовь, но и ненависть. Любовь разворачивалась как конфликтная коммуникация, однако по-прежнему оставалась идеалом человеческих отношений. Люди еще верили в любовь и фанатично вступали в связь друг с другом. Сегодня, кажется, этому приходит конец. Мадам Бовари сегодня уже невозможна. Значит ли это, что страсти исчезли, или может быть, снова загнаны внутрь? Чего ждет современный человек от интимной связи? Почему общество не запрещает, а навязывает желания? Кругом только и говорят об оргазме, а феминистки борются за право женщин на наслаждение. Остается ли при этом брак социальным институтом, регулирующим интимные отношения, или же в современном обществе он перестает играть свою важную роль? 176 Романтическая любовь не только не разрушала, но, наоборот, укрепляла стабильность общества. Благодаря любви брак перестал расцениваться как препятствие для совершенствования интимных отношений. О любви говорят много, но бестолково. Главная проблема, как чувства, релевантные для одного, оказываются или могут оказаться релевантными для другого? Общепринятыми должны быть действия, и именно они контролировались обществом. Чувства только сбивают с толку, и поэтому их развитие и проявление подвергалось запрету. Французы хорошо понимали, что любовь и долг не соединимы. Романтичные немцы верили в их гармонию. Отсюда стремление вербализировать интимную коммуникацию. Это превращает любовь в говорильню. И раньше мужчины не сразу брали быка за рога, а вели длительную осаду. Они делали комплименты, дарили подарки, приглашали вместе поужинать и т.п. В случае последовательного принятия этих знаков внимания, в конце концов, женщина обязана была уступить. Таким образом, в основе галантности лежал расчет и строгая внутренняя экономия: инвестор мужчина, в конце концов, получал прибыль от своего вклада. Когда эта экономия нарушилась, мужчины перестали постоянно волочиться за женщинами. Это стало пустой тратой времени, а инвестиции –– невыгодными. Таким образом, галантность и волокитство исчезли вовсе не по причине остывания чувств или импотенции. Сегодня происходит наркотизация секса, он кажется экономичным, ибо стимулирует общественно-полезную деятельность. Раньше считалось наоборот. Может быть, либерализация сексуальности произошла по причине изменения форм труда, он стал интеллектуальным, и физические нагрузки стали необходимыми. Прежде чем задаваться вопросом о смысле любви, мы должны создать ее знаки. Таким образом, теория любви сопоставима с соответствующими концепциями денег, власти, истины. Любовь не есть аномалия, а нормальная невероятность. Нормализация низковероятностных социальных структур составляет главную задачу коммуникативных медиумов, которая решается путем создания семиотической концептуальной системы, объясняющей возможность сообщения чувств. Как возможна нормализация, порядок в столь запутанной области, какую являет собой мир любовных страстей? Первым шагом наступления на спонтанность чувств является их описание. Этим занимаются не только поэты, но и воспитатели, моралисты, ученые. При этом кажется, что поэты придумывают идиомы, а педагоги, медики и юристы постулируют нормы. На самом деле, как одни, так и другие, причем каждый по-своему дифференцируют уникальное и общее. Управление вероятностью невероятного и связывает теорию общества, эволюционную теорию и теорию коммуникативных медиумов. Благодаря их связи описание исторического материала осуществляется на основе комплекса абстрактных социологических теорий. Исторические исследования любви должны быть подчинены этим теориям. Антропология межличностной коммуникации Наши предки посчитали бы заблуждением утверждение, что мой дух, мое сознание, мои мысли содержатся в моей голове и принадлежат только мне. Как свет и пища, мысли –– это общее достояние. И это не то состояние, которое можно захватить, приватизировать и передать по наследству. Коллективные представления –– используем это понятие старой психологии –– возникают не просто как суммирование индивидуального опыта. Они продукты резонанса, 177 возникающего между близкими людьми. Один мозг настроен на волну другого, и поэтому для достижения консенсуса не требуется длинных переговоров и дискуссий. Таким образом, дистанция между мною и миром, между Я и другим преодолевается опытом совместного бытия людей, которые живут в общем пространстве и делят между собою кров, тепло, свет и пищу. Мы не только преобразуем, руководим, используем, внимательно изучаем вещи, а они сами входят в нас подобно пище. Мир гораздо ближе к нам, чем это представляет трансцендентальная философия. Но это ближайшее стало далеким потому, что мы отвернулись от него. Для его возвращения полезно обратиться к основательно забытым теологическим дискуссиям о природе истины. Истина –– это единство речи и жизни. Например, пробным камнем того, что исповедующийся открывает истину, является боль признания, в ходе которой он очищается и отделяется от своего прошлого. Несомненно, исповедь предполагает иное толкование греческой алетейи: человеческое слово понимается в диалоге, а божественное благодаря откровению; общим для того и другого является милость, открывающая доступ к внутреннему миру. Трагический катарсис повторяется христианством, но другими средствами. Часто полагают, и не без оснований, что игра истины в исповеди является прототипом психотерапии. Другим источником трансформации классической модели сознания является философия Хайдеггера. Категориальному освоению бытия он противопоставил «экзистенциальное». Для человеческого существования в модусе Dasein характерно бытие-в-мире, что означает, с одной стороны, открытость миру (животное вписано в окружающую среду, а человек –– это просвет бытия). Dasein –– это не субстанция-субъект, а участник, свидетель бытия. Ему присуща скорее пассивность, чем активность: он ждет знаков бытия и принимает их в себя, как кит принял Иону в свое чрево. Отсюда страх, боль, забота –– это не активные действия, направленные на преобразование мира, а то, что проникает и захватывает нас целиком. Для обозначения этого Хайдеггер ввел искусственное слово Insein, которое еще не поддается адекватному переводу на другие языки. Что, собственно, значит это «бытие-в». На что оно намекает –– на какую-то интимную близость человека и бытия или на замкнутость в своем собственном внутреннем мире? Бытие не где-то там далеко, оно ближе мне, чем я сам. Но Хайдеггер говорил, что самое далекое –– это ближайшее. Отстранение от ближайшего, его трансцендирование –– это не ошибка, а род того, что Маркс называл отчуждением. Поэтому речь идет о возвращении не рефлексии, а интимной близости, как у ребенка с матерью. Медиумом бытия у позднего Хайдеггера выступает не познание (техно-наука и метафизика), а язык, понятый как дом, т.е. иммунная система. Язык возник как хвалебная песнь, в которой человек славил свой род, своих героев и тем самым самого себя. Вовсе не познание, а восхваление является главной функцией языка. Если перевести это несколько высокопарное выражение на естественный язык, то можно сказать следующее. Условием восстановления близких взаимодействий, примером которых является единство ребенка и матери, общение лицом к лицу, совместное приятие пищи, пение и т.п., является деструкция субъектно-объектной установки, на основе которой построен язык, и создание такого языка, который способен описать отношения интимной близости. Философия жизни основана на теории близких и сильных 178 взаимодействий, а не на трансцендентальной философии, в поле которой функционирует рефлексия, т.е. познание. Человек изначально не является познающим субъектом. Но и в высоких культурах, когда возникает наука, целью ее является выживание людей. А основой жизни является то, что мы назвали близкими и сильными взаимодействиями. Разумеется, философ и ученый интересуется их аналитикой. Но понять, как люди ориентируются в звуках и образах, чем определяются их вкусовые предпочтения, невозможно на основе «компьютерной метафоры», которая представляет работу мозга по аналогии с вычислительной машиной. Лицо Что такое лицо, является оно продуктом церебрализации, эстетическим или культурным феноменом? Если рассматривать превращение морды животного в человеческое лицо, то, очевидно, что вплоть до кроманьонцев эволюция определялась ростом массы мозга и уменьшением челюсти. Вероятно, лицо в какой-то момент человеческой истории становится эстетически значимым феноменом для полового отбора. Фасциализация становится важным моментом человеческой истории. Ж. Делез и Ф. Гваттари считали, что примитивные люди обладали красивыми или уродливыми фигурами, но не лицом. Они имели голову, а в лице не нуждались. Лицо не универсально: лицо Христа –– это лицо типичного европейца, а не негра. По мнению Слоттердайка, сказанное выше –– недоразумение, вызванное тем, что авторы не различают между формированием общечеловеческого лица рода сапиенс и характерологическим прорисовыванием его поверхности в той или иной культуре. Формирование красивой человеческой головы, о котором писали Делез и Гваттари, оценивалось разными этноэстетическими характеристиками, поэтому нет гарантии, что все критерии к красоте головы были универсальны. На самом деле в человеческой внешности собирается и специфическикультурное, и характерологическое, определяемое расой и темпераментом Отсюда смешение родового лица с культурно, физиогномически и семантически оформленным лицом. Родовое лицо человека, несомненно, имеет универсальные характеристики, оно инвариантно. Во всех климатических поясах, всяком периоде истории, в любой культуре обществе человек имеет лицо. Процесс формирования лица определен общими биоэстетическими характеристиками, и это достаточно четко обнаруживается при сравнении детеныша шимпанзе и ребенка. Этот первичный процесс занял не менее миллиона лет и завершился в типе кроманьонца. Сравнение его лица с мордами обезьян совершенно отчетливо показывает их различие. В этой связи можно спрашивать о моторе или мотиве, объясняющем столь разительное отличие между мордой крупной обезьяны и человеческим лицом. Протракция, или движение образа лица в процессе генезиса лица человека, может быть объяснена с учетом потребностей рода и праисторических форм жизни. решающую роль в этом играло межличностное общение. Роль теплоты в первичной орде является господствующей, достаточно вспомнить восхищение мужчин видом купающих детей женщин. Между младенцем и матерью восхищение лицом друг друга и взаимный обмен улыбками и взглядами является решающим. Первичная социосфера возникает как теплое межличностное отношение. Именно благодаря ему начинается переход от животного к человеку. Этот антропологический переход есть не что иное, как лицевая операция. Но она не имеет ничего общего с протезированием лица в 179 нашем индивидуалистическом обществе. Современная лицевая хирургия превращает лицо обратно в чистую доску и наносит на нее грим красоты и оригинальности. При этом устраняется как отпечаток времени, так и эволюционное наследие дружеского, теплого, человеческого лица. На 95 % путь формирования человеческого лица относится к доисторическому периоду. Во время этого общечеловеческого роста лицо еще не стало знаком различия своего и чужого, как сигнал для различия своего и чужого. Это случилось в эпоху государств. Лицо не является критерием идентичности в ранние периоды человеческой истории. Только после неолита кроме комфортабельности лицо становится знаком идентификации. Поэтому некоторые историки культуры, например, А. Леруа-Гуран, считают, что в древности не встречалось изображений человеческих лиц, не только собственных, но и соплеменников. Это значит, что обмен изображениями лиц не требовался. Раннее межличностное восприятие не интересовалось характерологическими признаками, оно ориентировалось на свет, идущий от лица и говорящий о том, можно или нет ему доверять. Мать и ребенок как бы лучатся взглядами и улыбками. Человеческая эволюция определялась тем, насколько велика степень выражения дружественности, и эта способность выражать дружбу протрактировалась. Как гениталии были не индивидуальным, а всеобщим выражением принципа наслаждения, так и лицо –– выражением дружелюбности. Чудо лица имеет простую формулу –– оно есть приглашение к дружбе. Эта особенность была отмечена в «Федре» Платона, который одним из первых понял синергетическую природу лица: оно напоминает и влечет к божественному личностным резонансом и желанием единства. Лицо –– это обещание дружбы и счастья. Платон описывает красавца как отражение объективной красоты-идеи, а восприятие красивого тела как воспоминание о ее созерцании в те времена, когда наша душа пребывала в мире идей. Таким образом, красивое человеческое тело светится неземным светом. Платон писал: «когда кто-нибудь смотрит на здешнюю красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а, окрылившись, стремится взлететь…Из всех видов неистовства эта –– наилучшая … Причастный к такому неистовству любитель прекрасного называется влюбленным».150 Платон выстраивает свою теорию красоты на основе метафизики истины как несокрытого. Когда душа еще не наделена своим домиком-улиткой, т.е. телесной оболочкой, которую Платон называет еще надгробием, она пребывает чистой и непорочной в божественном мире истин. Благодаря более сильной памяти у некоторых людей остаются воспоминания о сияющей ярким светом красоте божественного мира идей, и возникает сильная тоска. Смертные, наделенные телесной оболочкой, воспринимают мир только благодаря зрению, которому недоступен чистый разум. Только красоте выпало на долю быть зримой и привлекательной. Но земная красота –– это не красота сама по себе. Последняя возбуждает низменное желание. Только возвышенный человек, посвященный в таинства, способен испытать священный трепет от созерцания божественного лица. Описание этого возвышенного чувства Платон дает в терминах теплоты: «Глядя на красоту юноши, она (душа) принимает в себя влекущиеся и истекающие оттуда частицы –– недаром это называют влечением: впитывая их, она 150 Платон. Федр // Платон. Соч. в 3-х тт. Т. 2. С. 185. 180 согревается, избавляется от муки и радуется».151 Итак, два лица объединяются светом и теплом. Один посылает сияние красоты, другой согревается ее лучами. Этот взаимный обмен энергиями и создает интимную сферу существования. Нельзя согласиться с метафизикой человеческого облика Платона только в том, что красота выводится из сверхчеловеческого мира. Наоборот, как показал Ж. Делез в своей книге о Спинозе, открытие лица выражает силу, которую в нем обретает трансцендентная идея. Когда лицо обретает индивидуальность, оно строится уже на как приглашение к дружбе, а как воля к власти. Может быть, только лица Будды и улыбающихся ангелов сохраняют верность дружбе и не изображают значительности. К таким излучающим дружеский свет лицам относится и Монна Лиза. Христианство дополнило метафизику Эроса как влечение к сияющей истинекрасоте метафизикой плотского касания. Истечение духа передается не только созерцанием, но и путем касания, объятия и поцелуя. Это существенно расширяет возможности наслаждения членов идеальной коммуны–– церкви как единства верящих и любящих. Наиболее ярким воплощением этой новой чувственности остается фреска Джотто «Встреча Иоахима и Св. Анны»: два слившихся в поцелуе лица образуют одно целое. Совсем иначе построена картина Джотто «Предательство Иуды». На ней Иисус Христос изображен как красивый породистый человек, явно принадлежащий к благородному сословию. Перед нами настоящий европеец с прямыми чертами лицами, высоким лбом, пепельными густыми волосами и бородой. Наоборот, Иуда олицетворяет то, что в расовых теориях будет названо «семитским типом»: низкий лоб, глубоко посаженные глаза, густые темные волосы и кривой нос. Он выглядит ниже ростом, ибо изображен слегка согнутым, что также символизирует его нечистые намерения. Трагизм ситуации Джотто передает тем, что поцелуй Иуды остается как бы нереализованным. Христианское тело избавлено от позора, оно осталось неоскверненным, так как целующиеся не соприкасаются губами. Зная о предательстве, Христос держится достойно, и без страха честно и прямо смотрит в глаза Иуды. Последний изображен в несколько сомнамбулическом состоянии. Он как будто в трансе. Глаза его тоже открыты, но они не видят Иисуса, а погружены внутрь себя. Различие, несовместимость и вместе с тем параллельность их существования Джотто выразил тем, что сцена поцелуя изображена без соприкосновения губ. Пустота между лицами и есть черта, которая их разделяет и различает. В связи со сказанным возникает общая проблема: можно говорить об антропогенезе лица, или оно является продуктом культуры. С одной стороны, данные физической антропологии свидетельствуют о том, что наше тело сформировалось на ранней стадии эволюции, и мы мало чем отличаемся от кроманьонцев. В этой связи возникает вопрос о том, для чего природа создала лицо. Как продукт эволюции оно формировалось в результате полового отбора и, с позиций биоэстетики, поскольку красивое лицо способствовало привлечению партнера, то эволюция способствовала росту его привлекательности. На самом деле не стоит преувеличивать роль полового отбора при формировании красивого лица. Судя по изображениям женщин в форме «каменных баб», первобытные люди изображали в гипертрофированном виде в основном детородные органы. 151 Там же. С. 187. 181 С другой стороны, на ранних стадиях культуры и даже в античной Греции и Риме мы не встречаем портрета в собственном смысле этого слова. Не является портретом и икона. Только европейская живопись XV–XVI века начинает изображать человеческое лицо в его уникальности. Такая установка, конечно, радикально противоречит платоновской метафизике лица, согласно которой красивое лицо отражает красоту как идею. Но и она выглядела в античной культуре достаточно радикальной новацией, о чем свидетельствует полемика Сократа с мужчинами, которые в основном ценили плотскую красоту. Но если допустить, что платоновская эстетика лица была реализована в иконописи, то придется признать, что она вовсе не способствовала восприятию индивидуального лица. Ортодоксальный священник о. Павел Флоренский в своей работе «Иконостас» раскрывает красоту иконописного изображения Христа как отражение божественной красоты. Он же резко протестует против превращения изображений Его и Богоматери в портреты частных лиц. Действительно, уже в религиозной живописи итальянского Возрождения Мадонна все чаще изображается как молодая мать, кормящая грудью здорового младенца. Сам этот взрыв культа Богоматери и изображение ее как частного лица в повседневной жизни требует серьезного осмысления. Хотя лицо сравнительно недавнее открытие европейской культуры, оно должно стать предметом антропологии, ибо является продуктом антропогенеза. Первобытная культура открывает женское тело и прежде всего подчеркивает способность воспроизведения рода. В эпоху матриархата складывается культ женских богинь, скульптурные изображения которых выпячивают могучие бедра и грудь, а также выделяют гениталии. При этом от великих богинь исходит какая-то мрачная сила. Их эротика не обещает наслаждений, она скорее намекает на жертву. Боги египтян наделены головами животных, что также свидетельствует о культе тела, с одной стороны, и о культе власти, с другой. Греческие боги более демократичны и напоминают людей. На фронтоне Парфенона люди и боги, кони и кентавры образуют союз равно совершенных существ. Хотя боги и люди изображаются с головами, искусство греков еще не знает человеческого лица. Гордые и красивые обнаженные тела символизируют власть полиса. Воины и ремесленники как персонажи греческого искусства одинаково выступают носителями государственных добродетелей. Это особенно усиливается в эпоху Римской империи. Изображаемые на монетах профили императоров являются политическими символами Рима. Особенно интересны двойные профили. Они, конечно, выражают не дружбу, а политическую преемственность богов и императоров и их наследников. Именно здесь складывается символ троицы. Третье лицо –– это окружность монеты, объединяющая бога-императора и его преемника. Изображения Будды удивляют каким-то внутренним светом. Они не излучают вовне светоносную божественную энергию. Лицо Будды самодостаточно, его глаза как бы закрыты, они повернуты внутрь, что и символизирует нирвану. Иконы –– это тоже не изображение человеческих лиц. Они, конечно, не сравнимы с масками древних или с профилями императоров. Глаза Христа широко раскрыты и смотрят прямо на зрителя. Но его лицо не индивидуально, в нем нет человеческого участия и сострадания. Изображенный под куполом православного храма Бог-Пантократор испепеляет всевидящим оком молящихся на коленях верующих; льющаяся сверху световая энергия не знает преград и не дает никому пощады. Эманация света дополняется голосом, который, 182 резонируя, тоже льется как бы из-под купола сверху вниз. Страх Божий –– вот что должна вызвать икона. Это не изображение и, тем более, не фотография. Даже если художник сознательно или бессознательно писал чье-то знакомое лицо, то все равно это не было портретом. Точно также, чье бы лицо ни отразилось на Плащанице –– это не снимок. Нельзя отрицать, что икона имеет государственное значение. Лицо Христа –– прежде всего, лицо мужчины-европейца, на котором также присутствует этническая маска, что проявляется в местных особенностях той или иной иконописной школы. Дело не только в различной технике живописи, но и в культивировании собственного особого облика человека. Здесь чувствуется преемственность с имперской техникой власти, симулирующей себя в профилях императоров на монетах. Чудодейственная икона как непосредственный представитель самого Бога, его родной, близкий, знакомый облик –– взгляд главы семьи, царя –– все это слито вместе и одно поддерживает другое. Кроме того, как утверждают представители биоэстетики и психоанализа, изображения, часто рассматриваемые беременными женщинами, как бы программируют облик ребенка. Удивительно, что в эпоху развития науки особенности лица-маски культивировались в рамках хотя и маргинального, но все же квазинаучного дискурса. Речь идет о физиогномике Лаватера и Гаруса. Они достаточно четко понимают свою задачу и предлагают своеобразную семиотику лица, которая распознает и расшифровывает любую из социально значимых способностей человека по чертам его лица. Форма носа, ушей, разрез глаз, высота лба и даже сетка морщин –– все рассматривается как симптомы тех или иных внутренних желаний, способностей, склонностей. Характерология человека строится с учетом социального контекста. Поэтому, прежде всего, определяются интеллектуальные, моральные, социальные качества человека, насколько он честен, надежен и ответственен. Клиповое лицо Наше лицо сегодня под угрозой. И древние иногда носили маску, но сегодняшняя хирургия красоты не знает жалости. Мы стремительно теряем свое лицо. Славянки выпрямляют курносые носы, а грузинки осветляют волосы. Фотомодели определяют критерии красивого и некрасивого, своего и чужого. В результате лица пожилых людей, изборожденные морщинами, кажутся студентам ужасно уродливыми. И, наоборот, лица молодых людей кажутся преподавателям какими-то незаконченными. Ужасное влияние рекламы проявляется в том, что она делает клиповое лицо. Это образ с небольшим разрешением не выдерживает пристального и длительного восприятия. Такие лица должны мелькать, и их носители привлекательны, если дополняются другими, фланирующими индивидами. Клиповое лицо становится не живым, а «резиновым» или «кукольным» при близком взаимодействии. Рядом с таким лицом невозможно находиться долгое время. Оно ввергает в скуку. Поэтому молодежи все время хочется разнообразия. Их лица не уникальны и не открывают ничего нового. Реклама и мода на самом деле навязывает какое-то коллективное лицо. Видимое разнообразие рас, этносов, культурно-исторических типов на самом деле оказывается китчем. Лицевая операция, проделанная над Майклом Джексоном, раскрывает ту стратегию, которая характерна для нашей культуры, беспощадно искореняющей 183 следы жизни и характера с человеческого лица. Эстетическая хирургия –– это типичное проявление современного цивилизационного процесса, вовлекающего все народы в борьбу за комфорт. Мы все теряем лицо, сформированное нашими предками в процессе совместной жизни, получая взамен маску, которая привлекает лишь на короткое мгновение, а при ближайшем рассмотрении оказывается грубой и неинтересной. Лица фотомоделей –– это стереотипы комиксов. Мы соглашаемся на лицевую операцию потому, что больше не любим и не гордимся лицами своих предков, которые кажутся нам грубыми и неотесанными. Эстетическое протезирование лица направлено не против негров или китайцев, а против всего того, что в жизни выглядит как естественное. Лицо родового человека формировалось как приглашение к дружбе, и в этом заложен большой смысл: улыбающееся лицо воспринималось как приглашение к сотрудничеству. Эстетическая хирургия способствует росту разукорененности, безродности и бездомности, которые являются опасными последствиями глобализации. Человек без лица по-особенному опасен и враждебен к чужому. Утрата лица –– это утрата идентичности. Каждый человек, каждая группа, народ должны, чтобы не потерять себя и не раствориться в других, должны любить, восхвалять и гордиться своим как внешним видом, так и культурой и обычаями. Отношение к чужому у каждого народа обретало свои особенности, определяемые историческими событиями. Но всякий народ воспроизводит себя также на уровне языка и культуры и формирует у каждого нового поколения своеобразные предпочтения и желания, включая эстетические, кулинарные, эротические и т.п. вкусы. Все наши желания в какой-то мере являются искусственными, однако от них не так то просто избавиться. Проблема утраты и сохранения идентичности по-настоящему может быть осмыслена на уровне не столько идеологии, сколько психологии и даже физиологии людей. Идентичность –– это психосоматическое состояние и включает в себя не только знание о том, кто я, но и чувства уверенности, гордости и уважения к себе. Тот, кто не любит или потерял себя, равнодушен и даже агрессивен к другим. Люди, не имеющие дома, забывшие свой род, его песни и язык, интенсивно дегенерируют в процессе глобализации: их квартиры комфортабельны, но в них нет человеческого тепла, их музыка и визуальное искусство сладострастны, но не служат высокому и не призывают к героическому подвигу. Они, напротив, уводят в глубины собственной души, откуда уже не возвращаются. Каждый замыкается в себе и предается разрушительной саморефлексии на тему о своей сущности. Такие люди и составляют благодатную почву для националсоциализма, идеологи которого интенсифицируют стресс чужого. Тот, кто не потерял себя, а наоборот, гордится как своей культурой, так и породой, не боится чужого. Наши предки культивировали то, чем они отличались от других, но не боялись, а уважали их. В какой-то мере стресс чужого нейтрализовался законами гостеприимства, и это была достаточно эффективная стратегия признания другого. Тот, с кем ты делил свой хлеб, не может предать тебя –– таков самый древний этический постулат, который сохраняется и в Евангелии. Гостеприимство –– форма близкого и сильного взаимодействия людей, включающего бытие лицом к лицу, а также обмен взглядами и прикосновениям. Совместная еда сближает людей даже ближе, чем разговор. Недаром такие значительные теории любви, как учение об эросе Платона и заповедь Христа о любви к ближнему, были сформулированы не за письменным столом, а во время совместной трапезы. 184 Совместная еда как форма близости Совместная еда сближает людей надежнее, чем разговор. Впрочем, значительный разговор часто подкрепляется чашей вина или, как в России, бутылкой водки. Это превращает его в разновидность договора, который, по древнему обычаю, также сопровождается возлиянием, называемым у нас в древности «литками». Таким образом, совместная еда отсылает к жертвоприношениям и даже к каннибализму. Но на самом деле пиры не только сближают, но и разъединяют. По свидетельству историков, пиры в Месопотамии протекали в исключительно торжественной тишине. Помимо решения вопроса о месте за столом, вторая задача –– кому из участников пира полагаются те или иные части пиршественного животного.152 В условиях нехватки продуктов социальная иерархия поддерживалась неукоснительным порядком употребления пищи. Выбор пищи был обусловлен выбором себя. По сравнению с древними пирами, имевшими исключительно символический характер, греческие застолья становятся формой частной жизни и нацелены на получение удовольствия. Но люди собирались вместе за пиршественным столом не ради еды и питья, они всегда преследовали нечто высшее, и поэтому хлеб и вино всегда имели некий метафизический привкус. Беседы античных мудрецов и разговоры Христа со своими учениками протекали вовсе не в лекционных залах, и не только потому, что еще не было создано специальных мест для лекций и проповедей. На самом деле школы и храмы уже существовали, но как Сократ философствовал на улицах, так и Христос предпочитал амвону паперти или частные собрания людей. И это не случайно, ибо официальные места для образования и наставления выполняют весьма серьезные, кажущиеся мыслителю побочными, функции, которые, пожалуй, перекрывают значение слов и понятий, отсылающих к истине. Итак, встает вопрос о месте разговора, о месте истины. Почему доверительная беседа протекает за едой и, более того, сопровождается распитием спиртных напитков, музыкой и даже танцами? Иногда думают, что такого рода застольные беседы имеют исключительно развлекательный характер. Но не обстоит ли дело совершенно наоборот: может быть, разговор радикально воздействует на последующее поведение участвующих в нем людей именно за счет того, что он подкреплен такого рода формами близкого взаимодействия. Истина –– это то, что объединяет, то, что собирает людей вокруг себя. Такими центрами издавна были свет, тепло и еда. Люди собирались вокруг огня, ели, пили и пели. Так под куполом неба, под сводом пещеры или под крышей дома создавалась особая микросфера, образуемая не только светом и теплом, но также звуками и запахами. Только современная эпоха радикально деструктивна в отношении остатков этих форм близкого взаимодействия. Когда из обжитого ограниченного космоса, построенного по образцу «ойкоса», люди оказались выброшенными в бесконечную Вселенную, то уже сами ученые (Паскаль) испытали настоящий ужас оттого, что оказались беззащитными и слабыми как былинка в поле. Укрытость и защищенность –– важнейшие потребности человека. Но где проходит граница между своим и чужим? Боюсь, что сегодня она вплотную придвинулась к человеку, настолько, что его ближайший сосед –– человек живущий и даже сидящий с ним рядом –– совершенно безразличен и даже 152 Клочков И.С. Пиры в искусстве и литературе Месопотамии // Одиссей. М., 1991 185 враждебен. Есть основания думать, что она вообще уже протекает внутри нас, ибо враждебный нам Другой обитает именно там. В связи с отсутствием телесной близости, сострадания (так христианство культивировало мир близкого взаимодействия), симпатии (так Новое время пыталось преодолеть разобщенность людей) возникает актуальная задача деструкции новоевропейской метафизики, которая отбросила накопленный культурой традиционные формы связи. Начиная с Декарта, она предпринимала интенсивные попытки заменить этнические, национальные, государственные и иные коллективные формы солидарности индивидуальным познанием истины. Сегодня заговорили о «смерти метафизики», и это симптом не только ее кризиса, но и рождения нового спасителя, объемлющего мир людей. Им сегодня становится мир масс-медиа, возрождающих магнетопатию общения на основе аудиовизуальных знаков. Человеческий организм –– это на самом деле сложный сосуд, точнее, система соединенных между собою емкостей. Сложная алхимическая лаборатория нашего тела вступает в дело еще до того, как еда попала в рот. Утверждение «Я –– это мой живот» кажется столь же бесспорным, как и убеждение интеллектуала «Я –– это мой разум». Можно оспорить о том, что первично, но прежде хотелось бы оспорить саму приватизацию, которая на самом деле случилась сравнительно недавно. Наши предки не только сообща добывали и ели пищу, но и формировали свои мысли как коллективные представления. Ни первое, ни второе не было результатом индивидуальной деятельности, а производилось и потреблялось совместно. Конечно, и сегодня люди редко едят в одиночку, а то, что они едят, также оказывается продуктом широкой кооперации. Точно так же не только наши вкусы, но и мысли вовсе не принадлежат нам, и даже когда они приходят нам в голову и содержатся только там, даже не будучи озвученными или опубликованными, механизмы их зарождения включают в себя установленные в процессе образования фильтры, отбрасывающие проникновение индивидуального. Разумеется, голова и желудок устроены у каждого немного по-разному и, вероятно, каждый по-своему ощущает вкус кофе, однако попытка описать то особенное, что испытал мой желудок, когда сегодня я выпил кофе, показавшийся мне необычным, обречена на неудачу. При всей разнице наших органов мы потребляем примерно одинаковую пищу, подвергаемся воздействию стандартного набора лекарств, мы смотрим одинаковые телепередачи, читаем одни и те же газеты и книги и, тем не менее, считаем себя автономными индивидами, добившимися значительной степени эмансипации. И наоборот, наши предки, включенные в сравнительно небольшие объединения, не ощущали себя индивидуалистами. Более того, активно утверждая ценности и обычаи (от пищи и одежды до песен и мыслей) своего сообщества, активно культивируя и демонстрируя свое отличие от жителей соседней деревни, тем не менее, умудрялись быть активными защитниками государства. Стало быть, дело было не в широте охвата социальных и экономических коопераций. Несмотря на очевидную слабость социальных связей людей в ранних государственных образованиях, существовали более сильные и близкие взаимодействия, определявшие единство древних коллективов. Дело не в том, что мы едим пищу, в приготовлении которой участвует все большее число людей, а в неких ритуалах, сопровождающих ее принятие. В отличие от животного человек воспринимал пищу как нечто священное. Конечно, и раньше и теперь были и теперь есть люди, которые просто едят, а не 186 священнодействуют, но то, как едят современные гурманы или любители пищевых церемоний и званых обедов, существенно отличается от дружеской или священной трапезы, как она протекала в прошлом. Совместное принятие пищи было основой родственности и дружественности. Даже Христос говорит словами псалма: «Тот, с кем я делил свой хлеб, поднял на меня пяту свою», и это для него, завещавшего возлюбить врагов, является высшим выражением предательства. Итак, дружба и предательство –– основные «экзистенциалы» человеческого бытия –– выражаются не как намерения, а как телесные практики, в числе которых –– совместная еда. Что особенного размышлениям придает совместная еда и питье? Если обратиться к «Пиру» Платона и «Тайной вечери», как она описана в Евангелии от Иоанна, то можно заметить, что две самые значительные теории любви, оказавшие наиболее сильное влияние на развитие европейской культуры, также разрабатываются не в аудитории, а в процессе совместной трапезы, включающей употребление вина. Еда –– это не только принятие пищи, т.е. превращение внешнего во внутреннее, самый интимный процесс, соучастник которого –– сотрапезник –– становится самым близким другом. Это и определенным образом организованное место, которое характеризуется близкой и сильной взаимосвязью, осуществляющейся в соответствующей атмосфере, включающей образы, звуки, запахи и вкусы. Интеллектуальный историк мог бы возразить: какое значение имеет для мысли место ее порождения и озвучивания? Но, может быть, не только голова, но и другие органы, не только индивид, уединившийся в кабинете, но и коллектив, а главное время, место, атмосфера собрания, играют продуктивную роль для производства мыслей. Свойства пищи неверно рассматривать как исключительно биологические и тем самым культурно нейтральные. На самом деле восприятие того или иного качества пищи осуществляется на фоне культурных верований и нагружено сложными символическими представлениями. Пищевые предпочтения, формируемые и навязываемые культурой, играют важную организующую роль в социализации детей. В соблюдении различий сырого и вареного, соленого и сладкого, мясного и постного субъект реализует культурную идентичность и отделяет себя от чужих. Это происходит на уровне габитуса –– культурных стереотипов, инкорпорированных в тело и осуществляющихся на бессознательном уровне в форме привычек, предпочтений, вкусов, норм поведения и т.п. Примером культурной кодированности пищи является различие сырого и вареного. В эпоху неолита при переходе от собирательства к земледелию, от кочевничества к оседлости люди стали отдавать приоритет приготовленной пище, так как она свидетельствовала о наличии культуры. Одновременно таким способом достигалось и окультуривание людей. Критерии допустимой или недопустимой пищи включены в процесс идентичности и имеют гендерный, классовый, религиозный характер. На заре человеческого общества главное различие проходило по линии «природное –– культурное». «Свои» в отличие от чужих, прежде всего, от животных питаются приготовленной пищей. Отсюда в эпоху неолита дикорастущая, собранная для пропитания пища уступает место приготовленной, «вареное» имеет более высокий культурный статус, чем «сырое». Точно так же пища дифференцируется не столько в зависимости от вкусов субъекта, сколько от социального статуса едока. На первый взгляд кажется противоречивым откладывать лучшую пищу для гостя, а самому питаться остатками. Но неверно думать, будто это –– обусловленная 187 социальным неравенством форма перераспределения. Охотник, добывший хорошую пищу, не может съесть ее сам, ибо она предназначена либо для пира с соплеменниками, либо для сакрального потребления. На самом деле, такая пища является даром, который, в принципе не может быть отвергнут. Если гость гнушается принять подношение, то он оскорбляет хозяина. Разделить трапезу, принять дар –– это весьма близкая форма взаимосвязи, предполагающая высокую ответственность как дающего, так и берущего. Дж. Фрэзер истолковал пищевые табу и запреты как корреляты социальных категорий, коды социальных различий и иерархий. При этом важно подчеркнуть, что питание при этом не превращалось в нечто исключительно символическое, в некий язык или знаковую систему, демонстрирующую место человека в мире. Оно направлено на формирование определенного типа телесности, который подобает мужчине или женщине, ребенку или взрослому, воину или священнику. При этом речь идет не о жесткой системе норм, а о правилах питания в разных ситуациях, например, при выполнении разных видов работы. К. Леви-Стросс интерпретировал пищевые табу как некую вторичную означающую систему, символическую надстройку для идентификации социальных ролей людей. Неприятие пищи часто диктуется не медицинской, а культурной «вредностью». Не реальный, а символический вред –– вот, что заставляет нас отторгать ту или иную пищу в качестве «нечистой». Номадыскотоводы отвергают свинину потому, что она не является мясом вольнопасущихся животных. Решение вопроса о том, можно или нет, вредно или полезно съедать ту или иную пищу, определялось в древности не соображениями относительно меры голода и калорийности продукта, а сложной процедурой идентификации: кто ты есть здесь и сейчас вкушающий эту еду? Таким образом, трапеза выступала в древности в роли особого языка обозначения социальных габитусов, и одновременно, как дисциплина и самодисциплина, направленная на сохранение своего статуса и улучшение себя как исполнителя той или иной социальной роли. Это обстоятельство показывает, что так называемый пищевой этикет, как форма сдержанности и самоконтроля, не являлся продуктом придворного общества, от которого Н. Элиас начинает отсчет времени цивилизации, а гораздо более ранним изобретением людей. Страх голода древнее и могущественное чувство. Тот, кто его преодолевает, становится защитником и спасителем людей. Не удивительно, что пища издавна служила важнейшим элементом политики. Но если раньше она, помимо физиологической функции, выполняла важную связующую роль, то теперь она превратилась в рычаг развития экономики. Если раньше граница «вкусного» и «невкусного» определялась различием своего и чужого, то теперь критериями экономической целесообразности. На упаковках обозначена состав и калорийность еды, которая должна потребляется в зависимости от затрат энергии. Вместе с тем экономика развитых стран культивирует потребление, и поэтому рекламируются либо не содержащие лишних калорий продукты, либо средства, обеспечивающие их безопасное и быстрое усвоение. При этом реклама пищи имеет скрытый политический подтекст. В России (хотя все говорят о защите отечественного производителя) она нацелена разрушение сложившихся естественных путем различий вкусного и невкусного и внедрение новых вкусов, приемлющих продукты, изготовленные по западным технологиям. 188 Слух и зрение Яхве и Адам, мать и эмбрион (а таковым ребенок является еще целый год и после своего рождения) находятся в самой тесной коммуникации без того, чтобы поизносить длинные убеждающие речи. В телепатии нет ничего необычного: каждый из нас легко угадывает настроение близкого человека. Чистые звуки гонга, мелодический голос, родное лицо оказывают магнетопатическое воздействие на человека. И поскольку книжная культура, в рамках которой мы сформировались, постепенно уходит в прошлое, а на место вербального вновь приходят аудиовизуальные медиумы, возникает вопрос о том, как мы ориентируемся в звуках и образах. Поскольку в нашей культуре язык чаще исследуется в качестве текста, а не речи, постольку следует обратить внимание на способности человека не только читать, но и слушать. Слух, способность слышать –– это связь и даже зависимость от другого человека. В отличие от него зрение более индивидуально. Голос и слух обслуживают межчеловеческие взаимодействия. Говоря философски, слух –– это больше этическая, чем гносеологическая способность. В европейской традиции ухо не исследуется как теоретический орган. Со времен греков теория –– это видение, усмотрение сути дела, а знание –– его идея или образ. Можно сделать вывод, что ухо –– это орган лингвистический или прагматический и коммуникативный, а глаз –– семантический, или когнитивный. Понятия слуха чаще используется в практической и политической философии. Недаром послушность считается важнейшим качеством человека. Практический разум откликается на призыв ценностей и веление долга. Теоретический разум, наоборот, никого не слушает, а опирается на видение и понимание. Среди главных гносеологических терминов доминируют те, которые описывают работу глаза и руки: усмотрение, схватывание, постижение, усвоение и т.п. Выявив такую тенденцию, можно спросить, а не играет ли и ухо эпистемологическую роль? Например, у Гердера ухо рассматривается в семантическом и когнитивном изменении. Язык понимается как игра звучащего мира и слушающего человека. При этом речь идет о способности слышать не только другого человека, но и мир, природу и самого себя. Глаз и рука утрачивают при этом эпистемологический приоритет. Гердер рисует поэтическую идиллию, в которой человек сравнивается с кроткой овечкой, агнцем божьим. Отоцентрическая концепция языка и познания вновь стала популярной в наше время. Уже А. Гелен опирался в разработке своей антропологии на идеи Гердера. Точно так же Хайдеггер считал слух важнейшим условием языка. В философских обобщениях всегда что-то не так: греческая культура считается визуальной, ибо теория понимается как усмотрение, а между тем роль голоса была столь велика, что на агоре побеждал тот, кто красиво и убедительно говорил. То же самое противоречие имеется в общих оценках римской культуры: с одной стороны, она опирается на риторику, а с другой, на бестиализирующие зрелища. И в дальнейшем можно найти множество фактов, подтверждающих утверждения как о фоно-, так и о фотоцентризме европейской культуры. Ситуация становится более однозначной, если учесть, что в теории, например, греки опирались на зрение, а римляне на слух, и наоборот обстояло дело в политике: греки слушали слова, а римляне поклонялись символам величия Рима и наслаждались зрелищами. Можно ли утверждать, что в современной культуре, где господствуют аудиовизуальные технологии, 189 основным органом гуманизации снова становится ухо, а не глаз, слух, а не зрение? В основании языковой игры лежит структура организма, которая сложилась в процессе манипулирования предметами. Чувство очевидности происходящего складывается при участии всех органов чувств. При этом считается, что чувства слуха и вкуса в ходе взаимодействия человека с миром играют не самую значительную роль. В частности, ухо как неподвижный орган недостаточно годится для активного освоения вещей. Остаются глаз и рука. Именно рука является наиболее эффективным органом для освоения предметного мира. Для лучшего понимания последствий визуализации дискурса необходимо обратить внимание на связь глаза и руки. Не только слепые подтверждают связь этих органов. Основные понятия теории познания на немецком языке недвусмысленно раскрывают эту связь. Begriff, greifen означают одновременно операцию взгляда и действие руки. Глаз оказывается слепым без хватательного движения руки. Таким образом, основанием языка является рука. Где рука, там не только глаз, но и рот, куда складируют то, что берет рука. Освоить –– значит съесть. Так мы приходим к языку и слову, венчающему лингвистический поворот. Поскольку словом сопровождается, прежде всего, хватание, нет ничего удивительного в совпадении словаря описания работы руки, взгляда и познания. Слово onoma первоначально было названием челнока –– инструмента ткача (Кратил). И в дальнейшем метафора ткани остается ведущей для описания языка (текст). Так, Платон описывает диалектику как искусство разделять и складывать по родам по аналогии с действиями руки ткача. В Британии, стране гольфа и бриджа, для описания языка Л. Витгенштейн использовал метафору игры, которая также есть не что иное, как операция руки. Но рука трактуется уже как орган игры, а не труда. Однако обе эти теории оставляют в тени то обстоятельство, что язык –– это орган рта, или, как более возвышенно выражался Розеншток-Хюсси, плод уст. Это не исключает, конечно, того, что рука играет важную роль, однако нельзя забывать и о телесном субстрате уст и уха. Гироцентрическая теория не объясняет, как слово проистекает из понятия. Аналогия работы руки и органов по производству звуков мало что дает. Первым автором гироцентрической концепции происхождения языка был А. ЛеруаГуран. Он считал важнейшими условиями становления человека, во-первых, развитие руки, которая является не только органом движения и хватания, но и производства; во-вторых, развитие лица. Как известно, уменьшение челюсти, наряду с церебрализацией является главным фактором формирования человеческого лица. Пасть превращается в рот, морда –– в лицо. Как рука из хватательного органа становится манипулирующим, так и рот оказывается органом артикуляции звуков. Поскольку оба процесса протекают параллельно, можно считать, что это один и тот же процесс. Таким образом, производство орудий и развитие языка связаны неразрывно и к тому же неотделимы от социальной структуры. Леруа-Гуран отмечал, производство орудий и символов связано у человека с развитием мозга. Конечно, неверно отождествлять язык и орудийную деятельность. Соседство хватательных способностей руки и артикуляция звуков базируется не только на неврологической связи руки и лица, но и на структурном параллелизме. Ощупывание предметов и произнесение звуков имеют сходную структуру активного действия. Звук речи движется к уху слушателя, он трансформируется в ощущение, и наоборот. Когда говорят 190 «схватывает на лету», то имеют в виду способность воспринимать слова. Чтобы адекватно понять роль уха в освоении мира человеком, важно учитывать, что и этот орган развивался параллельно развитию руки и лица. Нельзя согласиться с тем, что ухо как пассивный орган неприспособлен для активного освоения мира. На самом деле изолировать ухо от слуха, который основан на схватывании звуков, это то же самое, что отделять кожу, как орган рецепции, от активности руки. Можно указать следующие характеристики слуха: –– Прежде всего, слух, хотя и рефлексивный орган, однако оказывающий определенное действие на уста, производящие звук, который должен быть слышим. –– Младенец, познающий свое тело путем прикосновения, первоначально воспринимает внешний мир благодаря слуху. Звуки становятся для него важнейшей частью мира. –– Отсюда первоначальными средствами воздействия на мир оказываются звуки; человек обретает власть посредством голоса. –– Поскольку внешний мир первоначально воспринимается не тактильно, а акустически, то голос другого столь же необходим, как и питание. –– Важное значение собственного голоса состоит в том, что его тон, звучащий вовне, воспринимается как свой внутренний голос. Я звучу таким, какой я есть. Восприятие жизни и смерти в истории культуры Здоровье и болезнь Существует целый ряд фундаментальных понятий и представлений, которые характеризуют метрику повседневной жизни, однако они еще мало интересуют современную философию, ориентированную, прежде всего, на культурно рафинированные формы символизации бытия. Философская рефлексия обслуживает научно-техническую и социально-политическую практику, способствует преодолению устаревших стереотипов сознания и стимулирует усилия общественности, направленные на эмансипацию. Вместе с тем, давно замечено, что философия обходит стороной, может быть, самые важные темы человеческой жизни и даже считает смысложизненные проблемы неправильно сформулированными, бессмысленными и потому неразрешимыми. Сегодня философы как бы махнули рукой на экзистенциальные драмы, и люди, озабоченные проблемами жизни и смерти, любви и ненависти, добра и зла, не получают от них стоящего совета. Да и что можно в таких случаях посоветовать? Если, например, кто-то неизлечимо болен или безнадежно влюблен, то объяснения, разумеется, ему не помогут. Между тем, античные философы практиковали искусство жизни, включающее специфические наставления учителя ученику, которые не отсылали к общим моральным нормам, а учитывали время, место и ситуацию действия. Их можно охарактеризовать как передачу личного опыта управления собой, как духовные практики управления своими желаниями, помогающие выживанию в мире, полном соблазнов. Старинное искусство жизни –– наставления, поучения и утешения, от которых отказалась философия, ныне подхвачено отчасти научными специалистами, отчасти шарлатанами, беззастенчиво раздающими рекомендации, касающиеся способов стать счастливым. Конечно, нельзя отрицать прагматического или психотерапевтического эффекта такого рода 191 рекомендаций, но трудно воздержаться от критики оснований и стратегических ориентаций, на которых они строятся. Во всякой культуре складывается слой достоверностей, определяющих как научную, так и повседневную практику. К ним относятся различия реального и вымышленного, истинного и ложного, мужского и женского, больного и здорового, живого и мертвого и др. Но нередко люди ощущают эти очевидности как догматические и устаревшие. Сегодня можно наблюдать не только скепсис в отношении тех или иных истин, традиционных добродетелей, юридических законов, но протест против кажущихся допонятийными, «естественными» разделений биологического или медицинского характера, наиболее впечатляюще и вызывающе проявляющийся в перемене пола. Запись пола младенца, так же как и регистрация смерти, сегодня уже не всегда совпадает с действительностью, и это свидетельствует о том, что так называемые факты всегда нагружены символическим значением, интерпретируются на основе ценностных предпочтений, которые часто устаревают. Поэтому философию в первую очередь должен интересовать вопрос о переходе, изменении границ, порогов и барьеров, составляющих опору часто закостеневшего и репрессивного порядка повседневности. В определении человека как больного животного заключено весьма емкое содержание. Во-первых, хотя и животные болеют, но все-таки не так, как люди. Во-вторых, человеческие болезни во многом –– это продукты культуры. Втретьих, возможно, наихудшими являются душевные расстройства, болезни духа, ослабляющие человеческую ткань цивилизации. Слово «болезнь» произошло от боли, которое к душевным состояниям применяется, может быть, даже чаще, чем к физическим. Человек болеет, переживает по поводу себя и других, его заботит смысл собственной жизни и процветание человечества. Собственно, способность сопереживать страданиям других и есть важнейшее человеческое качество. Способность сострадать сегодня стремительно деградирует. И это удивительно, так как в целом жизнь становится более обеспеченной, и человек уже может позволить себе помогать другим. Если благотворительность еще как-то держится благодаря соответствующим общественным движениям, то интерес и тем более соучастие к несчастьям других людей стремительно исчезает. Может, души людей огрубели, и их толстая кожа уже не пропускает внутрь такие неприятные события. Однако по свидетельству психиатров, современные люди по большей части невротики. Они вздрагивают от громких звуков, страдают от уличного шума, криков и возни соседей, но их мало волнуют несчастья других, а о своих они предпочитают не говорить: сегодня не принято обнажать свои душевные язвы. Однако молча нельзя избавиться от своих душевных проблем. С кем же мы сегодня можем поговорить о своих сомнениях, которые, собственно, являются ранними симптомами болезни? С друзьями мы делим время развлечений, и сегодняшняя «дружба» не предполагает поддержки в случае материальных или душевных затруднений. Тех, кто пытается обсуждать свои проблемы с окружающими, считают занудами и норовят от них отмахнуться. Остается психоаналитик –– наш платный друг, ангел-хранитель, интимный приятель, которому мы признается в том, чего даже сами о себе не знаем. Забота о себе не то чтобы забыта, она стала делом специалистов. При этом с душой и с лекарствами для нее произошли опасные трансформации. В современном обществе физические, так и психические расстройства все чаще порождаются цивилизационными факторами. Тела и души –– такие же продукты культуры, как и остальные артефакты, составляющие среду нашего обитания. Все чаще в 192 размышлениях о прогрессирующих заболеваниях отмечается антропогенное влияние технического прогресса, ухудшение качества воздуха, воды, питания. Много говорится о недостатке физической нагрузки и психических перегрузках, порождаемых современной цивилизацией. Но есть еще один источник изменений наших внутренних переживаний: культура чувств и технологии, направленные на ее совершенствование. Нельзя сказать об их дефиците. Если можно говорить об упадке дружеского общения, то относительно заботы о душе со стороны специалистов, напротив, о расцвете. Психоанализ трактуется как защитная реакция в ответ на появление разного рода невротиков и психотиков. Души людей, как их тела, разрушает современная цивилизация. Но причина не только в ней. Можно спросить: а не оказывает ли патогенного влияния сам психоаналитический дискурс? Не является ли столь же инфекционной наша литература и философский экзистенциализм, описывающий бесцельность и бессмысленность нашего существования? Среди человеческих чувств и переживаний есть такие, которые в самом прямом смысле являются патогенными: одни разъедают душу индивида, другие –– опасны для окружающих. С одной стороны, отчаяние, неверие в смысл жизни, с другой стороны, ненависть и злоба –– вот самые страшные вирусы, угрожающие современной цивилизации. Болезни этого рода поражают, обесценивают главный капитал –– сердца и души людей, которые утрачивают волю к жизни. Тот, кто не любит себя, ненавидит и другого. Отсюда –– самоуничтожение и война всех против всех. Ненависть, злоба и мстительность не являются наследием ужасного прошлого, наподобие холерных вибрионов, возрождающихся в антисанитарных условиях. Они процветают в обстановке индивидуализма и эгоизма, процветающих в современной цивилизацией. Болезнь и смерть стали важнейшими экзистенциалами нашего существования. Философствовать –– значит учиться умирать. Но сегодня речь идет не о лекарстве. Философия сама превратилась в род «смертельной болезни». Не удивительно, что с точки зрения практичных людей философствование –– никчемное занятие, недостойное настоящих мужчин, дело которых –– ворочать камни и бороться с врагами, а не рассуждать о смысле бытия. Макиавелли, следуя мнению римских императоров, считал философию безусловно вредной для государства. Она не только отвлекает людей от дела, но и сеет сомнения в безусловности общепринятых ценностей. Оценка культуры в терминах болезни и здоровья и стала главной у Ницше. Его «воля к власти» есть не что иное, как воля к здоровью. В архиве Ницше сохранилось множество набросков, в которых он пытается осмыслить свой «великий перелом». Он описывает ненасытную юность, желание всего «много и сразу» и говорит о прозрении: «Я понял однажды, какие яства я вкушал и к чему соблазняли меня голод и жажда, буйствующие в моей душе. Это было летом 1876 г. Рассвирепев от ярости, оттолкнул я тогда от себя все столы».153 Как же Ницше боролся с пессимизмом –– этой главной болезнью века, какое лекарство против него он нашел? Единственным противоядием является лишь воля к здоровью. Саму философию Ницше оценивает в терминах «больная» или «здоровая». При этом он не только меняет порой на противоположное значение этих понятий, но и пытается избавиться от самой противоположности. Дело не просто в «переоценке» ценностей, а в том, чтобы сделать ее бесконечной. Таким образом, перспективизм и воля к власти оказываются вовлеченными в общий 153 Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т. 1. М., 1990. С. 793. 193 поток становления. Философ не может сказать о себе: наконец, я выздоровел. Философ не имеет права и не должен считать себя «нормальным» и «здоровым». Не может быть речи о возврате к прежнему. Мечте Ницше о выздоровлении не удалось сбыться. Никто не может вернуться к детской беззаботности, и не только потому, что дерзкая хмельная сила, данная нам от рождения, растрачена. Как взрослый не может снова стать ребенком, так и больной здоровым. Этому мешает «злая мудрость», которая тоже болезненна, и от мизантропии ее может удержать только сильная воля, воля к выздоровлению. Итак, философ –– ни здоровый и ни больной, а выздоравливающий. Отсюда Ницше вынужден был разыгрывать комедию здоровья, имитировать его. Философ, конечно не Дионис, но и невротик –– это тоже не всегда философ. Философ –– выздоравливающий невротик, как Дионис не совсем обычный бог, которому присущ предикат всесовершенства, а выздоравливающий Бог. Христос в этом отношении также «не вполне божественен»: он принял смертную муку на кресте и лишь потом воскрес. Человек болеет не так, как животное, и это приводит к появлению специфических технологий лечения. Речь идет не о шаманских заклинаниях и знахарях и даже не о медицине как таковой. Уже античные историки писали об эпидемиях чумы, которые уносили жизнь целых городов. Эпидемические заболевания имеют какое-то не до конца осознанное и сегодня значение в эволюционном отборе и борьбе за выживание. Микробы были и остаются нашими самыми серьезными врагами. Именно мельчайшие невидимые вирусы, а не крупные хищные животные таят в себе сильнейшую угрозу и выступают сегодня нашими конкурентами за приоритет на земле. Эта борьба протекает невидимо от наших глаз. Мы окружены вирусами, и они живут внутри нас. Ежесекундно наш организм сталкивается с ними, селектирует и вырабатывает антивирусы, уничтожающие патогенных микробов. Являются ли вирусы нашими врагами? Несомненно. Организм каким-то образом распознает их и принимает ответные меры. Наверное, эта борьба истощает тело и оно, в конце концов, сдается. Так наступает смерть. Мы только родились, а уже умираем. А может быть, вирусы только кажутся нам враждебными? В концепции Мальтуса содержалась мысль о неполноценных расах. И действительно, эпидемии приходили в Европу с Востока или из Африки. Но вирусы постоянно проверяют нас на прочность и заставляют постоянно держаться в форме. Как только происходят какие-либо серьезные потрясения, как тут же они выходят на арену истории, и их губительное воздействие проявляется воочию. Болезни начинают косить людей. Особенно во время войн и после них, когда люди лишаются крова, живут в антисанитарных условиях и голодают, массовые заболевания производят свой страшный отбор, унося на тот свет ослабленных людей. Сегодня эпидемии не знают пощады и уничтожают молодых и старых, мужчин и женщин, красивых и некрасивых, сильных и слабых. Таким образом, тут речь идет уже не об индивидуальном отборе. Человечество, думающее, что оно состоит из автономных индивидов, на самом деле остается гигантским муравейником, суперорганизмом, который борется с вирусом как системное целое. Эпидемии, как природные и технические катастрофы, проверяют на прочность систему, а не отдельного человека. Массовые заболевания постепенно привели к выработке специфических мер предосторожности, в основе которых лежала изоляция и страх контакта с заболевшими. Сознательно или бессознательно, системная борьба привела к выработке специфических системных дисциплинарных практик. Так появились 194 лепрозории, дома сумасшедших, общие госпитали. Их история имеет важное значение для понимания происхождения и устройства специальных мест, отводимых больным, не только в медицине. Для культурологии и философии они интересны тем, что именно там больные становятся больными, т.е. получают диагноз и признают его. Дело в том, что мы можем болеть и умирать, не зная от чего, и даже вообще не рефлексируя по этому поводу. Мы смертны и больны, но можем, так сказать, не впускать болезнь в сознание и оставаться жизнерадостными людьми. Будучи больными телом, мы можем оставаться здоровыми духом. Но, попадая в больницу и подвергаясь диагностике, анализам, лечению мы становимся больными, т.е. осознаем, принимаем себя в этом качестве, что радикально меняет наше мироощущение, самосознание и поведение. Этим больницы похожи на тюрьмы. Именно там, а не при чтении приговора суда, человек становится преступником. По мнению Фуко, тюрьмы становятся важнейшими местами, где реализуются практики признания. В ином обличье как познание, понимание и мораль они действуют в казармах и школах, в больницах. Кроме собственно медицинского взгляда на болезнь, весьма развит литературный и художественный –– визуальный дискурс. Сравнивая картины, на которых изображались больные с литературными описаниями болезней, Фуко констатировал серьезное различие. На картине фигура, лицо, одежда, манеры умалишенных выглядят отталкивающе. А в литературе безумцы выглядят как живописный сброд, не лишенный своеобычной мудрости. Писатели нередко воздают похвалу глупости. Они описывают карнавалы, все участники которых становятся жизнерадостными придурками. Так глупость вписывается литературой в мир повседневности. Наоборот, изображения больных четко проводят и поддерживают границы между больными и здоровыми. Чем вызвано это различие? По мнению Фуко, кроме порядка знания существует дисциплинарный порядок. Кроме медицины как науки, есть больницы. Возникает искушение свести или вывести одно из другого. Но это не получается, и поэтому приходится констатировать их дополнительность. Как переплетаются эти порядки? Фуко склонялся к тому, что медицина не может считаться гуманной, ибо она является рационализацией управления болью и страданием, наносимым человеку в лечебных учреждениях, которые он рассматривал по аналогии с тюрьмами. Медицина выступает продолжением стратегии власти. Ее дискурс во многом направлен на то, чтобы превратить человека, попавшего под подозрение, качающегося на краю жизни и смерти, а таков каждый из нас, в больного, т.е. диагностировать и поместить на больничную койку, где он будет подвергаться специфическим воздействиям. Здесь важно, что сама диагностика, т.е. установление болезни, определяется набором шаблонов, которые определяются устройством дисциплинарных пространств. Ставится такой диагноз, который соответствует технике данного лечебного заведения. История различия живого и мертвого Различие живого и мертвого ни в одну историческую эпоху не вызывало затруднений: восприятие, понимание и оценка жизни и смерти –– нечто осуществляющееся, как правило, совершенно автоматически. И все же это, казалось бы, очевидное различие выглядит весьма проблематичным как в биологии и медицине, так и в философии. С одной стороны, успехи реанимации, эффективная пересадка органов, а с другой стороны, эвтаназия 195 существенно изменяют традиционные различия между жизнью и смертью. Неизбежная в обычном смысле слова смерть предстает в поэзии и в метафизике как непостижимая тайна бытия. Такая «романтическая» позиция, впрочем, не избавляет от жестких различий жизни и смерти, используемых для управления человеческим поведением. Однако благодаря ей живое и мертвое оказываются не природным, а культурным различием. Смерть перестает быть чем-то абсолютно чужим, она перемещается в сознание человека. Настораживает не только интенсификация, но и поспешное освобождение от страха смерти.154 Первобытные люди боялись мертвых, хотя считали умирание совершенно естественным процессом. Покорность судьбе, вероятно, снижала их осторожность. Но было бы неправильно считать, что интенсификация страха смерти и установление новых обрядов в христианстве были вызваны заботой о продлении жизни. Религиозные представления и ритуалы представляются своеобразной политической церемонией передачи человека из рук земной власти в руки другой –– более совершенной, осуществляющей наказание за моральные грехи. Сколь бы неприемлемой ни казалась такая «политика» смерти, нельзя отрицать, что она выступала средством упорядочивания человеческого поведения. Страх смерти, связанный с загробным воздаянием, служил опорой ответственности, самодисциплины и сдержанности. Благодаря им складывался более либеральный общественный порядок, опирающийся не только на телесное насилие, но и на совесть, долг и другие юридические и нравственные понятия. По сути дела, формула Ф.М. Достоевского «Если Бога нет, то все позволено» указывала на то, что без ответственности перед Всевышним нельзя утвердить порядок на земле, ибо, предоставляя свободу живым, Бог строго спрашивает с умерших. Неудивительно, что вера в потустороннюю жизнь и забота о смерти не исчезают в процессе цивилизации. В настоящее время люди относятся к смерти иначе, чем раньше, и это выражается в ее практическом изгнании и замалчивании. Ни о чем так мало не заботится современный человек, как о смерти. Это выражается, в частности, в ценностях, ориентированных на наслаждение жизнью, в усовершенствовании техники умирания, доходящей до возможности эвтаназии. Такая тенденция изгнания смерти поднимает вопрос об основаниях нравственности, рациональности и самой власти: аннулировав право на смерть, отказавшись от легитимации в форме ссылок на Страшный Суд, не лишается ли она гарантированности? Однако для подобных опасений нет оснований. Уже давно опорой порядка в цивилизованных обществах выступает не право на смерть, а управление жизнью. Сейчас власть реализуется не столько в форме запрета, сколько в форме советов и рекомендаций, касающихся здорового образа жизни.155 На смену религиозному и морально-юридическому пришел медикобиологический дискурс. Прежде всего, ставка делается не на смерть, а на жизнь: её продление, экономия, рациональная организация –– вот на что нацелен современный человек. В условиях многообразия товаров и услуг аскетическая техника ограничений запретов и воздержаний заменяется новыми технологиями, ориентированными на комфорт и удовлетворение любых потребностей, на избавление от напряжения, страха и боли.156 Нельзя сказать, что в современной культуре смерть вытеснена в качестве формы духовного опыта. Напротив, человек много думает и переживает об умерших. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. С. 465. Рязянцев С. Философия смерти. СПб., 1994. 156 Фуко М. Воля к знанию. М., 2006. 154 155 196 Парадоксальным образом смерть вступает в сознание некоторых людей не только как страх, но и как наслаждение им, обеспечиваемое, например, фильмами ужасов. И вместе с тем она воспринимается как величайшая несправедливость по отношению к самому себе. Наряду с коммерческими фильмами, паразитирующими на притягательности смерти и к тому же внедряющими в сложившиеся различия живого и мертвого моральнополитические оценки, осуществляются авангардные попытки разрушения этих различий, стирания следов власти, нанесенных так или иначе на тело и душу человека. Неправильно понимать их как продолжения стратегии эротизации смерти. В фильме Сокурова некрасивая, совершающаяся в тишине больничных палат смерть выводится в открытый дискурс, предстает как неизбежная реальность, с которой придется столкнуться каждому. Замалчивая смерть, мы не ценим ни себя, ни своих ближних. Авангардное искусство, снимающее с жизни рекламный глянец, наносящее на нее патину умирания и смерти, выполняет важную функцию эмансипации оптики, порабощенной мерками и масштабами вечной молодости и красоты. Серьезные изменения происходят в рамках дисциплинарных пространств смерти. Под давлением общественности возникают специальные службы, работающие с безнадежными больными. Они пользуются не только обезболивающими медикаментозными препаратами, но и психотерапевтическими средствами. При этом происходит пересмотр прежней оппозиции жизни и смерти, в рамках которой срабатывает морально-ценностное и экономическое различение.157 Жизнь в современной культуре воспринимается как безусловная ценность, а смерть –– как роковая неудача, обрывающая планы и творческие замыслы человека, как расплата за нарушение рекомендаций власти, манипулирующей способом жизни, распорядком труда и отдыха. Человек во все времена боялся смерти. Сегодня, воспринимая смерть как прекращение активного труда и отдыха, как остановку конвейера потребления и наслаждения, человек страшится по сути дела культурного образа смерти. Работа по его изменению требует совместных усилий, ибо он сложился как продукт разнообразных цивилизационных воздействий на человека. Философия не обещает бессмертия и не говорит о жизни по ту сторону смерти. Она не избавляет ни от смерти, ни от страданий. Но зачем она тогда нужна? Что значит преодоление границ живого и мертвого, если это не воскресение? Жизнь и смерть кажутся абсолютно чуждыми, и тот, кто не только размышлял о собственной смерти, но и терял близких, знает, что смерть никогда и ничем не может быть оправдана. И все-таки нельзя не замечать, что пороги и границы между живыми и мертвыми не являются абсолютно природными, независимыми от нашего субъективного отношения к смерти. Можно возразить: что бы мы ни думали и как бы ни воспринимали и оценивали смерть, умирать все равно придется и, стало быть, наши мысли и чувства не имеют отношения к реальности, которая не верит слезам и нечувствительна к страданиям. Смерть как расплата за первородный грех иррациональна и не зависит от нашего морального поведения. Такое возражение –– свидетельство легкомысленного отношения к смерти, которое и должно преодолеваться. Ведь легкая смерть «изза угла» или во сне –– это довольно редкие случаи умирания. Смерть –– долгий процесс и тяжелый труд, осуществляющийся при жизни и связанный со страданиями. Облегчить их, проявить смирение и терпение, научиться достойно 157 Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995. 197 принимать смерть –– вот ныне заброшенная задача, которую решало старинное искусство жизни, в которое входило и искусство умирать. Человек знает о своей смертности. Но не это составляет драму его жизни. Смерть –– неминуемое будущее и последняя возможность, после которой уже не будет никаких возможностей. В этом смысле смерть - граница надежд и мечтаний, но также и граница страдания и лишений. Смерть –– это конец всех жизненных явлений, утрата любых жизненных значений. Помнить о смертности значит четко представлять себе, что там не будет ничего из того, что мы приобрели, накопили здесь. Не то, чтобы смерть совсем обесценивает жизнь. И все-таки мысль о ней делает нас сдержаннее, и мы уже не так жадно стремимся к достатку, известности, познаниям. Смерть присутствует своим отсутствием, и хотя ее пока нет, она неминуемо приедет. Тот, кто боится смерти, может впасть в апатию. Напротив, тот, кто относится спокойно к своей смертности, воспринимает мир и жизнь в высшей степени радостно, как подарок судьбы, которым нужно как следует насладиться. Согласно мнению стоиков, мы не имеем причин как-то ненавидеть смерть или бояться ее. Ведь, как говорил Эпикур, когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Как бы не отличались точки зрения «пессимиста» и «оптимиста», они сходны в том, что их исходной позицией выступает проблема собственной смерти. Даже в спорных и неоднозначных «воспоминаниях людей, переживших собственную смерть», содержится одна очень важная деталь, подтверждающая центральное значение фантазма собственной смерти. Они видят свое мертвое тело, плачущих родственников и, наконец, соображают, глядя на покойного: «Да это, кажется, я». Для большинства людей смерть –– это нечто страшное и непоправимое, факт настолько очевидный и грубо присутствующий, что тезис Эпикура воспринимается как злая насмешка или отвлеченная спекуляция. Осознание собственной смертности в экзистенциальной философии считается критерием подлинного бытия, а в психологии признаком душевно здорового человека. Однако кажется, что смерть всегда впереди, и даже безнадежно больные, как правило, верят, что будут жить. На самом деле умерший не рефлексирует, и никто не видел лица собственной смерти. Безжалостной, абсурдной, нелепой и непоправимой является смерть другого. Умер тот, кого мы знали и любили. Умер самый близкий человек. Его лицо окаменело, а глаза закрылись. Мы не услышим его голоса и не увидим его фигуры. Он уже ничего не скажет, ни споет, ни напишет. Остался мир с его дорогами, но по ним он уже не сможет ходить. Нам остаются лишь воспоминания и нестерпимая боль. Смерть другого –– вот он, самый страшный удар смерти. Она не воспринимается как необходимое и закономерное завершение жизни. Мы не понимаем и не принимаем не свою собственную смерть, а именно смерть другого. Таким образом, можно сказать, что смерть –– это феномен не времени, а пространства. Во времени жизнь и смерть вообще неразличимы или не встречаются друг с другом. Эту неразличимость показал Лейбниц, который методом анализа бесконечно малых доказал, что граница между моей жизнью и моей смертью –– это нечто вроде ноля в дифференциальном исчислении. С другой стороны, эта абсолютно тонкая линия, как показал Эпикур, абсолютно непроницаема и непрозрачна. Зато граница живого и мертвого абсолютно четко прочерчена между мною, еще живым, и другим, уже умершим. Именно эта граница вызывает протест и неприятие, именно она нелепа и незаконна. Присутствием отсутствующего является умерший. Глядя на него, мы понимаем, 198 что пришла смерть. Смерть –– это пространственное явление, а не тайна времени. Пространство смерти Известная «Тибетская книга мертвых» содержит специальные указания как вести себя в загробном мире, как ориентироваться в его пространстве, чтобы не заблудится и добраться до назначенного места. Этот древний текст –– свидетельство институализированной общественной заботы о мертвых. Он должен восприниматься не только как трактат, содержащий тайные знания, но и как социальная инструкция, порожденная страхом перед тем, что заблудившийся может вернуться назад и помешать живым. Это обстоятельство делает понятным живучесть некоторых погребальных обрядов, которые с точки зрения просвещенного сознания могут показаться устаревшими предрассудками. На самом деле их живучесть связана не только с соблюдением традиции. В конце концов, когда надо, традиции меняются. Но несмотря на некоторую смену антуража, сами эти ритуалы весе же остаются неизменными. Например, древнему воину давали в могилу оружие, христианину «пропуск в рай», а современному человеку холодильник с телевизором. Смерть –– это беспредел, нарушение всех законов, моральных, социальных, юридических. Поэтому, если есть смерть, то все позволено. Если я знаю, что умру, предположим, через три дня, то что удерживает меня от эксцессов? И, тем не менее, чем ближе смертный час, тем организованнее и послушнее ведет себя человек. Больной принимает прописанные ему лекарства, соблюдает режим, бросает курить и т.п. Это еще как-то можно объяснить страхом смерти. Но как можно объяснить соблюдение строгого ритуала похорон с последующими поминками? Отступление от них вызывает столь сильное осуждение, что редко кто отважится полностью отдаться охватившему чувству отчаяния и безнадежности и не соблюсти обычаи. Очевидно, что общество следит за их исполнением потому, чтобы мертвые не вернулись обратно в наш мир. Конечно, сегодня мы знаем, что мертвые не возвращаются, однако и раньше эти обряды не были магическим возвращением умерших, а имели терапевтическое, психотехническое назначение. Но самой главной их задачей являлось упорядочивание общения с умершими: не возвращение навсегда, а своеобразное приглашение в гости –– вот в чем суть коммуникации. Даже в таких культурах, где культ почитания ушедших из жизни особенно развит, он строго регламентирован и отправляется в определенное время. Общество заботится о том, чтобы живые проводили время не у надгробий, а в социальном пространстве. Умерший не был раньше неподвижным телом, которому необходим участок земли в длину его роста. Он владел часто обширной территорией, наполненной зданиями и вещами, занимал то или иное место в социальной системе. Человек умирает, а, место, принадлежащее ему, остается. Он действительно странник, прохожий в этом мире. По аналогии с биологической моделью, где не индивидуум с его свободой, уникальностью, ответственностью, знаниями и талантами, а ген, род является основой жизни, можно сказать, что и в культуре человек выступает представителем социума, его институтов. Поэтому, несмотря на дискретность, которая проявляется как смерть уникальных и незаменимых личностей, культура должна создать механизм непрерывного замещения, циркуляции и смены мертвых живыми. Этот процесс должен происходить без задержек, чтобы функционирование социальной машины не остановилось. 199 Место умершего должен быстро занять другой, способный исполнять оставшиеся обязанности. Это возможно не только в случае необходимой квалификации заместителя, но и при условии, что он не будет слишком много горевать, поскольку это может помешать его работе. Память о покойном специально селектируется и интерпретируется. Как правило, она содержит информацию об успешном осуществлении его земных обязанностей. Власть использует смерть в своих интересах для укрепления имиджа социально необходимых добродетелей. Но есть и другая сторона общения с мертвыми. Сегодня, стремясь ускорить процесс циркуляции живого и мертвого, общество пытается сделать смерть незаметной. Умерший исчезает совсем, и наутро, после смерти одного, другой хладнокровно сидит в его кресле. Самонадеянно думать, что мы умнее древних. А ведь они общались с умершими не по причине своей необразованности. В этом был свой смысл. Так они ощущали себя живыми. Важную роль в культуре играют похоронные ритуалы. Во-первых, они выполняют медитативно-временную функцию. Процессия плакальщиков, похоронная месса, казалось бы, разрывают нашу душу, но они одновременно канализируют наши страдания. Перенаправление горя на мир, который оставил покойный, повышает ценность самого этого мира. Во-вторых, такие ритуалы производят пространственную упорядоченность. Они представляют собой довольно тонкое жонглирование на тоненьком канате «срединного пути» и дают средства удержать равновесие. Ритуал –– это проводы мертвых и в то же время защита живых, защита от горя и аффекта, нарушающих социальный и душевный порядок. Прежде всего, место смерти ограничивается, для чего табуируется дом или место, где умер человек. Там, где остался ее отпечаток, ни в коем случае не должна ступать нога живого человека. И до сих пор территория смерти оберегается, отмечается и ограничивается целым рядом запретов. Так, на домах вывешиваются черные флаги или делаются другие отметки. В комнате занавешиваются зеркала и закрываются окна, везде присутствует черный креп. Это и есть разметка асоциального пространства, знаки опасности, предупреждающие о необходимости особой осторожности. Как сигналы светофора на оживленных магистралях города, они призывают к порядку, сдержанности и бдительности. Поэтому посетители ведут себя почтительно и тихо, тщательно соблюдают все требования и обычаи ритуала похорон. Хотя перед лицом смерти никакие правила, казалось бы, не могут ничего значить и должен стоять вой, ритуал призывает, прежде всего, к молчанию. Нельзя тревожить мертвых –– это основной запрет, на охрану которого направлена вся культура похорон и кладбищ. До погребения требуется воздержание в еде и питье, меняется одежда, действует особый церемониал, используется иной порядок и форма приветствий, исключаются какие-либо сексуальные намерения. Рука смерти претендует не только на тело, но и на собственность покойного. Поэтому в древности вместе с умершим погребали и его личные вещи. Тут дело не в том, что похороны отражают стандарты общества или являются центральным элементом его экономики. Шок смерти угрожает жизни. Вот почему первым делом следует локализовать смерть, чтобы она не разрушила на своем пути все живое. Усопшего отправляют в последний путь, на новую родину. Его готовят к этому с особой тщательностью. В древних культурах погребали не только одежду и оружие, но и хоронили в лодке, на которой он 200 мог бы пересечь реку Забвения. Место обитания мертвых также чаще всего осмысляется в спиритуалистическом ключе: темное или светлое царство, рай или ад. Как много картин такого рода. К этому, однако, добавляется особая картография, особенно внушительно составленная Данте. Лучше всего эти два элемента –– потустороннесть и ландшафтность –– выражаются на кладбище. Люди давно придумали некрополи, и их сохранность удивляет. В истории, кажется, разрушилось все, кроме кладбищ. История и археология связаны с ним самым тесным образом. Смерть огорожена и изолирована, но она по-прежнему таит в себе жало и инфицирует нас. Но это не смертельная инфекция безжизненной тоски, а прививка против стагнации. Этим объясняется необходимость общения с умершими. Их нельзя просто забывать и предоставлять самим себе. Топологически граница живого и мертвого укрепляется оградой кладбища, могилой или склепом, которые ограждают миры живых и мертвых от беспорядочной связи. Концепция границы как способа взаимоопределения и взаимоперехода нечто и иного была разработана задолго до гегелевской диалектики в первобытных ритуалах захоронения и общения с мертвыми. Мертвые должны возвращаться, если мы хотим, чтобы они отсутствовали. Мы сами, когда пожелаем удостовериться, что все еще живы, должны обращаться к усопшим. Культ покойных связывает современников с духом предков и способствует сохранению родины. Мертвые обязаны не только жить в своей стране, но и помогать живым. Но для этого им следует, хотя бы на короткий срок, посещать свою бывшую родину.158 Это требование дифференциации. Именно граница дает ощущение различия живого и мертвого. Без мертвых нет живых, и наоборот. Таков порядок, который разделяет и связывает зависимостями даже живых и мертвых. Но поскольку смерть особенно опасна для социума, то общение с нею требует предельной осторожности, чтобы она не привела к хаосу. Если при посещении могил наше сердце разорвется от печали и вынудит к эксцессам, то это нарушит гармонию социального мира. Таким образом, возникает потребность в лимитированном переходе, чтобы не уничтожить саму границу. В определенное время и в определенном месте разрешается их встреча, которая сопровождается строгими церемониями, особой торжественностью и почтительностью. Граница открывается, что бы затем, по истечению назначенного времени, закрыться наглухо снова. Уже в древности взывание к духам умерших, приглашение их в наш мир было регламентировано. Как правило, оно совпадало с годовыми циклами, и в Европе проводилось в период зимнего солнцестояния. Примерно то же самое имело место в Азии и в Америке. Будь то ритуал заклинания духов предков или карнавальное шествие и сжигание соломенного чучела, важнее, чем чувственное впечатление, оказывается функция такого действа. Она разрешает переход и общение между мирами с целью укрепления пространства жизни. Дух предков вызывается для того, чтобы восстановить его. Место жизни окружено страной мертвых, и мы живем на территории, границы которой определены кладбищем. Не случайно иной мир располагается рядом с нашим, ибо благодаря этому мы глубже и полнее ощущаем связь с местом обитания. Покинуть территорию –– то же, что умереть, и об этом свидетельствует страх изгнания в прошлом. Даже современные эмигранты это переживают. Так, 158 Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. 201 Канетти писал, что он умирал ровно столько раз, сколько вынужден был менять место жизни. Домашний очаг является центром человеческого мира. Это место, где горизонтальная граница соединяется с вертикальной. Точка пересечения задается местом обитания –– кровом. Иметь кров, крышу значит быть укрытым, значит таиться от хаоса. Но точно так же укрытыми и захороненными являются мертвые. Отсюда слово «погост», означающее у смертных и деревню, и кладбище. Между кладбищем и домом есть глубокая и напряженная связь. Слова дом и домовина происходят от одного корня, и это подтверждает интуицию М. Хайдеггера, который исходя из старинной мудрости, что путь на кладбище –– это путь домой, пришел к необычному в современной философии утверждению, что человек находит и определяет самого себя в смерти. Из сферы «man» он переходит в мир подлинного бытия. Если в социуме он заместим и заменяем и выступает как «любой» или «каждый», т.е. усредненный и заменяемый другим, то в смерти он по-настоящему незаменим, и поэтому нельзя ни умереть за другого, ни попросить кого-либо умереть вместо себя. Сокрытость бытия генерируется по мере продвижения человека к месту захоронения. Если общество культивирует открытость, наготу как качества государственного тела, то смерть укрывает нас и возвращает к забытой истине бытия. Жить значит ждать смерти на этой земле, но это не означает, что смерть пустое ничто или конечная цель. Все мы называемся смертными, ибо введены в саму суть жизни и смерти. Хайдеггер абстрактно тематизировал связь бытия и смертности человека, которую он понимал как «мою-смерть-в-будущем» и этим следовал основному способу представления смерти во времени эпохой модерна, минимизирующей могилы и тем самым исключающей смерть из пространства. И все же Хайдеггер сделал значительный шаг для ее возвращения и использовал в «Бытии и времени» опыт символического общения с умершими. Его понятия пограничного опыта, существования перед лицом ничто, жизни как умирания являются важными экзистенциалами, возвращающими человека к забытому опыту смерти. Он вовсе не романтизирует жизнь и не воспевает «дух смерти». Особенно в поздних своих сочинениях он заботливо печется о смерти как соседке жизни, которая готовится принять в свои объятия человека. Таким образом устанавливается символический обмен между жизнью и смертью: умирая, человек приходит к себе, и смерть вновь оказывается, как у древних, равнозначной рождению. Здесь тоже, конечно, не обошлось без некоторого перекоса хрупкого равновесия. У Хайдеггера кладбищенский порядок господствует над миром живых. Его смертные ведут себя столь же тихо, уединенно и отрешенно, как умершие.159 Призраки смерти Отказ от мертвых –– побочный продукт развития капитализма, главной целью которого является неосознаваемое отвращение к смерти и умиранию. Это проявилось и в эволюции власти, прежде опиравшейся на древнее право на смерть, а затем постепенно переместившейся в сферу управления жизнью. Культ жизни, здоровья, долголетия привел к забвению умерших, они лишились отведенного места и времени общения с нами и как бы растворились в воздухе. Как ни странно, обряды похорон стали более пышными, что связано с экономикой, но обряды поминовения и общения с мертвыми сократились и 159 Хайдеггер М. Язык. Перевод Б.В. Маркова. СПб., 1991 202 формализовались. Тот, кто умер, исчез навсегда и безвозвратно, он перестал существовать. Однако цена, которую пришлось платить за эту радикальную утопизацию, оказалась довольно высокой. Живые прекратили общаться с умершими, они забыли дорогу на кладбище, утратили способность вступать в сложно-противоречивые символические отношения с ушедшими, и, тем самым, разрушили пространственный порядок жизни и смерти старой танатотопологии. Вместе того чтобы и дальше культивировать смерть, люди забросили ее, и она одичала. А ведь если закрыть тюрьмы, то в социальном пространстве установится криминальный порядок. Истории о полтергейса говорят, что мы забыли мертвых, и они сами приходят к нам, причем делают это спонтанно и беспорядочно. Наши и без того мертвые города становятся городами мертвых. Строго говоря, смерть не может быть изучена научными методами, ибо она представляет собой уникальный и неповторимый для отдельного человека опыт. «Каждый умирает в одиночку», –– в этих словах заключена еще и невозможность повторения, обобщения и сообщения об опыте смерти. Даже если бы ученый воскликнул в момент приближения кончины: принесите приборы, я буду констатировать данные, то и в этом случае он ничего бы не сумел нам передать. Необходимы какие-то иные способы изучения этого загадочного явления. Историко-культурные и феноменологические описания должны быть дополнены рассказами о разного рода стражах и вестниках смерти, о существах, вернувшихся к нам из мира мертвых. Все истории с привидениями содержат одну мораль: если нарушен порядок смерти, то умерший не находит себе места в загробном мире и может вернуться обратно, угрожать живым или беспокоить их, пока они не восстановят нарушенную гармонию. И наоборот, живые не должны беспокоить мертвых, они не могут во внеурочное время посещать кладбища и, сокращая путь, пересекать их по дороге на работу. Истории о привидениях обычно анализируются либо как символическое выражение загадок загробного мира, либо как неоспоримое свидетельство глупых предрассудков и грубых заблуждений непросвещенных людей. И в том, и в другом случае они воспринимаются как повествования во времени и о времени, ибо вращаются вокруг вопроса о том, есть или нет, существуют или не существуют привидения, реальны или призрачны, материальны или идеальны все эти фигуры. Однако даже гоголевского «Вия» или «Кентервильское привидение» О. Уальда можно читать иначе и посмотреть, как в рассказах о привидениях разграничиваются и упорядочиваются пространства живого и мертвого, каковы правила мирного сосуществования между обитателями этих миров. Тогда выясняется, что привидения имеют свой ареал обитания, и призрак, покидающий его, сам сильно рискует. Точно так же живые не должны беспокоить мертвых в тех местах, которые им отведены, и особенно не совать туда нос в неурочное время. Вообще посещать кладбище предписывается по памятным дням и обязательно до обеда. Человек, ненароком забредший на кладбище, тоже рискует стать жертвой привидений. Итак, привидения –– это своеобразные стражи порядка, пограничники, преследующие нарушителей. Они также выполняют и моральную функцию. Человеку с чистой совестью не стоит бояться привидений и если он случайно окажется на кладбище ночью, то привидение может его испугать, но не убить. 203 Итак, рассказы о привидениях –– это не размышления о сущности привидений. Испорченные рефлексией мы искаженно воспринимаем и ошибочно интерпретируем эти истории. На самом деле их главная задача –– это описание места, в котором живут и действуют привидения, как границы четко разделяющей живых и мертвых. Такая пространственная упорядоченность противостоит событию смерти, которое является беспорядком в мире порядка. Это действительно эксцесс, нечто нарушающее установленный социальный порядок и обычное течение жизни. От этого нельзя избавиться, но можно нейтрализовать. Для этого используются успокаивающие медитации, направленные на борьбу со своим горем, на сборку, восстановление себя после смерти близкого человека, на возвращение утраченного смысла жизни и вкуса к ней. Таковы реальные функции техники переживания, памяти и других актов сознания, работающих во внутреннем времени. Но если покойный находится рядом, если он не похоронен в специальном месте, то такие медитации невозможны. Они неэффективны и в том случае, если призрак покойного приходит и беспокоит нас. Он существует как феномен сознания, и поэтому вопрос о реальности или идеальности не избавляет от его присутствия. Феноменологическая рефлексия показывает, «как нечто (в том числе и призрак) возможно»: если Лютер видел дьявола и швырял в него чернильницей, значит, для него это было истиной. Если призрак приходит, значит, он есть. Поэтому от него нельзя избавиться временной разметкой, Он свободно путешествует во времени, и переживание не отличает «реального» от «вымышленного». Если в сознание встроен такой аппарат, который проецирует призраков, то, как в случае с микрофизикой, нам приходится только принять зависимость вопроса от реальности от разрешающей способности прибора. Поэтому в древности были приняты более эффективные процедуры. Привидения, духи помещались в своеобразных резервациях и гетто, откуда они выпускались и посещались под строгим контролем жрецов. Таким образом, призрак живет в отведенном ему месте и впускается в сознание в определенное время. Это восстанавливает беспорядок в душевных и социальных взаимоотношениях людей, причиненный смертью. Все в мире постепенно меняется, в том числе и разного рода отклонения. Современные сумасшедшие непохожи на юродивых прошлого. Точно так же старые добрые привидения вытеснены какими-то странными существами, имматериальными по природе, но наделенными энергией. Судя по всему, первые призраки, напоминающие полтергейстов, появились уже в середине XIX столетия.160 Надо отметить, что модные спиритуалистические сеансы уже были нарушением установленного порядка общения и привели к чрезмерной экзальтации смерти. С полтергейстами умершие пришли в наши дома. От полтергейстов нельзя укрыться, все беззащитны перед ними. Они повсюду за стенами, за окнами, во всех углах нашего жилища. Они не показываются, и никто не видел отчетливо их лиц. Они не говорят с нами на человеческом языке, а общаются стуками и криками, напоминающими азбуку Морзе. Мы почти ничего о них не знаем. Даже фантасты не могут придумать их облик. Не имея ни лица, ни фигуры, ни голоса, они производят разрушения и внушают животный страх. Если раньше привидения обитали на пустынных кладбищах, в старых замках и заброшенных домах, где когда-то было совершено 160 Macho T.H. Vom Skandal der Abwesenheit Uberlegungen zur Raumordnung des Todes // Antropologie nach dem Tode des Menschen. Frankfurt am Mein, 1994. 204 преступление, то полтергейсты не подчиняются никаким правилам, и невозможно понять, почему они выбирают то или иное жилище: без различия к форме, высоте, количеству окон, балконов они поселяются то там, то тут, и уходят также беспричинно, как и приходят. В конце концов, люди стали считать их теле-радио-медиумами –– не случайно «Радио Люксембург» проводит экспериментальные передачи в мир усопших. И раньше были попытки сфотографировать призраки, но сегодняшние возможности телевидения позволяют осуществить более впечатляющие проекции из потустороннего мира. Живы ли мы, когда смотрим фильм ужасов? Мертвые среди нас, как номады, они кочуют с места на место и представляются как голоса и шумы, как образы или призраки и, не в силах отличить посюсторонее от потустороннего, мы сами живем, как усопшие. Так, заменив пространственный порядок смерти на временной, мы пали жертвами трансформации гегелевской диалектики границы: мы присутствуем тем, что отсутствуем. Превращая свой способ представления времени в рефлекс смерти, мы принуждены искать ее повсюду, и неудивительно, что философия времени является философией смерти. Подобно правде и лжи, любви и насилию, жизнь и смерть различаются каждым нормальным человеком. Однако как духовные феномены они постигаются в разные эпохи по-разному. Человеческое бытие, в отличие от бытия природы, способно к самоизменению в результате познания. Будучи бдителен, человек не получает бессмертия, но может изменить свою жизнь. Самопознание, связанное с самоизменением, –– это и есть поле приложения философии. Однако люди, обращающиеся к ней с просьбой дать понятный ответ на простой вопрос о том, как прожить счастливую жизнь и нейтрализовать смерть, не получают желаемого. Философия не дает рецептов, обеспечивающих безмятежное проживание в заданных сетями порядка условиях, ибо она стремится преодолеть понимание самих условий выживания как чего-то наперед заданного, естественного и неизбежного. Подвергая сомнению сложившиеся представления о жизни и смерти, она раскрывает их культурно-историческое происхождение. Но этого мало. Вне поля внимания академической философии остались многочисленные дисциплинарные пространства, в рамках которых происходит аппликация этих представлений. Недостаточно критического отношения к устаревшим моральным нормам, лежащим в основе разделения живого и мертвого. Необходима реорганизация учреждений, в рамках которых культивируется современный потребительский подход к жизни, основанный на законах экономии. В еще большей мере должны быть трансформированы дисциплинарные пространства смерти, где само умирание и общение с умершими превращено в некий квазижизненный процесс. Семья как дисциплинарное пространство культуры Сегодня трудности семейной жизни и перспективы их решения исследуются с двух различных позиций. Одни видят их в сексуальной адаптации супругов, другие в восстановлении нарушений коммуникации, которые приводят к непониманию и конфликтам. Не отрицая важности терапии того и другого, следует расширить возможности философского анализа семьи, которая всегда выступала как традиционная «ячейка общества», как место осуществления биологического, сексуального, экономического, социального, интеллектуального и иных форм признания. 205 Рассуждения Платона сегодня легко квалифицируются как мужской шовинизм. Женщина лишена права любить и определяется как машина деторождения. Забота о ней определяется исключительно надобностью государства в хорошей человеческой породе, которая поддается дальнейшему одомашниванию и воспитанию в рамках «пайдейи». Однако такой вывод не соответствует истине, так как рассуждения Платона критически оценивали реальное положение женщины в патриархальном обществе и в каком-то смысле вырывали ее из гименея, а также освобождали от господства онтологических различий «теплого» и «холодного». Производителями тепловой субстанции считались мужчины, поэтому они закаливались в гимнасиях, а женщины пребывали закутанными в темную одежду в душных помещениях женской половины дома. Сравнивая стражей со сторожевыми собаками, Сократ указывает на то, что самки не только приносят приплод, но и стерегут стадо. Отсюда он делает вывод, что и женщины могут выполнять функции стражей, если получат воспитание, подобное мужскому. Вопрос о том, могут ли женщины выполнять в государстве ту же роль, что и мужчины, решается с точки зрения возможностей их природы. Она определяется различием функций мужчин и женщин в деторождении. Однако Сократ считает, что «если же они отличаются только тем, что существо женского рода рожает, а существо мужского рода оплодотворяет, то мы скажем, что это вовсе не доказывает отличия женщины от мужчины ... Напротив, мы будем продолжать думать, что у нас и стражи, и их жены должны заниматься одним и тем же делом».161 Женщина явно отличается от мужчины не только тем, что вынашивает детей, но и своими домашними функциями; она лучше готовит, а также ткет. Но можно ли отсюда сделать вывод, что мужчины лучше, чем женщины, предназначены управлять государством? Участники диалога склоняются к мнению Сократа о том, что у женщин существуют разные природные задатки. Наряду с тем, что часть из них лучше приспособлена к приготовлению пищи, среди них есть и такие, которые добиваются больших успехов в музыке и гимнастике. Стало быть, нельзя исключать эти способности и заранее запрещать женщинам быть стражами. Во имя процветания государства Платон наступает на мужской шовинизм. Нет никаких природных препятствий тому, что бы женщины занимались мусическим искусством и гимнастикой. Но что из этого выйдет? Чисто формально собеседники высказывают либеральный тезис: «Пусть же жены-стражи снимают одежды, раз они будут вместо них облекаться доблестью, пусть принимают они участие в войне и в прочей защите государства и пусть не отвлекаются ничем другим. Но во всем этом, из-за слабости их пола, женщинам надо давать поручения более легкие, чем мужчинам».162 Такая постановка вопроса, вызвана, конечно, не защитой прав женщин. Принцип справедливости суров: каждому свое. Но дело в том, что женщину нельзя содержать как раба, ибо она рождает мужчин, способных властвовать. Чтобы порода не испортилась, необходимо хотя бы часть женщин — производителей породистого мужского потомства поддерживать в хорошей форме и подвергнуть цивилизационному воздействию. Греческий «Домострой», по образцу которого был создан и тот, который получил распространение в России, включает нечто удивляющее нас. В нем 161 162 Платон. Государство. Соч. в 3-х т. Т.3. М. 1971. С. 250. Там же. С. 253. 206 необходимость семейной жизни обосновывается ссылкой на две противоположных причины, на продолжение рода и особого рода дружественность, возникающую между мужем и женой. Отношения симпатии не сводятся ни к родовым связям, ибо брак предполагает разрыв с кровными родственниками, ни к духовной любви, предполагающей «прогулки при луне» и разговоры на романтические темы. Но «Домострой» не похож, как иногда думают, на пособие по сексологии, ибо его наставления настраивают мужчин на управление самим собой, призывают не путать жену с любовницей. (Собственно, трудносовместимыми обязанностями современной женщины является необходимость совмещать три различные роли, а именно быть кухаркой, матерью и любовницей, к этому перечню следует отнести также ожидание и некой мудрости, благодаря которой женщина оказывает терапевтическое воздействие на закомплексованного мужчину.) Анализируя наставления супругам, написанные древнегреческими и римскими писателями (особенно симпатизировали семье стоики), следует особо подчеркнуть ссылки на «естественность» семьи, ее «метафизическую» необходимость для человека, дружественность как достойную, цивилизованную форму признания. Философы отрицали ценности семейной жизни, ибо считали, что они отвлекают от поисков истины. То, что первыми высказали возражения против семьи именно философы, должно насторожить нас. Наверное, следует более глубоко осмыслить их аргументы. Думается, что ссылки на заботы и тяготы семейной жизни на самом деле означают нечто иное. Ведь преимущества брака в традиционном обществе несомненно. Не только женщина без мужчины, но и мужчина без женщины не мог вести достойную жизнь. Всякий, кто остается один на даче (т.е. в условиях, приближенных в России к первобытным) с целью заняться научной работой, быстро понимает, что он платит за отсутствие мелких помех дорогой ценой, ибо вынужден почти все свое время тратить на приготовление завтрака, обеда и ужина. Философы выразили сомнение против брака потому, что видели лучший способ достижения единства в истине, в понятии. По сравнению с ним даже счастливый брак, в котором супруги достигают не только биологического и экономического признания, но некоего «космологического» единства, слияния двух душ в одно целое, выглядит как недостаточный. Сегодня многие молодые люди понимают брак исключительно как сексуальную и интеллектуальную коммуникацию, и именно это делает их союз непрочным. Современная культура не готовит к несению тягот семейной жизни. Открывая истину о браке, она не предпринимает усилий для необходимой для совместной жизни «дрессуры», поэтому молодые супруги у нас являются, несмотря на знание сексологии и даже наличие романтических ожиданий, самыми настоящими дикарями. Свободные индивиды каждый на свой страх и риск ищет и не находит абсолютную формулу счастья. Пренебрежение кажущимися устаревшими закостеневшими традициями, автоматическое следование которым обеспечивало прочность брака, является одной из причин нестойкости его сегодня. Конечно, отказ от традиционных правил в семейных отношениях связано не только с ориентацией на самопознание. Эти правила оказались ненужными в силу распада того пространства, в рамках которого зародилась и воспроизводилась патриархальная семья. Особенно ничтожной в пространстве современной городской квартиры оказалась роль мужчины. Хотя набирает обороты феминистский дискурс, на самом деле в спасении сегодня нуждаются мужчины. Непомерная тяжесть маскулинности, сопровождающаяся 207 невостребованностью традиционных мужских достоинств, приводит к бегству и без того слабого мужского сообщества. Об этом свидетельствует тот факт, что они уже склоняются к перемене пола или к нестандартному сексу. И сегодня семья рассматривается как необходимость, связанная с продолжением рода, и как государственная инстанция, благодаря которой социальный порядок максимально приближается к человеку. К этому добавляется наследие христианства, которое ввело таинство брака, и тем самым отметило сверхприродное и надсоциальное назначение семьи. Писание содержит относительно брака противоречивые указания: «И всякий, кто оставит дома, братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Матф. 19, 29). «Не уклоняйтесь друг от друга ... Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Корниф. 7: 5–7). С этим столкнулся Блаженный Августин, который будучи епископом, вынужден был под давлением рассерженных мужей своих прихожанок, акцентировать второе наставление, а следование первому объявить гордыней. Люди рождены жить сообща, и для этого не нужно никаких искусственных средств, конвенций и договоров. Однако даже если мы хотим, мы не можем жить вместе. Прежде всего, само разделение полов и, главное, устройство человеческих гениталий, предполагает резонансное единство людей. Вряд ли отношения мужчин и женщин в рамках родового общества были «любовными», однако они были телесными. Женщина готовила пищу и вообще от нее зависела атмосфера дома. Но не стоит преувеличивать биологическую детерминацию семейности. Человек существо незавершенное, и нет никакого семейного инстинкта. Поэтому существует так много форм брака и семьи. Семья –– искусственная психосматическая, социальная и символическая иммунная система, в которой человек выращивается и существует как человек. Это, может быть, важнейшая антропотехника, изобретенная человечеством. С ее исчезновением производство человеческого может прекратиться. Поэтому следует думать над тем, что и как будет исполнять те функции, которые были прерогативой семьи. Семья как сфера интимной жизни –– это продукт символический, продукт радостной песни, мифа, внушающих веру в возможность лучшей жизни. Отсюда мы должны не только критиковать семью и сеять апокалипсические настроения, но и дать «полезное заблуждение», способствующее выживанию человека. Институт брака, сложившийся в Греции и Риме, достаточно четко определял роли мужчин и женщин и обеспечивал использование семьи для нужд государства. Семья –– это экономическая, социальная и воспитательная институция. Вместе с тем, привязанная к пространству дома, она была естественной формой реализации близких и сильных взаимодействий. Римская семья, проживающая в городе, уже не была, строго говоря, родовой. Муж и жена обладали определенными юридическими правами, были включены в различные социальные отношения. Это делало их отношения более дистанцированными, «отчужденными». Ветхий завет манифестирует традиционный, родовой брак, нацеленный на воспроизводство. В раю Адам и Ева жили в симбиотическом единстве с Богом, пока не доверились третьему, пока не предали Творца. Они не стыдились наготы, и, стало быть, не испытывали вожделения. Состояние невинности, 208 духовный союз –– это и есть радикальный ответ христианства на фантазматические отношения мужчин и женщин. Новый Завет предлагает иную модель, в основе которой лежит мистический союз брачующихся с Церковью и Христом. Можно говорить о нескольких особенностях христианского понимания брака: 1. В Кане Галилейской церемонию бракосочетания посетил Христос, который помолился, чтобы отец благословил брачный союз и обеспечил «сожитие» и «чадородие». 2. Брак –– это нерасторжимый мистический духовный союз. 3. Женщина выступает в христианстве как Божья премудрость. Брак с нею делает мужчину, рожденного властвовать, более осмотрительным. Так позиционировалась княгиня Ольга. Мужчина становится чем-то вроде сына при жене. 4. Признается нечто вроде андрогинности, т.е. наряду с единством разума и души ищется единство тела. 5. Таинство брака –– брак это не только союз людей, но и мистический союз с Христом и Церковью. В браке молодые люди совершают разрыв с родителями и сливаются друг с другом уже не по кровно-родственной связи, а по духовной любви. Таинство венчания –– сопричастность: как Церковь повинуется Христу, так и жена мужу. Пастырство плоти В этой связи возникает вопрос о значении христианства в истории европейской культуры, которая в свои кризисные периоды развития так или иначе вынуждена переосмысливать его опыт и вовлекать его практики в социальный жизненный мир с целью самосохранения и выживания. Христианизация общества –– довольно-таки странный процесс, не поддающийся прочтению на основе политических и даже культурных кодов. Она не предполагает классовой борьбы, изменения отношений собственности, передачи власти от одного сословия к другому, изменения в способе производства и т.п. Христианство вообще отрицательно относится к социальным институтам, отрицает значимость научно-технических и культурных достижений. Оно стремится достичь «вечного блаженства» неким сверхкультурным путем: раб и свободный, богатый и бедный, урод и красавец, мудрый и глупый могут в любое время обрести вечное блаженство, подчиняя тело духу, а жизнь –– Богу. Таким образом, главный противник — тело, а точнее — плоть, как источник греховных помыслов и желаний. Именно христианство принимает программу радикального изменения телесности, которая, как представляется, составляет важнейшее направление культуры. Уже в античности по мере развития идей истины, добра и красоты происходила деформация естественной телесности. У Платона и Лукиана имеется подробное обоснование того, что нынче называется перверсией: в древности необходимо было сходиться с женщинами, чтобы не погиб род. По мере появления досуга, расцвета науки и философии произошло раздвоение эротического: неразумный, дикий Эрот заполняет души любовью к женщинам; другой — культурный, разумный соединяет душу с добродетелью, кротостью и непорочностью. Далее в дискурс защитника точки зрения Калликратила вмешивается мужская патриархальная риторика, очерняющая женщин за неряшливость, неразумность, похотливость и т.п. Напротив, юноши воспеваются за опрятность, чистоту, умеренность, умственную и физическую культуру; идеалом считается 209 бесстрастная любовь-дружба с юношами. «Браки полезны людям в жизни, — считал Калликратил, — и, в случае удачи, бывают счастливыми. А любовь к мальчикам, поскольку она завязывает узы непорочной дружбы, является, помоему, делом одной философии. Поэтому жениться следует всем, а любить мальчиков пусть будет позволено одним только мудрецам. Ведь не одна женщина не обладает полной мерой добродетели»163. Очевидно, что в основе данного обоснования лежит не противоестественная склонность, а трансцендентальный идеал чистой любви, вставляющий сказать «нет» витальным инстинктам. В отличие от христианской нетерпимости к Эросу здесь еще сохраняется элемент наслаждения, который, впрочем, существенно изменен. Однако предлагаемая конструкция чувственности оказалась идущей вразрез с общественными законами. Общество, хотя и противопоставлено природе, воспроизводится благодаря биологическому размножению людей; его противоречивые интересы –– сохранение рода и контроль за полом –– решаются институтом брака. Хотя речь идет об избранных мудрецах, но пропагандируемый ими образ жизни захватывал достаточно большую часть населения и разлагал социум. Появляется значительное число лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, отрицающих традиционные ценности. Христианство выступает как последовательное продолжение отказа от надежд на власть, собственность, науку, социум и культивирования аскетического отношения ко всему природному. В этот процесс оказались постепенно втянутыми широкие слои населения, ментальность которых подверглась радикальной трансформации. Парадоксальная игра греха и покаяния предполагала, с одной стороны, телесную жизнь, социально-экономические ценности, с другой — последовательное и методичное их осуждение с точки зрения абсолютного масштаба, воплощенного в трансцендентном боге. Новые герои — святые, монахи, отшельники — стремились осуществить эти идеалы в земной жизни. Подвижники выступали образцами поведения в духе христианского образа жизни. Они сформировали дискурс исповеди, в котором тщательно разрабатывались средства защиты от телесных влечений и одновременно исследовались, описывались, дифференцировались тончайшие движения души. Следуя этим образцам, человечество втягивалось в новый механизм власти, основанной на управлении и контроле за душевно-телесными чувствами и помыслами. Реализация его требовала, во-первых, особой чувствительности и влечения к «греховному», а во-вторых, жесткого осуждения этих чувств и влечений. Невозможно представить христианских святых на спортивных или военных состязаниях, народных праздниках или пирах, диспутах или зрелищах. К природе они относятся как к тварному, с чем дух должен воевать, а не находиться в согласии. Проживая на этой земле среди красоты и благоухания цветов, они видят лишь грязь и пороки. Отрицаются и достижения цивилизации: взамен знания –– вера, вместо закона — благодать, вместо брака, государства, семьи — монашество. Негативно настроено христианство к богатому, славе, почестям и даже физическому здоровью. Наиболее сильное наступление было предпринято на телесность, которая стала средоточием всего греховного, плотского. Достаточно рано было осознано, что реализация учения Христа предполагает преобразование плоти. Не случайно Христос произошел 163 Лукиан. Диалоги. М., 1987. С. 477. 210 от «бессеменного зачатия», и его тело иное, чем у других людей. В Евангелии ничего не говорится, был ли он влюблен, испытывал ли наслаждение от вкушения пищи и созерцания природы. Этого и не могло быть; если мир дарит радость, то к чему жертва Христа? Тело рассматривалось исключительно как машина страдания, а внешняя природа –– как символ божества. Для христианского миросозерцания характерна своеобразная «феноменологическая редукция», благодаря которой с чувственных данных сдиралось, как кожура, общепринятое значение и выявлялся в их сердцевине божественный смысл: природные явления и жизненные ситуации «прочитывались» на основе библейских сюжетов. Трапеза связывалась с таинством евхаристии, труд — со смирением и кротостью, супружество — с любовью. В этом одухотворении жизни состоит одна из важнейших заслуг христианства. Вместе с тем негативное отношение к телесности и душевным стремлениям привели к утрате культуры тела и чувств, накопленной в языческих цивилизациях. Искусство любви и жизни, политики и экономики, труда и отдыха — все это выпало из-под опеки христианского просвещения. Объявленное враждебным, оно стало объектом исследования, ориентированного на подчинение этих форм жизни и их христианское перевоспитание. На пути реализации христианского идеала, прежде всего, стояла проблема пола. Как повествуется в Житиях святых, разрыв с прочими телесными желаниями происходит сравнительно легко: отказ от родителей, семьи, богатства, голод, жизненные лишения, посты и молитвы — все это реализуемо. Тело ставится в самое жалкое положение; подвижник удалялся в пещеру или забирался на узенькую площадку скалы, закапывался по плечи в землю или носил тяжелые вериги. Можно лишь удивляться скрытым возможностям организма, которые были открыты, описаны, изучены и реализованы на основе специальных предписаний аскезы, воздержания и поста с целью установления экономии телесного вещества. Серьезной и трудной проблемой оказалось преодоление плотских страстей, и, прежде всего, эротических чувств. Разрешая супружескую связь с целью продолжения рода, христианство резко порывало с эротическим искусством древности. «Таинство брака» помимо его малопонятности для широких масс (да и в случае его реализации как «духовного романа» у образованных слоев) имело тот существенный недостаток, что не ориентировало на совершенствование интимных отношений, а также социально-правовых, экономических институтов семьи. Не только чувственная любовь между супругами, но и другие стороны брака — дети, дом, собственность явно недооцениваются в христианстве. Без этих посредников христианская любовь становится «любовью к дальнему» — абстрактным добротолюбием, недостатки которого стали преодолеваться лишь в ходе Реформации, предоставлявшей возможность спасения земными делами. Реальные дела христианина незначительны — они чрезмерно перегружены духовной символикой, на производство которой и направлена человеческая энергия. Достижение высшего состояния духовности связывается в христианстве, прежде всего, с аскетизмом, который, в свою очередь, предполагает переполненное энергией тело и неистощимую в своих желаниях и низменных помыслах душу. Если первоначально аскеза замышлялась как лекарство для погрязших в распутстве грешников, то постепенно она стала использоваться как инструмент власти и принуждения. Человек, и без того живущий в мире 211 лишений и страданий, вооружался специальной дискурсивной техникой для обнаружения разнообразных микроскопических чувств и душевных помыслов. Кроме того, запреты и воздержание, физические лишения приводили к сильнейшей экзальтации души. На первый взгляд может показаться, что христианство подавляет биологические инстинкты. Например, В.В. Розанов высказывал предположение, что христианство стало вселенской религией благодаря борьбе с полом. Действительно, религиозные фанатики пытаются неким метафизическим, сверхкультурным путем воздержания, а иногда скопчества решить традиционную проблему контроля над полом. Однако его утрата — настолько радикальная революция, что она практически приводит к исчезновению всех социальных институтов. Дело здесь даже не в прекращении воспроизводства рода. Оскопленный не совершает нескромных действий, что вовсе не ведет автоматически к духовной чистоте. Но состояние бесстрастности означало бы конец религии и социума. Лютер отрицал возможность спасения на пути аскезы, так как понимал, что в случае достижения победы духа над телом, преодоления греховных помыслов у человека исчезнет необходимость покаяния. Несоблюдение ритуала исповеди практически означает неподнадзорность, неконтролируемость человека, которым невозможно управлять без самодисциплины, основанной на вине и страхе. Некогда В.В. Розанов высказал парадоксальную мысль, что когда необыкновенная красота Христа озарила мир, он стал плоским, скучным и горьким; человек потерял вкус к окружающей действительности164. Это высказывание требует пояснения. С одной стороны, ориентация на трансцендентное не выявила сокровенное, а ослепила его светом, сосредоточила внимание на самом источнике света, а не на том, что он освещает. С другой стороны, мир переместился в сознание, жизнь стала объектом оценок и осуждения, изучения и контроля. Христианство открыло увлекательную охоту за душевными помыслами. Поэтому культивировались не только средства преодоления, но и сами помыслы, влечения, страсти, словом, все то, что называлось грехами. В этом смысле христианство чрезвычайно обогатило внутренний мир человека, усовершенствовало его чувствительность, тонко дифференцировало телесность, открыло новые источники и средства наслаждения. Такова, например, литургия смерти, благодаря которой она была превращена в культурный феномен. Язычник не боялся смерти. «Умрем — трава вырастет», — говорил дед Ерошка в «Казаках» Л.Н. Толстого. Христианство представило смерть как искупление за грехи, как центральное событие перехода из мира земного в небесный. Одухотворив, оживив смерть чаяниями и надеждами, христианство, как заметил В.В. Розанов, умертвило жизнь, что демонстрируется важностью культа мощей. Жизнь становилась подготовкой к смерти, бесконечным плачем по усопшим, ожиданием воздаяния за грехи. Наряду с этим христианство сублимировало первобытный ужас смерти в культурную форму «страстей» по усопшим, породило широкую гамму переживаний, которых не знали прежде. Дохристианская цивилизация основывалась на телесном принуждении, поэтому она предполагает «кровавые» жертвы, которые, конечно, выглядели более убедительными. Но и «водянистые» обряды христианства не менее действенны. В.В. Розанов явно заблуждался, что они не способны отвратить от грехов. Тем более он сам 164 Розанов В.В. О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира // Темный лик. СПб., 1911. С. 265. 212 открыл новый источник власти: христианство вводит «рыдательную покорность любви», ломает сопротивление «необыкновенной нежностью»165. Действительно, свирепое наказание не всегда укрощает, а, напротив, пробуждает месть и злобу. Евангелие парализует красотой, любовью, прощением. Любовь («агапэ») является своеобразным фоном и тоном, которым окрашены все чувства верующих. Прощается все, кроме упрямства и гордыни, которые наряду с похотью подлежат полному искоренению. Молитва, проповедь, чтение псалмов, исповедь — вся эта сложнейшая историческая техника, воздействующая не только на разум, но и на чувства, захватывает и покоряет личность. Поэтому «водянистые» жертвы христианства не так уж бессильны. Гораздо сильнее обессилило христианство рационалистическое обоснование, предпринятое богословами. Оно в результате стало, как выражается В.В. Розанов, «казенным», догматическим. Водная стихия бессознательного засохла, таинства формализовались, душевные чувства утратились. Став мыслью, христианство стало более уязвимым для критики. Дискурс разума, тесно связанный с силой, сделал христианство менее терпимым: сложная техника символизации и одухотворения телесности сменилась жесткими процедурами репрессивных запретов. Человек, лишенный пола, упрямства, гордости, мужества, независимости, превращается в марионетку, в пустого исполнителя внешних норм. Душа человека, сформированного с детства христианством, оказалась идеальной почвой для развития тоталитарных политических режимов, которые, используя технику контроля и управления душевными процессами, преобразовывали ментальность в нужном им направлении. Мужское и женское в современном обществе Существуют две альтернативные точки зрения: согласно одной –– христианство одухотворяет брак тем, что освящает его любовью, согласно другой, отстаиваемой Ницше и Розановым, одухотворение женщины стало новой формой самообмана. Женщина была вынуждена выдавать себя за идею. Но с идеей невозможно жить на близком расстоянии. А всем, кто живет в браке, можно выдавать медаль «За участие в ближнем бою». Ибо брак –– это совсем не виртуальная форма жизни. Теоретизация женщины, сведение ее к Софии Божьей премудрости сделали ее образ пустым и холодным. Вердикт Розанова таков: одухотворение брака превратило его в «духовный роман». Он склонялся к домостроевскому варианту, впрочем, смягченному феминистскими идеями. Но, конечно, не в смысле Сусловой. В отличие о Домостроя, у него опорой и главой дома является женщина. Но в политике и общественной жизни она не участвует. Ее большая политика –– это кухня и спальня. Там она руководит и через них правит. Плохая еда и больные дети, холодная атмосфера в доме –– вот главные причины деградации людей. Брак, по Розанову –– функция рода, а не личности. То, что называют любовью, происходит из полового влечения, обеспечивающего продолжение рода; само соитие –– родовой акт; дети –– продолжение рода. Конечно, обе эти позиции –– крайности. Попытки жить с женщиной как с сестрой во Христе, с «вечной женственностью», которые в жизни пытались реализовать монахи и такие тонкие романтические люди, как В.С. Соловьев и А. Блок, вели к отсутствию детей. А стремление «оязычить» брак привело к 165 Розанов В.В. Христос –– Судия мира // Религия и культура: в 2 тт. Т. 1. М., 1919. С. 548. 213 современному пониманию связи мужчины и женщины как исключительно сексуального партнерства. Все философские теории будь то христианского или языческого толка надо рассматривать на фоне реального изменения как института, так и этоса семьи в повседневной жизни. И именно ее эволюция определяет то, каким становится брак в реальности. Например, Домострой, по которому на практике следовали наши предки, был лишь незначительно модифицированным институтом греческого, т.е. языческого брака. Но и без поэтизации женщины с ней нельзя жить. Ведь женщина для нас мужчин –– это всегда фантазм. И надо оценить, что лучше: рассматривать ее как идею или как источник эротических наслаждений. Это как-то и совмещает концепция любви. Так опять становятся возможными два подхода, но отличающиеся от первой дилеммы. Теперь речь идет о респонзивности идеи и жизни, мужского фантазма и женской реальности, теории и повседневности. Между тем не верно было бы сводить христианский брак к «духовному роману». На самом деле это случилось в интеллектуальной среде в XIX веке. Христианство, интенсифицировавшее «пастырство плоти», сконструировало весьма сложную игру, в которой секс объявлялся греховным, и вместе с тем не только не подавлялся, но даже интенсифицировался. Это произошло благодаря открытию эротического воображения. Средневековые «ведьмы» на самом деле вовсе не летали на Лысую гору и не участвовали в оргиях. Все это было плодом их воображения. Но при этом поражает единство «ведьм» и инквизиторов: среди множества вопросов, которые можно было бы задать таким экзотическим существам, охотно обсуждался, как правило, один и тот же. Темное начало в человеке, которое греки и римляне стремились нейтрализовать жесточайшей телесной дисциплиной и практиками управления собой, было использовано в христианстве под названием греха. Он стал необходимым началом, и недаром свобода воли по существу означала право на грех. В чем же состояла позитивность практики греха и покаяния? Думается, что она действует и сегодня в еще немногих прочных семьях, причем даже в таких, которые не придерживаются системы религиозного воспитания. Современные мужчины и женщины инстинктивно понимают, что жизнь, основанная на формальной справедливости, непрочна, как фарфоровая посуда. Стоит одному нарушить «договор», другой может потребовать удовлетворения ущерба. Но в результате жизнь расколется на две половины и больше уже не склеится. Единство возможно при условии покаяния, которое, собственно, не исключает, а предполагает «грех». В повседневной практике сегодня их игра выглядит примерно так: мужчина приходит домой поздно и навеселе и подвергается моральному осуждению, зато наутро в порядке покаяния он моет посуду и бежит за покупками. Если человек чувствует себя безгрешным, то как им можно управлять? Буржуазное общество открыло новый опыт признания, который связан с институтом собственности. На это впервые обратил внимание Гегель, который в «Йенской реальной философии» описал брак в понятиях не христианской любви, а захвата, владения, договора, права и собственности. Это значительное, но оставшееся незамеченным изменение философии семьи. Семья отличается от остальных мест, например, от таких, где обсуждаются вопросы об истине, тем, что она выступает ареной специфического опыта признания. Если рассмотреть проблему так называемых семейных скандалов, то можно заметить, что там, где их не смешивают с научными дискуссиями, они, разражаясь и утром и вечером, 214 как это ни парадоксально, не разрушают, а укрепляют семью. Со стороны интеллигентному чувствительному человеку такая жизнь, иногда сопровождаемая битьем посуды, кажется невыносимой. Но если бы он посоветовал такой паре как можно скорее развестись, то, вероятнее всего, получил бы совет не лезть не в свое дело. Ставшие рабами привычки, такие люди считают скандал нормальной формой жизни и даже могут уверять остальных, что они по-настоящему счастливы. Привычка –– великое дело. Она, пожалуй, даже надежнее истины. Допустим, что интеллектуалы рассматривают скандал как вышедшую из-под контроля разума дискуссию о природе мужчин и женщин. Но, будем честными, разве об истине идет речь, разве не главным в семейной «разборке» является борьба за то, кто скажет последнее слово? Мужчина и женщина проявляют себя при этом не как «идеи» и «сущности», а как живые существа, ведущие борьбу за взаимное признание. Можно выявить несколько форм такой борьбы. Исходная характеризуется непосредственным, по-детски инфантильным отстаиванием собственных интересов, которые провозглашаются как императивы. Раньше в таких спорах брал верх мужчина, «рожденный властвовать», который говорил: «я мужчина и я есть истина». Затем истиной стала женщина, заплатившая за это тем, что была превращена в идею. Ей поклонялись, посвящали стихи, обещали райское наслаждение, а затем просили стирать белье и готовить еду. Сегодня речь идет о поисках форм взаимного признания друг друга. Многие считают лучшей формой такого признания любовь. Но у нее есть свои проблемы, она легко переходит в ненависть, под видом ее может проявляться стремление к обладанию и господству. Поэтому лучше всего искать такие формы взаимного признания, которые были бы рациональными и выражались предъявлением друг другу претензий, даже ультимативных (ультиматум –– это все-таки не телесное повреждение, нанесенное в порыве страстной ненависти, которую испытывает обманутый влюбленный). В истории культуры выделяются две стратегии формирования душевных процессов. Одна из них связана с искусством жизни и была обозначена в последних лекциях М. Фуко как «забота о себе», другая –– с онаучиванием дискурсов о духовном, главной задачей которых стало формирование определенного типа субъекта, способного к производству знания, выступающего в самом широком смысле как власть. Примером первой может служить искусство любви, наиболее ярким руководством которому является одноименное произведение Овидия, а второй –– психоанализ, который продвинул знание в области не просто запретного, но и вообще неосознаваемого. Искусство любви складывалось как обобщение опыта поколений и лишено морализаторского обличения, научного интереса или экономической целесообразности. В нем наслаждение ценится само по себе и выше всего; изучаются средства его достижения и сохранения. Наставления Овидия обобщают опыт покорения женщин и дают нечто вроде методики, следуя которой любой и даже не особенно привлекательный мужчина может добиться расположения женщины, а главное, сохранить его на достаточно долгий срок и сделать совместную жизнь приятной. Овидий исключает слепую страсть и формулирует некоторые правила любовной игры, вступление в которую вызывает и интенсифицирует соответствующие чувства. Современная цивилизация заменяет искусство любви знанием. При этом они становятся трудноразличимыми. Современные романы и особенно прустовская 215 «Пленница» свидетельствуют о том, что любовь стала формой познания, а ревность –– формой исследования. Мужчины и женщины образуют замкнутые семиотические миры, и нравится тот, кто наиболее успешно пользуется знаками того или иного мира. Познание самым тесным образом связано с признанием: говорить истину значит признаваться и, тем самым, открыть возможность власти. Все это, конечно, сильно отличается от платоновской теории истины, где речь шла о раскрытии сокрытого. Современная же истина не столько открывает, сколько закрывает, возводит границы и барьеры, которые, собственно, и образуют саму почву власти. Признание имеет двоякий характер: человек признается как член общества, группы, семьи, как нравственное, ответственное существо. Метафизика признания несомненно приоткрывает и другие важные стороны нашей жизни, основанной на признаниях дома родителям, в школе –– учителям, в государстве – авторитетным органам. Совершенно отчетливо функция признания выражена в психоанализе. Он вовсе не озабочен открытием тайных сторон сексуальности, а преследует скорее противоположную задачу –– создание эффективной защиты, выполняющей контролирующую и управляющую функции. Таким образом, совершенно очевидна связь психоанализа с основной задачей цивилизации душевных явлений: не только подавлять, но, наоборот, интенсифицировать телесные желания, создавать зоны высокого напряжения между моральными запретами и телесными влечениями, использовать возникшую энергию в общественных интересах. Именно в ходе развития психоанализа современное общество превращается в общество перверсий, в «больное общество» (Фромм). Избавившись от пуританства и лицемерия, оно стало жить производством разного рода аномалий и отклонений. При этом ничто не является запретным, если оно выражается открыто, познается и контролируется. Следствием научной дискурсивизации секса становится маркировка всех его сфер, констатация мельчайших подробностей. Для этого требуется все возрастающий материал об интимных отношениях людей. Человек –– существо символическое, и поэтому независимо от того, с каким набором хромосом он рождается, различие между мужским и женским устанавливается в каждую эпоху и в каждой культуре по-разному. При этом если раньше объяснение полового диморфизма состояло в ссылке на природу и биологию человека, то сегодня большое значение придается социальной среде, в которой происходит воспитание людей как мужчин и женщин. Поэтому уверенность в том, что некто является мужчиной или женщиной, на самом деле скрывает длительную дрессуру, которая не сводится к прямым указаниям типа: «ты – мужчина» или «ты –– женщина», а включает разнообразие дисциплинарных и символических практик. Конечно, и самосознание играет важную роль, но возможность метафизического сомнения, заложенная в нем, стала одной из причин кризиса, который проявляется в том, что сначала женщины, а теперь и мужчины восстали против идеалов мужественности и женственности, которые прежде не подвергались сомнению. Наиболее ярко это проявляется в попытках перемены пола, в разного рода юридических казусах, когда взрослый пытается опротестовать пол, приписанный ему при рождении, или когда люди обращаются к врачам с просьбой об изменении пола. Кризис твердых разграничений мужского и женского связан также с открытиями этнографии, которая описала различные формы половой дифференциации, в которых не признается приоритет мужчин. Сама эта дифференциация стала 216 осознаваться не как продукт природы или экономики, а как результат принятия тех или иных правил языковой игры, в соответствии с которыми осуществляются воспитательные практики, направленные на производство «игроков» –– мужчин и женщин. Как куклы или фигуры в игре они являются знаками, несущими то или иное значение, и этот семиотический порядок определяет то, что прежде называли чувствами и переживаниями. Так вовсе не эротическое влечение является тем первичным фактором, который четко и независимо от сознания людей разделяет их на мужчин и женщин. На самом деле оно возникает и интенсифицируется для обслуживания культурносимволической дифференциации. Красивая женщина –– это та, которая лучше других овладевает и пользуется знаками женскости. Соответственно мужчина – – томный красавец с сигаретой в зубах –– явное порождение рекламной продукции, ставшее эталоном для женщин, ввергающим их невинные души в темную страсть. Любовная игра, в которую человечество азартно играет несколько столетий, сегодня, кажется, вызывает усталость. Мужское и женское не без старания поэтов и философов превратились из реалий в символы. Мужчины-поэты создавали все более возвышенный образ женщины, но не смогли ужиться с Прекрасной Дамой, а лишь поклонялись ей на расстоянии. Да и женщины, будучи не Истиной и Идеалом, а покладистыми существами, ориентированными на сохранение жизни и поэтому покорно воспринявшими этот идеал, выдававшими себя за него, как кажется, пострадали от этого. Чем более возвышенные разговоры вели о них мужчины, тем хуже становилась совместная жизнь. Аналогично, идеал мужественности –– хозяина дома, воина, рыцаря, бизнесмена, даже приукрашенный в последнее время символами «ковбоя», «супермена» и, наконец, «терминатора», стал невыносим для женщин, усмотревших их сущность в пропаганде мужского господства, да и для самих мужчин. На словах они еще выполняли господствующую роль, а на деле их место в культуре стремительно сужалось. Парадоксально, но пик символического прочтения мужчины-Отца совпадает с падением реальной роли отцов в семье. Женщины начали свое наступление на рынок труда еще в XIX веке, и если раньше они боролись за право быть студентками, медиками, юристами, писателями, то сегодня становятся спортсменами и космонавтами. Изменение в структуре разделения труда привело к изменениям в семье, которая перестала быть полноценной экономической ячейкой, где мужчины выполняли тяжелую работу, женщины –– домашнюю, а дети помогали тем и другим. Сегодня мужчина остается лишь символом рациональности, стойкости, трудолюбия, так как дома он лежит на диване и смотрит телевизор. Если раньше быть мужчиной, означало властвовать, то сегодня в семье явно доминируют женщины и дети воспринимают отца как пустого и никчемного человека. Если обратиться к современной литературе, то можно заметить, что место фрейдистского отца в сознании современного человека стала занимать мать. Феминистская критика мужского господства кажется безупречной почти во всех вариантах, идет ли речь о профессиональных, социальных и политических правах, о засилье мужских метафор господства и подчинения в культуре, о присущей женщинам рассудительности и мягкости, способствующей примирению и сохранению живого. Однако женские движения захлебнулись волной протеста, которую они неосмотрительно и воинственно подняли. Дело в том, что наряду с университетским феминизмом, в обществе реально происходит феминизация мужчин и «омужествление» женщин. Это проявляется в разрушении прежних ограничений в трудовой деятельности. Сегодня 217 женщина работает столь же много и самозабвенно, как и мужчина. Характер труда уравнивает их психологию и физиологию. Те и другие в равной мере посещают спортивные залы, чтобы восстановить силы. Не удивительно что, осознание сущности, как заключительная фаза поиска идентичности, сегодня сводится к сексуальности. Если раньше мужчина в процессе становления вынужден был отрицать женоподобность в самых разнообразных формах, включая в том числе и грубость манер, то сегодня естественные пространства мужского мира стремительно сужаются или приобретают искусственный характер. Возрождение исторически изжитых мужских союзов, основанных на дружбе, сегодня вряд ли возможно в силу индивидуализма, культивируемого в мегаполисах. Однако поиски мужской сущности не смогут увенчаться успехом, если не удастся создать социальное пространство для ее воплощения. Исчезновение с арены истории грубого самца или мужского шовиниста делает непонятной шумиху феминизма. Сегодня в спасении и сохранении нуждаются не столько женщины, столько мужчины. Биологически менее приспособленные к выживанию в стрессовых условиях, осуждаемые и проклинаемые за стремление к господству, наконец, лишенные семейных и даже родительских прав, ибо в случае разводов детей оставляют у матери, мужчины обречены на жалкое существование. И как бы мужественно ни выглядели на экранах, рекламных плакатах и даже в жизни все эти мужественные ковбои, рэмбо, супермены, все это глянец, скрывающий страх от утраты мужественности. Неудивительно, что началось повальное бегство с тонущего корабля. Те, кого раньше называли содомитами и гомосексуалистами и кто сегодня называет себя «голубыми» или «геями», возможно, придумали единственную эффективную стратегию самосохранения. Конечно, если быть последовательным, то осознание пениса как орудия угнетения, а не наслаждения, должно привести к отказу и от гомосексуализма. Дискурс не меняет своей природы от изменения субъектов, более того он сам в процессе развития вырабатывает правила производства субъектов нового типа. Поэтому в мире однополой любви ничуть не меньше проблем, чем в вечерних скандалах и утренних разборках между мужчинами и женщинами. Сегодня азартная игра с сексуальностью проводится в неизмеримо более широких масштабах, чем раньше. Где бы ни собрались люди, там непременно заходит речь о сексуальных проблемах. Они думают о них наедине с собой и рассуждают в общественных местах. Первоначально это интерпретировалось как эмансипация. Однако, как заметил Фуко, чем больше люди думают или говорят о них, тем в более сильной зависимости они от них оказываются. Парадоксально и то, что сегодня пропагандируется не только здоровый супружеский секс, но и прежде недозволенный и осуждаемый как извращенный. Широкое распространение пропагандирующей его порнопродукции, как ни странно, необходимо для поддержания порядка в современном обществе. Конституировав человека как сексуально озабоченное существо, цивилизация вынуждена интенсифицировать его эротические переживания. Во многом это связано с разрушением прежних связей между людьми. Выпав в ходе урбанизации жизни, из традиционных семейно-родовых связей, очутившись в изолированном жилище современного мегаполиса, человек стал чувствовать тоску по прежнему единству, которое казалось ему ранее ужасной зависимостью. Но он уже не может обрести прочных связей с другими и вынужден прибегать к фантазмам. Любовь все более странная и извращенная занимает все большее место в книгах и фильмах. Стратегия 218 сохранения порядка в этих условиях приобретает весьма опасный характер. Для того, чтобы управлять, оказывается неизбежным ввергать в соблазн запретного, ибо поддавшись ему человек становится более послушным и управляемым: чем более необузданным фантазиям люди отдаются у себя дома, тем с большим смирением они выходят на работу. Нет более банальных и смирных людей, нежели развратники, осознающие свою страсть. Вместе с тем сами по себе перверсии опасны как для субъекта, та и прежде всего для тех, против кого они направлены. Поэтому нужны весьма изощренные способы игры с запретным, и современная порнопродукция, как кажется, остается наиболее верным способом сохранения равновесия между искусственно стимулируемыми перверсивными желаниями и самосохранением общества.. Государство и человек Как реконструировать историю общества? Какой могла бы быть реконструкция «политического»? С методологической точки зрения, уязвимым является эволюционный подход к генеалогии политического. Историки размещают факты по схеме эволюции общества от этноса к народу и от него к нации. Такая позиция кажется вполне объективной и рациональной основой для взвешенной политики: да, сегодня еще есть остатки племенной жизни, а также традиционные общества, где население чувствует себя подданными короля, но эти люди должны быть просвещены и воспитаны в демократическом духе и таким образом доведены до состояния нации. На самом деле, такая псевдоэволюционная схема –– не более чем обобщение и оправдание колонизации так называемых примитивных народов. Разумеется, нет возражений против того, что общественный прогресс идет от первобытной орды до современной демократии. Вопрос в том, куда девается наше примитивное наследие и как поступать при встрече с Другим, не доросшим до современной стадии национального самосознания? В отличие от сторонников эволюционного и диалектического подхода, учитывающего кроме простого развития от низшего к высшему, их борьбу, взаимодействие, трансформацию и сохранение старого, можно предположить, что «примитивное» существует не только в прошлом, но и в настоящем, внутри цивилизованного общества, внутри нас самих. И именно необходимость самопознания, а не простое историческое любопытство относительно того, как было раньше на самом деле, является основанием интереса к генеалогии политического. Государственный инстинкт нельзя представлять по аналогии с устойчивым вирусом, время от времени порождающим вспышки имперских амбиций. Столь же легкомысленно думать, что современное «постнациональное» общество в условиях глобализации породит толерантных космополитов. На самом деле, именно сегодня наблюдаются интенсивные национально-этнические конфликты, происходит новое разделение общества, возникают новые барьеры, в том числе и национально-культурного характера. Современное понимание социальной общности дистанцируется от определения ее в терминах крови и почвы, а также языка и культурного мифа. Политическое сознание не сводится к идеологии и менталитету, хотя и является формой, видом или феноменом общественного сознания. Государство, по сути дела, понимается как гражданское общество, ядром которого становится третье сословие. Оно институализируется в форме национального собрания, которое представляет и выражает волю народа. Таким образом, возникает автономное национальное государство –– республика. В этой истории несколько удивляет и 219 настораживает то обстоятельство, что республика воспринимается как мать, рождающая, объединяющая и защищающая своих детей –– народ. Зачем в чисто функциональную теорию гражданского общества вносится элемент кровнородственных связей, и на знаменах республики появляется еще одно слово «братство»? В англосаксонской литературе под термином национализм понимались любые проявления национального. Это понятие имело, скорее, позитивный, чем негативный оценочный смысл. После окончания Второй мировой войны политический национализм оказался дезавуированным и стал восприниматься как негативный оценочный термин. Однако продолжающиеся национальные движения заставили исследователей преодолеть жесткое моральное различие и более основательно подойти к вопросу о роли наций в современном политическом процессе. Так возникли новые понятия –– регионализм, сепаратизм, этнонационализм и т.п. Нейтральное, безоценочное употребление термина «национализм» привело к тому, что сегодня нация уже редко трактуется как политическая общность, а в основном рассматривается как культурное и даже этническое сообщество. Назрела пора сблизить понятия «культурного» и «политического» и тем самым открыть возможность новым, более основательным исследованиям общества. Прежде всего, хотелось бы углубить представления о политическом и выявить как формы его проявления в истории, так и понятия, в которых его следовало бы описывать. Кажется естественным прилагать его к такому общим термину, каким является «сознание». Однако термин «сознание» в последние годы переживает инфляцию, вызванную его чрезмерно расширительным употреблением, и в новой исторической науке вытесняется понятиями менталитета и ментальности, обобщающими телесно-хабитуальные факторы человеческого поведения. «Политическое» не исчерпывается исключительно рациональными представлениями, а включает в себя привычки, обычаи, ритуалы, регламентирующие телесные акты. Отсюда коммуникация внутри социальной общности осуществляется посредством знаков, носителями которых являются голоса и лица людей, сфера звуков и запахов, архитектурные сооружения, городские структуры и т.п. Тот факт, что современный «национализм» уже не вызван «кровью и почвой», а имеет во многом искусственный и даже спектакулярный характер не означает, что его уже можно не принимать во внимание. Наоборот, именно возможность использования национального мифа в политических целях заставляет более внимательно исследовать механизм его производства и присвоения в современном обществе. Для этого имеет смысл заново перечитать работы старых авторов, писавших в эпоху грозовых перемен, когда национальный дух был одет в военную форму. Мы осуждаем людей, призывавших людей для защиты и процветания собственной нации пройтись в армейских сапогах по чужим землям. Но мы не должны считать их кровожадными варварами, резко отличающимися от нас –– мирных и цивилизованных людей. Сознание наших предков вовсе не ограничивалось низменными инстинктами, а содержало весьма возвышенные идеи, ради которых они оказались готовыми пожертвовать даже жизнью. Именно в свете опасности такого «возвышенного» культурного наследия следует внимательно отнестись к тому как, кем, где и когда оно производилось. В последние столетия историческая память сохраняется и культивируется интеллигенцией, и, прежде всего, школьными учителямиисториками, уроки которых и формируют политическое сознание. Поскольку 220 национальные движения, добивающиеся политической автономии, усилили в наше время свою активность, несмотря на глобализацию и расширение международной интеграции, постольку приходится всерьез рассматривать аргументы старых дискурсов и пытаться противопоставить им не просто напоминания об «ужасном прошлом», а серьезный анализ современности. Работа Токвиля «Демократия в Америке» (1835–1840) напоминает бердяевскую «Философию неравенств» (1918), в которой указывается на онтологическую природу государства. Токвиль размышлял, почему во Франции не удалось его осуществить, в то время как в Америке он развивался надлежащим образом. Вывод его выглядит для теоретиков демократии шокирующим: человек не может вынести одновременно полную религиозную и политическую свободу; если у него нет веры, надо, чтобы он служил, а если он свободен, –– чтобы верил. Н.А. Бердяев писал о негативных нравственных последствиях демократии. Отвлеченная, ничем не ограниченная демократия легко вступает во вражду с духовностью, требующей не формального равенства и независимости, а внутренней работы, направленной на перевоспитание личности. Власть, полагал Бердяев, не может принадлежать всем, тяжелая и ответственная обязанность управлять обществом должна быть возложена на лучших, избранных личностей. Но, в отличие от Токвиля, Бердяев предлагает не возрождение классовых или сословных привилегий, а опору на личность и народ: «Идее демократии нужно противопоставить идею самоуправляющейся нации»166 На европейцев большое впечатление произвела работа Л. Дюмона «Homo Hierarchicus», в которой он описал кастовое общество с некой перевернутой позиции.167 И раньше писали об иерархических обществах, но всегда оценивали их с позиций демократии. Дюмон же, видя болезни последней, поставил вопрос о том, а не является ли иерархическое общество более эффективным в смысле сохранения целостности государства? Он разделяет две идеологии, соответствующие демократическому и кастовому обществам. Холистическая идеология придает значение тотальности и подчиняет части целому. Индивидуалистическая идеология, наоборот, придает значение автономному индивиду и пренебрегает социальной тканью: в либерализме индивид объявлен высшей ценностью, он не подчиняется никому, кроме самого себя. Дюмон настаивает на принципиальной непримиримости этих идеологий и поэтому расценивает попытки реанимации патерналистских отношений в рамках европейских обществ как фальшивые. Действительно, под лозунгами национального, идеологического, морального, религиозного единства на самом деле происходит деградация целостного социального пространства. Попытка же реализации призывов к единству чаще всего оборачивается политическим террором или расизмом. Древность, ни в теории, ни на практике не признавала независимого индивида, способного противопоставить себя давлению обязанностей, традиций, дистанцироваться от принадлежности к роду, полису, государству, с которыми он себя отождествлял. Если рассматривать культуры на уровне повседневных практик, то, действительно, древние цивилизации ориентированы на построение и укрепление общественного тела. Открытость, зрелищность, ритуальность и даже спектакулярность празднеств, строительство храмов, форумов, театров, 166 167 Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 232. Дюмон Л. Homo Hierarchicus. СПб., 2001. 221 цирков и общественных бань предполагало не только жизнь на виду, но и доступность многим великолепных и дорогостоящих объектов. Наоборот, наше общество состоит из индивидов, разделенных прежде всего стенами жилища, которые государство стремится сделать прозрачными. Отсюда наше общество – – это общество надзора, который, как показал М. Фуко, реализуется в разнообразных формах от внешнего наблюдения до медицинских осмотров, психологических тестов и экзаменов.168 Причины перестройки традиционного общества с традиционными формами власти многообразны. Старая власть, персонифицированная харизматической личностью –– батюшкой-царем, самодержцем, использовавшим солярные знаки власти, на самом деле была довольно расхлябанной и неэффективной. Эпохи сильной власти, как полагал Ницше, были достаточно либеральными и не нисходили до мелочного надзора; напротив, в них проявлялись как равнодушие к целому ряду нарушений, так и милость к покаявшимся преступникам. Власть правила массами, а не индивидами, используя при этом демонстративные техники презентации и ограничиваясь в экономическом отношении сбором налогов и податей. Новое время связано с усложнением экономики и хозяйства. Возникает необходимость целесообразного использования ресурсов, техники, человеческих сил. Дифференциация и рационализация общественного пространства приводит к борьбе с бродяжничеством: каждое место должно быть закреплено за индивидом. Дифференциация пространств (появление тюрем, больниц, домов призрения, казарм, школ, фабрик и заводов) внутренняя сегментация этих государственных учреждений (классы внутри школы, группы внутри классов) требуют разделения и иерархизации людей. Люди извлекаются из натуральных условий обитания и подлежат преобразованию в казармах, школах, работных домах или больницах. Изобретаются многообразные ортопедические техники, направленные на формирование новой анатомии, нового тела, способного эффективно и бесперебойно выполнять те или иные общественные обязанности. Так складывается новая технология власти, направленная на индивида, а не на массу. Удивительное соответствие теории демократии с дисциплинарными практиками говорит о какой-то их дополнительности. Не случайно эпоха Просвещения, открывшая свободу, изобрела дисциплину. При этом дисциплина становится технологией производства индивидов. Причина страданий от болезненного одиночества состоит в замкнутости человека в капсулу собственного существования. При этом люди отталкивают лекарство, которое может их спасти. Их может вылечить открытость другому, но ничто не вызывает такого отторжения, как необходимость быть с другим. Занимая место в автобусе, современный человек не хочет, чтобы кто-то сел с ним рядом и затеял разговор, а ставит на свободное место сумку, чтобы никто не сел рядом. Сегодня огромная армия психотерапевтов борется за разотчуждение людей, но никто не хочет вернуться к формам жизни традиционного общества, в котором солидарность людей достигалась телесными практиками воспитания открытости и бытия-с-другим. В прошлом человек перемещался в своих ареалах не как изолированный автономный индивид, находившийся в конкурентных отношениях с другими индивидами, а в рамках спаянного телесными связями коллектива, который в 168 См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999. 222 собственном смысле образовывал то, что можно назвать местом обитания, наполненным знаками, образами, звуками и ароматами, издаваемыми окружающими его людьми и предметами. На основе господствующей индивидуалистической идеологии весьма трудно представить себе этот способ единения людей. Теория общественного договора затеняет роль сильных взаимосвязей в антропологическом исследовании. Сегодня мы вообще не понимаем, что за «дело» заставляет индивидов жить сообща, что за априорное стремление тянет живые существа друг к другу? Императивной формой жизни людей всегда являлся коллектив, в котором принадлежность к группе определялась именно сильными связями, гораздо более сильными, чем те, что описывает теория коммуникации, и даже романтические, коммунитаристские и организационные теории взаимодействия. Долгое время древние поселения не нуждались в ограде для манифестации своего радикального желания быть вместе. В то время, когда люди не огораживались стенами, каждая группа, образующая эндогенное единство, формировала ландшафт сообразно собственной форме. И без массивных архитектурных скреп каждая «мы-группа» закрепляла и сохраняла себя специфическим гештальтом, для которого были характерны центростремительные силы и движения, сохраняющие целостность. Все первичные культурные единства могут быть поняты как себя воспроизводящие морфогенетические процессы. Древний человек был гораздо больше озабочен окружающим миром, чем собственными переживаниями, и представление о приватности идей не имело смысла ни для его собственного опыта, ни тем более для общества, в котором он жил. Долгое время он вообще не имел в социальном пространстве своего отдельного места и даже не мечтал о нем. В небольших коллективах дело одного является делом, мыслью и заботой остальных. Гражданское общество и антропология прав человека Юристы различают три аспекта прав человека: 1) защита от государства; 2) содействие соблюдению прав человека; 3) правовые, социальные и культурные условия их осуществления. Основополагающим является право, опирающееся на естественные или врожденные права человека. Именно на них опирались американский Билль о правах (1776) и французская Декларация прав человека и гражданина (1789). Их первые разделы описывают догосударственные права человека и провозглашают власть народа, что легитимирует государство и ограничивает власть правительства. Приоритетными являются права, которые применимы для взаимоотношений людей, а государство вторично и, так сказать, субсидировано правами человека. Различие общества и государства является важным для дифференциации политической антропологии на две части. В одной ставится вопрос, что такое человек и какие он имеет права. Этот раздел образует антропология права. Другой раздел составляет антропология государства, ибо человек –– это такое существо, которое, как считал Аристотель, от природы вынуждено жить сообща, т.е. в государстве. Сегодня все говорят о приоритете прав человека. Удивительно, что при этом не видят причин для их переоценки. На самом деле, они есть не что иное, как гражданская религия эпохи модерна, нравственно-политическое основание его проекта, опирающегося на идею человека. Как таковая эта установка имеет идеологическое происхождение, по отношению к которой возникает проблема легитимации. Трудность заключается в том, что сама концепция прав человека 223 возникает в рамках исторически конкретной формы территориального государства. Обусловленная исторически определенным новоевропейским контекстом, она претендует на универсальность. Провозглашается равенство людей перед законом независимо от их происхождения, расы, языка, верований. Таким образом, речь идет о культурной универсальности и трансисторичности прав человека: к какой бы эпохе или культуре он ни принадлежал, он имеет естественные права. Критические возражения против их универсальности строятся на том, что права человека есть не что иное, как форма этноцентризма и даже культурного империализма Запада (Лиотар, Фейерабенд). Критики ставят вопрос о правомерности применения концепции прав человека, сложившейся в рамках западной культуры в эпоху Просвещения, к другим эпохам и культурам. Наконец, не являются ли «универсальные права человека» правами христианина? Иначе как понять, что именно в Вирджинии, где был принят первый билль о правах, так долго существовало рабство? На самом деле эти страшилки основаны на смешивании универсальности и униформности. Равные права человека не стирают культурных и социальных различий. Хотя нельзя не признать, что под видом борьбы за права человека нередко осуществляется навязывание западной цивилизации «нецивилизованным народам» или странам, так называемого третьего мира. Поэтому права человека должны опираться не те или иные исторически возникшие культуры и государства, а на идею человека, которая разрабатывается в философской антропологии. Но можно ли говорить о человеке вообще? Если человек –– продукт культуры, то о нем нельзя рассуждать с внеисторической точки зрения. На это еще в 30-е годы указывали Г. Лукач и М. Хоркхаймер. По Аристотелю, человеческие качества формируются лишь в обществе. Это доказывает относительность прав человека к античному полису или территориальному государству эпохи Нового времени. Антропологи идут дальше и указывают на инструментальный характер государства. Если Гегель утверждал, что государство должно воплощать нравственную идею, то сегодня высказываются сомнения относительно этической задачи государства. Согласно концепции прав человека, государство задает лишь самые общие условия рыночной экономики, гуманность же следует искать совсем в другом месте. Эта мысль не была чужда и Аристотелю, который писал в "Большой этике" о том, что счастье не связано напрямую с политическим устройством. 169Концепция прав человека имеет незначительное антропологическое содержание. Существует немало форм и возможностей реализации счастливой жизни: священник, врач, инженер, художник - каждый по-своему видит смысл жизни. Права человека оставляют возможности выбора открытыми и определяют лишь общие предпосылки гуманности. Отсутствие образования, знания и иных достоинств цивилизации обрекает, считал Аристотель, на рабство. Сегодня в моде радикальный плюрализм, согласно которому определенность отождествляется с догматизмом. Неопределенность человека в экзистенциальной философии понимается как возможность обрести различную сущность. Поэтому общие права человека вовсе не препятствуют реализации права на то или иное культурное и, тем более, индивидуальное существование. 169 Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М.., 1983. С. 309. 224 Вместе с тем, концепция прав человека кладет предел радикальному историзму и плюрализму в антропологии. В конце концов, плюрализм культур и субкультур, как и нонконформистское поведение, возможны лишь при определенных условиях, которые сами ни плюрализируемы и не историзируемы. Идея прав человека должна пониматься как единство конкретного и универсального. Она ограничивает плюрализм и нонконформизм признанием общих условий, которые образуют нормативное понятие гуманности. Для правильного объединения универсального и конкретного необходим коперниканский переворот в философской антропологии. Для этого следует отказаться от сложившейся еще в античности идеи человека, центрированного на счастье и самореализацию, отказаться от нормативного определения прав человека . Внутри западной юриспруденции легитимация прав человека не стала актуальной проблемой. На академическом небосклоне она восходит в практической философии в контексте обсуждения интеркультуральности, а так же в ходе отречения от телеологического мышления. В обоих случаях антропология вступает в дебаты с проектом модерна. Эти дебаты всегда имеют агрессивный характер. Например, А. Макинтайр считает просвещение разновидностью религии прав человека, которая недалеко ушла от гонений на ведьм.170 В самом понятии разума, как в католическом, также и в протестантском его вариантах, уже содержатся необсуждаемые моральные предпосылки, определяющие содержание идеи человека. Антропология как нормативная наука по-прежнему строится на основе телеологического мышления. Но отказ от него приводит к неразрешимости вопроса о легитимации прав человека. С аналогичной критикой выступили так называемые коммунитаристы –– М. Уолцер, М. Тейлор. Их критика направлена против универсализации либерализма в качестве всеобщей практической философии и абсолютизации прав человека как выражения плюрализма. Но ни новая мораль, ни новая рациональность сами по себе не освобождают от телеологического мышления. Вопрос «для чего», т.е. телеологическое объяснение не имеет принципиального значения для антропологии, которая прибегает не к внешним, а к внутренним факторам: в силу развития моральноправовой чувствительности человек обретает представление о неотчуждаемых правах. Права человека –– это не завершенное, а лишь исходное определение условий, наличие которых позволяет говорить о человеке как человеке. В этом смысле они считаются «врожденными», «априорными» и «неотчуждаемыми» и представляют трансцендентальные основания философской антропологии. Трансцендентальный подход был значим в рамках допущений о разумности (античность) или о богоподобии (христианство) человека. Но с XIII в. в Европе зарождается понятие свободы, стимулированное уже не дискуссиями о свободе воли, а реальными правовыми отношениями. С этих пор и возникли трудности легитимации. С антропологической точки зрения человек имеет определенные притязания, которые предполагают признание другого. Отсюда субъективные притязания не означают абсолютизации индивидуальной свободы. Это происходит в правовом дискурсе либералов. Поэтому его следует скорректировать с точки зрения понимания человека как общественного существа и различать позитивный и негативный смыслы социальности. Именно такое представление заложено в определение Гоббса: человек человеку волк. 170 Макинтайр А. После добродетели. Екатеринбург. 2000. С. 102 225 Однако негативная сторона человека –– это не метафизическое зло, а природная агрессивность, т.е. конкретная опасность, которую можно нейтрализовать. Другим следствием гоббсовской теории является пересмотр аристотелевского утверждения о естественном происхождении полиса. У Гоббса государство не есть развитие врожденного социального импульса, а искусственный продукт договора и института признания. Таким образом, антропология прав человека развивается как реакция на опасность конфликта, которая оказывается предпосылкой формулировки прав человека. Очевидно, что за этим стоит травматический опыт гражданской войны и раннего капитализма. Негативная социальная антропология фиксирует conditio humana и только в ее рамках имеет смысл институт прав человека. Наличие и осознание элементарных интересов объясняет пафос, связанный с правами человека. Для их легитимации привлекаются как антропологические, так и этические аргументы. При этом этическое обоснование прав человека считается более эффективным, чем антропологическое: применять философскую антропологию для легитимации прав человека - то же самое, что стрелять из пушки по воробьям. Свою возможность самореализации человек откладывает и обменивает на самоограничение другого, чтобы не стать жертвой чужой власти. Обмениваемость предполагает, что собственные интересы могут быть удовлетворены такими действиями, которые принимаются другими. Только принятие соответствующих обязанностей перед людьми делает возможной реализацию прав человека. Отказ от убийства, от посягательства на чужое имущество, от преследования за религиозные и иные убеждения является предпосылкой права на жизнь, собственность, свободу вероисповедования. Конфликт вызван не позитивной, а негативной стороной взаимодействия, и чтобы осуществить свои позитивные права, человек должен осуществить обмен негативными действиями. Вопрос в том, что предпочтет человек: право убивать, если в этом случае он и сам может оказаться убитым, или право на жизнь, которое осуществляется отказом от убийства. Такая постановка вопроса служит у Гоббса основанием легитимации: право на жизнь является важнее всего. Вместе с тем, гражданская война в Европе со всей ясностью обнаружила, что верования, политические и иные интересы пересиливают интерес к жизни. Ясно, что речь идет о самосохранении не столько физического существа, сколько морального я. Еще одна попытка легитимации опирается на понятие потребностей, удовлетворение которых дает человеку ощущение счастья. Но такое обоснование требует дополнительных дефиниций, которые открывают человеку возможность выбора между собственным счастьем и общественными (религиозными, культурными) идеалами. Формальная ссылка на счастье слишком слабое основание, а содержательный выбор между конкретными ценностями - слишком сильное. Как показал исторический опыт, одни люди предпочитают жизнь, другие свои религиозные убеждения, третьи политическую свободу. Отсюда приходится искать другое основание - более сильное, чем ссылка на счастье, и менее сильное, чем религиозные или политические предпочтения. Постулат о правах человека предполагает, что существуют такие высшие трансцендентальные интересы, которые обмениваются на любые другие. Поэтому можно говорить о трансцендентальном обмене. Например, даже тот, кто не слишком высоко ценит жизнь, если он стремится к чему-либо, то поневоле должен заботиться о самосохранении. Даже тот, кто жертвует жизнью, 226 ценит ее высоко. Естественное право в эпоху Просвещения опирается на принцип "самосохранения", который используется как своеобразная разменная монета при обмене действиями. Человек не просто животное и среди прав человека право на жизнь не единственное. Прежде всего, его действия имеют интенциональный характер, ибо он наделен языком и мышлением. Также его деятельность осуществляется в кооперации с другими. Отсюда новые трансцендентальные интересы и формы обмена, которые позволяют более кардинально обосновать права человека. Речь идет не столько об индивидуальных, сколько о коллективных интересах. Можно говорить о проблеме образования, социальной и культурной идентичности, кооперации, экологии и др., которые дают новые основания для легитимации прав человека. Для доказательства универсализма прав человека необходимо показать, что насилие в культуре является излишним. Политическая природа человека включает две ступени - право и государство. Но стоит ли, и можно ли их разделить; могут ли они существовать друг без друга: остается ли нужда в сохранении общественной власти в условиях правового общества. И как можно говорить о правовом государстве? Раз говорят, значит можно: государство как суверен может быть связано правом. Вместе с тем, любая власть, пока она существует, это и есть закон. Поэтому право является правом сильного. Но связав себя законом, сила сама трансформируется. Она уже не является чистой волей к власти и не может заниматься постоянной переоценкой ценностей. Реальная власть вынуждена искать признания путем легитимации и находит его в праве, которое существует задолго до того конкретного политического режима, который на него опирается. Хоть право - это тоже форма власти, однако оно отличается от того, что немецкие социологи называют господством. Господин, конечно, не всегда делает то, что хочет, но всегда принуждает к подчинению. Можно ли обойтись без него? Древние считали, что у каждого человека должен быть свой начальник. Сегодня многие это считают варварством. Вопрос в том, возможен ли начальник, соблюдающий необходимую меру господства, не являющийся самодуром? В любом случае тезис об отмирании государства является спорным. Все это заставляет сделать вывод о том, что поскольку общество не может существовать без аппарата насилия, управления, контроля и регулирования, поскольку существуют и будут существовать институты права, наказания, образования, здравоохранения и т.п., Пока будут существовать аппаратчики, чиновники и служащие до тех пор государство не может исчезнуть, и наоборот. Значит ли это, что коррупция и господство неизбежны и будут только усиливаться? Это идет во вред и самому обществу, которое нуждается в том, что греческие философы называли идеальным государством, нацеленным на высшие по сравнению с бюрократией и обществом ценностями. Однако такое государство сегодня называется тоталитарным или фундаменталистским. Альтернатива ему видится в развитии демократии - институтов свободной общественности, которая вынуждена терпеть чиновников и их интересы, но контролирует и корректирует их действия с учетом интересов всего общества. Национальное и национализм Развитие гражданского общества рассматривается либеральными историками как естественноисторический процесс, в котором изменения в сознании определяются теми или иными сложившимся обстоятельствами и раскладом 227 политических сил. Удивительно, что такая зеркальная теория отражения, от которой уже давно отказались в философии, не только сохранилась, но и процветает в исторической науке, претендующей на объективность. Сознание не является зеркалом действительности. Любой феномен социальной реальности наделен символическим содержанием, и поэтому приходится принимать во внимание то, как он воспринимается. Если политическое сознание –– это не «зеркало», а «призма», т.е. не просто нейтральный медиум, а некое сложное устройство, определяющее образ видимого, некая априорная форма, профилирующая явления и исторические события, то его история не сводится к изменению содержания под влиянием новых обстоятельств. Конечно, представление об автономности сознания также порождает свои трудности. Обычно срабатывают два способа интерпретации социальной реальности. Во-первых, исследователь трактует события прошлого на основе сложившихся знаний и представлений. Во-вторых, непосредственные носители того или иного политического сознания интерпретируют реальность сквозь призму своих представлений. Можно указать на некоторые базисные установки при определении современного общества: 1) Общество представляет собой солидарную общность, основанную на правовом равенстве своих членов; 2) Граждане привязаны к территории, на которой они устанавливают свое политическое самоуправление, образует государство. 3) Единство нации основано на политическом и культурном суверенитете. Понятие культурной нации чревато национализмом. Считается, что в современном обществе оно должно уступить место понятию гражданской нации. Нации появляются как продукт длительного культурно-исторического развития и как политические общности известны со времен Средневековья. Началом современного политического процесса является формирование, начиная с XIV в., самостоятельных государств, когда политическая власть конституируется как власть над определенной единой территорией. В этот период складывается сословное общество. Образование наций знаменует второй этап модернизации, когда встал вопрос о легитимности политического суверенитета. Субъектом политики становится население страны, и это означает превращение его в гражданскую нацию. Национальное самосознание объединяет представителей различных групп населения, ранее разделенных региональными, этническими, религиозными барьерами. Для этого необходимы новые основания единства, и таковым становится общественное мнение. Развитие национального самосознания протекает неравномерно. На самой ранней ступени существования современных государств право представительствовать от лица нации присваивали себе дворянство и верхушка городского населения. Так в игру истории включается сословная нация. По мере просвещения национальное сознание формируется у читающей публики и охватывает все более широкие слои населения. Носителем национального самосознания становится интеллигенция. Во второй половине XVIII века организуются широкие патриотические движения, которые считаются третьей фазой процесса европейской модернизации. Под патриотизмом понимается такое общественно-политическое поведение, при котором общие интересы преобладают над личными. На его основе сформировалась современная модель гражданской нации, для которой характерны: проживание на одной территории и наличие гражданства, право на 228 самоопределение и политическое самоуправление. Согласно новой политической модели, нация состоит из граждан, имеющих право избирать и быть избранными. Выход наций на историческую арену самым непосредственным образом связан со становлением национального государства. Оно характеризуется тем, что суверенитет принадлежит народу, который наделен гражданскими правами и принимает равноправное участие во всех институтах государства. Национальные государства складываются в результате национального движения, которое возникает на основе определенной программы достижения национального самоопределения в рамках своей территории. Оппозиционные, добивающиеся политической автономии движения порождают внутренние и внешние конфликты. Отсюда современное отношение к таким движениям весьма неоднозначное. Национально-освободительное движение создает идеологию, в которой формулируются как критерии идентификации нации, так и демократические права человека. Национализм –– это отрицание равенства и утверждение собственной избранности на фоне неполноценности остальных наций. Таким образом, ксенофобия, шовинизм и антисемитизм являются центральными в национализме, в котором нация понимается как этническая общность. Катастрофическая вспышка национализма произошла во время Первой мировой войны и привела к формированию фашистского движения. Становление национальных государств стало причиной войн, и для обеспечения безопасности еще И. Кант выдвинул концепцию Союза Свободных наций, основанного на принципах равноправия. После 1945 года в области внешней политики национальных государств произошли серьезные изменения, которые характеризовались интернациональной кооперацией: создание ООН, НАТО, Европейского Сообщества, Совета Безопасности и Сотрудничества Европы. Таким образом, сегодня, спустя 200 лет появились такие надгосударственные организации, как Международный суд, Комиссия по правам человека и т.д. Благодаря интеграции в международные структуры снимаются негативные последствия автономизации, а национальное государство переходит в новую фазу развития, характеризующуюся открытостью границ, заинтересованностью в сотрудничестве и обмене (экономическом, культурном, информационном) с другими странами и народами. Моральный порядок Греческие философы ориентировались в политике и практике на основе теории. Только постигнув суть бытия, опираясь на знание истины, можно принимать правильные решения в государственной и в частной жизни. Теоретическая позиция позволяет относиться к насущным проблемам отстраненно, объективно и не слишком заинтересованно. Но насколько это приемлемо практически? Именно этот вопрос заставил Аристотеля дополнить чистую теорию учением о практическом сознании, которое опирается не на идеи, а на конкретные взаимосвязи событий в жизненном мире человека. Продолжая учение Платона о высшем Благе, он понимал суть этического не столько в полном отказе от человеческих удовольствий, сколько в умеренности. Кажется, что дилемма теоретического и практического легко может быть решена тем, что теории нужно воплощать в жизни и тем самым придавать ей смысл. Известное высказывание Сократа, повторенное в Библии «Я дам вам истину, и она сделает вас свободными» отождествляет истину и свободу. В Новое время истины, открываемые разумом, стали считаться основанием 229 моральных ценностей и даже религиозных убеждений. Эпоха Просвещения характеризуется критикой любых не подлежащих рациональному обоснованию форм сознания как предрассудков и заблуждений. Маркс, выдвинувший известный тезис о недостаточности объяснения и необходимости изменения мира, вовсе не был политическим технократом –– современным последователем Платона, ибо понимал, что теоретическое видение раскрывает не подлинную, а отчужденную действительность. В силу этого недостаточно одной критики. Необходимо изменить или отменить те объективные условия, которые производят и воспроизводят иллюзорное сознание. В ХХ в. соотношение чистой теории и жизненной практики вновь актуализировалось. Гуссерль видел причины кризиса европейской культуры в господстве позитивизма и отступлении от ориентации на чистые идеи. Наоборот, Хайдеггер считал, что истина бытия открывается не за письменным столом и не мыслителем-мэтром, а народом, который в процессе жизни вырабатывает основанное на почве и крови практическое мировоззрение. Осмысляя негативный опыт тоталитаризма во всех его формах, в том числе и как господство научно-технического разума, многие современные философы, и особенно в России, выбирают в качестве универсального языка моральный дискурс. Именно мораль выступает безусловно авторитетной и справедливой инстанцией, которая адекватно оценивает любые события. И вместе с тем именно она в своей однозначности оказывается настолько нетерпимой, что приводит, как у Достоевского, к критике не только человека, но и Бога. Абсолютизация морали, как это можно видеть на примере Л. Толстого, переходит в отрицание достижений цивилизации. Подобно взрыву бомбы моральное обличение уничтожает искусство, науку, цивилизацию за то, что они не способствуют «возрождению нравов». Поэтому нельзя согласиться с тем, что суть или стержень практической философии составляет моральное сознание. Не так-то просто дистанцироваться от морали и превратить ее в предмет объективного исследования «свободного от ценностных суждений». Такую задачу ставил еще М. Вебер, который вслед за Ницше считал ее в высшей степени «инфекционной» и полагал, что ею нужно пользоваться в перчатках. Однако попытка создать такие стерильные инструменты до сих пор еще никому не удавалась. Во всяком случае, в составе любых человеческих произведений, будь то научные теории или правовые нормы, мы неизбежно натолкнемся на те или иные моральные предпочтения. Даже у Ницше, пытавшегося говорить о морали не морально, нетрудно найти множество ценностных утверждений (вроде «подтолкни слабого»), которые вовсе не безусловны. Поскольку очевидны как недостатки морализма, так и невозможность избавиться от ценностных суждений, постольку остается кооперация с моралью. Она видится в том, чтобы попытаться найти такую этическую систему, которая бы выполняла по отношению к ходячим моральным кодексам ориентирующую функцию и позволяла бы в жизни оставаться моральным и справедливым. Всетаки в жизни не так, как в морали: человек не всегда добр и не всегда следует безусловному категорическому императиву. В разные исторические периоды и в разных культурах сегодня люди придерживаются разных норм морали, но нельзя отрицать, что на разных этапах своей эволюции они находят свои формы и способы оставаться добродетельными, честными и порядочными. Моральный порядок осуществляется по-иному, чем думают философы. Абсолютные системы, будь то христианская мораль или английский либерализм, на самом деле действуют среди своих и предполагают исключение по отношение к 230 чужим. В современном мультикультурном и социально разнородном обществе мораль выступает источником протеста. Она способствует не столько реалистическому решению проблем, сколько выражению недовольства. Мораль судит мир исходя не из того, какой он есть, а из того, каким он должен быть. Как и в случае с рациональностью, мораль ориентируется на идеал такого порядка, который предполагает единство. Однако о каком, собственно, единстве идет речь? Именно этот вопрос становится центральным для нашей эпохи, которую часто называют постмодерном. И думается, что именно в эту эпоху проблемы этики и антропологии, несмотря на резкую критику морали и идеи человека, выходят на передний план. Дело в том, что современное понятие единства опирается на этические принципы отношений между людьми: действительность человека утверждается в процессе признания его другими, но таким образом и другой оказывается признан мною. Теперь мы уже не можем заставлять всех думать, желать и оценивать одинаково. Единство действий предполагает признание другого и даже, точнее, чужого, с которым мы должны жить в согласии. Речь идет не только об устранении образа врага, но и о преодолении отрицательного отношения к произведениям, открытиям, изобретениям, социальным институтам, которые в христианстве расценивались как греховные, в марксизме как отчужденные, а в современной культуре как антигуманные. Современная технонаука, машинное производство, масс-медиа и другие общественные системы, расцениваемые гуманитариями как опасные монстры, на самом деле являются такими продуктами человеческого труда, с которыми нужно не воевать, а жить в согласии и заботливо ухаживать за ними, следя при этом, чтобы они не использовались в качестве орудий угнетения человека. Уже Кант, хотя это долго не замечали, различал свой и чужой разум, но только Мерло-Понти провозгласил программу изучения своего как чужого, а того, что кажется нам чуждым как своего. Речь идет не о колонизации и присвоении, а о возможности собеседования и взаимодействия, которые исключают захват чужого и растворение его в своем. Так, прежде всего, нужно понимать опыт: не как интерпретацию или объяснение чужого на основе собственных понятий, а как взаимодействие своего и чужого, результатом которого, собственно, и является то, что называется событием. Это взаимодействие одновременно оказывается и поступком, который оказывается противоречивым единством насилия и страдания, и проблема в том, чтобы не ограничиться сожалением по поводу непредусмотренных последствий, а выйти на новый уровень отношений между ними. Альтернативой рациональной стратегии порядка выступает любовь. Она, как грезил молодой Гегель, объединяет, а не разъединяет, она, по словам Конта, выступает целью прогресса. Если рациональный порядок, опирающийся на силу, в конце концов, приводит к конфликту и распаду составляющих его частей и никакой общественный договор не может долго сохранять единство враждующих индивидов, то любовь, сопровождающаяся прощением и покаянием, способна объединить даже преступника и жертву. Однако такое единство на основе тотальности целого на деле оказывается некой мягкой формой захвата чужого. В.В. Розанов, говорил о «рыдательной покорности любви», тем самым понимая ее как новую форму зависимости. Иное признается, но оно вводится в некую тотальность целого, которому нет альтернативы. Любовь оказывается в построениях В. Соловьева и М. Шелера продвижением по лестнице ценностей, которые абсолютны. Однако, как и в 231 случае реконструкции истории рациональности, современная философия любви исходит из того же самого идеала единства. Кант считал неэффективной этику, построенную на любви, ибо полагал, что единообразие приводит общество к состоянию безжизненной стагнации. Он исходил из антагонизма людей и полагал, что именно конкуренция является источником развития. Его мораль сугубо индивидуалистична и направлена на индивида, а не на всеобщее. Кант не генерализирует, а скорее ограничивает поле действия моральных норм: принимаются только такие, которые принимаются индивидом, и в тоже время оказываются принципами всеобщего законодательства. Кантовская мораль оказывается в оппозиции не столько к индивиду, сколько к обществу, которое нередко принуждает действовать вопреки категорическому императиву. Таким образом, этика всегда обращена к индивиду и является формой ориентирования человека в мире. Она включает в себя рефлексию общепринятых моральных норм. Этот момент обстоятельно разработан в «Теории справедливости» Д. Роулза, который вновь обратил наше внимание на то, что моральное чувство справедливости нередко оказывается репрессивным. Кажущееся очевидным, опирающееся на опыт личного страдания, оно взывает к отмщению или протесту и не принимает никаких смягчающих обстоятельств. Именно поэтому ссорятся и враждуют близкие люди: друзья, супруги, соседи не могут простить обиду, и поэтому их любовь легко переходит в ненависть. Только дистанцирование от общих моральных норм, которые захватывают сердца и души людей, рефлексия над своими кажущимися бесспорными переживаниями способствует уравновешенному, сдержанному поведению. Отсюда вторая важная особенность этики –– это искусство управления собой, способность контролировать себя и сдерживать свои непосредственные реакции. Оно имеет мало общего с аскетизмом, который является технологией реализации универсальной морали. Этическое ориентирование представляет собой поведение в изменяющемся мире и регулирование себя сообразно обстоятельствам. Нелепо вести себя в пивной, как в храме, но и там человек не должен превращаться в животное. Абсолютное –– значит независимое. Но как тогда его можно определить? Моральна ли сама мораль, не является ли ошибочным само разделение на истинное и ложное? Эти вопросы убеждают в том, что ценностные и истинностные оценки применяются к любым феноменам, кроме самих себя. Но если отказаться от абсолютных масштабов, будь то рациональные идеи или моральные ценности, то на что может опереться человек в своих поступках? Если нет абсолютных различий на добро и зло, истину и ложь, то не окажемся ли мы во власти анархии? От этого парадокса современная философия пытается освободиться при помощи понятия мета исследования: наблюдение предполагает возможность описания наблюдаемого и самого наблюдателя. Но последнее происходит не прямо, а опосредованно, например, посредством языка. Так на место трансцендентального субъекта классической философии приходит метаязык. Благодаря этому не требуется поиск первоисточника или предельных оснований. Метаязык оказывается столь же исторически обусловленным, как и язык. Критерием приемлемости истинных или ценностных суждений выступает исторически обусловленное сознание, которое накапливает свой опыт тем, что делает предметом рефлексии собственные теории. Рефлексия при этом является не абсолютной, а столь же исторически ограниченной, как и теория, и не имеет никаких особых гносеологических 232 преимуществ, ибо является событием. Критерием ее достаточности является способность к описанию исходной теории, а не некая мистическая открытость большого смысла, конечной цели или подлинного бытия. Понятие метаисследования имеет решающее значение для построения этики, как метатеории или рефлексии морали. Современное общество по сравнению с традиционным является мультисистемным, и при этом различные подсистемы оказываются автономными: если политика или мораль начинают регулировать экономику, то она приходит в упадок. И наоборот, если бюрократическая государственная машина или технонаука станут определять все жизненные решения, то это также приведет к регрессу. Наше общество не может быть объединено на основе идеи тотальности. Именно это обстоятельство кажется наиболее тревожным и настолько опасным, что сегодня всерьез рассматривается проект возвращения к средневековым способам объединения людей, которые опираются на такие дисциплинарные пространства, как храмы. Именно в них люди, сопереживая страданиям Христа, осознавая собственное несовершенство, учились прощать и таким образом сохраняли единство разделенного на бедных и богатых общества. Сегодня христианская мораль и сострадание уже не могут консолидировать наше общество, которое интегрируется путем преодоления конфликтов между индивидуумом и государством. Мораль навязывает универсальный код различия на добро и зло, но сама при этом исключается от оценки с точки зрения этого различия. Это самотабуирование морали становится явным в силу неискоренимого стремления к истине. Как говорил Ницше, христианская мораль разрушается правдивостью. Он указал на самотабуирование морали, и то, что называют имморализмом Ницше, на деле оказывается попыткой найти новую форму признания, в которой бы было место многообразию ценностей. Именно так становится возможным дистанцироваться от морали и обрести по отношению к ней некую перспективу. Теперь нормативная этика становится уже недостаточной и приходится выбирать между различными моральными системами. Приходится признавать существование индивидов, опирающихся на другие моральные принципы и при этом не ждать взаимности. Но как же тогда автономные, конкурирующие индивиды могут объединиться в общество, и каким является общество, в котором отсутствуют универсальные моральные нормы? Речь должна идти о некоем рынке признания, когда оно осуществляется не на основе долга или любви, а на основе «стоимостной» оценки акта признания, которое уподобляется товару. Тот, кто играет в игру признания другого, сильно рискует, ибо велика вероятность, что другой вовсе не ответит взаимным признанием. Отсюда моральное поведение современного человека опирается не на абсолютные нормы, а реализуется как такая стратегия практического ориентирования, в которой решающим оказывается выбор между «выгодно» или «невыгодно». Мораль оказывается как бы блуждающей, спонтанной и сингулярной, свободно возникающей в одних случаях и исчезающей в других. Именно это обстоятельство делает этическую рефлексию морали практически актуальной. Сторонники жесткого морального порядка припирают к стенке своих противников, говоря им: если вы призываете к анархии, то тем самым признаете и собственную гибель. На самом деле человек имеет право воздержаться от большого выбора между крайностями. Дело в том, что словари людей, призывающих сделать решительный выбор, конечны. Поэтому философия должна попытаться развить такую методологию самопонимания, которая бы 233 исходила из признания как парадоксов, так и тавтологий морали. Ведь не смотря ни на что, люди по-прежнему находят способы оставаться моральными. Такие сущности, как «бог», «бытие», «разум», «демократия» вовсе не выводят нас к некому абсолютному, лишенному парадоксов самопониманию. Да, вне нас существуют земля и небо, другие люди, но кто может быть абсолютно уверен в окончательной истинности постижения их смысла, в правильном понимании того, что вообще есть смысл? Метафизики и теологии, моралисты и идеологи ориентируют нас на абсолютное, но на деле происходит вечное становление и вечное возвращение, которое в сфере самопонимания проявляется как изменение последнего. Современные общества организованы как сложные развивающиеся системы, состоящие из нескольких самостоятельных подсистем. Их организация становится все более сложной, а порядок все более искусственным. Отсюда возникает потребность в легитимации. Она реализуется двумя путями: один путь –– либеральный –– исходит из воли к власти, другой, социальный, из общественного договора. Однако ни тот ни другой не способны уравновесить общество, но это понимание блокируется тем, что общество либо создает некоторые «слепые зоны», о которых не принято говорить, либо переносит решение парадокса в будущее, когда тождество утопизируется: единства пока нет, но оно наступит в будущем. Эта опора на идеологию или утопию в современном обществе, которое объявило о «конце идеологии», тщательно скрывается тем, что практически признанными являются контридеологии. Блокирующий парадокс стабилизации порядка преодолевается тем, что хаотическое начало вводится в форме альтернативной идеологии, которые начинают различаться на прогрессивные и консервативные. Идеология темпорализуется, и развитие описывается не в терминах «до» и «после», а в понятиях «прошлое» и «будущее». Таким образом, из проблемного поля современного самопонимания оказывается исключенным парадоксальное настоящее –– оно оказывается «исключенным третьим», не прошлым и не будущим, а одновременно тем и другим. Анализ современности приводит к осознанию необходимости сосредоточить внимание не столько на временном опыте сознания, сколько на анализе социальных и культурных пространств, в которых и осуществляется производство сознания. Самопонимание конкретного человека отличается от трансцендентального сознания философов, оно вовсе не удовлетворяет требованию единства, его истины не очевидны, а напротив, случайны и сингулярны. То же самое характерно и для его ценностей. Ницше связывал их происхождение не с моральным различием добра и зла, а с утверждением себя. Как бы то ни было, сегодня ценности складываются на основе рыночных отношений и выступают такими выгодными предпочтениями, которые обеспечивают успех в процессе социальной коммуникации. Как парадокс мы осознаем то обстоятельство, что ценности вместо того, чтобы ориентировать коммуникацию, сами опираются на нее. Пытаясь разрешить его, герменевтика предприняла попытку истолкования ценностей на основе самоявляющегося бытия. Но такой путь ведет лишь к новым парадоксам, и выход состоит в признании конфликта ценностей, который решается каждым отдельным человеком в зависимости от ситуации, т.е. контингентно, а не универсально. Для того чтобы ориентироваться, человек и сам должен определиться, поэтому на протяжении своей истории он постоянно размышлял о себе и своем месте в мире. Это самопознание было частью самоизменения, которое необходимо постоянно корректировать. Изменить мир в соответствии 234 со своими желаниями –– такова самоориентация человека нашего времени. Однако она не исчерпывается прокладыванием маршрута. Познавая мир, историю, других людей, человек должен изменяться сам. Ориентирование, таким образом, не сводится к интерпретации и истолкованию, оно есть специфический опыт изменения самого себя, включая знания и умения, чувства и желания и даже телесность. Человек, общество и мораль Оценка науки, ее открытий и их последствий с точки зрения морали кажется безупречной. И сами ученые, нередко вступающие в противоречие с моралью, не только когда «подсиживают» коллег, но и открывают нечто опасное, также склонны раскаиваться. Поэтому нередко они становятся организаторами пацифистских, гуманных, зеленых и иных движений, призванных поставить науку под контроль общепринятой морали. То же и в деловом мире и в политике. Дельцы и политики время от времени заявляют, что в бизнесе невозможно оставаться честным, а в политике чистым, но продолжают делать свое дело. Хуже того, в обществе есть, вообще говоря, немало таких профессий, которые в принципе антигуманны. Таковы работники концлагерей, тюрем, скотобоен и т.п. При этом эти служащие могут быть вполне гуманными и культурными людьми. Просто у них такая нехорошая, но необходимая для общества работа. Произнося моральные речи, мы как бы закрываем глаза на происходящее и тем самым не контролируем зло, которое обличаем. Если уж должны существовать перечисленные опасные с точки зрения моральных последствий профессии, и к ним относится профессия не только военного, но и ученого, то необходимы обсуждения с участием широкой общественности, процессуально-уголовных кодексов, нормативных документов и должностных инструкций, снижающих опасность подобной профессиональной деятельности. Речь идет о разработке прикладной, профессиональной этики, включающей список четких правил, нарушение которых не ограничивается моральным осуждением, а контролируется правовыми актами. Речь не идет об элиминации или редукции этики к праву. Нравственный бойкот и исправительное наказание –– это разные формы цивилизующего воздействия на человека. То, на что необходимо обратить внимание, как в прикладной этике, так и в сфере права, –– это предложенное еще Витгенштейном различие правил и способов их применения. В этом смысле и этика и право похожи на конструктивистскую модель математики тем, что небольшое количество аксиом предполагает творческое многообразие способов их применения. При этом исполнитель закона несет не меньшую, а, может быть, даже большую ответственность, чем законодатель. Мы недооцениваем этическое оснащение наших предков. П. Дюрр поколебал миф о цивилизационном процессе, и показал, что те, кого относят к «диким, нецивилизованным народам», на самом деле имели достаточно строгие и экологически эффективные нормы поведения. Если посмотреть на животные зрелища, которые являют экраны наших телевизоров, то, боюсь, что именно мы, а не наши первобытные предки окажемся варварами. Имея удовлетворительные ответы на все случаи жизни, которые давали локальные мифологии и религии, они не искали универсальных оснований и воспринимали нравственные нормы как практическую истину или «правду», которая признавалась всеми как справедливость. Индивид не мыслил себя вне коллектива и был вплетен в плотную сеть взаимодействий. Постоянство потребностей определяло 235 постоянство долженствований. При этом нужда, лишения и труд компенсировались чувством долга перед Другим. По мере развенчания высших сил, человек сам принял на себя этические обязательства, и так возникла взамен гетерономной автономная этика. При этом частая смена смыслов морали, религии, идеологии привела не столько к эмансипации, сколько к кризису легитимации. Если Я имеет нечто вроде метафизической потребности, способен нести на своих плечах груз трансценденции, то он идентифицирует себя по отношению к Другому. Поиск смысла жизни предполагает долженствование. Человек всегда кому-либо или чему-либо служит. Он может исполнять свои прихоти, но при этом неизбежно испытывает пустоту или скуку. Мы хотим, но, кажется, уже не можем жить с другими. Мы не хотим идентифицировать себя с государством, но принуждены к этому. Сегодня национальное государство, а вместе с ним институты семьи и образования, переживают кризис. Инфляция традиционных идеалов становится причиной минимизации этики. Но, выбирая сам, кому служить, выбирая не только профессию, но и индивидуальный образ жизни, человек кроме «эстетики существования» должен иметь набор универсальных правил, позволяющих ужиться друг с другом людям разной национальности, вероисповедования и эстетических пристрастий. В прикладной и в профессиональной этике целерациональность не должна заменять этос. Мораль не исчезает, но она становится, как мыслил ее Ницше, сингулярной. Этика обращена к индивиду. Тот, кто признает мораль другого, рискует своей свободой. Но поскольку нерискующее поведение невозможно, остается выносить свою мораль на рынок признания и доказывать, что она имеет наилучшие последствия для всех остальных. Мораль не может исчезнуть, но чем чаще она обсуждается и получает всеобщее одобрение, тем она эффективнее. Прикладную этику и можно рассматривать как форму существования всеобщей, универсальной морали, которая реализуется в форме конкуренции. Конечно, профессиональная этика корпоративна и защищает интересы, допустим, врачей или преподавателей. Но что мешает пациентам и студентам солидаризироваться и добиваться признания своих прав? Так в конфликтах, спорах и переговорах реализуется этика. В этой связи попытки создать новый гуманистический манифест, которые поддерживаются российскими интеллектуалами, не кажутся мне эффективными. Подписать его не значит сделать общество гуманнее. Напротив, свободная игра сил на рынке морального признания, общественные дискуссии с участием политиков, ученых, предпринимателей сделают жизнь более прозрачной и справедливой. Достигнутый консенсус будет означать не только достижение «наименьшего зла» от деятельности тех или иных профессиональных сообществ, но и нравственное признание друг друга. Господство морали над другими системообразующими элементами общества опасно для его развития. Точно так же как господство идеологии над всеми областями жизни, абсолютизация морали и навязывание «общечеловеческих ценностей» политике и экономике ослабляет другие структуры социума. Возможно, мораль, как подозревал Н. Луман, –– это не система, а синдром, т.е. болезненное проявление страха или протеста. Отсюда он, вслед за Ницше призывал дистанцироваться от универсальной морали. Этим советом не следует пренебрегать, особенно философам. Но и следовать ему нелегко потому, что мораль живет как бы внутри нас и выражается в чувстве справедливости, которое вспыхивает тотчас же, как нам наносят ущерб 236 и обиду, и выглядит как самое подлинное чувство, которое не обманывает нас. И вместе с тем люди приучены терпеть несправедливость, и не самый худший из способов –– это затаить обиду и откладывать осуществление справедливости до Страшного Суда. Хотя активный протест, может быть честнее, но он наносит обидчику такой удар, который часто несоизмерим с его проступком. Реактивный протест откладывает месть, но от этого ничего не меняется. Как кажется, мы сейчас как раз и находимся в этой стадии: мучайте, грабьте, издевайтесь над нами сейчас, но Бог видит правду, он отомстит злодеям, и когда-нибудь мы будем наслаждаться их мучениями в Аду. Апелляция к абсолютным моральным нормам, которые не могут быть осуществлены в нашем мире, кажется утопизмом. Однако неизбежное осуждение всего действительного с точки зрения этих абсолютных моральных ценностей приводит к негативным последствиям. Прежде всего, человек перестает ценить все то, что достигнуто с большим трудом. Морализация опасна в политике, где она разрушает защиту национального и геополитического интереса, в хозяйстве, где она отрицает технические и экономические возможности, в семье, где она господствует над интересами жизни, которая, действительно, жестока с точки зрения моральности. Мораль способна разрушить инстинкт самосохранения и ведет к жесточайшим кризисным ситуациям. Она, действительно, подобна взрыву бомбы. В современном мультисистемном обществе мораль оказывается как бы блуждающей, разорванной на профессиональные, возрастные, половые, сословные и даже индивидуальные морали. Это внушает надежду на то, что прогнозы Ницше, Ильина и других мыслителей, видевших опасности универсализации христианской морали и принципа непротивления злу силой, не оправдаются. Однако сингулярность современных моральных норм, которые уже не отличаются от нравственных и этических, тоже ведет к серьезным трудностям. Так профессиональная этика политиков, юристов, врачей и других специалистов включает себя защиту сообщества. Например, депутатская неприкосновенность означает, что член парламента становится как бы святым. Ясно, что и внутри перечисленных каст встречаются свои парии. Однако сообщество стремится представить себя безгрешным. Имеет место непримиримость к нарушению главного принципа профессионального этоса, направленного на самосохранение группы, оправдание и отбеливание проступков отдельных ее представителей в отношении членов другого сообщества. Это связано с опасениями, что на основании недобросовестного исполнения своих обязанностей одним из членов группы в обществе часто возникает недоверие ко всем ее представителям. Точно так же возникает двойная мораль, когда в силу профессиональной принадлежности человек исполняет, например, обязанность палача, а дома он является примерным семьянином. Выход заключается в переходе к респонзивной этике, когда сторонники высказывают свои претензии и не только настаивают на соблюдении своих прав, но и принимают во внимание чужие. Заключение. Основные этапы глобализации Сегодня источник многих проблем видят в глобализации, которая стала неким натуралистическим мифом, наподобие «расы» у антропологов XIX столетия. На самом деле процесс глобализации постоянно сопровождает человеческую историю и является продуктом коммуникации. Именно в свете эволюции коммуникативных медиумов и целесообразно рассматривать глобализацию. 237 Человек всегда стремился найти или искусственно построить вокруг себя интимное безопасное сферическое место. Поэтому он отыскивал или выкапывал пещеру, строил хижину и огораживал поселение. Точно так же он воспринимал землю как свою колыбель, а пространство как космос, окруженный прочной скорлупой небосвода. Все эти пространства он воспринимал как шароообразные, а саму сферу расценивал как самую совершенную и одновременно прекрасную форму. Сегодня все по-другому. Мир стал открытым для бесконечного исследования, но сделался каким-то плоским, незащищенным и неуютным для проживания. И может быть как раз потому, что мы, подобно Паскалю, ощутили ужас перед бесконечностью разомкнутого Универсума, поиски своего места в Космосе снова стали для нас актуальными. Желание жить внутри уютной сферы, дающей защиту, и одновременно обозревать землю как поверхность глобуса, сконцентрировать мир в форме шара и крепко держать его в руке старо, как само человечество. Атлант с глобусом на плечах –– это весьма распространенный сюжет, подхваченный в Новое время. Однако ноша античного человека не столько физическая, сколько метафизическая. Скипетр и держава, с тех пор, как впервые появились на картине, изображающей византийского императора, становятся обязательными атрибутами царского титула. Имперские художники также изображали сверхчеловеческое могущество начальства, которое гнется под тяжестью неземных забот. Римская империя использовала метафору пути, так как имперская техника коммуникации была основана на распространении знаков, символизирующих мощь Рима, и письменных сообщений, доставляемых по великолепным мощеным дорогам, ведущим от центра в провинции. Империя –– это почта. Христианство как трансцендентная религия опиралась на метафору неба –– края Логоса и Света. Бог создал землю и небо для человека, но сам обитает вне их. Его сообщение на Землю было доставлено самым надежным посыльным и передано верным ученикам –– Апостолам, от них папам, которые благодаря верным слугам церкви распространяют его в неискаженном виде по поверхности всей Земли. Так конструируется понятие универсального горизонта, охватывающего бесконечную Вселенную, однородность которой обеспечивается христианским учением. Впервые взамен различных ареалов, связанных сложными капиллярными сетями предлагается единый универсум, в котором «нет ни эллина, ни иудея». То, что было начато христианством, которое раскололось на несколько конфессий, было продолжено наукой, создававшей единый язык описания мира. На уровне повседневности эта интенция поддерживалась расширением рынка, в орбиту которого попали не только деньги и товары, но и люди и книги. Мировая торговля привела к образованию широкого коммуникативного пространства, в рамках которого самостоятельные и ранее враждовавшие регионы получили возможность мирного общения. Обмен товарами, идеями, людьми, осуществленный древними греками в средиземноморском ареале, распространился практически по всей земле благодаря созданию нескольких торговых компаний. На этой основе расширяется почта, появляются новые средства сообщений, в том числе газеты и журналы, читателями которой стала образованная публика. Основой современных философских и научных представлений о бесконечной Вселенной, просторы которой покоряют космические корабли, является новый тип коммуникации, медиумом которой являются уже не книги, а сигналы –– 238 носители информации, подлежащей расшифровке и истолкованию на основе научного метода. Информационная революция привела к созданию единого коммуникативного пространства. Благодаря Интернету можно свободно пересекать границы национальных государств и практически мгновенно связаться с любым жителем Земли, если, конечно, он является владельцем персонального компьютера, подключенного к «всемирной паутине». Начиная с Парменида, доказывавшего, что бытие –– это идеальная сфера, и до настоящего времени стремление глобализовать мир остается неизменным и не подвергаемым сомнению. Каждый новый шаг на этом пути расценивается как прогресс. Открытие Коперника, путешествие Магеллана, проекты Циолковского и теория ноосферы Вернадского –– все это шаги на пути глобализации. Конечно, перечисленные авторы, скорее всего, не приняли бы глобализацию мира, как она разворачивается на наших глазах в форме кризиса национального государства и появления транснациональных финансовых, информационных и иных систем. Что же настораживает в процессах глобализации? Первые серьезные опасения возникли в ходе мировых финансовых кризисов, которые имеют принципиально новый характер. Если раньше они возникали в результате сбоев в экономике, то теперь наоборот: процессы на межбанковских биржах определяют состояние экономики. Деньги больше не зависят от труда и ресурсов, а сами по себе они ничто, бумага. Это заставляет под особым углом зрения посмотреть на другие процессы, например, в сфере масс-медиа, информации, образования. Если раньше люди положительно относились к развитию транснациональных кампаний в этих сферах, то сегодня возникают сомнения относительно тех надежд, которые на них возлагались. Достигшие невиданного технического уровня, они связывают людей в единое информационное пространство и формируют единое общественное мнение. Доступ к информации всегда ограничивался какими-либо структурами, например, жрецами или властителями. После падения цензуры со стороны национального государства возникли новые формы селекции и ограничения. С одной стороны, продюсеры телевизионных программ отбирают материал, а с другой стороны, зрители ищут среди многообразия каналов наиболее приемлемый. Человек растворился в цепях циркуляции информации, превратился в звено ее цепи: получил –– послал дальше. Главная проблема телекомуникационного общества в том, что сообщения вызывают рефлексию, но не побуждают к действию. То же самое происходит в политике, которая приобретает все более ярко выраженный спектакулярный характер. Если раньше у людей вырабатывалось общественное мнение, которое вынуждены были учитывать политики, то теперь, наоборот, и общественное мнение и сама фигура политика определяются информационными технологиями. Мы живем в условиях глобализации, которая является порождением уже не государства, институтов, индивидов, а универсальных структур техники, секса, денег, информации и коммуникации. Процесс глобализации в последние годы усилился под влиянием Интернета, и теперь становится все более ясным, что он вошел в противоречие с проектом, опирающимся на идею национального государства. Интернет существенно изменяет условия развития власти, денег, права и знания, т.е. центральных медиумов управления национальным государством. Появляются угрожающие демократии техники: не санкционированные вебстраницы предлагают детское порно, способы изготовления подрывных устройств; разного рода преступные группы могут 239 координировать свои действия на транснациональном уровне и т.п. Появление такого рода проблем в основном используется защитниками морали, которые видят в них новое подтверждение своей правоты и претензий на универсальность. Мораль стремится оценивать все сферы деятельности, включая политику, экономику, технику и науку. Допущение универсальной морали порождает трудность, связанную с тем, как и кто будет оценивать саму мораль? Именно это обстоятельство и определяет недостаток как глобалистской, так и антиглобалистской стратегии. На самом деле глубинный протест против глобализации таится в доисторической жизни, когда люди объединялись в небольшие племена и орды, говорили на одном языке, сообща добывали и ели пищу, грелись у огня, где места хватало всем. Их мифы и фольклор представлял собой прочную иммунную систему, благодаря которой они чувствовали себя совершенными и защищенными. Но человек всегда стремился выйти наружу из своего дома, города или страны. Стресс чужого компенсировался экспансией. Эпоха империй является следствием морфологической катастрофы, суть которой состояла в неудовлетворенности местом своего обитания. Вместе с тем, например, Римская, Византийская, Российская империи просуществовали гораздо дольше Золотой Орды прежде всего потому, что заботились о цивилизации территории покоренных народов. Политическая архитектура Вечного Города на самом деле имела «человеческое лицо» и удовлетворяла глубинные желания человека. Думается, что и сегодня антигобализационный психоз должен уступить место построению таких виртуальных коллективных пространств, в которых бы люди чувствовали себя как дома. Гуманизм и глобализация Гуманистами назывались интеллектуалы, состоявшие в переписке друг с другом. Отсюда гуманизм можно определить как дружеское общение при помощи письма. Уже во времена Цицерона гуманистами называли людей, умеющих пользоваться алфавитом, использующих язык для воздействия на людей с целью их облагораживания. То, благодаря чему и сегодня спустя, две с половиной тысячи лет сохраняется философия, это способность писать и читать тексты. Ее можно рассматривать как непрерывную цепь посланий от поколения к поколению и как дружбу между авторами, копиистами и читателями, дружбу, связанную именно ошибками и искажениями при интерпретации, которые поддерживают напряженные отношения между любителями истины. Первым важным посланием была греческая литература, а ее первыми получателями и читателями были римляне. Благодаря прочтению текстов, содержание греческой культуры оказалось открытым для Империи и позже для всего европейского мира. Конечно, греческие авторы были бы чрезвычайно удивлены, если бы им сказали, что их послания будут читаться и сегодня. Дружба на расстоянии предполагает не только письма, но также истолкователей. Без готовности римлян дружить с греческими писателями этих давних писем, без способности воспринять соответствующие правила игры, предполагаемые письмами, эти тексты никогда бы не проникли в европейское культурное пространство. Эти проблемы снова повторились, когда дело дошло до рецепции римских посланий европейцами, говорящими на разных национальных языках. Во многом именно благодаря римской готовности читать греческие тексты мы сегодня можем вести речь на своем языке о гуманных вещах. 240 Письмо –– не просто коммуникативный мост между друзьями, разделенными расстоянием, а сама операция разделения. В европейской магии письма оно и есть «действие на расстоянии», целью которого является включение другого в круг общения. Телекоммуникативное общение снимает разницу между ближним и дальним. Первоначально гуманисты были не более чем сектой грамматиков, которой в отличие от других удалось сделать свой проект универсальным. Позади письменной культуры в эпоху Нового времени, в эпоху становления национальных государств, возникают специальные дисциплинарные учреждения, поддерживающие письменную культуру в определенных рамках. Это, прежде всего, школы и гимназии, благодаря которым литературные стандарты согласуются с политическими. Теперь уже не только античные и христианские, но и национальные авторы образуют круг читательской публики –– ценителей романов, публикуемых в появившихся толстых журналах. Предыдущее довоенное столетие было расцветом национального гуманизма. Его опору составляла филологическая элита, которая своей задачей считала ознакомление современников с важнейшими посланиями истории. Власть учителя и филолога была связана с привилегированными знаниями авторов, входивших в круг отправителей важнейших для человечества посланий. Субстанцией буржуазного гуманизма стала абсолютная власть принуждать юношей к изучению классиков. Сегодняшние буржуазные нации во многом являются литературным, почтовым, коммуникативным продуктом. Можно сделать вывод, что глобализация началась отнюдь не сегодня. В рамках письменной культуры коммуникация перестала быть межличностным общением в рамках коллектива, спаянного территорией, языком, образом жизни и самобытной культурой. Благодаря использованию письменности стали возможными обширные империи. Их распад компенсировался за счет сохранения единых образовательных стандартов и корпуса классических сочинений, изучаемых европейцами. Сегодня Интернет преодолевает границы национальных государств и угрожает не столько индивиду, который давно «глобализирован» государством, сколько самому государству. Таким образом, если эпоха буржуазного гуманизма стала закатываться, то вовсе не благодаря декадентским капризам людей, которым надоели уроки национальной литературы. С утверждением новой медиальной культуры радио (1914), телевидения (1945) и, наконец, всемирной паутины, сосуществование людей стало строиться на новой основе. Мы живем в постлитературном и, стало быть, в постгуманистическом мире. В ход пошли новые телекоммуникативные медиумы, которые отвергают старую модель гуманистической дружественности. Эра гуманизма, основанная на книге и образовании, закатывается, потому что проходит одна великая иллюзия, состоящая в том, что единство общества может достигаться исключительно литературой. На место глобальной литературы приходят новые политические и экономические структуры, которые из средства стали сами глобальными целями. Преодоление иллюзии гуманизма после Второй мировой войны стало поворотным пунктом современного мировоззрения. Однако парадокс состоял в том, что это историческое ниспровержение гуманизма сопровождалось эскалацией гуманистической модели в философии. Этот рефлексивный ренессанс, видимо, был обусловлен страхом перед обнаружившимся во время войны одичанием 241 человека, тем, что люди не хотели повторения ужасов войны и поэтому использовали старую тактику осуждения зла и насилия. В послевоенном гуманизме появился новый мотив, которого не было прежде, ни в Риме, ни в национальных государствах Нового времени. Гуманизм как слово и дело питался страхом перед одичанием и надеждой на приручение. Он был наиболее понятен и звучал наиболее громко как раз в эпохи варварства, господства насилия в отношениях между людьми. Чем же пытаются противостоять сегодня бестиализации людей, происходящей в условиях современных масс-медиа, которые, подобно культивируемым в Риме кровавым зрелищам, пытаются воспроизвести нечто подобное на экране? Во времена Цицерона причину бестиализации видели в амфитеатрах, где бились звери и люди, и это легко инсталлировалось в современные масс-медиа. Античный гуманизм был восстанием книги против амфитеатра, попыткой воздействовать на одичание посредством лекционной дисциплины. То, что образованные римляне называли humanitas, было немыслимо без театра жестокости. Развитие человеческой природы виделось в обращении к приручающим медиумам, к успокаивающим книгам, а не зрелищам, исторгающим животный вопль. На самом деле зрелища были частью имперской техники власти, с помощью которой она управляла коллективным телом толпы. Ноосфера Основное понятие русского космизма, «ноосфера» –– это, прежде всего, специфическая антропогенная или психогенная «масса», которая постепенно растекается по оболочке Земли и, взаимодействуя с геологической материей и биомассой планеты, преображает мир. Мысль господствует над миром не столько содержанием, сколько массой. В этой модели есть свои преимущества и недостатки, которые можно обсуждать. Сегодня выявляются скорее отрицательные, чем положительные стороны превращения мысли в планетное явление. Если В.И. Вернадский видел в превращении науки в интернациональное мировоззрение, в глобализации информации, техники, связи, обменов исключительно положительные явления, то мы сегодня настороженно относимся к этому. В нашем прекрасном новом мире завелись такие опасные вирусы, от которых мы уже не видим защиты. Глобализация доллара в экономике, развитие транснациональных информационных систем и, наконец, всемирная сеть, окончательно разрушившая все границы на пути обменов, сделок, передачи информации –– все это, соединенное вместе, разогревает систему до опасной температуры и грозит взрывом. В теории ноосферы учитывалась такая возможность, но Вернадский оптимистично предполагал, что разумные существа, зная об опасности, сумеют удержаться от рискованных действий. Согласно его концепции ноосфера, как и биосфера, не подчиняется законам равновесия, они развиваются в геометрической прогрессии. Очевидно, что геологическая масса в какой-то мере будет ограничивать распространение живого, а масса последнего способна вынести на своих плечах лишь определенное количество мыслящих существ. По-видимому, эти границы роста не очень беспокоили Вернадского. Во-первых, они обеспечивали сохранение системы. Во-вторых, ноосфера, если хочет безудержно расширяться, может перейти на другие планеты. Теорию ноосферы нельзя объяснить как исключительное проявление позитивизма. Все-таки любой ученый верит, что существуют истинные и ложные идеи, что истинное знание имеет значение, определяемое объективной 242 реальностью, и именно в силу этого оно оказывается эффективным способом практического преобразования жизни на основе изобретения и использования техники. Обладая независимым объективным содержанием, идеи могут в процессе образования и просвещения влиять на умы людей и на их поведение. Вернадского можно понять по аналогии с Платоном. Поздние сочинения последнего поражают тем, что философ уже не верит в практическивоспитательную функцию истины. Знание никого ничему не учит, оно не способно противостоять природным склонностям и искусственным потребностям. Поэтому в своем «Государстве» Платон предлагает вовсе не интеллектуальные, а скорее генетические практики «одомашнивания человеческого стада». Так и Вернадский разочарован безуспешностью тысячелетних попыток связать человечество воедино на основе проповеди истины, добра и красоты. Такой апостольски-профессорский способ коммуникации, согласно которому учит и исправляет слово, кажется ему совершенно бессильным. По его мнению, мысль победит и уже побеждает, но совершенно иначе, нежели это представлено в теориях гениальности. Мысль возникает как продукт развития биосферы, и она остается планетным явлением. Благодаря работе цивилизации осуществляется обратный перевод мысли в геологическую форму. Ее история является не быстрой, а медленной. Вернадский перечисляет: изобретение орудий труда и войны, приручение животных, окультуривание растений, создание государства, наконец, распространение науки как главный фактор эволюции ноосферы. Она не сводится к открытиям гениев, а представляет собой постепенное наращивание количества людей, которые занимаются производством и распространением научного знания. На место хлебопашца и рабочего приходит интеллектуал. Он не связан с местом и не имеет отечества, он идеальный пользователь глобальных сетей коммуникации. У него нет страха чужого, он не может быть расистом потому, что является интернационалистом и космополитом. Таким образом, теория ноосферы Вернадского является первым проектом глобального информационного сообщества еще до того, как оно сформировалось. Электронные медиа Прежние возможности естественной коммуникации в ХХ веке расширились благодаря развитию электричества. Это связано, прежде всего, с высвобождением энергии, которая производится независимо от оперативного осуществления коммуникации и оказывается нейтральной относительно информации, и это повышает ее зависимость от технического совершенства систем связи. Телевидение –– смыкание кино с телекоммуникацией делает возможной коммуникацию подвижных образов и звуков. Передача акустического и визуального рядов, разведенных письменностью, снова объединяются. Отсюда возврат прежних критериев реальности, которые в письменной культуре заменили обоснования. Сегодня образы и факты вновь обрели свою прежнюю убедительность, и хотя они являются продуктом фотографии и монтажа, доверие к ним не уменьшилось. Задним числом говорят о симуляции, но сомнение не встраивается в саму коммуникацию, как в устном диалоге или в тексте, а привносится после того, как симулякры уже сделали свое дело. Коммуницируемым становится весь мир, и место феноменологии бытия занимает феноменология коммуникации. Мир видят таким, каким его подает образная коммуникация. Она не столь утонченна и драматична, как 243 художественное изображение. В процессе телевизионного восприятия на задний план отступает различие информации и сообщения. Точнее, их дифференциация уже не контролируется теми механизмами, которые были выработаны в письменной коммуникации. Фильм нам может нравиться или нет, но мы не располагает четкими критериями оценки. Отвратительное зрелище и симуляция могут завораживать. «Хотя мы и знаем, что имеем дело с коммуникацией, мы не видим ее».171 Телевидение использует убедительную форму, привязывающую как привычное, так и ожидание необычного. Поскольку единодушие задается экраном, коммуникативного убеждения не требуется. Каким образом в новых медиа происходит упорядочивание коммуникации? Она имеет односторонний характер. Селекция осуществляется не в процессе коммуникации, а до нее и для нее. Определение темы, задачи, времени, происходит заранее. Это делает ведущий. Селекцию осуществляет также и зритель, ищущий того, чего хочет. Использование электронных медиумов расширяет возможности коммуникации. Телекоммуникация (телеграф, телефон, факс, электронная почта) сводит на нет существующие пространственные и коммуникативные ограничения. Устройства записи, архивирования, хранения развели процессы сообщения и принятия информации, тем самым облегчая ход ее осуществления. Наиболее значительные последствия имеет изобретение электронных устройств переработки информации. Как сказывается влияние опосредованного компьютером знания на саму общественную коммуникацию? Новые медиа распространения создают мировое сообщество. Главное же качественное изменение касается нового соотношения поверхности и глубины. Поверхностью становится экран монитора, минимально воздействующий на чувства. Глубина –– это невидимая программа, отвечающая на запрос. Отсюда необходимо знать и уметь соединять поверхность и глубину. При этом старые навыки наблюдения, проверки, доказательства уже не эффективны для диалога с машиной. Это изменение в способностях и умениях нуждается в осмыслении. Опосредованная компьютером коммуникация делает еще один шаг на этом пути: ввод данных и получение информации кажутся абсолютно несвязанными. Тот, кто вводит данные, не представляет, как это будет воспринято и что ответит машина. Точно так же он не знает, для чего машина выдала ему информацию. Таким образом, пропадают критерии, по которым происходит отклонение от коммуникации. Происходит исчезновение авторитета источника. Единство сообщения и понимания исходит на нет. По мнению Бодрийяра, тотальная коммуникация замкнута на саму себя. Луман считает, что самозамкнутость коммуникации делает ее невидимым подспорьем наблюдения мира. Общество же является призмой, сквозь которую мир наблюдает себя. Привязывая людей к экрану, фиксируя их тела, современные медиа дробят общественного субъекта на атомы. Возникает новый медиум, формы которого определяются компьютерными программами, выполняющими функции грамматики в письменности. К чему это приведет, даже компьютерная лингвистика сказать не в состоянии. Демократия без границ ТВ и компьютер, оснащенный различными приставками, выступают «революционными» символами современности. С одной стороны, эти медиа открывают новые невиданные возможности, соединяют вместе музыку, 171 Луман Н. Медиа коммуникации. М., 2005. С. 140. 244 живопись, литературу, науку, философию, политику. То, что было прежде разорвано по различным регионам и различалось как по форме, так и по содержанию, теперь стало одним целым. То, что требовало раньше соответствующего образования, социального статуса, свободного времени и материальных средств, теперь стало общедоступным. Шедевры музыки и живописи доступны благодаря Интернету. Кроме того, они входят в качестве составных элементов в видеоклипы и различные развлекательные программы. Сложные произведения искусства, научные теории, политические идеологии –– словом все, что требовало от реципиента высокого культурного уровня, теперь дается масс-медиа в упрощенном и доступном виде. Информация связывает людей в мировое сообщество. Сегодня все всё знают. Такая ситуация приводит и к качественным изменениям в стиле мышления, в способе видения, оценки и понимания действительности. Прежний линейный способ восприятия мира, понимание, основанное на логической последовательности, аргументации и обосновании, которые имели место даже в идеологиях, уступают место целостному охвату смысла происходящего, когда даже мозаичное и нерегулярное чтение или просмотр ТВ быстро приобщают человека к происходящему. Итак, свобода, творчество, доступность, приватность, несомненно, положительные следствия современных масс-медиа. Какие новые возможности открывает Интернет для развития демократии? Процесс формирования демократического общественного мнения включает два элемента: во-первых, доступ к информации, во-вторых, способность ее анализировать и принимать решение. Очевидно, что Интернет обеспечивает неслыханный прежде доступ к информации и расширяет возможности коммуникации. Возникает идея виртуального общества, которое, благодаря Интернету, преодолевает иерархизм реальной власти. Электронная коммуникация осуществляет полное равенство ее участников и участниц. Посмотрим, насколько соответствует это требованиям свободной от принуждения коммуникации, выдвинутым Ю. Хабермасом: 1) Равенство участников коммуникации и свобода от давления. 2) Темой дебатов являются общие проблемы, которые значимы для всех. 3) Запрет на ограничения дискурса и возможность его возобновления по требованию участников. На первый взгляд, кажется, что благодаря Интернету все эти требования оказываются легко выполнимыми. Интернет делает невозможной какую-либо политическую цензуру. Все голоса в дигитальной какофонии обладают равным весом. Будучи неконтролируемым, индивидуальное разидентифицируется и не может собрать себя. Если коммуницируют 50 миллионов, то индивидуум теряется. На самом деле Интернет вовсе не устраняет иерархию. Остается четкое различие говорящих и слушателей, владельцев сети и пользователей. Ведущими оказываются личности с высоким уровнем образования и влияния, а их отбор осуществляют владельцы канала. Актуальные дискуссии предполагают различные группы, представляющие разные интересы, личные контакты и споры, а также общественную сцену, даже если дебаты идут по телевидению. В Интернете общественность фрагментирована иначе, чем в обществе. Формируются разного рода группы, интересующиеся самыми разными темами, многие из которых не касаются политики. Интернет расщепляет общественность на множество мелких группировок по интересам. При этом пересекаются границы национальных государств, и эти группы уже не защищают политические интересы, которые всегда были интересами своей 245 родины. Если Интернет и «демократизирует» мир, то не по модели общественности, которая служит основой современных теорий демократии. Обычный коммуникативный процесс имеет пирамидальную форму, на вершине которой находится источник информации. В Интернете, наоборот, все больше становится тех, кто посылает информацию, и все меньше тех, кто ее слышит. Это и понятно: если все будут говорить, то поднимется невообразимый шум. Итак, плюрализация источников информации приводит к парадоксальному эффекту: с одной стороны, демократическому обществу угрожает информационная энтропия; с другой, даже левые демократы говорят о необходимости цензуры. Устранение пространственной дистанции дает повод говорить о глобализации как безграничности. Однако нельзя не видеть формирования новых ограничений, определяющих режимы включения и исключения. Благодаря преодолению пространственных границ более пятидесяти миллионов человек оказались реально включенными в мировое сообщество, но вместе с тем наметилась тенденция обособления различных «виртуальных сообществ». Кроме того, половину пользователей мировой сети составляют американцы. Сложилось новое разделение, теперь уже не на основе той или иной национально-государственной принадлежности, а на основе технической оснащенности. Выводы и прогнозы В развитии Интернета наблюдаются две тенденции: с одной стороны, интернационализация –– формирование мировой сети, а с другой, регионализация –– формирование внутренних сетей. Различие глобального и регионального реализуется как различие глобальных и локальных сетей. Является мифом мнение о том, что компьютерная сеть дает возможность абсолютного выражения индивидуальности. На самом деле главным является сеть, организация, а не отдельный человек. Выход из кажущегося противоречия между развитием глобальных и локальных сетей сегодня инстинктивно находят в форме так называемых виртуальных сообществ –– своеобразных новых коммун. Конечно, это слишком мало по сравнению с тем, о чем мечтали великие утописты прошлого. Но не стоит сбрасывать со счетов неудачу революционного воплощения их проектов, а, главное, цену, которую пришлось за это заплатить. Сегодня глобализация и информатизация общества используется капитализмом, который после краха своего великого противника – – коммунизма, объявил свои ценности универсальными. Однако это тут же породило протест исламских фундаменталистов, которые используют стратегии как реального, так и виртуального террора. Все это склоняет к печальному выводу о том, что ничего в мире не меняется, что компьютер и масс-медиа лишь усилили степень зла. На самом деле новые информационные и генные технологии гуманнее прежних. То, мы живем в апокалиптическую эпоху, это не заслуга и не вина человека. Очевидно, что этому способствовало пришествие эры видео и кибернетических технологий, эры электронных образов, новых форм симуляции и иллюзионизма, обладающих невиданной властью. Но это сопровождается страхом перед образами, манипуляция которыми способна покорить самого их создателя. Кризис системы гуманистического образования, представляющего собой эффективный комплекс практик гуманизации человека –– это главное событие современности, которое не является следствием отказа от доброй воли. Техническая культура породила такое новое агрегатное состояние языка и 246 письма, которое имеет мало общего с традиционной религией, гуманизмом и метафизикой. С их помощью уже невозможно артикулировать способ бытия современности. Традиционные понятия и различия уже не позволяют понять такие культурные феномены, как знаки, произведения искусства, законы, нравы, книги, машины и другие искусственные «вещи», которые невозможно распределить по таким различиям, как дух и материя, душа и тело, субъект и объект. Попытка рассуждать об этих сложных феноменах в рамках однозначной онтологии и двузначной логики приводит к деструктивным последствиям. Информация представляет третий полюс между вещами и рефлексией, духом и материей. Прежде всего, новые интеллектуальные машины заставляют отказаться от прежних жестких различий. Чтобы их правильно мыслить, необходима многозначная онтология и логика. Высказывание «существует информация» связано с другими: «существует система», «существует память», «существует культура», «существует искусственный интеллект». Даже высказывание «существует ген» показывает приоритет информации в сфере природы. Это ослабило интерес к субъектнообъектным отношениям: различие Я и мира утратило былое значение. Представление о реально существующей памяти и самоорганизующихся системах отбрасывает старое различие природы и культуры, ибо они оказались сторонами информации. Преодолевая односторонние воззрения материализма и идеализма, необходимо выработать оригинальный взгляд на культурные и природные объекты. Информационная материя, искусственные механизмы представляют собой реализацию инстанций души и субъективности. В ходе технической эволюции существенным образом оказался модифицированным классический образ мыслящего и переживающего Я. Гомеотехники, имеющие дело с реальной информацией, открывают путь для ненасильственных отношений, формируют новый тип рациональности, которая опирается на информацию о мире, а не игнорирует ее в поисках способов самореализации. Таким образом, речь идет не о господстве, а о кооперации. Многие ученые стали говорить о «диалоге с природой», что означает отказ от стандартной установки на покорение природы. Существует соответствие способов производства и представления, техники и войны. Предприниматель и военный имеют дело с конкурентами и врагами; их интеллект ограничен индивидуальным эгоизмом, он не способен освободиться от различия творца и материала. Вся прежняя техника, так или иначе, предполагала образ врага. Даже гены рассматриваются как некое сырье, т.е. к ним относятся как к углю и нефти во время промышленной революции. Рост опасности следует тщательно изучить. Можно предположить, что нарастание технического безумия несовместимо с новыми технологиями: не обладает ли экологическое мышление потенциалом для утверждения этики таких отношений, которые лишены враждебности и насилия? Биотехника и информационная техника предполагают мирного субъекта, формирующегося в пространстве сложных текстов и сверхсложных контекстов. Здесь формируется матрица гуманизма после гуманизма. В мире, который стал сетью межинтеллектуальных взаимодействий, эффективным становится не господство, а содружество. Это не исключает того, что реликты господства и рабства еще долго будут существовать в культуре. 247 Контрольные вопросы. 1. Каково соотношение природного и культурного в формировании тела человека? 2. Раскройте цивилизационное значение сдержанности, самодисциплины и предусмотрительности. 3. Как формируются гендерные различия людей? 4. Что такое воспитание? 5. Какое значение в культуре имеет совместное принятие пищи? 6. Как изменялось отношение к смерти на протяжении истории культуры? 7. Опишите формы различия своего и чужого. 8. Раскройте язык как символическую иммунную систему общества. 9. Какова антропологическая функция дома? 10. Раскройте соотношение культурного и политического в определении нации и государства. 11. Какую роль в гуманизации человека играют мораль и этика? 12. Является ли человек машиной: раскройте историю формирования компьютерной метафоры. Литература Ариес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс – Академия, 1992. Марков Б.В. Икона и экран: Русская философия в эпоху масс-медиа // Русская философия. Новые исследования и материалы. СПб.: Философское общество. 2001. Бельтинг Г. Образ и культ. М.: Прогресс - Традиция, 2002. Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Прогресс, 1983. Марков Б.В. Храм и рынок. СПб.: Алетейя, 1999. Марков Б.В. Философия антропотехники // Философский Петербург. СПб.: Философское общество, 2004. Лелеко В.Д. Пространство повседневности в европейской культуре. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета культуры и искусства, 2002. Философская антропология как интегративная форма знания. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. Марков Б.В. Человек, государство и Бог в философии Ф. Ницше. СПб.: Наука. 2005. С. 736–750. Макинтайр А. После добродетели. Екатеринбург: Академический проект, 2000. Подорога В.А. Феноменология тела. М.: Ad marginen, 1995. Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1998. Саид Э. Ориентализм. СПб.: «Русский мир», 2006 Слотердайк П. Сферы 1. СПб.: Наука. 2005. Тённис Ф. Общность и общество. СПб.: Владимир Даль. 2002. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000. Танатография Эроса. СПб.: Алетейя, 1994. Элиас Н. О процессе цивилизации. М.: Праксис, 2001. Фигуры Танатоса. СПб.: Изд-во СПбГУ,1998.