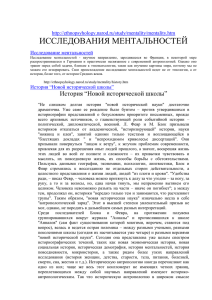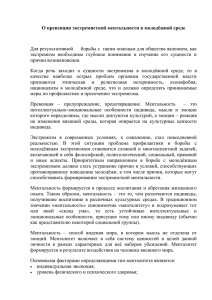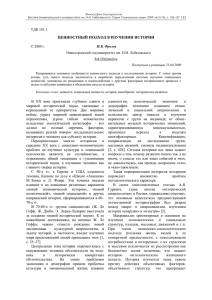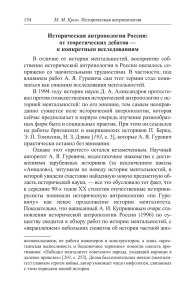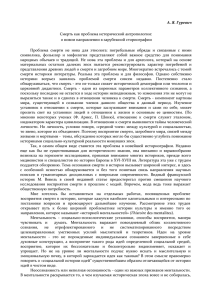История ментальностей, историческая антропология
реклама
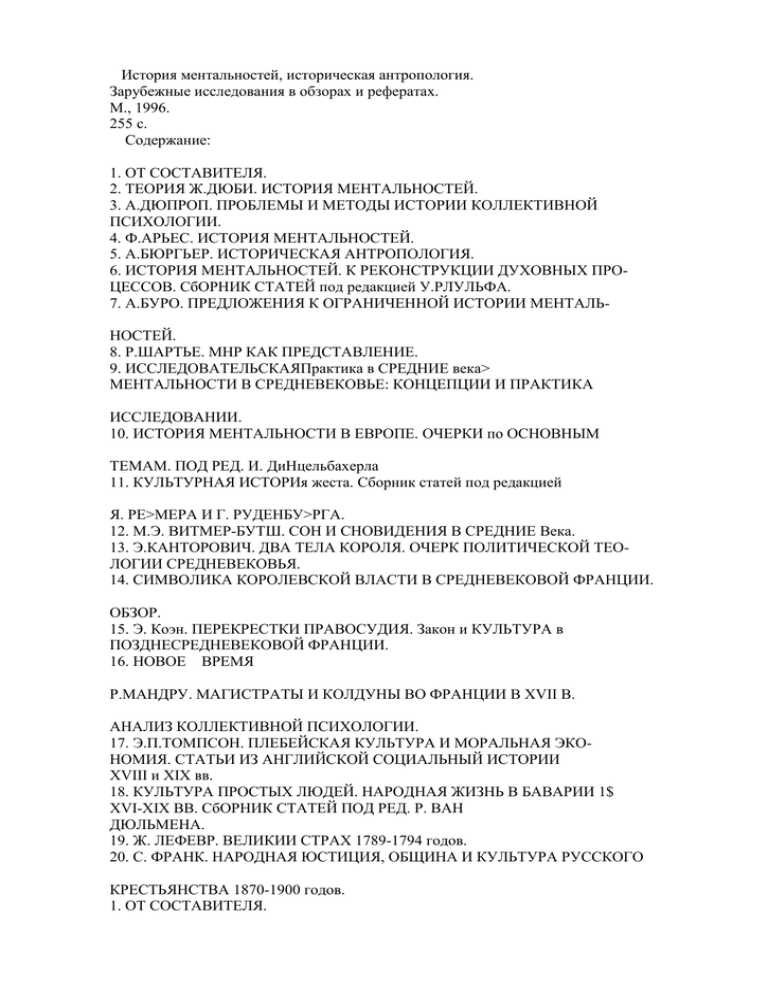
История ментальностей, историческая антропология.
Зарубежные исследования в обзорах и рефератах.
М., 1996.
255 с.
Содержание:
1. ОТ СОСТАВИТЕЛЯ.
2. ТЕОРИЯ Ж.ДЮБИ. ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ.
3. А.ДЮПРОП. ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИСТОРИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ.
4. Ф.АРЬЕС. ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ.
5. А.БЮРГЬЕР. ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.
6. ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ. К РЕКОНСТРУКЦИИ ДУХОВНЫХ ПРОЦЕССОВ. СбОРНИК СТАТЕЙ под редакцией У.РЛУЛЬФА.
7. А.БУРО. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОГРАНИЧЕННОЙ ИСТОРИИ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ.
8. Р.ШАРТЬЕ. МНР КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
9. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯПрактика в СРЕДНИЕ века>
МЕНТАЛЬНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКА
ИССЛЕДОВАНИИ.
10. ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ. ОЧЕРКИ по ОСНОВНЫМ
ТЕМАМ. ПОД РЕД. И. ДиНцельбахерла
11. КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИя жеста. Сборник статей под редакцией
Я. РЕ>МЕРА И Г. РУДЕНБУ>РГА.
12. М.Э. ВИТМЕР-БУТШ. СОН И СНОВИДЕНИЯ В СРЕДНИЕ Века.
13. Э.КАНТОРОВИЧ. ДВА ТЕЛА КОРОЛЯ. ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
14. СИМВОЛИКА КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ.
ОБЗОР.
15. Э. Коэн. ПЕРЕКРЕСТКИ ПРАВОСУДИЯ. Закон и КУЛЬТУРА в
ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ.
16. НОВОЕ ВРЕМЯ
Р.МАНДРУ. МАГИСТРАТЫ И КОЛДУНЫ ВО ФРАНЦИИ В XVII В.
АНАЛИЗ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
17. Э.П.ТОМПСОН. ПЛЕБЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И МОРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ. СТАТЬИ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИСТОРИИ
XVIII и XIX вв.
18. КУЛЬТУРА ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ. НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ В БАВАРИИ 1$
XVI-XIX ВВ. СбОРНИК СТАТЕЙ ПОД РЕД. Р. ВАН
ДЮЛЬМЕНА.
19. Ж. ЛЕФЕВР. ВЕЛИКИИ СТРАХ 1789-1794 годов.
20. С. ФРАНК. НАРОДНАЯ ЮСТИЦИЯ, ОБЩИНА И КУЛЬТУРА РУССКОГО
КРЕСТЬЯНСТВА 1870-1900 годов.
1. ОТ СОСТАВИТЕЛЯ.
В 70-е-80-е гг. в ИНИОН СССР, под редакцией А.Л.Ястребицкой, А.Я.Гуревича и Ю.Л.Бессмертного издавалась серия реферативных сборников, большинство из которых носило название
"Культура и общество в Средние века"^. Однако решавшаяся ими
задача очевидным образом выходила за рамки узко медиевистических штудий и представляла интерес не только для знатоков
Средневековья и Раннего Нового времени. Речь шла о переносе
на отечественную почву опыта т.н. "новой исторической науки",
основы которой были заложены в 30-е гг. французскими учеными, издателями журн."ла "Анналы" Марком Блоком и Люсьеном
Февром.
Эти сборники впервые познакомили многих из нас с такими
классическими трудами, как "Феодальное общество" Марка Блока, "Цивилизация средневекового Запада" Жака Ле Гоффа, "Эпоха соборов" Жоржа Дюби, "Монтайю" Э.Леруа Ладюри, "Сыр и
черви: космос мельника XVI в." Карло Гинзбурга. Во времена
уныло-обязательного разоблачительства "буржуазной науки', они
приоткрывали мир иной научной жизни, пронизанной радостью
познания. В большинстве своем прекрасно написанные тексты рефератов способны доставить удовольствие читателю доже теперь,
когда некоторые из книг, которым они были посвящены, уже
появились в русских переводах.
Предлагаемый сборник подготовлен сотрудниками руководимого А.Я.Гуреричем исследовательского центра "Человек в исторли" Института всеобщей истории РАН и участниками его же семинарп по исторической антропологии. Он стивит ('вини .1ид;1Ч('й
п()одолжит1, знакомство наших читателей с достиян-ниями и
трудностями "новой исторической науки". Преимущественное
внимание уделено в нем тому периоду ее истории, когда, начиная
с 60-х гг., уже после смерти основоположников, новое поколение
их последователей начинает разрабатывать их идеи в рамках истории ментальностей и исторической антропологии.
Не слишком долгая история "новой исторической науки" достаточно драматична^.
Уже само ее рождение было бунтом - против утвердившихся в
историографии представлений о безусловном приоритете письменных, прежде всего архивных источников, о главенствующей роли
событийной истории - политической, дипломатической, военной.
Февр и Блок призывали историков отказаться от академической,
"историзирующей" истории, науки "ножниц и клея", нанятой одними только текстами и воплощающейся в "блестящих докладах" и "непроходимом криволесьи диссертаций". Они призывали
повернуться "лицом к ветру", к жгучим проблемам современности, привлекая для их разрешения опыт людей прошлого, а значит воскрешая жизнь этих людей во всей ее полноте и сложности
- их привычки чувствовать и мыслить, их повседневную жизнь,
их способы борьбы с обстоятельствами. Пользуясь данными географии, экономики, психологии, лингвистики. Блок и Февр стремились к воссозданию не отдельных сторон действительности, а
целостного представления о жизни людей, людей "из плоти и
крови". "Удобства ради, - писал Февр, человека можно притянуть к делу за что угодно - за ногу, за руку , а то и за волосы,
но, едва начав тянуть, мы непременно вытянем его целиком. Человека невозможно разъять на части - иначе он погибнет"; а между тем, продолжал он, историки "нередко только тем и занимаются, что расчленяют трупы"^. Таким образом, "новая историческая наука" изначально несла в себе "антропологический заряд".
Этот в высшей степени увлекательный призыв не мог, однако,
не породить в дальнейшем самых разных интерпретаций. Среди
последователей Блока и Февра, на протяжении полувека группировавшихся вокруг журнала "Анналы" и причислявшихся к
школе "Анналов" (сам факт существования которой многими,
впрочем, ставится под вопрос), велась и ведется острая полемика
- между разными учеными, разными поколениями школы (сегодня их насчитывается уже четыре) и разными версиями "новой
исторической науки". Пожалуй, единственное, что отличает всех
без исключения приверженцев школы, это Беспокойство с большой буквы, потребность в постоянном пересмотре устоявшихся
истин. Возникшая как своего рода ересь, "новая историческая
наука" продолжает порождать новые ереси внутри себя, и в этом
смысле, несмотря на солидный возраст (в 1989 г. было отмечено
ее шестидесятилетие) сохраняет право называться новой.
Сегодня она представлена уже целым спектром историографических течений, таких как новая экономическая история, новая
социальная история, историческая демография, история ментальностей, история повседневности, микроистория, а также рядом
более узких направлений исследования (история женщин, тела,
питания, болезней, смерти, детства, старости, сна, жестов и т.д.).
Историческую антропологию иногда перечисляют как одно из
них; чаще же весь этот конгломерат не имеющих четких границ,
ft переплетающихся между собою научных направлений именуют
историко-антропологическим. Так что историческую антропологию в широком смысле можно, по-видимому, считать современной версией "новой исторической науки".
Однако утверждение ее в качестве таковой явилось следствием
очередной "драмы идей". В послевоенные годы преобладающей в
"Анналах" была ее экономическая версия, связанная с именем
Фернана Броделя (в 1956 г., после смерти Февра, он возглавил
журнал). Интересы его сторонников были сосредоточены на реконструкции экономических отношений, главным образом "материальной жизни" прошлого, тесно связанной с повседневностью и
существующей во времени "большой длительности"; изучение же
того, что Блок называл "способами чувствовать и мыслить", ока-
залось почти забытым.
За возрождение этого последнего направления и выступили в
начале 60-х гг. Ж.Дюби и Р.Мандру, поддержанные группой молодых историков, составивших третье поколение школы "Анналов" - Ж.Ле Гоффом, А.Бюргьером, М.Ферро и другими. Подходы Броделя были подвергнуты критике за абстрактность, схематизм, "обесчеловеченность". Именно с того времени вошли в широкий научный оборот названия истории ментальностей и - под
несомненным влиянием британской культурантропологии и
структурной антропологии К.Леви-Стросса - исторической антропологии.
Этот эпизод называют вторым рождением "новой исторической
науки". Одновременно он сопровождался новым бунтом, новым
ее "отказом". Но на этот раз она порывала уже не с традиционной бесхитростно-событийной политической историографией, а с
методологически изощренной, функционалистски или марксистски интерпретированной социальной и экономической историей,
нацеленной на изучение систем и структур. Как писал Ле Гофф,
мантальность стала противоядием против "бестелесных социально-экономических механизмов", которыми были полны тогда
произведения историков (см. с.41 наст. изд.). Отвергая системноструктурную историю, "новая историческая наука" снова отправлялась на поиски "живого человека".
Очевидно, что по отношению к гуманитарной науке, которая
занимается человеком по определению, лозунг антропологизма
или "человечности" - парадоксален, а вернее тавтологичен. Речь,
разумеется, всякий раз идет об определенном его истолковании.
Начиная с 60-х гг. залог "человечности" истории усматривается
"новыми историками" в изучении ментальной сфер]>1. Именно
ментальность явилась тем "окуляром", через которую стали рассматривать историческую реальность антропологически ориентированные историки.
Сегодня высказываются самые разные мнения о соотношении
истории ментальностей и исторической антропологии и о перспективах этого союза"*. Нельзя даже с уверенностью сказать, одна это наука или две, поглощает ли одна из них другую, расходятся они или окончательно сольются (в заголовке нашего сборника мы даем их названия через запятую, оставляя вопрос об их
"соподчиненносги" открытым, как он остается открытым в современной науке). Никто, однако, не сомневается в их теснейшей
связи. По выражению У.Раульфа (с.39), объединяет их интерес к
тому, что молчаливо признается данной культурой. - к полуосознанным представлениям и соответствующим им нормам поведения.
В фокусе внимания историка-антрополога постоянно находится та точка, вернее, та область действительности, где мышление
практически сливается с поведением. Эта область, получившая
название "народной культуры", представляет собой целостный
сплав условий материальной жизни, быта и мироощущения, "материк" преимущественно устной культуры, почти не оставляющий по себе письменных свидетельств.
Конечно, такой подход предполагает определенное г.идение истории. Если для просветительской историографии движущее начало истории - ра.зум, для марксизма и функционализма - способ производства и осознанные экономические интересы классов,
то историко-антропологический угол зрения, при всех оговорках
относительно многофакторности, предполагает убеждение, что
поведение людей в значительной мере определяется теми нормами, образцами и ценностями, которые признаны в данном обществе как сами собой разумеющиеся.
Не исключено, что в недалеком будущем "менталистская" версия исторической антропологии тоже будет признана недостаточно "человечной". Ведь коллективная ментальность, подобно социальным структурам, является, безусловно, одним из факторов несвободы человека, причем несвободы в самом, казалось бы, сокровенном и частном - в его собственном сознании; "телесность"
и ментальность давят на субъекта не меньшим грузом, чем "бестелесные" социально-экономические механизмы. Уже и сейчас
интерес историков смещается на ту, все же данную человеку
"четверть свободы" на фоне "трех четвертей необходимости", на
тот зазор между ментальной заданностью и поведением конкретного человека, который сегодня выпадает из поля зрения историков ментальности". Субстанцию человечности увидят, возможно,
в уникальности единичного опыта, моментах личностного выбора
как основе альтернативности истории. И это ляжет в основу новой версии исторической антропологии.
Однако это дело будущего, а сегодня мы имеем дело с той ее
версией, исследовательское пространство которой сформируется в
основном историей ментальностей. Последняя является не просто
8
одной из интенсивно разрабатываемых тем, а смысловым фокусом этого пространства.
Наш сборник состоит из двух разделов - теоретического и посвященного конкретным исследованиям. Правда, для "новой исторической науки" такое разделение достаточно условно. "Голое
теоретизирование" здесь вовсе не приветствуется, а эмпирические
изыскания, в свою очередь, неотъемлемы от теоретических поисков. "Спокойное", беспроблемное накопление фактов здесь в той
же мере невозможно: само вычленение объекта исследования рассматривается как задача теоретическая.
Тем не менее для удобства читателя такое разделение нами
проведено. В первом разделе помещены рефераты ряда опубликованных в бО-е-80-е гг. обобщающих и дискуссионных статей,
трактующих предмет и методы истории ментальностей и исторической антропологии (сборник "История ментальностей. К реконструкции духовных процессов", составленный У.Раульфом, тоже
состоит из таких статей). Расположив их по хронологии появления, мы стремились хотя бы пунктирно обозначить вехи пути,
пройденного указанными научными направлениями с начала
60-х до конца 80-х гг. - от первых, возвестивших начало широкого интереса к истории ментальностей статей Ж.Дюби и А.Дюпрона до работ А.Буро и Р.Шартье, появившихся в 1989 г. в программном номере "Анналов", который провозгласил новый "критический поворот" в отношениях истории с социальными науками.
Мы стремились дать представление о стихии споров, которые
столь характерны для "новой исторической науки". Не стоит их
здесь пересказывать, отметим лишь некоторые моменты.
Обсуждаются трудности реконструкции не осознаваемых людьми представлений и соответствующих им норм поведения. Эти
трудности, в общем, известны (на страницах нашего сборника
они наиболее сжато суммированы П.Бёрком - см. с. 56 и ел.). То,
что не попадает в сферу сознания - не находит отражения в письменных источниках; историк вынужден пользоваться косвенными методами, "подсматривая" за своими героями. При этом зафиксировать свои выводы он может тоже, только придав бессознательным представлениям форму осознанных категорий; построение системы категорий - такова пока наиболее разработанная форма описания ментальности, что явно не соответствует
природе изучаемого объекта.
Другая тяжело преодолеваемая трудность - невозможность понять и описать, почему и каким образом изменяется обыденное
сознание и соответствующие матрицы поведения.
Наконец, наиболее "вопиющая" проблема - отсутствие единства по поводу того, что же такое сама ментальность. Ле Гофф в
9
свое время предложил смириться с расплывчатостью ("двусмысленностью") понятия ментальности, именно в ней усматривая его
богатство и многозначность, созвучные изучаемому объекту (см.
с.40). Но это не остановило попыток точнее определичь ментальность, "алгоритмизировать" ее. При этом разночтения в трактовке понятия со временем не сглаживаются, а, скорее, увеличиваются. Одну из самых последних попыток предпринял Ален Буро,
предложив свое "ограниченное" понятие ментальности и локализуя коллективные представления в области языка.
Однако такая попытка выделить ментальную субстанцию "в
очищенном виде" сегодня не типична. Можно констатировать
тенденцию не к ограничению, а ко все большему расширению поля зрения историков ментальности. Наряду с "подсознанием" общества они стремятся изучать все другие способы истолкования
мира - философские, научные, идеологические, литературные,
религиозные (пожалуй, в этом смысле Дюпрон, чей призыв в начале 60-х гг. не был подхвачен, кажется сегодня ближе других к
современным представлениям - см. с.22 и ел.). При этом историки иногда соответственно расширяют и понятие мент. ъчьности либо же вовсе отказываются от него, пользуясь терминами "знание", "представление" и т.п.
В поле их зрения оказывается, таким образом, вся ментальная
сфера - противоречивая и изменчивая, сотканная из различных
групповых и даже индивидуальных представлений, колеблемая
борьбой этих групп и индивидов за собственное видение реальности, за право "производства здравого смысла" (выражение современного этнолога и социолога Пьера Бурдье, чьи взгляды сегодня
популярны среди историков антропологической ориентации). Для
современных исследований характерен этот интерес к разнообразию групповых менталитетов, разноэтажности ментальной сферы
("Различения" - название одной из книг того же Бурдье). Недаром если раньше речь шла обычно о единой для всего общества
мрнта.пьностч, то теперь чаще говорят о различных ментальностях - что и отразилось в утвердившемся на сегодня названии
дисциплины. Однако стремление центрировать всю эту сферу на
неосознанное, само собой разумеющееся - сохраняется.
Тенденция к расширению исследовательского поля характерна
не только для изучения собственно ментальности, но и для исторической антропологии в целом. "Новая историческая наука"
снова претендует на исследование тех сфер действительности, которые были в свое время отвергнуты ею, как недостойные внимания. Сегодня в ее лоно возвращается политическая история, "отказом" от которой было ознаменовано само ее рождение. "Политическая антропология" (истоки которой возводятся к ранней ра10
боте Блока "Короли-целители"), занимается символикой власти,
теми представлениями людей, которые и позволяют ей быть властью.
Возвращается в историческую антропологию и изучение права,
которое Ле Гофф еще недавно называл "пугалом историка", одной из тех территорий, на которых ему грозит наибольшая опасность быть побежденным "старыми бесами"^. Теперь изучение
обычая, правосознания, правовых норм и представлений считается одним из самых перспективных направлений науки.
Возвращается и экономика, которой тоже на определенном
этапе было отказано в антропологическом статусе. Издатели нового немецкого журнала "Историческая антропология. Культура,
общество, повседневность" пишут, что намерены изучать "политику, общество и экономику сквозь призму жизненных обстоятельств людей и способов истолкования ими мира"'. Историческая антропология, таким образом, претендует сегодня на изучение практически всех сфер действительности - но в проекции человеческих представлений о них. "Мир как представление" - таково название статьи Роже Шартье, завершающей теоретический
раздел сборника.
Второй раздел содержит обзоры и рефераты конкретно-исторических исследований. Причем мы представляем здесь не только
новые книги, но и те работы 50-х-70-х гг. и даже довоенного времени, которые продолжают оставаться актуальными и служат
"аргументом" в сегодняшних спорах. Это относится к трудам
Э.П.Томпсона. Р.Мандру и Ж.Лефевра, а также к книге немецкоамериканского медиевиста Э.Канторовича "Два тела короля", которая, возникнув внутри совсем иной научной традиции, оказалась в русле "историко-антропологического дискурса" задним
числом, уже после смерти автора, и обрела в нем свою вторую
жизнь и известность.
Те трудности, которые (формулируются теоретически, не менее, если не более остро выступают в исследовательской практике. И прежде всего здесь встает та же проблема различного толкования понятия ментальности. Это ярко показано в открывающем раздел обзоре материалов конференции "Ментальности в
Средневековье". Констатируя несовпадение исследовательских
позиций, автор обзора приходит к неутешительному выводу, что
в данном случае применение понятия ментальности в исследовательской практике оказалось искусственным и непродуктивным.
Хотя с ним и можно спорить относительно конкретных материалов данной конференции, нельзя не согласиться, что ситуации,
когда понятие ментальности поминается, но не работают, или когда исследователи "не слышат" друг друга, отнюдь не редкий
Автор обзора столь четко зафиксировал рассогласованность позиций участников конференции, что, в рамках этого "стоп-кадра", разговор выглядит невозможным. Исследования тем не менее идут, и разговор, хотя и трудный, продолжается. Ведь понятие вряд ли может быть готовым, применяемым к любому материалу. Оно становится способным стимулировать мысль, обретает
глубину и эвристическую силу только будучи помещено в контекст формулируемых проблем, гипотез, частичных решений, понятных всем постановок вопроса, короче - в стихию того, что может быть названо "историко-антропологическим дискурсом" и
что еще не успело вполне сложиться. Позиции исследователей
при этом представляют собой, наверное, что-то среднее между
полным единством и взаимоотчуждением: главное для ученого возможность свободного плавания в этой среде, по-свогму комбинируя ее элементы и используя их для создания собственной исследовательской программы.
По-видимому, еще не определился тот тип коллективного исследования, о котором мечтали в свое время Блок и Февр и о котором писал в 1961 г. А.Дюпрон (см. с. 25 наст. изд.).
Подтверждением этого, но уже как бы с противоположной
стороны, является созданный по инициативе немецкого медиевиста П.Динцельбахера коллективный труд "История ментальности
в Европе", в котором приняли участие более тридцати историков,
преимущественно из Германии. В этой книге, напротив, разность
в трактовке ментальности, полемичность авторских подходов
сглажена, как бы не замечена. Авторы предприняли смелую попытку проследить судьбы "европейской ментальности" на протяжении почти двух тысяч лет - от Античности до современности по семнадцати "основным темам". Правда, набор этих "тем" (понятий, институтов и феноменов западноевропейской цивилизации) практически никак не обоснован. К тому же сам предмет "европейская ментальность" - мыслится, судя по всему, единым,
причем на протяжении огромного временного периода, что мало
соответствует современным представлениям. Скорее всего, несмотря на обилие интересного материала и целый ряд весьма содержательных очерков, книга не претендует на оригинальность и
единство концепции, а является полезной компиляцией для широкого читателя. В то же время она дает пищу для размышления
и историкам, поскольку некоторые авторы предлагают весьма нетривиальные постановки вопросов. В частности, далеко не общепринятым представляется утверждение самого Динцельбахера,
что бессознательные установки масс являются порождением глу12
боко усвоенных, ушедших в "подсознание" общество элитарных
религиозных и научных - учений.
Пространство историко-антропологического дискурсы создастся и нарастает и в ходе теоретических дебатов, и благодаря конкретным исследованиям. Один из важнейших моментов здесь
освоение новых типов источников. С этой точки зрения несомненна значимость таких изданий как материалы ксл.-юкли-.ума
"Культурная история жеста" и монография швейцарской исследовательницы М.Э.Витмер-Бутш "Сон и сновидения в С'редние Чс'ка". Расшифровка смыслов жестов и сновидений, использование
ее для реконструкции духовного миро людей прошлого - труднейшая задача, которая пока только поставлена.
Большой интерес вызывает, кс.к уже говорилось, политическая антропология. Среди работ эгогс направления одним из самых заметных является фундаментальный труд Эрнст.'. Канторовича "Два тела короля. Очерк политической теологлг Средневековья". Канторович исследует истоки сформулированной i! XVI п.
английскими юристами идеи о существовании у короля "двух
тел" - смертного человеческого и бессмертного политического -
идеи, которая стимулировала формирование новоепропейских
представлений о государстве. Канторович показывает, как много
заимствовала формирующа.яся политическая мысль и.; теологии;
в частности, образ "политического тела" вобрал в себя идею о
церкви как мистическом геле Христа. Хотя К^нтор^ш-п ведет
речь как будто бы лишь о сознательных идейных З^ИМ^ТБОГ.ПНИЯХ
с целью освящения королевской власти, одгако, че.'т глубже он
опускается в историю, нащупывая все более древние корни этой
и^еи, тем сильнее возникает впечатление, что и лс:;д.чих идейных
исканиях лишь актуализируются древьче арули.ческио представления о сакральности властп, которые гораздо стари;^ не толы;"
политических, но и теологических концепций. .U^>l< oкaя культура
оказывается пропитанной древними архетипами, они проступают
все снова и снова, прорастают ь сферу сознания, выступая то в
теологическом, то в юридическом обличьи. Думается, яменно это
"подсветка" книги делает ее столь актуальной для приверженцев
политической антропологии (см., напр., отзы? А. Буро - с. 70 и
ел. наст. изд.).
Ту же проблему соотношения архаики и обноаленил исследует
автор обзора, посвященною коронационным ритуалам. Автор показывает, как это постоянно воспроизводящиеся древнее действо
способно в то же время на.сыщаться новыми смысламч.
В своей недавно вышедшей, но полнившей уже широкое признание книге "Перекрестки правосудия" исследовательница из
Израиля Эстер Коэн ставит задачей проследить процесс измене13
ния правовых норм и представлений. На материале по^днесредневековой Франции она рассматривает движение всей сферы правовой ментальности, охватывающей как нормотворчество ученых
юристов, так и самые темные суеверия. Она пользуется для этого
разнообразными источниками - от строго юридических, до фольклорных, однако главный ее источник, придающий работе оригинальность и новаторство, это записи обычного права, производившиеся во Франции на протяжении XIII-XVI вв. Их анализ позволяет ей подметить некоторые удивительные особенности народной культуры. Так, записи явно обнаруживают изменчивость
обычая, однако парадоксальным образом вера в его древность,
"извечность" сохраняется. Письменная же фиксация закона, вопреки ожиданиям, не увеличивает доверия к нему, скорее, наоборот отчуждает его от общества. Особенно это касается судебной
церемонии, которая из общепонятного и значимого ритуала превращается постепенно в [формальную и тягостную процедуру.
Все это подводит нас к проблемам существования человека в
обществе Нового времени.
В 1968 г. один из пионеров истории ментальностей Р.Мандру
описал в книге "Магистраты и колдуны" процесс секуляризации
в XVII в. сознания французских интеллектуалов, отказ от преследования колдунов, который произошел быстро и внешне безболезненно: победил здравый смысл, свершилась "ментальная революция". Однако сегодня нарисованная Мандру картина вытеснения религиозного сознания светским выглядит облегченным
решением проблемы (см., напр., критику Бюргьера - с. 45 наст.
изд., который считает, что поставленная Мандру прэблема все
еще ждет более глубокой разработки).
Вообще, с антропологической точки зрения Ново^ время не
столь радикально отличается от Средневековья, как это традиционно считается. Ле Гофф определил это явление к^к "долгое
Средневековье". Архаичес-кое проступает все снова и снова сквозь
новые, казалось бы социальные формы.
Мы уже нидьли в работах Канторовича и Коэн, насколько нагруя^:на религиозной гимволикой и тесно переплетена с обычаем
политическая и правовая мысль, но та же архаическая подкладка обнаруживается и в таком типичном для XIX в. явлении, как
ррвоткщионпое движение. Сборник культурологических статей
^.11.Томпсона показывает, как этот убежденный марксист приходит, благодаря своим исследованиям, к чрезвычайно интересным
II неожиданным для себя выводам. За фасадом "классовой борьбы" английской бедноты XVIII в. Томпсон обнаружил систему
моральных норм специфической "плебейской культуры", не позволявшей ей принять новые социальные реалии индустриализи14
рующегося общества. Беднота, как показывает Томпсон, вовсе не
боролась за свои экономические интересы, не играла но нарождающимся правилам свободного рынка, а отстаивала привычный
для себя образ жизни. За черно-белой схемой классовой борьбы
ученый разглядел цветную картинку реальной жизни английского простонародья, своеобразную "плебейскую культуру", находящуюся не столько в конфронтации, сколько во взаимодействии с
культурой джентри.
Эта, сложившаяся, как предполагает Томпсон, на протяжении
XVI-XVII вв. своеобразная модификация народной культуры,
оказывала наступающему на нее капита визирующемуся обществу
и бюрократическому государству отчаянное и успешног сопротивление. То же сопротив"сние народной культуры современному государству констатируют немецкие последователи Томпсона, изучающие мир баварской деревни XVI-XIX вв. Мало того, нечто
весьма похожее обнаруживается и в русской деревне конца XIX ч.
Знаменитая книга Жоржа Лефевра о "великом страхе", yi'iiдевшая свет в 1932 г., на заре становления "новой исторической
науки", посвящена сюжету, казавшемуся тогда многим экзотическим и маргинальным - речь шла о почти беспричинной панике.
охватившей летом 1789 г. крестьянское население ряда районов
Франции. Теперь, по словам представившего ее в 198?' г. читателям Ж.Ревеля, книга кажется чрезвычайно актуальной. Лефевр
тщательно прослеживает те деформации и срывы, которые переживает в условиях резких социальных катаклизмов Нового времени традиционное крестьянское сознание. В то же время он намечает (особенно в статье "Революционная толпа") возможность
г_>дъема такого деструктурированного сознания к иному уровню
осмысления окружающего, к усвоению (которое происходит внезапно, скачком) норм и ценностей более широкой социальной
группы, в пределе - нации. Показывает, как из традиционного,
архаического сознания способно родиться политическое.
Томпсон и Лефевр проанализировали два возможных варианта
реакции традиционного сознания и образа жизни на резко меняющиеся социальные условия: оно либо воспроизводит привычные образцы поведения, либо срывается в панику, в неадекватность.
В целом, соотношение архаики и обновления все явственнее
прорисовывается как одна из главных проблем исторической антропологии. Причем архаическое может выступать как эффективная и внятная каждому члену сообщества "народная культура",
но может открыться и другое лицо этой архаической 'простоты"
(см. об этом у Раульфа - с.45 и ел.).
По мнению Бюргьеря, историческая антропология изучает те
исторические реачии, которые уже интегрированы, "переварены"
обществом, вошли в его плоть - культурную плоть - "осели" в
сознании людей, превратившись в их ментальность (с. 32). Мы не
знаем сроков, в течение которых происходит это "оседание" (исследования Коон, впрочем, показывают, что обычаи могут возникать достаточно быстро). Возможно, однако, что высокая скорость изменений, характерная для индустриального и постиндустриального мира, не позволяет людям приспособиться к ним на
ментальном уровне (не ясно даже, в какой мере "перегарены" обществом такие почтенные, но исторически не слишком давние
реалии как письменность и государство). Не исключено, что к
быстрым переменам последних столетий люди вынуждены приспосабливаться каким-то иным образом, не дожидаясь складывания бессознательных реакций. Выяснить это - задач;; исторической антропологии. Во всяком случае, степень и характер освоения человеком, причем конкретным человеком, а не Человеком
с большой буквы, реалий его собственной жизни и окружающего
его "большого" мира - одна из главных, если не главная ее проблема.
Наш сборник по необходимости затрагивает лишь малую часть
этих допросов. Так, совсем не полнила освещения важнейшая
для Нового времени тема эволюции сознания горожан. Практически не представлены работы, где историко-антропологические методы применяются к внезападноевропейскому материалу (статья
о русском крестьянстве стоит особняком).
Возможно, в определенной мере этот недостаток компенсируется помещенной в конце нашего издания библиографией. Она
содержит названия тех работ по истории ментальностей и исторической антропологии, которые были прореферированы в серии
"Культура и общество" и в реферативном журнале ИНИОН "История". Помимо того, что библиографию можно будет использовать в справочных целях, она, как мы надеемся, поможет читателю составить некоторое общее представление как о кзуге сюжеты, которыми занята современная историческая антропология,
так и о степени освоенности ее в нашей историографии.
' XTV международный конгресс исторических наук. Материалы к
конгрессу. Вып. VII. Проблемы феодализма. Части 1,2. М., 1975:
Идеология фсодачьного общества в Западной Европе: проблемы
культуры и социально-культурных представлгнии Средюпековья р.
современной .чарубе/кноп историографии. М.,1980; Культура и общество
в Среднио века: методология и методика зарубежных исследовании. М..
1982; Демография западноевропейского Средневековья в говременной
зарубежной историографии, М.,1984; Культура и общество в Средние
века. Вып.2. М.,1987; Культура и общество в Средние века в
зарубежных исследованиях. М., 1990 (вып.3). К ним примыкает
вышедший в 1991г. сборник "Русь между Востоком и Западом: культура
и общество, X-XVII вв." (ч. 1-3).
~ Об истории "новой исторической науки" написано немало. См.,
напр.: Lc Goff J. La nouvelle histoire. P.,1988; Burkc P. The Freiicli
historical revolution. The Annales school, 1929-1989. Cambridge, 1990. И:?
литературы на русском языке, помимо предисловий к сборникам серии
"Культура и общество", можно указать следующие издания: Фсвр .1.
Бои за историю. М.,1990; Ле Гофф Ж. Существовала ли t французская
историческая школа "Annales"? // Французский ежегодник 1968.
М.,1970: Бродель Ф. Свидетельство историка // Французскии ежегодник
1982. М.,1984; Дюби Ж. Развитие исторических исследований во
Франции после 1950 г. // Одиссей 1991; Споры о главном. Дискуссии о
настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы
"Анналов". М.,1993; Далин В.М. Французские историки XX в. (Судьбы
школы "Анналов") // Далин В.М. Историки Франции XIX - XX вв. М.,
1981; Бессмертный Ю.Л. "Анналы". Переломный этап? // Одиссей
1991; Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа "Анналов". М..1993;
Гуревич А.Я. Загадка школы "Анналов" // Arbor mundi, вып.2. М..
1993; Пимснова ЛА. Анналы. Экономики. Общества. Цивилизации //
Thesis , выи 1. М.,1993.
' ' Февр Л. Указ соч., с.13, 26, 27, 36, 67.
' Ср.. напр., точки зрения А.Я.Гуревича (в его книге Исторический
синтез...с.293), Ж.Ле Гоффа (там же, с.297), А.Бюргьгра (данное
издание, с.45).
''" См., напр., выступление Р.Шартье на конференции, посвященной
60-летию "Анналов" // Споры о главном. С. 42-43.
'' Ле Гофф Ж. Является ли все же политическая исторря становым
хребтом истории? // Thesis, вып.4. М., 1994.
' "Historische Anthropologie. Kiiltur, Gesellschaft., Alltag". Ооит^еп,
1993, N 1. S.4.
^ Нечто подобное можно сказать, например, о ряде материалов
коллоквиума "Культурная история жеста" (см. с.119 и ел. наст. изд.),
симпозиума "Feste und Ferien im Mittelalter" (Paderborii, 1991) или
конференции о жестокости в истории (Crudelitas. Krenis, 1992).
2. ТЕОРИЯ
Ж.ДЮБИ. ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ.
G. DVBY. HISTOIRE UKS MENTALITKS // HISTOIRK КТ SKS MKTHOUKS.
SOllS LA UIR. 1)K CH. SAMARAN. P., 1961
Опубликованная более 30 лет тому назад статья виднейшего
(французского медиевиста ^Коржа Дюби представляет собой одно
из первых программных сочинений по истории ментальностей.
Именно она (наряду с представленным ниже докладом А.Дюпрона и вышедшей тогда же книгой Р.Мандру "Введение г. новую историю Франции. Историко-психологическое эссе" обозначила возрождение интереса к этому предмету. Появление статьи Дюби в
солидном энциклопедическом издании "История и ее методы"означало, что история ментальностей уже принята в круг "законных" направлений исторической науки ^.
Дюби с самого начала подчеркивает, что изучение поведения
людей отнюдь не является новшеством, родившимся в недрах
школы "Анналов". Интерес к человеческой психологии существовал у историков всегда. Создавая биографию выдающейся личности, городскую хронику или описывая придворную интригу, историки нередко обращались к психологической характеристике
своих героев. Однако, психология оставалась чем-то внешним по
отношению к истории и привлекалась только для объяснения событий или явлений. К тому же историки не задумывались над
тем, что психологические особенности людей далеких эпох существенно отличались от психологии современного человека, что
чувства, эмоции, ценностные системы тоже имеют свою историю,
и приписывали своим героям те желания и реакции, которые в
аналогичных ситуациях проявили бы они сами.
Мысль о том, что психология людей столь же исторически изменчива, как изменчивы, например, обычаи и формы жизни, стала проникать в сознание историков в XVIII в. как проекция распространившейся в ту эпоху идеи прогресса. Однако, еще долгое
время изучение исторических (форм психологии тормозилось упрощенной трактовкой прогресса как непрерывного линейного
движения и более всего неразвитостью самой психологической
науки. По мнению Дюби, развитие новых социальных наук в
конце XIX и начале XX в. обусловило рождение истории ментальностей.
Возросший интерес к социальным феноменам и не в последнюю очередь влияние марксизма, полагает Дюби, побудили историков переместить свое внимание с великих людей на сферу коллективного, с событий на структуры. В социологии родилось
сформулированное Э.Дюркгеймом понятие "коллективного сознания", которое затем разработали и усовершенствовали психологи;
именно они ввели в научный оборот термин "ментальность".
Обрисовав вклад Л.Февра в разработку теории ментальностен,
Дюби характеризует далее состояние истории ментальпостей, каким оно ему представляется в начале 60-х гг. История ментальностей, отмечает он, уже не может удовлетвориться упрощенным
понятием "коллективного сознания": развившаяся в CUIA социальная психология выявила диалогический характер отношений
между индивидом и его социальным окружением, продемонстрировав не только то, как среда воздействует на индивида, но и как
в некоторых случаях реакция индивидуумов изменяет среду. Поэтому история ментальностей, считает Дюби, должна быть и социальной, и биографичной: она так же, как и социальная психология, призвана исследовать отношения между индивидом и средой, индивидом и группой, конечно, обратившись при этом к
прошлым временам.
Разумеется, тут встает проблема источников. По мере удаления от современности возможности подобных исследований для
историка стремительно сокращаются. Он может сосредоточить
внимание на королях, святых, видных теологах. Но выявить
мысли, чувства, реакции простого человека исследователю удается очень редко.
Однако, удается изучать среду, которой были окружены выдающиеся личности: сведения о ней в источниках найти возможно. Именно эта среда и является излюбленным доменом историка
ментальностей. Впрочем, уточняет Дюби, правильнее было бы говорить не о среде, а о средах. Иллюстрируя это, Дюби сравнивает
двух хронистов XI в. - Рауля Глабера и Хелгоуда. Оба они были
монахами весьма важных монастырей; получили сходное религиозное образование, оба пожелали написать историю своего времени, в особенности историю Роберта Благочестивого. Однако, созданные ими сочинения оказались весьма различными. Это объяснялось не только особенностями личности каждого из них, но в
еще большей степени спецификой культурного климата, в котором проходила их жизнь: в монастыре Рауля Глабера - широкие
духовные горизонты, стремление продолжить культурные традиции каролингской эпохи; напротив, замкнутость, сосредоточенность на литургике и на внутренних монастырских проблемах
были свойственны той обители, где проводил свои дни Хелгоуд.
Наряду с изучением различий в социокультурных контекстах,
следует, продолжает Дюби, обратить пристальное внимание и на
другой вид различий - в продолжительности, в ритмах времени.
Известную схему Ф.Броделя, различавшего три вида продолжительности в истории, можно, по мнению Дюби, применить к ментальным процессам. Одни из них быстротечны и поверхностны
(например, резонанс, вызванный проповедью, скандал, рожденный необычным произведением искусства, кратковременные народные волнения и т.п.). Именно на этом уровне формируются
отношения между индивидом и группой (возникает реакция
группы на действия индивида и реакция индивида на давление
со стороны группы).
Менее быстротечные, средние по продолжительности ментальные процессы затрагивают не только индивидов, но социальные
группы целиком. Как правило, речь идет о плавных, без резких
рывков, трансформациях, согласующихся с движением общества
в целом, с политическими, социальными и экономическими изменениями. Трансформации такого типа (например, изменения
эстетического вкуса в образованной части общества) рождают известное всем явление: дети рассуждают, чувствуют и выражают
себя не так, как это делали их родители.
Следующий уровень - "темницы долгого времени" (по Броделю), ментальные структуры, упорно сопротивляющиеся изменениям. Они образуют глубокий пласт представлений и моделей поведения, не изменяющихся со сменой поколений. Совокупность
этих структур придает каждой длительной фазе истории ее специфический колорит. Впрочем, и эти структуры не вполне неподвижны: Дюби полагает, 410 их изменение происходит в результате довольно быстрых, хотя, может быть, и незаметных мутаций.
Наконец, Дюби упоминает еще один, наиболее глубоко залегающий ментальный слой, связанный с биологическими свойствами
человека. Он неподвижен или почти неподвижен, изменяясь вместе с эволюцией самих биологических свойств.
Говоря далее о "подготовительной работе", необходимой в истории ментальностей, Дюби выделяет изучение языка как важнейшего
компонента духовного инструментария общества. История ментальностей не может развиваться без помощи лексикологов. Они могут
дать ей фундаментальные данные - например, перечни слов, употреблявшихся в ту или иную эпоху. Задача истории ментальностей выявить вербальные констелляции, отражающие главные сочленения коллективного сознания. Необходимо рассмотреть изменения
словаря, установить потери, приобретения и трансформации в значении слов и выявить связь этих изменений с колебаниями в сфере
ментальностей. Не следует пренебрегать и синтаксисом. Tni;, ан.члиз
употребления временных придаточных предложений в древнефранцузском языке позволил П.Имбсу сформулировать расходящуюся с
мнением Л.Февра гипотезу относительно представлений средневеко-
вых людей о времени.
Автор подводит итог: имея в качестве непосредств( иного объекта ис следования сферу психологии, изучая интеллектуальные
механизмы, чувства, модели поведения, история ментальностей,
как к тому и призывают психологи, с необходимостью будет совершать переходы от индивида к группе и обратно. Это связывает
ее с социальной историей. История ментальностей должна "пропитать" собой социальную историю, и та, не будучи больше привязана к одной лишь экономике, станет в результате гора:'.до более богатой и глубокой.
' См. оо этом Лн>Г>и Ж. Ра.шптпс iic'ropivici'i^ix iii4".'ii'.'i,i>iiau[in :<)
Франции iioc.-ie 1950 г. Одиссей 1991 М., 1991.
Е.В. Горюнов
3. А.ДЮПРОП. ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИСТОРИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ
ПСИХОЛОГИИ.
A.DUPRONT. PR.OBLI-MES ЕТ METHODES D'UN IIISTOIRE DE LA
PSYCHOLOGIE COLLECTIVE// ANNALES E.S.C., 1961, N I
Этот доклад был сделан известным французским ученым, специалистом по истории религии и истории культуры эпохи Старого порядка Альфонсом Дюпроном на XI Международном конгрессе исторических наук, проходившем в 1961 г. в Стокго тьме.
Объектом размышлений Дюпрона является, если воспользоваться греческим термином, история коллективной 'психеи",
включающая в себя историю ценностей, культурных форм, символик, мифов. По его мнению, история коллективной психологии
находится в настоящее время (напомним - 1961 г.) в процессе самоопределения. Появление социальной психологии и в особенностп осознание гуманитарными науками значения сферы коллективного заставляют выделить историю коллективной психологии
в качестве особой дисциплины и, следовательно, определить ее
предмет и методы. Дюпрон обозначает для нее три направления
исследования.
1. "Инвентаризация" форм, образов, ценностей, понятий, посредством которых выражала себя в истории коллективная мент.^льность или "коллективная душа". Для эпохи Нового времени,
например, .что могут быть понятие цивилизации, миф о прогрессе, для средневекового Запада - христианский мир (":1та неопределенная, но существенная форма единства") - комплекс святых
городов во главе с Иерусалимом, представление о соответствии
макро- и микрокосмосов.
2. Анализ мотивов, созидательных сил, причин действий и
страстей, характерных для той или иной эпохи или страны и
глубоко различных между собой.
Настолько же, насколько из непрерывности, отмечает Дюпрон,
исгория состоит 113 различий. Наша привычка мыслить историю
"континуальной" есть психологическая фикция. В действительности же первейшей величиной истории является различие.
Нужно перейти от пбпясчочия, которое всегда связано' с философией причинности, к углубленному ичили.щ, основным требованием которого станет максимальное приближение к действительным переживаниям и чувствам людей конкретной эпохи.
3. Выявление периодичности, ритмов, возвращений, которые
имели место в истории определенных идей, образов, мифов, архетипов. комплексов ценностей. Некоторая периодичность в ис.тории человечества, несомненно, существует. Так, в новейшую эпоху мы встречаемся с возвращением идеи и в кокой-то степени духа крестового похода. Вполне возможно, что периодичность существует и в истории коллективных психозов и эпидемий.
Здесь история коллективной психологии с необходимостью
вторгается в сферу антропологии или онтологии. Речь идет о
борьбе человека со временем, точнее, со множеством времен. То,
что человек "делает во времени", отражает нарративная традиционная история. То, что человек "делает со временем", характеризует возможности человека и, следовательно, является материей
антропологии.
Речь идет, добавляет Дюпрон, о настолько всеобъемлющем
анализе, насколько эт<" возможно: если существует некое "по ту
сторону" истории, некая "сверхприрода", некие реальности бытия, отличные от экзистенциального уровня в истории, то история коллективной психологии, открытая к человеческому во всех
его коллективных проявлениях, должна их выявить.
Поэтому, взятая во всей широте своих задач, история коллективной психологии, естественно, выходит за пределы по.чя исследования своих предшественниц - истории идей, а также совсем
молодой "социальной истории идей". Истории идей принадлежит
заслуга выработки важнейших научных категорий "мировоззре
ния" и "формы", высветивших психологические истины, сокрытые для традиционной истории. Но для истории идей характерна
ярко выраженная склонность к чистой интеллектуальности, к
изучению абстрактной жизни идей, рассматриваемой изолированно от тех социальных слоев, в которых эти идеи были распространены и которые давали им подчас весьма различные выражения. Однако, для познания человека столь же большое, и, может
быть, даже большее значение, чем собственно идеи, имеет их воплощение, употребление, им даваемое. Вновь во.чкикшия социальная история идей представляет собой попытку синтеза ментального и социологического. Тем не менее, внимание этих наук,
как полагает Дюпрон, концентрируется на отдельных состояниях
коллективной души: истории того или иного представления, идеи
и т.д. В полной мере осуществить синтез призвана история коллективной психологии.
Из подобных претензий, на взгляд автора, вытекают следующие требования к методу:
1. Рассмотрению историка коллективной психологии должна
быть подвергнута вся совокупность данных об исторической реальности. Однако каждый элемент этого комплекса - событие,
идея, произведение искусства, политическая или экономическая
модель, дипломатическая депеша или литературный текст представляют собой для него лишь сырой материал. История коллективной психологии изучает их для того, чтобы выявить по
требность, отношение, модель поведения, коллективный механизм, проекцией которых они являются. Данные, которые находятся в распоряжении историка, представляют собой "выражение"; история коллективной психологии интересуется тем, что
это "выражение выражает". Позволительно поэтому сказать, что
она существует лишь в той степени, в которой сама для себя создает предмет изучения.
Спецификой истории коллективной психологии, по сравнению
с традиционной историей, является постоянное углубление.
имеющее целью достичь "заднего плана" человеческих действий
или представлений, глубинных, неизведанных уголков коллективной] души или глубинных уровней текста, который подвергается постоянному "прослушиванию", обнаружению того, что находится по ту сторону его буквального смысла.
2. При решении своей нелегкой задачи - создавать для себя
свой предмет - история коллективной психологии может опереться только на один надежный метод - описание, которое
должно носить активный характер. Такое описание, по Дюпрону,
имеет три взаимодополняющих "модуса".
а) В плане количественном это "инвентаризация". Для науки,
которая должна создавать свой предмет, это само собой разумеется. История коллективной психологии нуждается в сериях фактов, если не исчерпывающих, то насколько возможно протяженных. Например, исследование религиозной психологии на средневековом Западе нуждается в описи культов святых, сфер влияния
наиболее значительных из них, путей, по которым шло это влияние. Исследованию в области романского искусства логически
предшествует скрупулезная "инвентаризация" романской иконографии i .
б) В качественном отношении это анализ, т.е. .достижение
уровня действительных переживаний и чувств людей прошлого.
Так, в случае понятия "цивилизация" нужно опреде.гить, когда
от."" появилось, выяснить последовательные зоны его распростра-
нения, и в особенности изменения в содержании понятия, а, следовательно. ассоциации, переносы значения, замены. Ибо на языке этой "исторической семантики" изъясняется коллективная душа.
в) В плане интерпретиционного синтеза это обнаружение связности, когерентности. Элементы, выявленные или проясненные
анализом, представляют собой части одного комплекса, одной
ментальности, одной специфической общности. Поэтому псе события. формы, произведения искусства, институты, г.ообще любой исторический факт необходимо проецировать в создание общности, которая является их творцом. Обнаружение связности исторической реальности есть тот максимум, на который может
претендовать историческая наука.
3. Наконец, исследование в области коллективной психологии
должно, согласно Дюпрону, подчиняться следующим правилам.
а) Оно проводится коллективно. Дюпрон имеет в 1.иду обязательный диалог историка с предметом исследования, во-первых,
и взаимодействие, взаимообогащение исследователей, органическое объединение их усилий, во-вторых.
б) Коллективная психология имеет не только собственные ритмы, но и собственное время. Далеко продвинуться в ее познании.
ведя исследование на коротких временных промежутках, нельзя.
История коллективной психологии должна поэтому освободиться
от временных членений традиционной историографии и организовать столь широкое исследование, сколь это возможно.
в) Наука тем более является наукой, чем более она служит человеку. Характеризуя с этой точки зрения историю коллективной психологии, Дюпрон сравнивает ее с психоанализом: к существующему в настоящее время психоанализу индивида и социального в нем она должна добавить коллективный терапевтический
психоанализ групп.
В заключение Дюпрон предложил объединить усилия ученых
разных стран для создания истории коллективной психологии и
провести в рамках этой дисциплины первый комплекс исследований по следующим направлениям: а) изучение национальных
ментальностей на Западе, изучение понятия "Европа ' и эволюции его содержания; б) анализ представлений о времени и пространстве в Средние века и в Новое время; в) описание средневековых и современных проявлений иррационального начала (паник, эпидемий, психозов, колдовства, революций, бунтов, религиозных движений, чудес, экстраординарных культов и проч.).
Е.В. Горю ii.<)e
4. Ф.АРЬЕС. ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ.
PH.ARIKS. L'mSTOIRE DES MENTALITIES// LA NOVVEUJE HISTOIRE. SOUS LA MR. DE J.LE GOFF, R.CHARTIER,
J.REVEL. P., 1978
Филипп Арьес (1914-1984), один из наиболее оригинальных
(французских историков второй половины XX в., автор получивших мировую известность книг "Ребенок и семейная жизнь при
Старом порядке" и "Человек перед лицом смерти". Его статья
была помещена в энциклопедическом справочнике "Новая историческая наука".
Связывая возникновение истории ментальностей ?. именами
ученых, стоявших у истоков журнала "Анналы", Арьег уточняет,
что роль первопроходцев принадлежит не только им. Следует
назвать также имена И.Хейзинги, Н.Элиаса и некоторых других, которым, однако, не удалось прорвать заслоны традиционной историографии и создать школу.
В системе ценностей и интересов ученых, группировавшихся
вокруг "Анналов", положение истории ментальностей с течением
времени менялось. В эпоху "отцов-основателей" она составляла
лишь грань более емкой социальной или экономической истории.
Тотальность тогда достигалась в рамках изучения экономики.
Сегодня подобное объединение экономической истории и истории
ментальностей может показаться странным, однако оно имеет
свое объяснение: обе дисциплины сосредоточивали внимание на
простых людях и сфере коллективного.
Поколение, пришедшее на смену отцам-основателям, внесло
существенное изменение в ориентацию "Анналов". Внимание,
уделяемое коллективной психологии, культуре, севере воображаемого, было сведено к минимуму. Господствующее положение
заняли экономические сюжеты. Арьес объясняет это экономическим бумом, который переживал мир и, в частности, Франция
после второй мировой войны. Экономическая сторона жизни оказалась в центре внимания молодых интеллектуалов, а историки
перенесли этот интерес в прошлое. Факты, относящиеся к истории ментальностей, казались им малозначащими, второстепенными и ненаучными, плохо поддающимися математической обработке.
Однако, отмечает Арьес, среди отраслей экономической истории - как ее традиционно понимали во Франции - существовала
одна, которой было суждено вернуть историю ментальностей в
главное русло исторической науки. Речь идет об исторической
26
демографии. Проблемы, которые разрабатывала эта дисциплина,
требовали психологической и антропологической интерпретации,
и многие исследователи послевоенного времени вышли за рамки
традиционных демографических сюжетов. Так в 60-е гг. история
ментальностей родилась во второй раз.
Это радикально изменило облик французской историографии.
Меняется содержание исторических журналов, тематика магистерских и докторских работ. История ментальностей выходит за
пределы узкого круга специалистов, проникает в средства массовой информации, находит хороший спрос на книжном рынке. О
ней уже возможно говорить как о значительном феномене современной культуры.
Среди (факторов, стимулировавших изучение истории ментальностей, определяющим обычно объявляется влияние иных
гуманитарных или социальных наук. Арьес не согласен с этой
точкой зрения. Разумеется, отмечает он, социология и этнология
оказали воздействие на Л.Февра и М.Блока. Однако зсключалось
оно прежде всего, в обогащении их общей культуры, в расширении горизонтов их мысли, в возбуждении их любопыгства. Глубокие перемены, которые произошли в историографии в 60-70-е
годы, нельзя объяснить только междисциплинарными контактами. Арьес выдвигает гипотезу об их связи с феноменом более
широкого масштаба, с тем, что можно назвать концс'м религии
прогресса. Это явление, по предположению Арьеса, мир переживает в последней трети XX в. Молодые люди, которым в конце
60-х годов было от 20 до 35 лет, смотрели на мир уже совсем
иными глазами, чем старшее поколение. Они больше 1-е верили в
необратимость и благотворный характер технического и научного
прогресса.
Это настроение проявило себя и в исторической пауке. Если
раньше историки ставили задачу обнаружить в прошлом явления, подготавливавшие современность, которая рассматривалась
как цель и результат эволюции, состоящей в прогрессе Просвещения. то новое поколение историков отказывалось видеть в
древних обществах этапы запрограммированной эволюции. Возникло недоверие к диахронии вообще. Изучавшиеся срезы культуры были почти выведены из исторического движения и рассматривались аналогично тому, как рассматривают "свои" общества этнологи-структуралисты.
Любопытный факт: в то время, как история делает шаг в сторону синхронии, другие гуманитарные науки нередко покидают
синхронию и ведут исследование в плоскости долгог') времени.
Таким образом, различие между ними и историей уменьшается.
Арьес отмечает, что этот процесс представляет собой гораздо более новое явление, чем можно было бы думать, ибо, но его мнению, в течение полувека междисциплинарность лишь провозглашалась. но не была реальностью науки.
Яркий пример проницаемости междисциплинарных границ
представляет собой, с точки зрения Арьеса, творчество Мишеля
Фуко, являвшегося одновременно философом и историком. Подобно другим философам, Фуко мог заниматься построением вневременной или помещенной в некое идеальное время концептуальной системы, но он предпочел исторический жагр. Свойственный этому жанру эмпиризм позволил ему, полностью сохраняя свой статус философа, избежать однозначности унифицирующих систем и показать исключительное разнообразие
"человеческих стратегий" и их глубинные смыслы.
Арьес отмечает, что причины обращения Фуко к истории
близки к тем, которые делают сегодня столь популярной историю
ментальностей. Современный человек, пишет он, ждет от определенного типа истории того же, чего он всегда ожидал от метафизики и еще вчера - от гуманитарных наук: история должна снова
обратиться к темам философской рефлексии, но поместить их в
историческое время.
До определенного времени интерес к истории ментальностей
не распространялся на исследование современной эпохи. Однако
плотность слоя истории, который можно назвать современностью,
все более и более уменьшается: момент, когда прошедшее представляется "иным", т.е. отличающимся от настоящего, становится все более и более близким. Явления, которые еще вчера считались нашей современной историей, стремительно становятся
прошлым, погружаясь в океан "иного". Прошлое настолько при
близилось к настоящему, что его уже трудно игнорировать: оно
слишком бросается в глаза. А все "непохожее" есть благодарная
материя для историка ментальностей. Делая такого рода явления
предметом исследования, замечает Арьес, история ментальностей
еще больше ускоряет их превращение в прошлое. Примером такого рода "отстранения" близкой нам истории являются например, книги М.Агюлона, представившего Х!Х в. цивилизацией, не
менее отличной от нашей, чем эпоха Старого порядка.
Арьес проводит параллель между нынешней популярностью
истории ментальностей и успехом психоанализа в первой половине XX в. Популярность психоанализа объяснялась, по его мнению, тем, что это научное направление принесло ответ на индивидуальные тревоги людей. Аналогичную интерпретацию, полагает Арьес. можно дать и нынешнему буму истории ментальностей. Место индивидуального бессознательного, открытого Фрейдом, в данном случае занимает - или наслаивается над ним коллективное бессознательное или, лучше сказать, кo.lл^'к';llвl{oe
неосознпнное. Речь идет о культурном субстраме, которыН Б oiipe
деленный момент окп,?ываегся общим для социума в целом и
который не осознается члн плохо осознается сонрсмснникамн,
ибо представляет для H:!X нечто само собоН разумеющееся
(моральный и поведенческий код, расхожь" идеи, конформизм,
запреты и т.д.). Имея в виду когерентное целое мс-нта-тьных элементов, которые каждая эпоха "пкладывает" и люден, не C'I.IBK
их об этом в известность, историки упогребляю') термины
"ментальная структура" или "картина мир."". Jio мысли Лрьсса,
современный интерес к истории ментальностей, г.<>.!М)жно, указывает на желание общества вывести ни поверхность сознания
чувства и предстазления, которые скрь:"ы г, глубинах коллективной памяти.
l L.'3.^'\>pн,f!^1' i
5. А.БЮРГЬЕР. ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.
A.BURGUlKRE. L'ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE // LA NOIJVELLE
HISTOIRE. SOUS LA MR. DE J.LE GOFF, R.CHARTIER,
J.REVEL. P., 1978
Автор данной статьи, опубликованной в энциклопедическом
однотомнике "Новая историческая наука", Андре Бюргьер, член
редколлегии "Анналов", составитель "Словаря исторических наук" (19(S6). Главные темы его исследований - история семьи и история исторической науки.
Появление школы "Анналов", с точки зрения автора, знаменовало собой не рождение, а возрождение антропологической истории. В подтверждение Бюргьер приводит цитату из вышедшего в
1782 г. сочинения полузабытого французского историка эпохи
Просвещения Леграна д'0сси "История частной жизни французов". Характеризуя недостатки современной ему историографии,
Легран д'0сси (совсем в духе Люсьена Февра) писал, что историк
"допускает на сцену одних лишь королей, министров, генералов
и весь тот класс знаменитых людей, чьи таланты или ошибки породили несчастье или процветание Государства. Но буржуа в его
городе, крестьянина в его хижине, дворянина в его замке, т.е.
француза среди его трудов, удовольствий, в кругу семьи и детей
вот чо, чего он еще не смог нам показать". Эти строки, по мнении) Бюргьера, довольно точно обрисовывают исследс.вательское
поле, которые было заброшено традиционной событийной историографией.
Намереваясь написать социальную историю французских обычаев. д'0ссп завершил только первую ее часть - трехтомную "Историю питания". (Сочинение представляет' собой одновременно историю продуктов, техник их производства и связанного с питанием поведения. Анализируя обычаи, д'0сси не только рисует череду колоритных нововведений, но и (фиксирует постоянное смешение традиционных моделей поведения с новыми.
Однако в эпоху, когда создавал свой труд Легран д'0сси, подобные сюжеты уже исчезали из поля зрения историков или, по
крайней мере, отодвигались на второй план. Центральной темой
в это время все более становилось изучение истории государства.
Исключение среди просветителей составлял Руссо. Хотя исто-
рическое размышление Руссо было направлено главным образом
на политический универсум, он считал возможной, пишет Бюргьер, также и антропологическую историю. Однако сфера такой истории, по Руссо, ограничена обществами... без истории, т.е. нримитивными культурами. Только отсутствие политических институтов заставляет историка обратиться к обычаям и нравам. И
лишь единицы из ученых-просветителей (в том числе и Легран
д'0сси) проявляли этнологический интерес к тому обществу, к
которому принадлежали сами.
Бюргьер отмечает: все, что интересует историка в прошлом,
теснейшим образом связано с тем, что он желает понять или оправдать в современном ему обществе. Изучение форм повседневной жизни являлось одним из направлений исторической науки
столь долго, сколь долго ее основной задачей был показ пути,
пройденного цивилизацией, и ее прогресса. Это изучение стало
вится излишним с того момента, когда в XIX в. недавно образовавшиеся национальные государства возлагают на историографию
задачу оправдать их власть над определенной территорией и осуществляемую ими модель организации общества.
Конечно, историография XIX в., не была все же однородна.
Главным из имевших место "отклонений" во Франции явилось
творчество Ж.Мишле. Задача, которую ставил перед собой этот
историк, - целостное воскрешение прошлого - предполагала описание не только реалий и событий политической жизни, но и условий существования широких масс. Освещая такие, например,
сюжеты, как воздействие потребления кофе на чувствительность
II поведение представителей элиты французского общества
XVIII в. или трагическую атмосферу века Людовика XVI, с его
экономическими кризисами и массовым голодом, Мишле смотрел
на историческую реальность, по существу, с позиций этнолога.
Именно это сделало Мишле, отвергнутого позитивистской исторчографией. столь привлекательным в глазах основателей школы
"Анналов".
Подобно импрессионистам, призывавшим художников оставить мастерские ради пленэра и обратиться к природе, основатели "Анналов" предлагали историкам выйти из министерских кабинетов и парламентских палат и заняться непосредственным наблюдением социальных групп, экономических структур, одним
словом, спуститься в глубины общественной жизни. Для них история повседневной жизни представляла собой способ изучения
экономической и социальной истории.
Для чего же теперь, спрашивает Бюргьер, понадобился термин
"историческая антропология"? Чем отличается она, с одной стороны, от традиционной истории повседневности, рассматривающей формы жизни как декор "Большой истории", а с другой стороны - от самой "Большой истории", т.е. анализа экономических
и социальных отношений?
31
Игторичоская .1НТр011сл')Г1;я не имепт какой-то спеинфпчегкой
только для нее ооласт;' исследорачия. С'южеты, ею 1)ассматриваел1г>:(\ могут "остазлять предмет изутения и других отраслей исторпческо" науки. Но историка-антрополога интересует, прежде
всег.), "человеческий резонанс" исторической эволюции, модели
поведения, которые она порождает или изменяет.
Стремясь прояснит}:, смысл историко-антронологического подхода, автор сравнивает два исторических сочинения - изданную в
KOHJJC XIX в. 12-томную "Частную жизнь в прошлом", написанную А.Франкленом, и "Материальную цивилизацию, экономику
и !;а.П11тализм" Ф.Броделя. Эти книги фокусируют внимание на
i'.irinx и lex ж° В1"щ,:х жилище, костюм, питание однако, если первая .из них представляет собой простую опись реалий повседнейпой жизни, то вторая историко-антропологическое исследоьание. Бродель показывает, как под воздействием экономики трансформировалась биологическа.я и социг.льпая жизнь, как
происходил.; ментальная интеграция обществом новых продуктов
питааия. как новое и необычное превращалось в привычку.
Возможно, феномен привычки являегся здесь ключевым. (Становясь привычками, ноные способы поведения уходят ч подсознание общества, тем более властно определяя его жизнь. Особен ностью исторической антропологии является изучение исторических обстоятельств, "переваренных", интегрированных общест.
вом, вошедших в его плоть.
Как :к." можно обнаружить эти, уже затянутые "тгной поиссдневности" обстоятельства? По мнению Бюргьера, это в наибольшей степени позволяет сделать использование массовых, серийных источников, при этом содержащих в себе "сырые" данные, в
которые не привнесено никакого разработанного представления о
ре1.льнос1'и (примерами такого рода источников являются прейскуранты цен или приходские книги). Историк должен использоват;. "парцеллярный", неразработанш^й характер своих источников, чтобы за пределами видимой реальности обнару>;11ть скрытые механизмы и логику. Аналогичным образом постунает исследователь, имеющий дело с лl. тcpaтуpными источниками, если он
проявляет интерес к тому, что скрывает или чем пренебрегает доминирующий тип литературы.
"Я очень боюсь, что люди, которым я рассказывал о своих намерениях, цитирует Кюргьер вступление М .Блока к его "Королям-целителям", - посчитают меня жертвой странного и в общем
и целом довольно пустого любопытства". Один английский историк действительно охарактеризовал подход Блока как "странную
тропинку". Но если книга Блока остается образцом историко-антропологического исследования, пишет Бюргьер, то еще более,
чем характеру изучаемой проблемы, она обязана этим счастливо
найденной окольной "тропинке", ведущей к обнаружению скрытой системы представлений. Изучавшие историю (французской и
английской монархий, даже те из них, кто интересовался теорией абсолютизма и божественного происхождения королевской
власти, традиционно оставляли без внимания совершаемый королями целебный ритуал. Между тем этот обряд, которому позднейшие свидетельства приписывали лишь анекдотическое значение, раскрывает магическое измерение королевской вллсти, ее сакральный характер. "Во многих отношениях, - писал М-Влок относительно сюжетов, рассматриваемых в "Королях-целителях" весь этот фольклор говорит нам о королевской влас"и больше,
чем любой теоретический трактат". Это замечание указывает, каким образом простое изучение фольклора может перерасти в историческую антропологию. Для последней (фольклор является носителем смысла, причем именно по причине своей маргинальности. Кажущиеся случайными детали быта или обряда могут сигнализировать о важных тайных пружинах жизнедеятельности общества.
Создается впечатление, продолжает Бюргьер, что любое общественное устройство имеет потребность "маскироваться", чтобы
существовать, "заметать следы" - как для внешнего ivupa, так и
для себя самого. Антропологам давно известно об этой непрозрачности, характерной для любой социальной реальности. Они знают: чтобы понять общество, необходимо обойти то, ^
l o оно открыто о себе заявляет. Историкам же, которые часто счми вносят
вклад в создание официальной мифологии, сделать это значительно труднее.
Автор подчеркивает свое нежелание давать исторической антропологии завершенное определение. Быть может, пишет он, историческая антропология в гораздо большей степени отражает состояние исторической науки в целом, чем представляет отдельный ее сектор. В настоящее время историческая антропология
притягивает к себе новые методы и новую проблематику так же,
как в 50-е годы их притягивали к себе экономическая и социальная история.
Затем Бюргьер останавливается на некоторых направлениях
историко-антропологического исследования.
История питания
Считается обычно, что режим продовольственного потребления
подчиняется закону "мальтузианских ножниц", т.е. является
производной соотношения количества населения и наличных ресурсов. Однако существенным фактором в данном случае является также ментальность населения, его привычки и вку:'ы. Даже в
условиях острого недостатка продуктов или голода нововведение
в продовольственной севере не сможет укорениться, е^ли оно не
соответствует вкусам населения. Показателен такой пример. Ранее всего культура картофеля во Франции была освоена отнюдь
не в тех районах, где почва для его возделывания наиболее благоприятна, но там (Лимузен, Овернь), где он мог послу.-кить заменой базового продукта питания - каштана.
Питание, пишет Бюргьер, всегда, особенно до начала индустриальной эры, играло важную знаковую роль, указывая на уровень жизни и социальное положение потребителя. Так. в XVIII в.
употребление соусов и острых блюд было "привилегией" аристократов. От потребления некоторых продуктов благородное сословие, напротив, воздерживалось, ибо они считались знаками низкого социального положения.
В севере пищевых обычаев и привычек находят отражение социальные противоречия и конфликты. Во Франции эпохи Старого порядка каждый социальный слой потреблял определенный
сорт хлеба. Народные массы питались черным либо герым хлебом, привилегированные же слои населения ели белый. Революция декретировала распространение белого хлеба на питание непривилегированных слоев населения. В диетическом отношении,
замечает Бюргьер, это было регрессом, ибо если для имущих бедный калориями белый хлеб был лишь вкусовой добавкой, то для
простых людей он стал после революции основным продуктом
питания.
Знаменитая французская гастрономия тоже несет ня себе отпечаток истории. Пройдя школу в аристократических домах и испытав влияние итальянского кулинарного искусства, в период революции она обосновывается в роскошных ресторанах, владельцами которых стали люди, ранее служившие в домах высшей
знати. В культуре буржуазии XIX в. кулинарная сфера заняла
очень заметное место. В ней буржуазия реализует свою потребность в удовольствиях, общении и демонстративном потреблении.
Перед лицом нужды городского пролетариата она утверждает
свое доминирующее положение изысканностью и чрезмерным
изобилием трапез.
История тс.чи
До недавнего времени термин "антропология" обозначал во
Франции изучение физических особенностей людей. Испытав
влияние англо-саксонского словоупотребления, это понятие соответствует теперь этнологии. Однако, именно первоначальная область исследования антропологов прежде всего оказалась в фокусе внимания специалистов по исторической антропологии. Продвижение в этой области тормозилось, однако, нерешенностью
вопроса, является ли тело объектом истории. Можно ли обнаружить наряду с биологически обусловленными телесны VIH изменениями другие, связанные с влиянием исторической и культурной
среды?
Сегодня ответ будет, скорее всего, положительным. В течение
последнего столетия французы стали выше ростом. Меть веские
основания связывать это с экономическим прогрессом, улучшением жизненных условий и повышением образовательного уровня,
поскольку средний рост мужчин увеличился прежде зсего в Суеверной и Восточной Франции, т.е. в наиболее развитых регионах
страны.
Существует гипотеза об автономной, чисто биологической истории инфекционных заболеваний. Согласно ей, некоторые из
них исчезают с исторической сцены не потому, что общество
смогло их побороть, - их просто вытесняют другие болезни, так
как между бациллами разных болезней существует несовместимость (несовместимы, например, проказа и туберкуле:!, чем и
объясняется, что распространение последнего и Европе совпадает
с исчезновением первой). Отрицать биологический механизм эпидемий было бы, конечно, абсурдно, признает Бюргьер. Однако
восстановить историю эпидемии - значит также выяснить способы, посредством которых общество смогло "переварить" импульс,
полученный из сферы естественной причинности, как пыталось
ему противостоять.
Специфической задачей исторической антропологии в этой области является обнаружение точек и механизмов сочленения биологических и социальных феноменов. Было замечено, например,
что истерические формы массового поведения - в строго психиатрическом смысле слова - практически изжиты индустриальными
обществами. Это, несомненно, связано с изменением способов выражения аффективного начала, в особенности спос.обои телесного
выражения. Индустриальная система, ценящая организованность
и бережливость, побуждает к большей дисциплине или, точнее, к
лучшей организации тела. Напротив, при Старом поря,IKC в среде
крестьянства и городского плебса еще была жива традиция обращения к языку телодвижений для выражения подавлелных внутренних импульсов (Бюргьер ссылается на сделанный Э.Леруа Ладюри анализ жестикуляции камизаров).
Н.Элиасу принадлежит гипотеза об эволюции отношения к телу в Европе. Начиная с XVI в. цивилизационный процесс прививает людям чувство стыда и самодисциплины по отношению к
фнзиологическим функциям и недоверие к телесным контактам.
Эти привычки, появившиеся первоначально у привилегированных сословий, а потом распространившиеся на общество в целом,
Элиас считает переводом в сферу индивидуального поведения организующего давления, которое оказывали на общество недавно
конституировавшиеся бюрократические государства. Сокрытию
тела, дистанцированию тел друг от друга соответствуют ни ином
уровне такие явления, как сегрегация бедняков и сумасшедших,
строгое разделение возрастных групп, упадок локальный солидарности.
История сексуального поведения
Автор фокусирует внимание на проблеме появления "мальтузианских" форм поведения, т.е. практик, с помощью которых общество контролирует рождаемость. Часть историков склонна объяснять этот феномен ослаблением влияния церкви: в этой обстановке стало возможным применение контрацептивов, немыслимое ранее вследствие церковных запретов, которые строго соблюдались населением.
Однако, такое объяснение, по мнению Бюргьера, недостаточно.
Гораздо большее влияние на ограничение рождаемости оказали, с
его точки зрения, другие исторические обстоятельства. Начиная с
XVI в. в Европе распространяется практика поздних б-эаков. Этому сопутствует возникновение новых представлений о детстве,
консолидация малой семьи, развитие нового типа взаимных
чувств супругов.
Обращаясь в заключение к перспективам исторической антропологии, автор констатирует, что наиболее плодотворным историко-антропологическое исследование оказывается в настоящее время в области изучения ментальностей. Понятие ментальности
достаточно неопределенно и достаточно открыто, чтобы с его помощью освоить вклад других дисциплин. Было бы опасно заключать его как в чисто психологические рамки, так и в рамки истории идей, которой свойственно выводить ментальносги из доктрин и интеллектуальных творений ученых людей.
В этой области историческая антропология завоевывает прежде всего "историю снизу". Она подвергает изучению наименее
сформулированные элементы культуры: народные верования, обряды, пронизывающие повседневность, культуру социальных
меньшинств. Однако все это - часть цельной системы представлений общества о мире и значит как-то связано с наиболее разработанными интеллектуальными конструкциями - правом, религиозными доктринами, философскими и научными учениями. Обнаружение этой связи, по мнению Бюргьера, - одна из самых
серьезных задач исторической антропологии.
Совсем близко от нас, резюмирует Бюргьер, у порога инду("'[риального общества мы обнаруживаем чужой для нас мир
Францию эпохи Старого порядка. Мы не хотим больше считать
его всего лишь ступенью к нынешнему миру. Мы пытаемся понять, как он существовал, как воспроизводил себя и как продолжает неявно существовать даже в современную эпоху (Бкзргьср
называет в этой связи исследования Ф.Фюре и М.Озуфа, доказывающие сохранение старых местных культурных моделей за
ширмой кажущейся национальной гомогенности). Одьако, понятие прогресса дискредитировано отнюдь не только исследованиями историков. Более важно то, что око поставлено под сомнение
в самом нашем обществе, ради которого мы u F'oripCLilacvi про-
шлое. Мы принадлежгм духу своего времени, однако, наолюдая
за ходом истории, подчас забываем, что сами являемся ее частицей. Поэтому увлечение исторической антропологией, возможно,
является временным. Оно удовлетворяет сегодняшнюю потрсо
ность в осознании множественности путей истории.
Е. В. Горн.) но<'>
6. ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ. К РЕКОНСТРУКЦИИ ДУХОВНЫХ ПРОЦЕССОВ. СВОРНИК СТАТЕЙ ПОД РЕД. У.РЛУЛЬФА.
Составитель сборыикп Ульрих Раульс^, пуб.чицист и историк
науки из Западного Берлина^ поставил своей задачей дать немецким читателям представление об истории ментальностей, ее
задачах, трудностях, внутренних противоречиях. Он выбрал для
этого девять проблемных статей, большинство из которых было
опубликовано ранее (это работы Ж.Ле Гоффа, М.Вовеля, А.Бюргьера, Р.Шартье, П.Берка и П.Хаттона). Статьи немецких авторов (Р.Шпранделя, Х.Мейера и самого Раульфа) написаны специально для данного сборника. Все работы относятся к 80-м гг., за
исключением статьи Ле Гоффа, увидевшей свет в 1974 г.
В предисловии Раульф предлагает свое видение происхож.депия, состояния и возможностей истории ментальностеИ. Гуманитарная наука, пишет он, переживает в нашем столетии две крупные метаморфозы. Это, во-первых, "лингвистический поворот".
Ученые не могут более рассматривать язык как простой инструмент познания, но должны считаться с теми "эффектами", которые порождены культурно-историческим происхождением этого
инструмента, должны вдумываться в свои собственные отношения с ним. Определить характер второго сдвига, переживаемого
гуманитарным знанием, как признается сам Раульф. труднее,
смысл его до конца пока не ясен. Повсеместно происходит смещение интереса исследователей от "центральных" областей действительности к "периферийным": от высокой политики - к повседневной ?киз1111, от науки -- к вере и оккультизму, от сознания
к оессоз^ательному и т.д.
Итогом этой "центробежности" современной гуманитарной
науки стало зарождение нескольких новых научных направлений, к которым принадлежат и историческая антропологии, и история ментальностей. Вместо о^шсания деяний "готового" человека историческая наука обращается теперь к изучению определенных способов быть человеком, к изучению разных типов рациональности, что и превращает ее в историческую антропологию.
Вновь выдвигается и казавшийся давно решенным вопрос о роли
"субъективного фактора". Французские историки поставили его в
форме истории ментальностей. Другие историографические традиции уточняют и переформулируют его.
38
О соотношении этих дисциплин пока спорят, но их родство
между собой очевидно. Их объединяет преимущественный интерес к тому, что молчаливо признается данной культурой.
Истоки этих дисциплин (или дисциплины) можно проследить
до Гердера, а можно и до Вико. Однако о возникновении научного направления следует, по мнению Раульфа, всерьез говорить
лишь после того, как складывается свойственный ему тип дискурса, т.е. специфический характер постановки проблем и набор
методов их разрешения. В случае истории ментальностей это происходит, по-видимому, не ранее конца прошлого века и связано с
именами Буркхардта, Лампрехта, Дильтея, Варбурга, с немецкой
стороны, Берра, Дюркгейма, Симиана, Февра, с французской.
С 60-х гг. XX в. начинается новый этап в развитии данного
научного направления - процесс его самоосмысления, сопровождающийся, в частности, спорами о соотношении истории ментальностей с исторической антропологией. Однако теории самого
предмета все еще не существует. Не было предложено теории
(функционирования и смены ментальностей, нет единства и в понимании того, что такое сама ментальность.
Главный источник этих трудностей Раульф видит в том, что
историки ментальности имеют дело с тремя разными формами
человеческого сознания и поведения - категориями мышления,
нормами поведения и сферой чувств. Ментальность же, по его
предположению, "находится" глубже этих (форм, это нечто еще
не структурированное, некая предрасположенность, внутренняя
готовность человека действовать определенным образом, область
возможного для него. Это "нечто" проявляется, только проецируя';ь на экраны различных символических практик, материализуется в мышлении, чувствах и действиях. Возможность науки "добраться" до самой ментальности, уловить и теоретически определить ее представляется Раульфу весьма проблематичной.
Более реально, по его мнению, приблизиться к пониманию феномена с другой стороны, эмпирически; для этого надо проанализировать, в каких областях применение этого понятия наиболее
плодотворно.
Совершенно очевидно, что такой областью истории является
прежде всего европейское Средневековье, точнее христианский
космос Средневековья. Симптоматично, что в поле зрения историков ментальности не попадает ни медленное вычленение христианского мира из античного, ни даже собственное его становление; они прямо начинают с его расцвета и прослеживают его реликты в современном постхристианском мире. Вопрос о том, какого рода новые связи возникают в Новое время на месте старых,
религиозных, в рамках этого направления тоже практически не
ставится. К "идеологическим" столетиям - Х1Х-му и ХХ-му - понятие ментал.>нс2ти применялось до последнего времени лишь
спорадически. Пот:1. делает вывод Раульф, история ментальностей ра:!В1'вается "как историческая с^еноменология форм веры в
христианской Европе" (с. 14). В связи с этим он задастся вопросом, не. следует ли нам быть готовыми к тому, что категория ментальности окажется не применимой к иным эпохам и культурам
и ке является ли само это слово просто современным обозначением того. что в христианском мире называли верой^.
Ж.Ли 1'офф. Ментальности: двусмысленная история
Открывает сборник почти классическая, часто цитируемая в
литературе работа Жака Ле Гоффа, которая была первоначально
опубликована в трехтомнике "Издать историю" ("Faire de
l'hiHToire" \.3. P., 1974).
Псяятие ментальности {писал Ле Гофф в 1974 г.). оставаясь
все еще новым, уже достаточно избито. Будучи модным, оно нередко подвергаетсй решительной критике. Возникает вопрос, какая реальность стоит за этим понятием, стоит ли хлопотать о его
прояснении или лучше дать ему возможность исчезнуть. Отвечая
на ;)тот вопрос, Ле Гофф выдвигает свой главный тезис: сильная
сторона исгории ментальностей заключается именно в том, в чем
ее часто упрекают - в расплывчатости ее предмета, в ее попытках
уловить упускаемый другими науками "осадок" исторического
анализа, отыскать нечто, от него ускользающее. Такое "нечто"
может перевесить гораздо более "вещественные" (факторы.
Далее следуют примеры. На вопрос, что такое <феодализм,
пишет Ле Гофф, ответы давались историками самые разные - институты, способы производства, тип военной организации и т.п.
По Ж.Дюби. пользуясь представлением о монтальностл, показал,
что, быть может, наиболее характерная черта феодализма определенные представления о служении.
Другой пример. С XVI в. в Европе складывается общество нов'д'о l'll)la. ^')l oт процесс тоже изучался с разных сторон. Но толь
ко Макс Бебер заметил образование новых представлений о труде, получивших название протьстантской этики.
Еще одна обновленная область исследований - королевская
власть. М.Блок, П.Шрамм, Э.Канторович и Б.Гене открыли в ней
мистическую сторону, проявляющуюся в ритуале, и тем вдохнули новую жизнь в политическую историю Средневер:ОБЬЯ, превращая ее в пол11тич."скую антропологию.
Возникло новое измерение и в истории религии - это тема святости, психологии верующих, что тоже придает этой области знания антропологическую окраску.
Помогает понятие ментальности и в историко-биографическом
исследовании. Карл V Французский, осмотрительный и бережливый монарх, всегда радевший о государственных (финансах, на
смертном одре внезапно отменяет часть налогов. Историки ломают голову над логикой этого поступка, ищут в нем хитроумие
или политическую ошибку. Но не вернее ли предположить, что в
последний миг жизни короля все верхние этажи его познания политика, идеология, расчет - отступили перед глубинными ментальными представлениями: король убоялся предстать перед небесным судом, проклинаемый своими подданными.
История ментальностей не просто занимается тем, чему не нашлось места в других науках. По мнению Ле Гоффа, она находится в точке пересечения присущих этим наукам исследовательских тенденций, в поле возможного диалога между ними, на перепутье между индивидуальным и коллективным, долговременным и сиюминутным, неосознанным и осознаваемым, структурированным и текучим, маргинальным и универсальным. Поэтомуто Ле Гофф называет ее "историей на перекрестке", "двусмысленной историей".
Особенно благодетельным и освобождающим, пишет Ле Гофф,
оказалось представление о ментальности для тех, "кто присягнул
экономической и социальной истории и особенно вульгарному
марксизму" (с. 21). Избавившись от грехов старой науки (веры в
предопределение, преувеличения роли личности, узкого позитивизма) экономическая и социальная история не смогли подняться
от "базиса" к "надстройке". В результате "в зеркале, которое экономическая история держит перед обществом, отражаются не лица, не воскрешенные люди, а бледные абстрактные схемы. Не
хлебом единым жив человек, но такая история не имела и хлеба,
она пробавлялась скелетами, движущимися в автоматическом
танце. Против этих бестелесных механизмов нужно было найти
противоядие. Нужно было найти для истории нечто иное. Этим
иным стала ментальность" (с. 21).
Ментальность разнородна. Возникшие вчера представления
уживаются в ней с фрагментами древнего магического сознания.
Ведь инерционность свойственна духу еще больше, чем материи.
Люди, создающие машины, непостижимым образом несут в себе
сознание ремесленников; водители автомобилей недалеко ушли
от тех, кто ездил верхом, а (фабриканты XIX в. сильно напоминают крестьян, которыми были их отцы и деты. "История ментальностей есть история замедлений" (с. 23). Кардинальная задач."> разгадать ту связь, скорее духовную, чем логическую, в которой
находятся эти разнообразные обломки ушедших миров. Другая
проблема - понять, каким образом эта мешанина передается от
поколения к поколению. Линейные концепции эволюции здесь,
конечно, не годятся.
Далее Ле Гофф характеризует этапы становления истории ментальностей, начиная с возникновения самого этого понятия. Про-
исходящее от латинского слова mens прилагательное mentalis родилось в XIV в. в языке средневековой схоластики. Существительное же mentality возникает только через триста лет в Англии: оно - плод английской философии XVII в. Однако здесь оно
так и остается философским термином, в то время как во Франции (отчасти благодаря Вольтеру, пересадившему английские
идеи на (французскую почву) оно проникает в обыденный язык.
Правда, к началу XX в. слово все еще ощущалось как неологизм,
что отразил, в частности, М.Пруст в своем романе "В поисках утраченного времени". Текст доносит до нас и пренебрежительный
оттенок слова. "Ну и ментальность!" - говоря так, герои романа
имеют в виду хаотичное и вместе с тем стереотипное сознание,
нечто противоположное "мировоззрению".
Тот же оттенок некоторой ущербности сохранился, когда слово вошло в науку. В этнологии оно употреблялось для обозначения сознания дикаря (Л.Леви-Брюль), в психологии сознания
ребенка (А. Баллон). Но общей психологией понятие воспринято
не было (Ле Гофф, впрочем, предполагает, что это ище может
произойти в будущем). Сегодня научным понятием считают ментальность только историки. Правда, и здесь ощущается его "генетическая отягощенность": историки ментальностей чувствуют себя комфортно в основном в области маргинального, аномального,
иррационального.
Затем Ле Гофф обращается к проблеме источником. Историк
ментальностей, по его мнению, может пользоваться любыми источниками, но читать их нужно под определенным углом зрения,
обращая внимание не столько на "что", сколько на "как", выявляя прежде всего топосы, эту "соединительную ткань духа"
(с. 27). Существуют и особо предпочтительные источники. Для
Средневековья это прежде всего агиографическая литература, в
которой открываются основные "духовные структуры" времени:
взаимопроницаемость человеческого и сверхъестественного, телесного и духовного, вытекающая отсюда возможность чуда. Об
этом же говорят материалы инквизиционных процессов. Важны
также собственно литературные источники, возможности которых блестяще продемонстрировал Хейзинга. Нельзя только забывать, замечает Ле Гофф, что литература и искусство живут своей
жизнью, не во всем схожей с жизнью общества. Так, например,
неизвестно, насколько были распространены те представления о
перспективе, которые вырабатывались живописцами Кватроченто.
Историк ментальности, пишет Ле Гофф, должен научиться
различать в культуре модели поведения, конденсирующие в себе
определенные представления и выступающие как своего рода духовные полюса. Так, тема одиночества и аскезы воплотилась в
эпоху Высокого Средневековья в образе монастыря. Модель .шмка вобрала в себя представления о широте, мужестве, красоте,
верности. Эти традиции вырабатывались в разных средах и "поступали" в общество из определенных центров. Во времена Сред-
невековья такими центрами, где "выковывались менталитеты",
помимо монастыря и замка, были школа, мельница, кузница,
трактир...
Перед историей ментальностей, пишет в заключения Ле Гофф,
много трудных проблем. Но, может быть, именно ей суждено
стать той "иной историей, которая отважится заглянуть за зеркало" (с. 31).
А.Бюргьер. Понятие ментальности у Блока и Февра:
две точки зрения, два пути
В статье, опубликованной в журнале "RCVIIC dc synthcsc" в
1983 г. (№ 111/112), Андре Бюргьер (см. о нем с. 30 настоящего
сборника), обращаясь к наследию отцов-основателей "новой исторической науки", анализирует незаметные на первый взгляд различия в научных установках Блока и Февра, которые, по его
мнению, воплощали в себе разные тенденции ее развития.
Эти тенденции, как считает Бюргьер, теоретически определились еще раньше, в "доанналистский" период - в кипевшей методологическим спорами французской гуманитарной науке начала
XX в.
Наиболее шумной была тогда полемика социологов школы
Дюркгейма с приверженцами традиционного историзма. Социологи отказывали традиционной истории в звании науки: на этот
статус, считал Дюркгейм, история сможет претендовать только
после освоения ею сравнительного метода, фактического превращения в историческую социологию и, соответственно, отказа от
изображения особенного. На противоположном полюсе Л.Альфан
и Ш.Сеньобос отстаивали традиционное представление об истории.
Но, по мнению Бюргьера, гораздо более важной, хотя и менее
заметной, была другая оппозиция - между двумя разными программами обновления истории. В противовес выдвигавшейся
Дюркгеймом программе социологизации истории Анри Берр развивал идею исторического синтеза. Он тоже критиковал традиционную историографию, но по-иному - как науку еще не доросшую до самой себя. Истории, считал Берр, суждено сыграть ключевую роль в грядущем синтезе гуманитарных наук, но для этого
она должна не уподобляться социологии, а, напротив, двигаться
от простого описания особенного к анализу его сердцевины - к
тайне сознания отдельного человека, каждый раз по-разному преломляющего сверхиндивидуальные явления и структуры. Разгадывание этой тайны, как надеялся Берр, будет способно объединить гуманитарные науки. Этой идеей был продиктован план создания "Журнала исторического синтеза" (хотя, добавляет Бюргьер, на практике он реализован не был, и полем встречи гуманитарных наук в журнале Берра оказалась историческая геогра-
фия).
"Анналы", возникшие спустя четверть века после формулировки Дюркгеймом и Берром своих программ обновления исторической науки, по мнению автора статьи, явились, сознавали это издатели журнала или нет, попыткой реализовать эти программы в
практической работе историков. При этом Блок и Февр тоже
двигались, с его точки зрения, разными путями. Хотя "интеллектуальный пакт" между ними, пишет Бюргьер, был длительным и
успешным, но не менее важно задуматься о расхождениях. По
его мнению, более перспективные идеи Берра унаследовал Февр,
в то время как Блок тяготел к социологизму Дюркгейма. Соответственно, по-разному трактовалось ими важнейшее для обоих
понятие ментальности: Блок принимал его как групповое, коллективное сознание, а Февр - как преломление коллективного в
индивидуальном.
Противостояние почти не проявилось в открытой полемике
(если не считать двух рецензий Февра на "Феодальное общество"
Блока), и Бюргьер, доказывая выдвинутый им тезис, опирается
на анализ направлений, в которых развивались интересы двух
ученых. В то время как Блок от "Королей-целителей", от магической концепции власти пришел в "Феодальном обществе" к показу социальной укорененности идей, их экономической и демографической обусловленности. Февр, по мнению автора, проделал
обратный путь, приближаясь к намеченной Берром проблематике. От ранней, проникнутой географическим детерминизмом статьи "Земля и человеческая эволюция" он пришел к "Проблемам
неверия в XVI в.", где стремился "разведать все измерения ментального универсума", понять его как целостность, вписать в него и интеллектуальные, и психологические явления. Он мечтал,
что историки смогут проникнуть туда, где осуществляется реальный синтез пронизывающих общество сил - в сознание живущего в обществе человека.
Однако и по отношению в Февру можно говорить, считает
Бюргьер, скорее, о намерениях, чем о реальном результате. Февр
видел проблему, но не имел для ее разрешения необходимых теоретических средств.
Не приблизилась к ее разрешению и современная история ментальностей. Как автор 'Лютера", "Рабле", "Маргариты Наваррской" Февр, по мнению Бюргьера, не имел последователей. Вспоминая его знаменитую статью "Колдовство: глупость ^ли переворот в сознании?"^, Бюргьер приходит к выводу, что и в этой области идеи Февра должного развития не получили. Если для
Февра было величайший загадкой существование в XVI-XVII вв.
системы мироотношения, включавшей в себя, наряду с нарождавшимися научными понятиями, представления о демоническом,
то историки, пошедшие по его стопам, и прежде всего Р.Мандру,
тщательно реконструировав этапы "бесшумной революции разу-
ма", в ходе которой это мироотношение исчезло, не только не
разгадали загадки, но даже как бы не увидели ее. Вопрос о том,
чем поддерживалось в сознании людей раннего Нового времени
равновесие столь различных понятий, чувств, стремлений и каким образом это равновесие исчезло, остается пока без ответа.
История ментальностей и тем более вытесняющая ее историческая антропология, считает Бюргьер, пошли по иному пути - эмпирического описания свойственных различным социальным
группам полуавтоматических логик восприятия и поведения, не
слишком интересуясь сознанием и волей отдельных людей.
У.Раульф. Рождение понятия. Разговоры о "ментальности"
во времена дела Дрейфуса
Научная биография понятия "ментальность", пишет Раульф,
выяснена уже достаточно хорошо, в частности, благодаря работам
Ле Гоффа. Однако существует и другая сторона дела. Смысловой
заряд слова образовался раньше, когда, еще находясь в пределах
обыденного языка, оно оказалось в фокусе идейной и политической борьбы (Ле Гофф кратко упоминает об этом, ссылаясь на роман Пруста "В поисках утраченного времени"). Раульф поставил
своей задачей воссоздать, на основе анализа французской
публицистики рубежа XIX - XX вв., духовный климат времени,
родившего это понятие.
То, что наука начала XX в. обнаружила архаический пласт в
сознании человека, по мнению Раульфа, явилось следствием внезапного социального проявления этого архаизма.
Речь идет о драматическом моменте в истории Франции, когда
в результате развернувшейся в 1897-1899 гг. борьбы за пересмотр
приговора по делу офицера генерального штаба еврея А.Дрейфуса, обвиненного в шпионаже в пользу Германии, страна раскололась на два враждебных лагеря и фактически находилась на пороге гражданской войны. В считанные месяцы изменился привычный культурный ландшафт. Классовые и религиозные противоречия перестали ощущаться, их сменили новые, а вернее древние "идеологические и аффективные комплексы". Антидрейфусарская ненависть сблизила многие буржуазные семьи с аристократическими домами, образ мысли герцога Германта из романа Пруста оказался родственным настроениям его кучера. Католики, высшее офицерство, большая часть средних слоев, низы общества объединились против "врагов отечества и верь'" - интеллектуалов, социалистов, масонов, евреев, германофилов, вообще
- "полуфранцузов". Все они рассматривались теперь правыми
как "меньшинства", несущие угрозу "(французской душе". Тут-то
и заговорили о том, что немцы оккупировали не только французскую территорию, но и французскую "ментальность". Слово сразу
приобрело идеологическую остроту. Ментальность понималась
как ценное национальное достояние, как антитеза разъедающему
нацию интеллектуализму. Одновременно начали употреблять слово "ментальность" и в отрицательном смысле, говорит1. о чуждых
ментальностях, прежде всего о немецкой и об иудейской. Немецкая "темная" романтика противопоставлялась ясной французской
классике, а в иудейской ментальности находили "фермент мятежа". Особая же опасность чудилась в объединении разных "меньшинств", в частности евреев и масонов, в сознании многих замаячил призрак "жидомасонства" (Judenmaurerei).
Левые в этом противостоянии были стороной обороняющейся.
При этом они тоже взяли на вооружение слово "ментальность",
усматривая, однако, главные черты "французской ментальности"
в другом - в духе терпимости и либерализма. Они. Е свою очередь, обвиняли ' патриотов" в раскалывании нации и национальной души.
В научный оборот слово ввглп именно левые. Оно получило
хождение в кружке Дюркгейма, а затем в ею журнале появилась
рубрика "Групповая ментальность". Дюркгейм использовал это
Г1он;.п'11^ в своих поисках основ человеческой солидарности.
С этих пор оно ьос.принималось уже как "собственность" интеллектуалов. находящихся на левом фланге политико-идеологического спектра. Однако до конца "своим" оно для левых, по
мнению Раульфа, так и не стало, и причина этого - "о отвратитетьное обличье, в котором понятие впервые появилось на общественной арене. В гамме его значений, пишет Раульф, до сих пор
можно услышать отголоски породившего его времени, когда, по
выражению Сартра, "социальной связью стала ярость". Хотя, казалось бы, левые интеллектуалы отвоевали понятие у правых.
оно, как считает Раульф, в какой-то мере само завоевало их. Время от времени в нем просыпалась породившая его враждебность
к Иному, и тогда оно использовалось не как средство гознания, а
как идеологическое оружие. Это прояви ^сь, например, в годы
первой мировой войны. Даже Анри Берр заговорил тогда о "варварском менталитете" немцев, а Дюркгейму привиделась в 'грудах Трейчке "целостная ментальная и моральная система, которая с необходимостью ведет к войне" (с. 62).
Р.Шартье. Интеллектуальная история и история
ментальностей
Роже Шартье - один из самых заметных в современной французской историографии историков среднего поколения, сочетающий изучение истории книгоиздательства и чтения в эпоху Старого порядка с интенсивными методологическими поисками.
Данная статья первоначально была опубликована в сб. "Modern
European intellectual history" (lthaca, London, 1982).
Интеллектуальную историю, пишет Шартье, вряд ли можно
считать единым исследовательским направлением, обладающим
определенной научной парадигмой. К ней причисляют разнородные по происхождению и методам научные траднчии историю
духа, историю идей, историю литературы, философт!, науки,
ичогда историю идеологчи и религий, а иногда л изу^е'-гие категориального строя мьипления. П целом же под ингел.пжтуальиой
историей понимают обычно историю r иcтeмaтич- cкor o мышления, противопоставляемого, особенно во французской науке, ментальности как диффузному коллективному сознанию. Однако, по
мнению Шартье, эта характерная для современн'л'0 гуманитарного знания ситуация, когда разные "этажи" сознания изучаются
порознь, каждый "в себе", мало способствуит продвижению пперед и должна быть преодолена. К тому же само деление HI' "эта
жи" не продумано.
Ответственность за это положение дел Шартье позлагает, не в
последнюю очередь, на основателей "Анналов". Our. безусловно
отвергли историю идей как одну из тех "бестелесных' наук., которые "создают универсум из абстракций' (с. 73). Возникшая в
60-е гг. история ментальностей закрепила разрыв между идей
ным и ментальным, введя разделение культуры на ученую и на.родную. Сегодня и историки школы "Анналов", и американские
культурантропологи считают не вызывающим сомнения как само
это разделение, так и использование разных методов для изучения ученой и народной культуры: герменевтические, качественные методы применяются в первом случае, количественные - во
втором.
Однако, по мнению Шартье, оппозицию ученой и народной
культуры пора подвергнуть рефлексии. При ближайшем рассмотрении она оказывается крайне сомнительной, прежде всего потому, что проблематично само понятие "народ". Кто этэ - только
крестьяне, только миряне? Подпадает ли под это понятие какаято часть господствующего класса? Это никому не ведомо. Отсутствуют и качественные характеристики народной культуры, она
определяется только через противопоставление чему-то иному высокой литературе, нормативному католицизму.
Может показаться, размышляет далее Шартье, что оппозицию
ученой и народной культуры целесообразно переформулировать
как оппозицию творчества и потребления, духовного производства и пассивного восприятия. Именно так предлагают иногда разделить сферы влияния истории идей и истории ментальностей.
Однако, если подвергнуть рефлексии и эту оппозицию, она, по
мнению Шартье, тоже окажется некорректной. В области духа
потребление нельзя противопоставлять производству. Идеи творцов не пересаживаются механически в головы "народа". Каждый
человек - и представитель элиты, и представитель "народа" - усваивая что-то из коллективного фонда идей, мнений, стереотипов, активно отбирает, пересоздает, по-своему фокусирует чужое,
выстраивая свой собственный внутренний мир. "Культурное "потребление, - пишет Шартье, - следовало бы понять как своего
рода производство, результатом которого является хотя и не
"произведение", но все же представления, никогда не идентич-
ные тем, что были заложены в произведения писателем или художником" (с. 89). Понять способы присвоения человеком или
группой бытующих в обществе представлений и культурных
форм - самая актуальная, по мнению Шартье, задачи для истории ментальностей и для интеллектуальной истории. Эти способы представляют собой особые культурные, социальные практики. Одной из наиболее ярких практик такого рода является чтение, которое составляет главный предмет интересов самого Шартье как исследователя'.
Однако интереса к этой стороне дела в современной истории
ментальностей Шартье почти не видит (исключением он считает
работы Натали Дэвис и особенно книгу Карло Гинцбурга о мельнике Меноккьо, показывающую, как человек "из народа", чело
век устной культуры строит спое мировидение из элементов культуры книжной). Изучая народную культуру "в себе", игнорируя
те средостения, что соединяют ее с высокой культурой, ту циркуляцию идей, представлений, стереотипов, которая между ними
осуществляется, история ментальностей предопределила тем самым невозможность понять и движение ментальной сферы в целом.
Хотя изначально, по мнению Шартье, история ментальностей
была нацелена именно на эту проблему. Отвергая современную
ему историю идей, Февр тем не менее горячо интересовался связями идейного мира с повседневной жизнью. Он пытался пересмотреть под этим углом зрения традиционные понятия истории
идей, введя собственную категорию "духовного инструментария"
эпохи (outillage mental). Близкое к нему, по мнению UJapTbe, понятие "духовных привычек" (habitus) использовал тогда же Эрвин Панофский в книге "Готика и схоластика". Правда, если
"хабитус", согласно Панофскому, прочно и навсегда "нстраивается" в человека в процессе социализации^, то Февра занимает вопрос о выборе конкретным человеком потребного именно ему
"инструментария".
Однако ни Февр, ни тем более Панофский не смогли определить механизмов, превращающих господствующие в обществе категории мышления во внутренний мир отдельного человека. При
этом они не воспользовались средствами решения этой проблемы,
вырабатывавшимися в философии и истории науки. В частности,
Г.Башляр, А.Койре, Ж.Кангильем на материале истории познания ставили те же проблемы; соотношение игры идей и глубинных структур сознания, механизмы включения нового содержания в устойчивый фонд знаний, характер разрывов, разделяющих качественно своеобразные этапы познания и т.д. Симптоматично, что на страницах "Анналов" появилась всего сдна рецензия на работу Башляра, а о Койре и Кангильеме не появилось ни
строчки. Эта "поразительная слепота", пишет Шартье. имела тяжелые последствия, лишив историков ценных эвристических воз
можностей.
Взаимное отчуждение, заключает он, существующее и сегодня
между историей ментальностей и историей идей, пагубно для
обоих направлений науки.
Р.Шпрандель. Мои опыты в области истории ментильностей
Известный немецкий медиевист Рольф Шпрандель, автор книги "Менталитеты и системы: новые подходы к средневековой истории" (1972), подробно описывает ряд проведенных им конкретных исследовании и делает некоторые выводы относительно
проблем, встающих перед историками ментальностей.
Хотя последние, пишет он, явным образом предпочитают серийные источники, возможно построить исследование и вокруг
одного-единственного источника. Шпрандель проделал это со
сборником нравоучительных историй "Gesta romaiioruiii" ("Деяния римлян"). В XIV-XV вв. книга пользовалась в Европе большой популярностью: сохранилось 330 ее списков для (Средневековья это бестселлер. Одна из причин такого успеха (впрочем не
главная) заключается, по предположению Шпранделя, в ментальной многослойности новелл, воздействующей на различные пласты культурной памяти людей. Большинство новелл возникло, по
всей вероятности, в позднеантичное время в городскон среде. Но
сами сюжеты несли в себе изначально элементы древнего магического сознания, а затем вобрали в себя мотивы средневековой
аристократической культуры. Однако, единство этой ментальной
разноголосице придал все же тот, кто в середине XIV в. собрал
новеллы в одну книгу и прокомментировал их, наделив новым,
спиритуалистическим смыслом. Глубинная идея книги - во вторичности, относительности всего земного, в том числе ;т формальной набожности. Сквозь вполне светские сюжеты и здравый
смысл рассказчиков просвечивает, благодаря комментарию, иной,
высший смысл, нередко противоположный буквальному (обычный ручей оказывается источником истинной веры и т.п.). В повседневных житейских происшествиях открывается борьба Бога
и дьявола за человеческую душу. По мнению Шпран/.еля, успех
книги можно считать признаком широкого распространения в
XIV-XV вв. такого рода умонастроения, которое он характеризует
как предреформационное.
По предположению Шпранделя, составителем сбоэника был
некий францисканец из Оксфорда. Но для историка монтальностей, считает он. интереснее определить круг читателей. Правда,
не очевидно, что на основании содержания книги можно судить
об умонастроении ее владельца. Ведь в наших собственных библиотеках много книг, с авторами которых мы ни в коей мере не
можем себя идентифицировать. Однако даже сегодня социологи
пытаются определять менталитет определенных групп населения
по популярности телепередач. Во времена же Срецневековья
связь между читателем и книгой была гораздо более интимной. В
XIV - начале XV в. севернее Альп книжный рынок ьряд ли существовал. Чтобы иметь книгу, ее надо было заказать переписчику или переписать самому, что было дорого и хлопотно. Поэтому
сам факт обладания книгой для того времени, по мнению Шнранделя, весьма значим.
Однако определить первоначальных владельцев списков затруднительно, и эта работа пока не закончена. Подтверждается
широкое географическое распространение книги: обнаружены переводы с латинского на немецкий, английский, русский, польский, чешский и венгерский языки (списков на французском и
итальянском языках пока не найдено). Очевидно также, что широк и социальный состав владельцев (среди них были и богатые,
и бедные, и клирики, и миряне).
В ходе другого исследования Шпрандель поставил двоей задачей выявить изменения ментальности во времени. Это, как известно, одна из самых трудных и плохо поддающихся решению
проблем. Она сложна не только теоретически, не ясно также и
то, как эмпирически описывать ментальные изменения. Шпрандель определяет некоторые подходы к этой проблеме. По его мнению, констатировать изменение ментальности допустимо лишь
тогда, когда можно быть уверенным, что остается неизменным
носитель менталитета (определенная группа людей). При этом
важно делать выводы на материале источников одногэ типа, сохраняющегося на протяжении длительного времени.
Такому требованию отвечают, например, толкования Библии.
С их помощью Шпрандель попытался выявить эволюцию представлений о старости на протяжении XII-XV вв. Выбрав те
(фрагменты из Псалмов и посланий ап. Павла, где гэворится о
старости, он сравнил характер их истолкования теологами Парижского университета на протяжении указанного периода (промежутки между такими "пробами" были взяты краткие - от 6 до
12 лет). Свой (опять-таки предварительный) вывод о направлении
эволюции воззрений теологов на возраст Шпрандель формулирует
так: от примитивного полуязыческого почтения к старости - через сугубо аллегорическое истолкование темы возрастов человека
- к христианскому гуманизму. Неясно однако, замечает он, насколько воззрения теологов соответствовали массовым представлениям.
Наибольший интерес Шпранделя вызывает вопрос о соотношении ментальности и ее носителя, конкретной групты людей.
Важно различать, полагает он, два рода принципиально разных
групп. В первом случае менталитет (каким-либо образом материализованный, например, в определенном литературном произведении) предшествует образованию группы и стимулирует его. Когда
в обществе существуют "умы, ищущие ориентации", чтение книги может сыграть в их самоидентификации значительную роль.
Возможно, именно такую роль играли "Gesta romaiiorum", содействуя самоопределению и сближению тех, кто явился человече-
ским материалом Реформации.
Существуют и группы другого рода, чей "духовный профиль"
задается их объективным социальным положением. Так, придворные французские клирики XII в., посвятившие себя соединению христианской и аристократической культуры, были подготовлены к этому всей своей жизненной судьбой.
Шпрандель признает, однако, что намеченные им два типа
групп есть идеально-типические полюса и что большинство реальных сообществ занимает промежуточное положение между
ними.
Следует также, по мнению Шпранделя, различать группы, активно выковывающие новый менталитет (это, как правило, малые группы с интенсивной внутренней коммуникацией) и широкие сообщества незнакомых друг с другом людей, улавливающих
и "использующих" разлитые в обществе настроения.
В заключение Шпрандель обращается к вопросу о том, что же
такое ментальность. Хотя обычно к ней относят все коллективные представления, но внутри этого многообразия, по его мнению, следовало бы выделить какие-то "центры тяжести". Важнейшими, конституирующими ментальную сферу Шпрандель
считает представления о человеке, во-первых, и представления о
собственной группе, во-вторых. Поскольку представления о человеке крайне изменчивы, пишет он, может показаться, что духовных антропологических констант вообще не существует. Однако
одна такая константа все же есть - это сама потребность человека
найти ответ на вопрос о предназначении человека. Важнейшая
функция группы, кстати, состоит в том, чтобы помочь индивиду
найти такой ответ. Так что две вышеозначенные области представлений тесно между собой связаны.
Шпрандель останавливается также на проблеме самоидентификации группы. Сообщества, каким-либо образом зафиксиропавшие представления о себе - гербом, символом, самоназванием
являются наиболее интегрированными. В группах, не достигших
этого уровня, самоидентификация проявляется каким .'iiioc "частичным" образом - например, в агрессивности, направленной
против других, отвращении к меньшинствам и т.п. Шпрандель
ссылается на свою работу о дискриминации незаконнорожденных
в эпоху Средневековья. В этом вполне "частичном" аспекте сознания обнаруживаются тем не менее такие различия, которые сигнализируют о разном социальном самоощущении групп.
Оказывается, наиболее последовательно практиковало дискриминацию незаконнорожденных низшее бюргерство. Так, в Любеке
торговцы мелочным товаром просто изгоняли их из сьоеН среды.
Люди же знатные, напротив, относились к "детям любви" с гораздо большей терпимостью и нередко узаконивали их права. В
чем тут дело? Причина, считает Шпрандель, в том, что дворянст-
во как социальная группа было более других защищено не только экономически, но и психологически - сознанием своего высокого общественного статуса, кодексом чести, являвшихся составной частью рыцарской культуры. Бюргерство же, особенно мелкое, еще не обладавшее собственной культурой, было тем самым
"открыто" для церковной проповеди, воспринимало все запреты
буквально и готово было перещеголять своих пастырей. Заниженное представление группы о себе самой, ее социальная "закомплексованность" ведет к невозможности противостоять внешним
авторитетам и нетерпимости в собственной среде.
М.Вовель. Серийная история или "case studies":
дилемма реальная или мнимая?
Мишель Вовель - французский историк-марксист, известный
специалист по истории Великой французской революг.ии, активно разрабатывающий историко-антропологические подходы, занимавшийся такими темами, как смерть, дехристпанизация,
праздники. Он - автор множества монографий, в числе которых
"Смерть и Запад с 1300 г. до наших дней", "От подвала к чердаку", "Ментальность и идеология". Данная статья был? помещена
в сборнике "Histoii'c socialc. scnsihililcs ciilicclive^ L'I mcntalilc^"
(P., 1985).
В 60-е гг., пишет Вовель. социальная история открыла возможности изучения городской и крестьянской жизни ; помощью
количественных методов. Массовые однотипные источники юридического, административного и хозяйственного характера были
заново оценены историками, поскольку делали возможными 'серийные исследования". Эти методы завоевали всеобшее признание. История ментальностей, "искавшая собственную идентичность в тени социальной истории" (с. 115), тоже не могла пройти
мимо этого инструмента исследования "миров молчания", что и
принесло очевидные плоды. В качестве примера Вовель приводит
изучение Робером Мандру изданий для народа - книг г.н. "Голубой библиотеки", а также исследование всей системы книгоиздания, книгораспространения и чтения в эпоху Старог;) порядка,
осуществлявшееся под руководством А.Дюпрони, а за ['ем Ф.Фюре. Серийные методы были применены также к источникам, освещающим мир преступности судебным архивам, архивам порем п работных домов. Историки ментальностп откры.ш и новые
типы серийных источников: так, прекрасным материалом для реконструкции представлений о смерти оказались завещания (что
стало предметом исследований самого Вовеля прлм. реф.). Затем в их поле зрения попали массовые иконографические источники, в частности, надгробия (по мнению Вовеля, в последнее
время это одно из самых перспективных направлений работы).
В результате стало привычным отождествлять исчорию ментальностеН и серийную историю. Однако с начала 80-х гг. в адрес
серийных исследований как инструмента истории ментальностей
все чаще раздается критика. Бурно растет интерес историков к
качественному, индивидуальному, к исследованию отдельных
"казусов", "случаев" (case studies), которое, будто бы, призвано
заменить собою и вытеснить серийные методы.
Наиболее решительно сформулировал свою критическую позицию Карло Гинзбург. Серийная история, с его точки зрения, не
просто скользит по поверхности исторической реальности, она
эту реальность деформирует. Так, в работах Фюре Гинзбург видит
попытку затушевать внутреннюю конфликтность истории, изгнать из нее революции. В результате возникает мистифицированное представление о единодушном менталитете, очищенном от
тех напряжений, которыми он пронизан в действительности.
Гинзбурга поддержал Р.Шартье. При изучении культуры серийными методами, считает он, удается отследить только ее распространение, усвоение, но невозможно увидеть точечные очаги
"культурного производства". Для последнего же требуется не
анализ серий, а осуществляемое микроисторическим1 методами
"плотное описание" единичных случаев.
Вовель считает эту критику не вполне справедливой. Но его
мнению (он ссылается в том числе на собственную исследовательскую практику) именно серийный анализ источников позволяет
разглядеть в менталитете различия временные, региональные,
социальные.
Однако критика такого рода, как и вообще увлечение единичным, считает он, не является только данью преходяи.ей моде, а
о'1'вечает некоей глубинной потребности современного сознания.
Та же тенденция проявляется в повальном увлечении биографиями, 'устной историей". Для истории ментальностей эго явление
принципиально новое, поскольку биографии, написанные Февром. по мнению Вовеля, не в счет. Каждая из созданных им биографий - "не столько одиссея определенного героя, сколько коллективная одиссея. Неповторимость индивидуального жизненного пути здесь одновременно и подтверждена, и оспорена" (с. II,5).
Нынешние же авторы биографий жаждут прикоснуться к непои торимой судьбе конкретного человека, расслышать его собственный голос. Таков Меноккьо Карло Гинзбурга, таков и Мартен
Герр Натали Дэвис, таков Пьер Ривьер Мишеля Фуко и его соавторов. Возникла уже целая галерея подобных портретов "маленьких людей" - рабочих, пастухов, служанок... Долгое время доминировавший в сознании историков образ молчащей деревни, где
время остановилось, исчезает: его сменяет представление о множестве звучавших в ней голосов.
Мы безусловно имеем дело, считает Вовель, с HOBoi[ серьезной
атакой на "мир молчания", с попыткой нарушить его иным способом. и это можно только приветствовать. Но дальше начинаются сомнения, новые тупики и вопросы.
Одна личная история, личная исповедь, действительно по)).iжает. Но потом обнаруживаются повторы, клише, за сугубо личными обстоятельствами начинают просвечивать общие модели и
шаблоны. Чтобы отделить стереотипное от индивидуального, необходимо организовать эти биографии ... в серии, что возвращает
нас к исходному пункту рассуждений.
Вовель безусловно за использование такого рода "челонече-ких
документов", но не согласен с их абсолютизацией, с противопоставлением их массовым источникам. Непомерные упования, но.члагаемые на плотное описание "случаев" кажутся ему возрождением веры в возможность непосредственного улавливания исторической действительности "как она была на самом деле". Наивным представляется ему и стремление к nod.'inmiocn'.ii. Подлинный голос человека прошлого никак не содержит всой истины об
этом прошлом. Вовель сомневается в том, что истина амгочирчаи
стся современниками. Если историю Мартена 1'ерра лишить того
исторического контекста, в который ее поместила Н.Дэвис, она
покажется всего лини) курьезом.
Возможности и ограниченность биографического уетода Во
р'ль демонстрирует на примере истории жизни стекольных дел
мастера Менетра, написанной им самим^. Менетра был современником и участником Великой французской революции. Пока он
рассказывает о годах учения и странствий, он подражает лит^р;
турным образцам изложения, его речь гладка и свободна. Но вот
он сталкивается с невиданным с революцией. Изложгнле становится темным и бессвязным. Активист Парижской секции, сопереживающей революции, не понимает, что происходи'1, и даже
нс може1 об этом рассказать. Становятся очевидны гианицы понимания событий их современником и участником. II :
lo еще тот
не слишком частый случай, когда человек брался за перо. Огромное же большинство людей оставалось в стихни устной культуры.
насыщенной разного рода клише.
Трудности обнаружения в истории "подлинного", спонтанного,
индивидуального - не только методического, но и онтологического свойства. Испытываемые историком трудности отражают реальную сложность соотношения индивидуального и кочлективного в самой ушедшей действительности. Размышляя об этом, Вовель развивает высказанную теоретиками микроистории идею о
"нормальном исключении". Интерпретация Вовелем итого парадоксального определения такова. "Нормальным исключением"
можно считать того, кто, будучи приговорен условиями жизни к
"молчанию" (т.е. к норме), однажды нарушил его и подал о себе
весть - письменно или каким-то необычным поступком. Этот
"случаи", лежащий на границе нормы, нарушающий е", высвечивает тем самым и самое норму и позволяет увидеть разэывы в монолитной массе судеб. "Исследование случая" - это глубокий
шурф в толщу "нормального", которое можно описать только се-
рийными методами. "Случай" же пробивает в этой толще брешь
и потому делает возможным мгновенный взгляд историка вглубь
исторической реальности.
Сочетание двух различных методов еще принесет, по мнению
Вовеля, богатые плоды. Я верю, заключает он, что мы находимся
только в самом начале пути.
П.Бёрк. Сила и слабости истории ментальностей
Английский историк Питер Бёрк - автор книг, посвященных
средневековой народной культуре, истории повседневной жизни и
ренессансной Италии, истории школы "Анналов". Данная статья
была опубликована в журнале "History of European ideas" (v.7,
1986, N 5).
С точки зрения Бёрка, истории ментальностей как научному
направлению свойственны следующие характерные черты: 1) преимущественный интерес к коллективным психологическим установкам; 2) внимание к невысказанному и неосознанному, к практическому разуму и повседневному мышлению: 3) интерес к устойчивым формам мышления (а не только к его содержанию) - к
метафорам, категориям, символам.
Хотя существование такого феномена как ментальпость часто
подвергается сомнению, особенно английскими историками, Бёрк
решительно высказывается в его пользу. По его убеждению, с
чем-то подобным сталкиваются многие исследователи, даже занимающиеся далекими от культуры сюжетами. Так, Витольд Кула
в своей блестящей работе о [феодальной системе в Польше XVIIXVIII вв. пришел к выводу, что необходимым элементом этой
системы являются поведенческие установки и ценности польских
магнатов. Эдвард Томпсон обнаружил, что голодные бунты народных масс в Англии Х\1П в. - не просто реакция на недостаток
пищи, а выражение коллективных моральных установок.
Бёрк признается, что и сам он, для объяснения некоторых явлений, был вынужден допустить существование типа сознания,
совершенно отличного от нашего. Например, нашему современнику не дано вполне понять схоластическую идею "корреспонденции" между семью планетами, семью днями недели, семью металлами и т.д. Ведь "корреспонденция" - не тождество и не подобие. Более уместен здесь, по мнению Бёрка, термин "мистическое
сопричастие", с помощью которого Л.Леви-Брюль описывал отношение человека к его тотему.
Бёрк приводит и другие примеры столь же "несообразных", с
нашей точки зрения, представлений. Например, неприятно поражающая современного человека средневековая идея о том, что
детство - это самое презренное, если не считать смерти, состояние человеческой природы.
Еще один пример. В "кодексе", составленном в ко^це XVII в.
восставшими крестьянами Бретани, запрещалось доставлять пропитание gabelle и ее детям и, напротив, предписывалось уничтожать их "как бешеных собак". А поскольку gabelle - не что иное
как соляная пошлина, то приходится признать: мы бессильны
понять, что именно имели в виду крестьяне. Так >ке как не
можем понять боевого клича тосканцев XV в.: "Смерть кадастрам!"
Встречаясь в средневековых источниках с этими и целым рядом других персонификаций - чумы, смерти и т.п., мы склонны воспринимать это как метафору. Но контексты, :~io мнению
Бёрка, подсказывают, что это не метафора и не буквальный
смысл, а нечто третье, нам не известное. Очевидно, чтс' умы средневековых людей были устроены иначе и что без понятия ментальности здесь не обойтись.
Однако, предостерегает Бёрк, прибегая в таких случаях к этому понятию, историк не должен тем самым просто снимать проблему. На самом деле этим проблема только обозначаечея.
Объявив себя, таким образом, решительным сторонником истории ментальностей, автор статьи переходит к разбору тех возражений, которые против нее обычно выдвигаются.
Часто говорят, что историкам ментальностей свойственно преувеличивать уровень духовного консенсуса людей определенной
эпохи. Допустимо ли, например, говорить о "менталитете средневекового француза"? Вопрос, с точки зрения Бёрка, достаточно
резонный и трудный. Ведь если уменьшить масштаб обобщения и
вести речь не о нации, а о классе или группе, проблема воспроиз. водится и на этом уровне. Существовал ли, например, менталитет
английских юристов XVII в.? Выход, по мне-нию Бёрка, заключается в том, чтобы, следуя предложению Ле Гоффа, включать в
менталитет только "общие места", но не весь духовный мир.
Следующий справедливый упрек состоит в том, что историки
не могут пока объяснить изменение ментальности во времени. Если ментальная система внутренне увязана таким образом, что одна психологическая установка "держит" другую, а все они вместе
- Друг друга, то такую систему следует считать закрьтой и объяснить ее трансформацию теоретически невозможно (Бёрк
ссылается на слова Э.Эванса-Причарда: в подобной сетке мнений
все нити сплетены так плотно, что человеку из ловушки не вырваться - ему известен один-единственный мир). Однако на практике изменения ментальности все же происходили и происходят.
Для Италии с XIII до XVII в., как и для всей Западной Европы,
совершенно очевидно нарастание "арифметической ментальности", склонности людей все считать и учитывать. Нихто не станет отрицать и того, что в XVII в. в картине мира небольшой
группы интеллектуалов, происходит резкий и быстрый скачок
научная революция. Подобные изменения, считает Бёрк. следует
пока описывать хотя бы эмпирически.
Наконец, многие считают, что в основе истории ментальности
лежат устаревшие эволюционистские представления о развитии
мышления, прежде всего предложенное Л.Леви-Брюлем различение логического и пралогического мышления. Действительно,
пишет Бёрк, эволюционистские представления о стадиальном характере развития мышления были свойственны и Леви-Брюлю
(хотя его взгляды много глубже, чем это кажется его критикам и
их еще предстоит заново оценить), и Февру. и Мандру, и многим
современным историкам. Однако это беда не только истории ментальностей, но всей гуманитарной мысли и даже обыденного сознания. Ярким образчиком эволюционизма Бёрк считает, например, расхожее противопоставление "традиционной" и соиременной культуры.
В целом перечисленные претензии, считает автор статьи, далеко не безосновательны, и историкам ментальности следовало бы
ответить на них новыми исследованиями. К разрешению многих
вопросов можно было бы, по его мнению, приблизиться, интенсивнее изучая три рода феноменов: 1) интересы, 2) категории,
3) метафоры.
Далее Бёрк разъясняет смысл своего предложения.
Интересы. Напрасно, пишет он, анализируя природу веры в
целительные свойства короля, Марк Блок совсем обошел вопрос о
том, кому она была (негодна. Между тем вопрос эточ актуален,
особенно когда речь идет о Карле II и Людовике XIV, которые сами в свою целительную силу вряд ли верили. Иначе говоря, с
точки зрения Бёрка, историки ментальности не должны пренебрегать марксистской традицией анализа интересов. Хотя представления марксистов и историков ментальности о человеческом
мышлении в этом пункте диаметрально противоположны (для
первых оно воплощение "цинизма", для вторых - "нег.инности"),
стремиться к их синтезу все же необходимо. Особенно интересны
с этой точки зрения переживаемые человеком моменты конфликта разных интересов в сознании человека, поскольку в эти моменты он может внезапно "увидеть" свои бессознательные импульсы. Изучение таких эпизодов поможет выявить диалектику
сознательного и бессознательного, намеренного и непроизвольного.
Категории. Автор статьи предлагает историкам ментальности
специально изучать категориальные, классификационные схемы,
структурирующие различные картины мира. При этом можно
воспользоваться теми средствами анализа парадигм и эпистем,
которые разработаны в эпистемологии и истории науки. Особенные надежды Бёрк возлагает на введенное Фуко понятие о "сетках" представлений (Grille, Raster) и на принадлежащее Аби
Варбургу понятие Schemata. Ментальность, предполагает Бёрк,
возможно представить не как единую систему, а как сумму или
пересечение разных "сеток" (микропарадигм, стереотипов), которые не т')лько взаимно увязаны, но и могут приходить в противоречие. Не исключено, что с помощью такого представления окажется возможным теоретически объяснить трансформации ментальной сферы.
Метафоры. Наконец, изучение менталитетов, считает Бёрк,
невозможно без углубленного изучения языка, особенно "господствующих метафор", которые, как это все более признается современной наукой, структурируют мышление. (Например, в ходе
научной революции XVII в. на смену господствовавшей ранее метафоре мире как тела, организма, зверя, приходит уподобление
мира машине).
Итак, заключает Бёрк, если в первом пункте (интересы) предполагается посмотреть на ментальность "снаружи", со стороны
социальных условий, а в третьем (метафоры) - "изнутри", из глубин языка, то второй пункт (категориальные схемы) объединяет
оба взгляда и играет поэтому центральную роль. Мыслительные
схемы, приближаясь, с одной стороны, к господствующим
метафорам, с другой стороны., связаны с интересами и стремлением к власти различных социальных групп (социологи говорят в
этой связи о власти называть, власти к.чассчфчьировать^).
Поэтому анализ категорий, и лингвистический, и социологический, призван, с точки зрения Бёрка, сыграть в истории ментальностей самую существенную роль.
П.Хаттон. Психоистория Эрика Эриксона
в свете истории ментальностей
Статья американского исследователя Патрика Хаттона первоначально была помещена в журнале "The Psychohistory Review",
1983, Vol. 12, N 1.
Психоанализ, пишет Хаттон, приобрел права гражданства в
историографии США с 1958 г., когда вышла в свет книга американского психоаналитика Эрика Эриксона "Молодой Лютер"
Эриксон также автор книг "Детство и общество" (1950) и "Истина Ганди" (1969) - прим. реф., Эта работа послужи.га моделью
для целого направления, полнившего название психоистории.
Что касается истории ментальностей в ее французском варианте,
то ее влияние стало ощущаться в США только с KOHI.B 70-х гг.,
зато с этого времени она существенно потеснила психоисторию. К
сожалению, констатирует автор статьи, между двумя этими направлениями нет ни взаимодействия, ни даже полемики. Своей
задачей он ставит сопоставление проблематики исследований
двух дисциплин и определение возможных точек пересечения.
Хаттон начинает с характеристики произведений Фрейда.
Фрейд занимался и историей личности, и историей цивилизации,
но его трактовка истории весьма своеобразна: он придает значение главным образом истокам. В разгадке личности мешающую
роль Фрейд отводит изучению детства. Так, Леонардо да Винчи,
в его изображении, хотя духовно рос и развивался всю жизнь, однако на каждом этапе актуализировались все те же детские психологические коллизии, ii именно их неразрешимость служила
постоянным стимулом развития. В истории человечества причины новых явлений Фрейд также ищет в правременах. Так, тотемизм, как определенная ступень в развитии общества, порождается, в его трактовке, воспоминанием о практике убийства отца
сыновьями в первобытной орде: тотем олицетворял убитого и съеденного отца (см. его работу "Тотем и табу"). В работе "Моисей и
монотеистические религии" он толкует монотеизм как реставрацию Toil же власти праотца. Таким образом, развитие и личности, и цивилизации для Фрейда заранее задано, предопределено
своими истоками.
Но современная психоистория, считает автор, далеко ушла от
Фрейда. Исторические изыскания Эриксона выглядят существенно иначе. Развитие личности предстает в его изображении как гораздо более открытое: Эриксон видит возможность действительного обновления, которая сохраняется на протяжении всей жизни. Вместо безуспешной борьбы с заранее предопределенной судьбой перед нами драма индивидуальных поисков более зрелой
идентичности. Согласно Эриксону, человек (по крайней мере человек Нового времени) переживает на протяжении жизни ряд духовных кризисов и, в случае успешного преодоления их, способен обрести новую идентичность. Таков Лютер, сумевший сделать
это, несмотря на удары судьбы (а может быть, и благодаря им).
Духовный кризис более зрелого возраста Эриксон обрисовал, обратившись к биографии Махатмы Ганди.
История ментальностей, констатирует Хаттон, o'i подобной
проблематики весьма далека. Так, Февра интересовали не столько возможности личности, сколько ее границы: ему важно то,
что объединяет героя с его современниками - внешние по отношению к личности социокультурные детерминанты, нормы все
то, что на языке психоанализа носит название "Сверх-Я". Психоисториков же интересует собственно "Я".
Тем не менее Хаттон обнаруживает "территорию", на которой
исследовательские поля психоистории и истории ментальностей
соприкасаются. Чтобы человек мог свободно переопределят), свою
идентичность, рассуждает он, социальные нормы должны быть
достаточно гибкими, должны допускать сосуществование, говоря
опять-таки психоаналитическим языком, разных Я-идеалов. Общество должно выработать и легитимировать определенный набор образов человека, чтобы людям было из чего выбирать. Именно проблема "общественного производства" разных Я-идеалов, по
мнению автора статьи, способна объединить историю ментально-
с"ей и психоисторию.
Причем, с его точки зрения, в области истории ментальностей,
исторической антропологии, исторической демографии уже достигнуты реальные успехи, позволяющие углубить подходы Эриксона. Так, обнаружено усложните в ходе истории представлений
о возрасте человека. Детство, как особый, богатый возможностями период человеческой жизни, было "открыто" в корце Средневековья. Это повлекло за собой происходившее на протяжении
XVI-XVIII вв. изменение характера семейной жизни, в которой
все большую роль стало играть воспитание детей. В XVUI в. таким же образом была "открыта" юность, а в XIX в. от юности
стали отличать отрочество. Наконец, только в XX в приходит
постепенно понимание того, что психологическая потребность в
"новом начале" свойственна и зрелому, и даже позднему возрасту. Обнаружение этих ментальных сдвигов выдвигает, но мнению
Хаттона, вопрос о том, приложима ли эриксоновсьая модель
развития личности ко всем историческим эпохам.
Кроме того, наряду с тенденцией к расширению возможностеН
такого развития (на чем основывает свою концепцию Эриксоя),
обнаруживается и противоположная тенденция (Хаттсн ссылается на работы Ж.Донзело и Ч.Лэша): переход в Ново? время от
традиционной семьи к малой сужает пространство оби.екия н игры, потребное для самоопределения личности, их место занимает
дисциплина. Нормы, стандарты поведения не умножаются больше стихийно - они становятся предметом заботы государства, полиции. В XIX в. семья перестает быть моделью мира. 1'оль воспитателя переходит от нее к общественным институтам, ее прини
мают на себя духовник, врач, педагог, наконец, с начала XX в., психотерапевт, психоаналитик. Психология может быть не только средством самораскрытия человека (как это считает Эрпксоп),
но и средством самоограничения, орудием внедрения в сознание
человека господствующих в обществе императизов.
Таким образом, заключает Хаттон, результаты, достигнутые
историками ментальности, могут существенно видоизменить нынешние представления психоаналитиков о том, как люди обретают свою идентичность.
Разговор (
Хрис-тианом Мейсром
Последний опубликованный в сборнике текст - интервью, которое дал Раульфу известный немецкий аптиковед Христиан
Мейер.
Сначала Мейеру был задан вопрос об отличии историко-антропологического исследования от традиционной политической истории. Последняя, по его мнению, исходит из принципиальной
одинаковости людей разных .эпох, что и позволяет историку легко "понимать" их цели и мотивы. Согласно такому подходу специфика времени выражается всего лишь в некотором преоблада-
нии в обществе тех или иных интересов. Например, .для рикляп
главными были представления о чести, в других культурах преобладали экономические интересы и т.д. Историческая антропология, напротив, постулирует существование в разные эпохи
принципиально различных типов личности, различны?: "способов
быть человеком". И, главное, историк-антрополог изучает эти
способы не для того, чтобы лучше понять мотивации людей, они
интересны ему сами по себе. Смещается, таким образом, центр
интересов исследователя.
Каковы же методы реконструкции исчезнувших культурных
миров? Нужно выявить, полагает Мейер, самые необь чные, бросающиеся в глаза особенности чуждой культуры, а затем попытаться связать их друг с другом. Это удается, однако, только в
том случае, если постоянно держать в уме ппрпллели 11,4 других
культур. Наттример, глядя в целом на историю Дрявн^й Греции,
нельзя не заметить, что греки, как никакой другой народ, сделали поразительные успехи в философии. Объяснить ото по-настоя
щему пока не удалось. Чаще всего от ответа на этот вопрос отделываются банальностями, вроде ^ого, что греки были народом
одаренным. Ж.-П.Вернан - один из немногих, кто попытался разобраться в действительных причинах, дал следующий отверг:
"матерью" философии была демократия. По мнению Мейера, :) lo
ответ упрощенный, хотя Верная и был на верпом пути. Безуслов.
но существует связь между демократией и философией, но ас
прямая: она опосредована чем-то более глубоким, а именно образом жизни древних треков. Несмотря на обилие разрозненных
сведений, мы в сущности, утверждает Мейер, не имеем цело^тноio понятия об их жизни, которая была полна скрытого драматиз
ма. Мы видим пока лишь отдельные составляющие .УГОЙ редкосчной исторической конфигурации.
Демократия лишь одна из этих составляющих, по и ее мы
плохо себе представляем. Что мы знаем о феномене афинского
гражданства V в.? Чтобы его понять, надо проникнуть в суть изменений, происходивших с людьми, которые внезапно из обыч
ного провинциального существования поднимаются на совсем
иной уровень бытия и должны принести в соответствие с новыми
отношениями собственное традиционное мышление. Ведь мало
сказать, что афиняне интересовались" политикой, они жп.чч ею.
Они стали гражданами "до мозга костей". Они кик-то освоились с
той невиданной и в чем то абсурдной ситуацией, кигдп люди две"адцать дней подряд присутствуют в народном собрании, вырабатывая жизненно важные для полиса решения. Вопрос о повсе
дневной жизни афинян - все еще вопрос открытый.
Вновь возникшая традиция гражданства соединилась, считае')
Майер, с другой составляющей образа жизни греков, сформировавшейся несколько раньше (о стилем, понятием о красоте.
Выработанное аристократией еще в архаическое время, оно y'i-
вердилось в жизни полиса благодаря новации гражданства. Парфенон и гражданство оказались сопряженными, Kpaco'ia зданий и
скульптур приобрела социально значимую роль. Причем стиль
оказался в итоге даже более важным, чем демократия, ибо превратился в знак национальной идентичности. Расл.еевшиеся по
всему Средиземноморью, не имевшие единого государства, греки
нуждались в подобном знаке, который позволял бы им везде чувствовать себя эллинами. Демократия не могла стать таким
знаком, ведь существовали и аристократии, и тирании. Эту роль,
наряду с языком, взял на себя стиль.
Здесь, замечает Мейер, напрашивается сравнение " иудеями,
еще более разбросанными по миру и сохранившими не менее
сильную национальную идентичность. Стилистику жизни иудеев
определяла вера. По мнению Мейера, Священное Писание было
для иудеев все же более значимо, чем красота для греков.
Еще один непроясненный момент образа жизни древних греков - их религиозность. Несмотря на все поразительнье прорывы
в будущее, религиозность оставалась у них почти на первобытном
уровне. В глубине радикально обновленной культуры сохранялись древние пласты. В пристрастии греков к жертвоприношениям есть что-то темное, демоническое. Необходимо понять, как
объединялись в единое целое рациональное и архаическое, темная и светлая стороны их жизни. Мейер предлагает две догадки
на этот счет.
Первая. Можно предположить, что роль связующего звена между рационализированной культурой и архаическим сознанием
играла трагедия. В трагедии неожиданно много архаических понятий, связанных с жертвоприношениями, много мифологических элементов, больше чем даже у Гомера. По-видимому, это не
случайно. Не исключено, что задачей трагедии было привести
старые понятия в новые отношения, рационально перемонтировать миф, причем публично. Это соответствовало тем процессам,
которые по-видимому происходили тогда и в умах рядовых людей, отсюда популярность трагедии. Внутри трагедии рождалось
некое новое понимание рока, не только слепого, но и требующего
участия воли и сознания человека.
Другая догадка Мейера заключается в том, что существует, повидимому, определенный баланс между рациональным и архаическим мышлением, который нельзя нарушать. Греки зашли слишком далеко в обновлении своего бытия, и это вызывало традиционалистскую
реакцию.
Таким консервативным
уравновешивающим элементом явилось жертвоприношение, очищение перед богами.
Мейер высказывает еще одно предположение. В Греции существовала резкая грань между полноправными и неполноправными: между мужчинами и женщинами, свободными и несвободными, гражданами и не гражданами. При этом всякая работа, вооб-
ще специализированная деятельность были уделом неполноправных членов общества. Полноправные же прежде всего ревностно
оберегали свой статус - мужчины, свободного, гражданина. Любая специализация была им противопоказана, их идеалом было
гармоническое развитие. Оборотной стороной этого была, повидимому, некоторая одинаковость людей высшего сгатуса, неразвитость их индивидуальности. Неизвестно, кстати, насколько
была допустима для граждан личная независимость, как
ставился столь важный для нас сегодня вопрос о личной ответственности.
Достоинства и недостатки образа жизни древних греков, как
представляется Мейеру, обратны относительно специализированного новоевропейского общества. В последнем люди болезненно
ощущают как раз недостаток "всеобщего". Именно этим, скорее
всего, порождена их острая потребность в национальной идентичности. Ибо человек наделен стремлением либо быть чем-то целым, либо так или иначе соотнести себя с каким-то целым. В греческом полисе первое оказалось в неслыханной мере возможным,
что и породило совершенно особый тип человеческогс существования.
' В 1995 г. вышла книга Раульфа о Марке Блоке: Ruulf U. Eiii
Historikel- iiii 20. Jli.: Marc Bloch. B., 1995.
' Как кажется, Раульф впадает здесь в противоречие с тем, что писал
выше. Если связывать ментальность с таким древним пластсм сознания,
который предшествует расчленению мышления, волн и эмоции, то почему она обнаруживается в наибольшей мере лишь в одной и:! множества
культур, причем сравнительно поздней?
' Фсчр .7. Бои за историю. М., 1990.
' Приведем удачную характеристику того угла зрения, i од которым
рассматривает чтение Шартье: "фактически все работы и Шартье. и его
последователей ставят одну главную проблему: проблему гричиц культу
phi, внутренних и внешних, которые, смещаясь под действием книгопечатания, тем самым проступают ясней". Отсюда "внимание к народной
культуре: проникновение печатного слова в сферу устного pir exclicnce.
способы рецепции, подчас весьма неожиданные, издательской продукции малограмотной или новее неграмотной средой, нзаимодгйстпие книги или иного текста как с традиционными коллективными ритуалами,
так и с бытовыми поведенческими нормами простых горожан или крестьян, - все это позволяет проследить важнейшие культурные сдвиги,
ускользающие при изучении книги в "естественной", "ученой социокультурной среде (Стаф И.К. Печатный текст и народная культура /
Arbor iimiidi. 1992. N 1.С. 173-174)
'' Понятие "хабптуса" является одним из основополагающих и для
современного французского этнолога и социолога Пьера Бурдье, идеи которого Шартье активно использует в своих теоретических юстроениях
(см. Бурдм П. Начала. М., 1994. С. 22-26, 53, 99: пн же. Социология
политики. М., 1993. С. 123).
"' Mcni'trti J.L. Journal (ie nia vie. P., 1982.
' Речь, по-видимому, снова идет о концепции Пьера Бурд эС.
Е.М.Михина
7. А.БУРО. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОГРАНИЧЕННОЙ ИСТОРИИ МЕНТАЛЬНОСТЕЙ.
A.BOUREAU. PROPOSITIONS POUR VNE HISTOIRE RESTREINTE DES
MENTALITES// ANNALES E.S.C., 1989, N 6
Ален Буро - французский медиевист, автор известной монографии о т.н. "папессе Иоанне"^ Его статья свидетельствует о существенных расхождениях в трактовке задач истории ментальностей современными французскими историками. Автор подвергает критике подходы, свойственные Ж.Дюби, Ф.Арьесу. М.Вовелю
и ряду других крупных ученых и предлагает свое понимание дисциплины, обозначаемой им как "ограниченная история ментальностеи".
Согласно оценке Буро, история ментальностей воспринимается
сегодня как респектабельная, но несколько вышедшая из моды
дисциплина. Понятие ментальности в значительной степени утратило свою популярность в качестве инструмента научного познания, II многие историки отдают предпочтение термину "историческая антропология". Буро объясняет это переменами, характерными для современного состояния исторической науки в целом.
Традиционные внутренние членения истории на экономическую. политическую, социальную, культурную - в настоящее
воемя гораздо менее уместны, чем ранее: границы между отраслями исторической науки стали проницаемыми. Всякое претендующее на полноту изображения предмета исследование тяготеет
к тотальной истории (хотя сам термин сейчас такж^ не очень
употребителен), которая стремится уловить взаимосвязь различных сторон действительности.
Чаще всего тотальная история выступает сегодня под эгидой
социальной истории. Речь не идет при этом об аналп..-е какой-то
особой социальной сферы. Назначение социальной истории, счит;'ет Буро, - описывать огинотсипя между объектами и между
различными сферами исторического бытия. Яркими образцами
так понимаемой социальной истории являются, по его мнению,
работы итальянских ученых Дж.Леви, Э.Гренди и их последователей-.
Однако возможны, считает Буро, и иные представления о соотношении социального целого и его части, иные способы его проекции. В соответствии с этими способами и будут, по е"о мнению,
различаться между собой исторические дисциплины, образуя новое членение науки истории. Они будут различаться, следовательно, не предметом исследования, п углом зрения на него. Среди них должна найти свое место и история ментальностей.
Для Блока и Февра, отмечает Буро, история ментальностий
всегда являлась именно особым углом зрения на социальное (недаром "Королей-целителей" Блока и "Рабле" Февра можно сегодня без особых натяжек отнести к социальной истории средневековой монархии или евангелизма XVI в.). Однако в 19()0-е гг. выявилась и утвердилась иная, сомнительная, на взгляд Буро. тенденция в развитии данной дисциплины.
Именно в этот период история ментальностей оказалась "нагруженной" иными функциями и практически трансформировалась в позитивную дисциплину, изучающую конкретные предметы - исторические об^ зкты, исключенные из поля "норма, -п.иоп"
истории, те, которые, если воспользоваться образом Мишеля де
Серто, остаются в котле истории, когда вы вытаскивайте из него
мясо и овощи ("жесткие" события и объекты): в пене варева вы
находите толпу, женщин, сексуальность, тело и т.д.
Особенно живучей оказалась одна из позитивистских версий
истории ментальностей - психологическая. Повод к ее возникновению дал, по мнению Буро, еще Февр - своей известгой статьей
"Чувствительность и история"^. Эту линию продолжил Ж.Дюби.
Б своей программной статье, маркировавшей второе рождение истории ментальностей, он объявил моделью ее социальную
психологию*. Этот подход нашел практическое применение в erf)
собственных работах, а также в трудах Ф.Арьеса. М.Бовеля,
Ж.Делюмо. По мнению Буро. несмотря на неоспоримую эмпирическую ценность их исследований, эпистемологичсски )то оберну"эсь для iic'i-opiiii ментальностей только издержками
В такого рода работах ментальность возводится к ранг HCKO''II
"внутренней и коллективной инстанции", определяюн.ей восприятие и поведение людей, и практически приравнивается к сфере
эмоций. Именно эмоции рассматриваются как проявление коллективного начала, а идеи - как проявление начала индивидуального. При этом эмоции, эти "идеи бедняков", трак"уются как
движущая сила истории, идеи же в собственном смысле считаются чем-то поверхностным и вторичным.
Впрочем встречается и обратное явление. Например, в американской истории права (legal history) господствует "м;ф конституционализма' : короли и законники придумывают публичное
право, затем оно превращается в церемонию, а уже из нее рождается народная вера'*. Если данная точка зрения выводгт ментальное, эмоциональное из идей, то противоположный, более распространенный взгляд сводит его к социальным условиям. Но в лю-
бом случае идеи и эмоции противопоставляются друг другу, и на
это противопоставление накладывается эволюционистская схема.
Такой взгляд проявился уже в упомянутой статье Февра, полагавшего, что интеллектуальное начало нарастает в хоце истории
за счет мира эмоций. Примерно та же мысль лежит в основе работ Дюби: в сознании людей ранних эпох гораздо больше общности, связности, оно "коллективнее"; только в преддверии Нового
времени происходит индивидуализация сознания. В трудах Арьеса ценностные акценты расставлены иначе (он сожалеет о "мире,
который мы потеряли"), но схема здесь по существу та же: от
примитивной общности сознания ("смерть прирученная") до предельной индивидуализации ("смерть перевернутая").
Представление о "ментальном холизме", общности сознания
людей в Средние века, по мнению Буро, никогда не получало достаточного подтверждения, что однако не помешало ему служить
предпосылкой для выводов об "открытии" индивида в IX,
XII или XIV вв. Многие историки, добавляет он, бессознательно
идут на некоторую подтасовку: выбирая источники, ориентированные на объединяющие людей моменты, они, естесгвенно, затем эти моменты и обнаруживают, обозначая их как [коллективную ментальность. Так, анализ отношения средневековых людей
к смерти основывается, главным образом, на chaiisoiit de gestes.
Но, если бы будущий историк, замечает автор статьи, не имел
для изучения отношения людей XX в. к смерти никаких иных
источников, кроме шпионских романов, он также неминуемо
пришел бы к выводу о "прирученности" смерти и в это время.
Другие средневековые источники (эпистолярного жанра, например) концепцию "прирученной смерти", по мнению Буро. опровергают.
Итак, подводит он итог своим размышлениям, попытки найти
доступ к некоей коллективной ментальной инстанции не удаются. Тем не менее психологической версии истории ментальностей
принадлежит заслуга постановки "капитального" во-ipoca: как
коллективное может существовать в индивидах?
Намечая пути его разрешения, автор возвращается к теме соотношения между социальным целым и его частью и стремится
найти тот тип соотношения, который определяет специфику истории ментальностей. Буро (формулирует три возможных типа соотношения целого и части и проводит анализ соответствующих
категориальных пар:
1) Категория "общее/индивидуальное" (ie general/]' mdividuel).
Можно выявить, пишет Буро, общие тенденции жизни населения
в определенную эпоху: материальное и культурное потребление,
социальная мобильность, демографические тенденции, политиче68
ское поведение и т.д. Ничто не препятствует тому, чтобы некоторая часть этих глобальных обобщений была, по законам статистики, приписана "среднему индивиду" эпохи. Такой анализ может достигать высокой степени вероятности, не позволяя, однако, моделировать конкретную личность: индивид всегда остается
только "средним".
2) Во втором случае в качестве целого выступает родовое (1е
geiierique), а в качестве противочлена - частное (ie particulicr).
Анализ в данном случае движется в обратном направлении: родовое определяется "умножением частного". Частное же познается
изучением биографий исторических лиц и созданных лми произведений. На базе такого рода анализа история идей, литературы,
религии может, с помощью социальной истории, воссоздать определенный срез реальности, оставив, однако, в нем огромные лакуны.
Но, считает Буро, с помощью этих двух категорий, даже если
избежать их некорректного смешения (которым греплт и психологическая версия истории ментальностей, и история идей), не.
возможно ухватить суть коллективного компонента социального
целого . Поэтому Буро вводит еще одну оппозицию 3) коллективное (ie collectif) и особенное (ie singuliel-).
Категорию особенного, вводимую, как признает он сам. для
симметрии и плохо определяемую. Буро специально не разъясняет. В качестве единственного примера он приводит воскрешенного К.Гинзбургом мельника Меноккьо, утверждая, что тот представляет собой не "среднего индивида" и не частный случай, а
именно особенное.
Сам Буро определяет коллективное как "то, что ограничивает
возможности действий и решений, что создает общий язык с помощью генерации обществом представлений, образец, текстов,
изображений или ритуалов и предшествует генерации антагонистических дискурсов - индивидуальных или групповых"
(с. 1496). Попробуем разобраться в сути этого определгния, добавив от себя некоторые разъяснения.
Следует предупредить читателя, что Буро активно пользуе'1'ся
терминами Мишеля Фуко, в частности, такими как дискурс и
высказывание (епопсс)^. Идея Фуко состояла в том, ^ то инструментом освоения реальности является речь, речева> практика
людей, в ходе которой не только осваивается, "обговаривается"
мир, но и складываются правила этого обговаривання, правила
самой речи, а значит и соответствующие мыслительные конструкции. Речь в таком ее понимании ныне принято называть дискурсом. Это понятие широко применяется в современной научной
литературе, но наиболее основательно его разработал Фуко. Дискурс - это одновоеменно и процесс, и результат - в виде сложившихся способов, правил и логики обсуждения чего-либо. В основании же любого дискурсп лежит, согласно Фуко, "высказыва-
ние" - "атом" речевой практики, некое первоначальное обобщение, образ, конвенция, что делает возможным дальнейшни разговор.
Буро подхватывает и развивает эту идею Фуко: он предлагает
построить "ограниченную историю ментальностей" как описание
конкретных высказывании, образующих подоснову различных
дискурсов'. Сами же дискурсы, разнонаправленные, личностно
окрашенные, ценностно и идеологически разнородные, не принадлежат, согласно Буро, к сфере коллективного (см. приведенное выше определение). "Коллективным" является только выска.
зыванпе, которым вводится новое, становящееся всем понятным
обозначение какого-лиоо явления. Тем самым люди "получают
доступ к новому языку события". Речь идет, разъясняет Буро, ч
простом понимании некоего языка, а история ментальностеп призвана, соответственно, описывать своего рода "грамматику согласия". Согласия, подчеркивает он, но не верования пли причасгностп. {Зысказыванис пекностпо нептрально. Вводя ц свчп построения обоснованное Р.Маптэном понятие "универсумов веры"^,
Ьуро разъясняет, что высказывания, вследствие распль.вчатсстп
II оогатства своего содержания, могут принадлежать к целому ряду универсумов веры. несовместимых друг с другом.
Чтобы пояснить свое поедставленпг: о характере котлектипного, Буро приводит простои пример. Во Франции .'0-х гг. в обсуждпшг политических и социальных гем получи ^ почти попсем^стпое распространение '[ермин 'предприятп"" (eiitreprisp). Вовсе и< впдетельствуя об общности идео10ГН1Ческ1:х позиции '.'частчиков
дискуссии, это слово вы;полняло роль "некоей ставки, которую
было необходимо сделать, чтобы принять участие в дискурсгпнои
игре этого времени" (с.149^). L^-ль ограниченной иc : ol.)ll!l мгнтальностей состопт. по мнению 'лвтора статьи, в пыянлепип i!
описании именно таких высказываний.
Буро да"т несколько примеров такого описания. Один пз них
заимствован из книги Э.Канторовича Два тела коцоля. Не
имея, по-видимому, никаких теоретических .".мбиций. Канторович выявил, по МНРНИЮ Буро, фундаментальную коллективную
схему в политической мысли Западной Европы. Он псказал, как
на протяжении XIJI-XV'li вв. социальный дискурс обогатился од
ной прочной, хотя и плохо различимой на поверхности сознания
метафорой. Теория двух тел короля, получившая эксплицитное
выражение в ее абсолютистской версии XVI в., являет собой
странную метафору, в которой различимы буквальный смысл
(данный конкретный король) и смысл переносный (бессмертный
король). Этот переносный смысл интерпретировался по-разному
(королевское таинство, династический принцип и т.д.) В теоретической форме эта метафора присутствует у елизаветинских юристов, в ритуальной - в погребальных церемониях XV-XVI в. Однако вполне вероятно, полагает Буро, что она берет свое начало в
древней формуле "достоинство не умирает" (digilitas iiunqualu
iiioritur). В метафорический процесс оказались вов точенными
также некоторые другие понятия и образы (Cliristus'fisclis, Феникс, вечность и т.д.). Возникшая из указанных элементов метафора обозначала государство, "существо" с че.';овсче;'К1гм лицом и
внеличностной структурой. Заимствовав материал из -амых разных сфер - теологии, права, поазии и т.д. - метафорн^еский про
цесс постепенно распространил свое влияние на все поле гочитической мысли. Хотя некоторые его аспекты были свя.чины с интересами специфических гоупи (например, итальянских юристов),
но в своей основе макрометафора была коллективной.
Буро приводит описание еще одного коллективного высказывания - юридической формулы "Quod отпей taiig'it" ('то. что затрагивает интересы всех. должно быть одобрено всеми"). Именно
гакой смысл имела эта латинская максима, в которой кик будто
бы "не хватает" предиката, но которая была и без того понятна
всем. Эт1 формула, присутствовавшая еще в кодексе Юстиниана.
"новь появляется в конце XII в. в глоссах к декрету Грациана. В
Х1Т1 в. она часто цитируется, причем по самым различным поводам. Чем объясняется такая ее популярность? Можно было бы.
.'iiiiLie'r bvpo. сослаться на 'демократичность" содержания аюрмулы II усмотреть в ней сридет^льство поступательного ддиж'"ния
политического сознания - от ХИ1 в. до Французской революции
(именно такова позиция американской Ice.'a! history). Такое объяснение. однако, предполагает сушесгвоБ<".ние некоего темократически настроенного макросуб'ьекта истории, который орпентироB.IH на ценности гражданина эпохи Нового времени. К ТОМУ же
формулу использовали такие решительные поборники монархичс.
"кого принципа, как папы Иннокентий iil и Вонифаций \ til.,
Генрих III Английский, император Фридрих II.
Вуро объясняет, почему эта формула могла соотнетствовать
р.13"111чным универсумам веры. Максима имеет расплывчатый характер, которым она обязана своей неопределенной мэдальности
(описательная пили нормативная), неопределенности своего
субъекта (не уточняется, кто изрекает максиму: Юстгниан, Дру
гой государь, традиция), частому опущению предиката (то, что
следует за quod omiles taiigit, цитируется очень редко), неопределенности своей темы (что подразумевается под quod, кто такие
omnes и т.д.). Благодаря этим особенностям <формула оказалась
пригодной для выражения любых притязаний.
Коллективное высказывание, согласно Буро, не обязательно
должно иметь скорму вербального оборота или предложения. Им
может стать и рассказ, например, изучавшаяся Буро легенда о
папессе Иоанне. Функции коллективного высказывания могут
выполнять и элементы невербальной сферы. Таковы зитуалы, в
частности, обряды погребения королей. (В книге "Простое тело
короля" Буро показал, что они вовсе не являлись простой иллюстрацией конституционной идеологии, но очерчивали некое кол-
лективное пространство, в рамках которого могли найти свое место и королевская идеология, и политическая воля Парижского
парламента, и личное благочестие королей, и институциональное
утверждение королевского дома).
Иногда в качестве коллективного высказывания выступает художественное изображение. Буро пишет о проанализированной
Канторовичем странной разновидности "Пятерицы" (изображение
Бога в пяти лицах), в котором Бог-Отец совершенно идентичен
Богу-Сыну. В Х1-Х111 вв. этот вариант "Пятерицы" был весьма
распространен в живописи. Его проекции можно обнаружить также в теологии (например, вопрос св. Ансельма КентерЕерийского,
что случилось бы, если бы воплотился не Сын, а Оте-1,), в праве
(заново открытый древний принцип, отождествляюший отца и
сына-наследника), в политике (представление о "юном короле",
согласно которому наследник престола уже является королем).
В заключение Буро снова уточняет, что термин "коллективное" может ввести в заблуждение: под ним имеются в виду не
господствующие дискурсы, дискурсы большинства, а "диагональные" высказывания, лежащие в основе многих дискурсов и придающие значительную степень единства определенной эпохе, образуя общий фон различных социальных "регистров".
Предлагая подобный тип исследования. Буро не претендует на
лавры отца-основателя. По его мнению, это исследовательское направление может быть возведено к Кассиреру и "Археологии знания" Мишеля Фуко.
Кингспн .\. Lii p.ijK'ssc .Icillinc. P.. 19ЯЯ: idem. Lc simple i.'(>i'ps (.III nil: I' linpossililc
^ni.ililc 1.'c^ solivci'niiis lr.in^iiv XV-XVIII. P.. IWS
' l.i'vi (.i. l.ci'c(jil:i iinin.iicii.ilc. r.iiTi(.1.i ill liii exorciM.i iici l'iciiniiili' ijci Sciccinii.
'loriiK). 1"S^.
' CM. фрчр ,'l. Чувствительность и история. Кик коссоплать эмоциональную жн.чнь прошлого // Февр Л. Бои за историк). М.. 1940
^См. с. 18-21 настоящего издания.
^ CM. H
одновременно все этажи социальной целостности в соподчинении
структур и в совокупности детерминаций - ради иного прочтения
иначе понятого социального на основе анализа "сети" (не "структуры") отношений, выстраиваемой, например, событием или биографией. Социальное предстает как сконструированнсе противоречиво и раскрывается как процесс, в котором органической составляющей являются неизбежно конфронтационные нредстив.чения живых и конкретных людей.
(2) Отказ от территориального, в духе "человеческой географии", определения объекта исследования и, значит, полагает автор, от ориентации на картографирование локального своеобра-
зия в большей мере, чем на поиск общих закономернос'теи. Речь,
таким образом, идет о возвращении к традиции дюркгеймокгкои
социологии, отход от которой, по мнению Шартье, ясно обозначился в 30-е гг.
(3) Отказ от понимания социальных дифференциаций как "логически первичных" и прежде всего в стремлении участь несводимые к социальным культурные дифференциации, так как стало очевидно, что культурную продукцию и культурные практики
(то есть практику создания и потребления культурной продукции) нельзя квалифицировать в непосредственных терминах социологии и что их распределение в обществе отнюдь не всегда организовано на основе "предварительного социального" деления.
Собственно, из этой последней констатации можно определить
задачу настоящей статьи: вновь привязать культурную продукцию, культурные практики и складывающие культурные дифференциации к множественным социальным расслоениям, но также
- четко обозначить их активную, конструирующую роль в создании самого этого социального расслоения. Автор ссылается на
собственные исследования. В стремлении понять, каким образом
в обществе Старого Порядка печатная продукция управляла умами, влияла на формы социальной жизни, модифицировала отношения власти, Шартье рассматривал проблему конструирования
читателем смысла прочитанного и пришел к следую цим выводам. Тексты как таковые не имеют устойчивого, униЕерсального
смысла. Разные читатели в разных обстоятельствах понимают их
по-разному. Возможности "единства интерпретации" сграничены
множественностью культурных расслоений. Пусть к фриульскому
мельнику Меноккьо попадают "не его" книги - вопрос в том, что
он в них вычитывает. Но это еще не все. Понимание текста впрямую зависит от форм, в которых он достигает читателя, и едва
меняются эти формы, как текст меняет свой статус и SBOC значение. Речь идет прежде всего о материальных формах, которые
имеют в виду всегда очень конкретного читателя. Кл1ссический
пример - французская "голубая библиотека": самый цвет этих
книг фиксировал вполне определенные ожидания публики (подобно тому, как сегодня в Италии "желтые книги" - цетективы,
а "розовые" - литература эротического содержания). Традиции
чтения, свойственные той или иной группе читателей, также
приобретают значение формы бытования текста. Они разнообразны и их история не сводится к постепенному утверждению нашего способа читать (в молчании, одними глазами). История чтения
призвана прояснить этот вопрос.
Отсюда следует, заключает Шартье, что уяснить для себя общественное звучание некоего корпуса текстов возможно только
путем идентификации обусловленных описанным образом
"единств интерпретации", то есть на основе соединенгя критики
текстов с историей книги и историей чтения. Притом детерминирующие понимание факторы обнаруживает скорее пространство
возможного, ибо сами смыслы возникают лишь в конкретных
практиках конкретных людей. Понятие "присвоение" как обретение смыслов, всегда своих и самостоятельно - должно стать
центральным в новой истории культуры, которая сделает акцент
на множественности пониманий, вписанных в конкретные культурные практики, такое понимание, такие смыслы продуцирующие.
Заодно история культуры дистанцируется от узко социографической концепции, постулирующей подчиненность культурных
дифференциаций социальным. Исходить предпочтител зно из анализа собственно "культурных конфигураций" (распространения
некоего корпуса текстов, класса печатной продукции, некоей
культурной нормы) и затем "проецировать" их на социальное.
Это означало бы перейти от социальной истории культуры к
культурной истории социального.
Касаясь вопроса о том, как именно связать реалии культурной
и социальной жизни, Шартье формулирует "три предложения".
Во-первых, полагает он, необходимо отказаться от бесплодного
противопоставления непреложной объективности общественных
структур отраженному свету субъективных представлений и, следовательно, структурного подхода феноменологическим демаршам, так сказать, "социальной физики" и "социальной феноменологии". Одно из решений этой задачи автору видится на путях
создания новых, более интегральных пространств исследования.
Так, вписать интенции, практики и представления людей в систему коллективных принуждений позволит экзотическое соединение анализа текстов, истории книги и истории чтения.
Движение в указанном направлении может обеспечить не
только перекраивание территорий исследования, но также обновление понятийного инструментария историков. Более (конкретно,
автор предлагает вернуться к категории "коллективны? представления". В определенном смысле мир социального ра' скрывается
как мир представлений. Представление есть образ чего-либо в сочетании с кредитом общественного доверия к этому образу; признание образа равносильно признанию обозначаемого. Как' представление можно описать:
(1) отражение з сознании людей дифференциаций существа, в
котором они живут; подобные представления организуют схемы
восприятия, оценки, принятия решения, иначе говоря, не только
отражают социальные отношения, но и структурируют социальную практику этих людей: они "(функционально задействованы";
(2) символическое - через те же образы - предъявление обществу
своей социальной позиции, борьба за "свой образ" и, значит, за
признание своего общественного положения; такое представление
можно назвать "созданием образа"; (3) "вхождение г. образ", в
"уже созданным" образ, то есть институционализированные формы представления в индивиде признаваемого обществом социаль-
ного качества; это то, что делает его "представителем". В такой
несколько неожиданной перспективе социальную позицию допус"'.iMO рассматривать как непосредственный продукт борьбы представлений - представлений тех, кто представляет свое '"оциальное
качество, и представлений тех, кто имеет власть квалифицировать, верить или не верить. В таком случае социальная позиция
предстает как объективизация общественного доверия к навязываемым обществу представлениям. Это резонно еще и потому, что
в обществах Нового времени значение форм символического господства как важного структурирующего фактора возрастает по
мере монополизации государством права на легитимное насилие,
а сам концепт "представление" реально присутствует н понятийном инструментарии эпохи.
Второе предложение Шартье, адресованное тем, кто станет исследовать "культурную историк) социального" состоит в том, чтобы отслеживать социальные дифференциации в формальном исполнении текстов. С одной стороны, в тексты и в формы их предложения читателю всегда вписаны ожидания и компетенции публики, на которую они рассчитаны; то есть они содержат в себе
опре/.<'.1еш-(!е представлрние с) с-оцидльной организации. С, другой
сторонь', tl)opMb1 Tci^'lOB CUMII конструируют "социа.ш.ные ITAOщадки восприятия", и новые формы рецепции произнгдиниН co;i
дают новр^е аудитории. И отсюда невеселая констатация: ку.чьтурные дифференциации с.тсдует рассматривать непосредственно
в процессе их воспроизводстна - в конкретных форма?: текстом и
в конкретных культурных практиках, поскольку KBI; только в
них они н существуют. Долгое время речь шла о хара-леристике
"ментальности" (пли "картины мира", или "идеологил"). .По-видимому, дело обстоит несколько сложнее.
Последнее, третье предложение автора статьи - попытаться
понять, как изменения в формах осуществления власти влияли
на строй личности и сказывались на правилах, управляющих
производством художественной продукции и ор1'..н11зу[01цих
культурные практики. Так, во Франции между XVI и XVIII вв. в
результате созданного самой властью разделения государственного интереса и моральной ответственности личности, государственной опеки и свободы совести, складывается автономный рынок
интел ."ектуальных и эстстических суждений и нapacт,-e l нолитнзация кул'1У1урных практик - как еще контролируемых властью.
та)-, и ускользающих и:!.под ее контроля.
Резюмируя оценки и предложения, содержащиес.) в статье
французского исследователя, можно отметить, что Роке ИТартье
сохраняет верность традиции социальной истории, что не баналь
но.
И .В.Дуброве кии
9. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ практика в СРЕДНИЕ века>.
МЕНТАЛЬНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ: КОНЦЕПЦИИ И ПРАКТИКА
ИССЛЕДОВАНИИ. OR:U)P
Данный обзор построен на материалах конференции "Мента.и.ности в Средневековь- , проведенной западногерманп; IMH мелш'внстами в марте 1985 г. Реферат книги, изданной но Ma'ii'piiu.irtM
3'Toii конференции, уже был опубликован*. Наша цель нсско.и.ко
иная. Представленные на конференции доклады мы оассмотрим
под одним углом зрения: попытаемся проследить, как ге участники определяли и применяли в работе понятие менталь-юсти. При
этом мы будем обращать преимущественное внимание па )>а.шочтения в его трактовке.
Сборник открывается статьей известного медиевгста Фоаьтишка Грауса ныне покойного ученого, эмигрированитего ни 'Ли
над из Чехословакии в 1968 г. Его статья посвящена общим проблемам изучения ментальностей.
Словом "менталитет", пишет Граус, нц,зывают ча^-то все то,
что не подпадает под определение понятий "политика", "социально-.жономические отношения", "обычаи", "законы". Оно позно.
ляет продвигаться дальше в давно разрабатываемых оолагтях исследований, там. где традиционные методы не дают ^фф(.:кт.1 (например, в изучении ведовства, легенд и мифов и т.п.). С помощью этого слова объясняют и то, что представляется страшным 1
непонятым в культуре и истории других народов.
Необходимо отметить принципиальное утвержден iic l'pavca,
которое являются фоном всех последующих его рассуждений:
ме.ггалите'; есть только абстракция; это понятие, пцидуманное
историками, а не явление, открытое ими к исторической деистнительности. Это следует иметь в виду, говоря о его ощ^-де.чении и
изучении.
Вообще понятие 'менталитет", пишет Граус, т.и; жг нсопреде
лимо, как понятие "культура" или "идеология", что иг исключает, однако, возможности его описания, l'i дает далее iai:oi' "описательное определение": менталитет " это "общий тонус" толговременных форм поведения и мнений индивидуумов в пределах
групп. Менталитет никогда не монолитен, часто противоречив;
он образует специфические "вживленные образцы", стереотипы
мнений и действий. Он проявляется в предрасположенности индивидуума к определенным типам реакций - собственно, он является их механизмом.
Менталитет отличается от "мнений", "учений", "идеологий"
тем, что своим носителем он никогда не может быть огрефлектирован и сформулирован. Вопрос "Каков ваш менталитет?" - лишен смысла. Менталитет может быть только "тестирован" извне,
"отслежен" нами там, где мы видим что-то, не похожее на нас самих.
Менталитет не тождествен высказываемым мыслям и видимым образам действия. Менталитет стоит за ними и определяет
границу между тем, что человек вообще может помыслить и допустить, и тем, что он ощущает как "немыслимое", "невозможное".
Менталитет изменяется со временем, причем различные мнения и образцы поведения обнаруживают неодинаковую жизнестойкость, что, по мнению Грауса, говорит против утверждения,
будто менталитет есть феномен, относящийся исключительно к
"lont'lic (ILIICC". Неправильно, считает он, объявлять "решающими"
только повторяющиеся, постоянные явления. Можно утверждатьналичие в истории конгломерата компонентов разной временной
протяженности, "одновременность неодновременного". Даже менталитет одного человека, по мнению автора, частично меняется с
возрастом. Таким образом, менталитет - это всегда система, элементы которой различаются по возрасту, происхождению, интенсивности.
Историческим изучением менталитета Граус считает "исследование суммы механизмов реакций и базовых представлений, характерных для ограниченных групп на заданном отрезке времени" (с. 28). Следует изучать группы, гомогенные по социальной
принадлежности, возрасту, языку, диалекту. Путем к познанию
их менталитета является сравнение типов поведения и мышления, характерных для разных групп или разных исторических
моментов, т.е. синхронный или диахронный сравнительный анализ. При этом, конечно, очень важно правильно выбрать - что с
чем сравнивать.
Поскольку менталитет есть нечто невербализованное, он не
может быть "выписан" из текста источника: он может быть только "выявлен" (getestet) в высказываемых мнениях и типах поведения, о которых источник сообщает.
При этом возникают понятные проблемы: в источниках обычно наиболее выразительно представлено то, что казалось авторам
заслуживающим внимания, а "заурядное" (то, в чем, по определению, и следует искать проявления менталитета) обычно не описывалось ими. Кроме того, при всякой записи неизбежна литературная стилизация - задача историка заключается в том, чтобы
пробиться к тому, что скрыто "за" стилизацией и тенденциозностью, за субъективностью текста.
Помимо этого, отмечает Граус, историк находится в плену своего собственного менталитета, преломляющего незаметным для
него образом его взгляд на материал источника. Поэтому необходимо изыскивать такие методы, которые, будучи применены дру-
гими исследователями, дали бы пусть не идентичные, но сравнимые результаты. Выводы должны быть проверяемыми. Лучшие
программы и теории ничего не стоят, считает Граус, если они не
могут быть верифицированы или опровергнуты в результате исследования. Исходя из этого, он отвергает как метод исторического познания "все еще столь любимое повсюду историками психологизирующее "понимание" и "вчувствование", которое не ведет ни к чему, даже если его подать высоконаучно, в с'брамлении
глубинно-психологических формулировок" (с. 36).
Однако применение количественных методов, по мнению Грауса, хотя и может дать определенные результаты (если не поддаваться "соблазнам цифр"), тоже связано со многими трудностями: только некоторые аспекты менталитета поддаются квпнтификации автор не уточняет, какие именно, - а от такого ограниченного анализа трудно перейти к обобщениям.
Особое внимание уделяет Граус проблеме "типично( ти" менталитета. Он предостерегает от поиска "средних, типичных представлений", установок, реакций. Опасно исходить из априорных
определений типа "менталитет дворянства, крестьянства, духовенства", "менталитет средневекового человека, человека Нового
времени", "менталитет немца, итальянца, голландца" i пытаться
описать их - любой критик без труда сможет противопоставить
[результатам подобных исследований противоположные. Представление о внутреннем единстве целых эпох (обществрнных слоев, народов) есть миф. Мы считаем "типичным" для другого времени то, что отличается от наших сегодняшних воззрений и поведений, в то время как различия, казавшиеся весьма важными
современникам, скрадываются для нас в исторической перспективе. В стремлении к общим выводам мы неизбежно упускаем то не
сводимое к общему знаменателю внутреннее многообр;: зие и множество противоречивых черт, которые были присущи, и притом
одновременно, менталитету представителей одних и тех же
групп.
В то же время, стремление как можно полнее учесть многообразие и изменчивость описываемых групповых ментальностей может привести исследователя к простому "собирательству раритетов", от которого автор опять-таки предостерегает.
Граус критикует метод определения преобладающих в группе
ментальных характеристик путем "сопоставления эксгремумов":
считать, что эти характеристики лежат посередине между двумя
крайностями, по его мнению, нельзя. Однако выявление крайностей, этих "пограничных знаков", может все же показать широту
возможного спектра менталитетов в данной группе.
Таковы основные положения программной статьи Грауса. Далее мы соотнесем их с позициями других участников конференции.
Статья Вальтера Ламмерса посвящена исследовании) менталитета обитателей нпжнеэльбских областей - средневековых голштинцев, живших в зоне славяно-германской этнической границы.
"Когда я приступал к работе, - пишет Ламмерс, - мне было
абсолютно не ясно, существовал ли феномен "менталитета" как
исторический объект в действительности, можно ли .''то сегодня
доказать, и всегда ли одно и то же понимается под этим термином" (с. 49). В итоге Ламмерс остановился на той "аксиоме", что
люди в пределах некой группы демонстрируют - как в повседневной жизни, так и в экстремальные моменты - более или менее
единообразное, сравнительно постоянное отношение к жизненным обстоятельствам, которое является своего рода "экзистенциальной конституционной"^ истории. Привычки, реакции, решения, суждения, ценности членов группы во многих огношениях
единообразны. Изучая менталитет, историк должен ингересоваться не состоянием отдельного индивидуума, а взаимосвязью сознания с устройством человеческих сообществ.
Менталитет группы, считает Ламмерс, связан с ее спецификой. с ее структурой, а она, в свою очередь, определяется длительными, неизменными историческими ситуациями, "ак, специфика менталитета крестьянских воинских сообществ связана с
ситуацией жизни вблизи границы. Это можно показать, в частности, сопоставляя быт казачьего войска и австрийских "раничаров
(с. 56, прим. 26).
Доклад Ламмерса был посвящен воссозданию образ.) голштинцев на основе хроники Гельмольда (сер. XII в.). Метод, которым
он при этом пользуется, он описывает так: изучение сложного
феномена начинается с изучения отдельных эпизодов. Из сравнительного рассмотрения таких "точечных" сведений можно затем
вывести обобщения, а также, возможно, обнаружить несоответствия и противоречия.
Приведем пример исследования конкретного эпизода. Хронист
описывает необычайный успех, который имела среди голштинцев
одна проповедь: проповедник говорил о величии Бога, о воскресении плоти, о грядущих радостях и блаженстве. То, что голштинцы так горячо восприняли именно эти слова, пишет Ламмерс,
свидетельствует об общем их настроении. В той перспективе, которую открыл проповедник этим людям, жившим в состоянии
перманентной войны, не было столь тяготивших их бедствий,
притеснений, страха. Вывод автора: "Для этих людей, которых
чужеземцы считали грубыми и воинственными, характерна ментальная порывистость, соединяющая страх и надежду" (с.60).
Менталитет группы, считает Ламмерс, порождается ее историей, но и сам, сложившись, определяет ее в дальнейшем. Военные
успехи породили у голштинцев представление, что все они - дворяне, господа, рыцари, что каждый из них знатен по с^оей доблести. А это убеждение, в свою очередь, помогало им противостоять
войскам королей и герцогов, пытавшихся подчинить их на протяжении столетий.
В статье Отто Герхарда Эксле речь идет о схеме трехчастного
деления сословного общества Раннего и Высокого (.Средневековья
на священнослужителей, воинов и земледельцем (oratore.s,
pugnatores, laboratores).
Симптоматично, что говоря о предмете и специфике своего исследования, автор вообще отказывается от употребления слова
"менталитет", указывая на его неопределимость и нечеткость,
применение где угодно и как попало. Он отмечает, чтэ если следовать определению Грауса, подчеркивающему неосознанность и
неформулируемость менталитета, то объясняющие схемы и социальные метафоры, о которых идет речь в данной статьэ, не могут
считаться предметом истории ментальностей. В самом деле: ведь
они суть творения человеческого разума, и их воздействие на
мысли и поведение людей происходит на сознательном уровне;
они четко сформулированы и могут транслироваться, обсуждаться, оспариваться и т.д.^.
По мнению Эксле, термин "знание" в данном случ; е предпочтительнее, нежели термин "менталитет", ибо имеет бонее четкий
смысл и к тому же охватывает не только повседневное сознание,
но и "теоретическое", научное знание теологов, философов и т.д.
Обращаясь к такому феномену, как объяснительные схемы общественного устройства в трудах средневековых авторов, Эксле
пишет: "Мы имеем дело с тремя слоями действительности: реальность средневекового общества, затем ее восприятие и истолкование людьми того времени и, наконец, нагие восприятие и истолкование и этой реальности, и того, что думали о ней современники" (с. 68, 117).
Приводя высказывания мыслителей Раннего и Высокого Средневековья (в основном Августина и псевдо-Дионисия Ареопагитп), Эксле демонстрирует их представление о гармонии как "упорядоченности неравных частей". Знание о "порядке" общества
руководило, пишет автор, деятельностью человека в жизни. И
центральной характеристикой сословных обществ, по мнению
Эксле, следует считать тот факт, что их главное понятие - "ог(1о"
- есть понятие метафизическое. В наше время понимание общественного устройства уже не имеет метафизического характера и
поэтому не может претендовать на "истинность", не может задавать неоспоримые и обязательные для всех нормы поведения; нынешние высказывания об обществе имеют сугубо описательный
характер, в то время как в Средневековье сословное миропонимание было прежде всего нормативно. Оно имело корни в реальной
структуре общества и, вопреки мнению Ле Гоффа и Дюби, не было чисто идеологическим концептом на службе господствующего
класса. Несколькими примерами Эксле демонстрирует связь схем
функционального разделения общества с реальностью.
Утвердившиеся в средневековом обществе идеи относительно
"tria genera homirnim" и их соответственных предназначений на
земле не только отражали картину мира этого общестза, но, как
показывает автор, в свою очередь также определяли формы, границы и условия допустимых "несоответствий" этой схэме. Так, с
большим сопротивлением столкнулись инициаторы создания духовно-рыцарских орденов, даже когда это диктовалось соображениями общей безопасности: ношение оружия считалось допустимым только для bellatores, которые и призваны были защищать
тех, кто молится, и тех, кто трудится.
Целые сословия (крестьянство, например) "возникли" - то
есть стали осознаваться как таковые - в совершенно определенное время, а именно в XII в., благодаря распространению такого
"знания" об устройстве общества, которое предполагало наличие
этих сословий. Эксле констатирует изменение отношения к физическому, производительному труду в связи с оформлением взгляда на крестьян (laboratores, agricultores) как на особую часть человечества, выполняющую общественно необходимую <функцию снабжение продовольствием тех, кто за всех молится, и тех, кто
всех защищает (с. 102). Это изменение - от презрения к признанию равной важности - охватило достаточно широкие круги и
через какое-то время "спустилось" из среды ученых клириков в
массовое сознание.
II наоборот, выход на сцену новых общественных групп, не
вписывавшихся в традиционные схемы, - например, купечества,
ремесленников, лиц свободных профессий - побуждал мыслителей к пересмотру, дополнению прежних схем, к созданию новых.
Тезис о взаимовлиянии социальной действительности и представлений о ней является центральным в концепции Эксле. В полемике с теми исследователями, которые склонны видеть в объяснительных схемах нечто отвлеченное и идеологически - в современном понимании этого слова - обусловленное, Эксле утверждает, что не следует замыкаться в непродуктивной альтернативе "отражают они реальность или не отражают". Ни одна схема,
даже из тех, что используются современной социально-исторической наукой, полностью не "отражает" реальность, но это не значит, что она ничего не дает для понимания ее.
В отличие от Эксле, автор следующего исследования "Снятые
города Высокого Средневековья" Альфред Хаферкамп не отказывается принципиально от термина "менталитет". Не давая собственного определения, он противопоставляет друг друг"/ два явления средневекового сознания. Это отношение народа ко многим
германским городам как к "отражениям", образам небесного Иерусалима, с одной стороны, и традиционное монашеское осуждение города как средоточия порока и разврата, с другой. Если в
г^рвом, считает Хаферкамп, "можно усмотреть элемент той <духовной конституции> или <духовно-душевной диспозиции>, которая может - согласно определению, данному Гердом Телленбахом, - пониматься как менталитет или его составная часть", то
второе есть элемент "идеологии" (с. 125).
Из всего изложенного Хаферкампом материала можно, однако, заключить, что суждения современников и о святости, и о порочности города вообще - и стоящих в центре внимания автора
Трира, Кельна и Майнца в частности - в равной мере являются
сродными по своей природе тем схемам и социальным метафорам, которые описывает Эксле, и, подобно им, не подпадают под
определение менталитета, данное Граусом.
Гораздо больше внимания ключевому термину уделано в работе Юргена Митке "Политическая теория и <менталитет> нищенствующих орденов". Автор, правда, пишет, что не хочет давать
определение "менталитета", а только стремится прояснить смысл
вопроса. Он подчеркивает, что в принципе научные понятия
должны облпдать известной широтой, чтобы исследователь мог
пользоваться в их рамках некоторой свободой дифференциации и
уточнения - иначе возможность их применения будет слишком
ограниченной. Достоинство необычайной широты термина "менталитет" Митке видит в том, что он позволяет хотя 61.1 "номенк
латурно", классификационно объединить постановки вопросов,
бытук^щие в истории культуры, народоведении, истории мировоззрений, Geistesgeschichte, в одну перспективу, в одно новое "измерение" исторического исследования.
С точки зрения Митке, менталитет - это "самопонимание
групп", о нем можно говорить только при исследовании группового поведения. "Когда я говорю, - пишет он, - о менталитете
отшельника, я имею в виду его самопонимание, которые типично
для отшельников, т.е. рассматриваю его как представителя группы или класса индивидов" (с. 160). Проявляется же э':'от групповой менталитет не в заметных поступках ^индивидуально окрашенных представлениях, а в повседневном, полуавтоматическом
поведении и мышлении. Речь идет, по выражению Митке, о чемто "предшествующем личному сознанию".
Объектом изучения, таким образом, является тот общий "фон"
или "подкладка", на котором выступает индивидуальное. История мента.чьностей интересуется языковыми истоками формулировок. семантикой, вокабулярием и его специфическими оттенками, общим горизонтом значений в церемониях, обрядах и символах, символическими действиями.
Среди общеметодологических посылок Митке, подчеркиваю-
щего необходимость описания менталитета как групповой характеристики, главное место занимают проблемы определения той
группы, к которой должен быть отнесен исследуемый индивидуум и его поведение, чтобы последнее получило адекватное истолкование IT объяснение. Очертить менталитет, отмечают он, тем
труднее, чем обширнее, объемнее выбранная "референтная группа ".
Сам Митке выбрал в качестве объекты исследования такую
группу, как нищенствующие монахи. "Удобство" ее заключается
в том, что она достаточно велика, {формально и оргпнгчески едина II ограничена. Ордена имели свои учебные заведения, обеспечивавшие высокое единообразие комплекса знаний и представлений. сообщаемых новым братьям, свою дисциплину и цензуру,
благодаря которым групповая идентичность и самоидентификация были очень сильны и на уровне поведения, и на /ровне сознания членов. Человек, вступивший в орден, принадлежал ему
полностью и формировался им. Все это предполагает наличие
достаточно четко определяемого менталитета францисканцев,
кармелитов, доминиканцев и августинцев-эремитов. Второе преимущество данной группы, отмечаемое автором, состоит в том,
что монахи названных орденов оставили большое рукописное наследие: таким образом, исследователи обеспечены хорошей источниковоИ базой и предмет достаточно хорошо изучен.
Мнтке стремится определить влияние, которое оказало H;.I политические теории позднего Средневековья самопон1:мание нищенствующих монахов. Это. по его мнению, помогло бы четче
высветить соотношение истории ментальностей и истории теорий
(Geistosgeschichte).
С самого своего появления в XIII в. нищенствуют цю ордена
сталкивались с неприятием и враждебностью со сторсны клириков, которые в принципах их существования и деятельности усматривали нарушение церковной традиции и посягательство на
устои церкви: в то время как для монахов прочих орденов непреложным было правило "stabilitas loci", эти не были привязаны к
одному монастырю или, тем более, приходу: их послушание было
направлено на орден в целом. Кроме того, их обвиняли в у.чуриа
ции права проповеднической и душеспасительной деятельностн.
Но, благодаря постоянной лояльности к римской курии, нищенствующие монахи пользовались ее поддержкой, и их оппоненты
вынуждены были отступать перед авторитетом папы. 1! постепенно принципы этих орденов стали частью общецерковного законодательства. Выгода от такого "симбиоза" была обоюдной: теологи
из {нищенствующих орденов, вставших на ноги под покровительством Рима, сами были главными защитниками преригатиь римc'.oro престола в споре о компетенции папы. Полемя.шруя с теми, кто утверждал, что папа может осуществлять спою г.ласть
только через посредство епископов, священников ч монахоп, они
утверждали его право как представителя Бога на зе^лс имеши.
ваться в жизнь верующих, минуя инстанции церковной иерархии
(в том, что не касается вопросов юрисдикции^
"Такая активная позиция нищенствующих орденог в <.поре, пишет Митке. - объясняется, с одной стороны, включенностью
тематики спора в их непосредственное понимание природы и задач церкви, с другой же стороны - в их конкретные интересы:
таким образом, она объясняется их менталитетом" (г. 73).
"Но, - продолжает он, - необходима осторожносчь: иартнна
"типичного для нищенствующего ордена" самопонпмания псегда
будет оставаться конструктом, нивелирующим индтидуальные
черты. Поэтому в исследованиях по "истории духа" вопросы о
ментальности имеют только временную функцию; ...они здесь
средство, а не цель исследования. Однако... они могуч не только
помочь выявить рельеф века, но и придают большую четкость
индивидуальным явлениям и фигурам" (с. 176).
Статья Райнера Кристофа Швингеса озаглавлена "Конституция и коллективное поведение. О менталитете успеха властителей-самозванцев в Империи в XIII и XIV вв.". Обращает на себя
внимание уже в названии, что термин "менталитет" приложен
здесь не к социальной группе и даже не к индивиду, а к явлению. В самом деле, в статье идет речь о менталитете, так сказать
"вообще", без привязывания его к определенному носителю.
Говоря о степени изученности феномена самозванства в целом,
автор пишет, что здесь остается нерешенным вопрос, связанный
именно с историей ментальностеи: что же обусловливало успех
самозванца? Прояснить этот вопрос могло бы, по ею мнению,
изучение того специфического менталитета, который способствовал успеху самозванцев в средневековой Германии.
Швингес предлагает сравнительное рассмотрение тр'?х казусов:
по материалам хроник он описывает истории трех удачливых самозванцев, объявившихся в разных местах империи в
XIII-XIV вв. - лжеграфа Балдуина Фландрского, лжеимператора
Фридриха II и лжемаркграфа Вальдемара Бранденбургского. Они
представляли собою три разных типа самозванцев: во Фландрии
действовал проходимец и ловкий мошенник; лже-Фридрих на
Нижнем Рейне был фанатиком, презревшим смерть н.) костре: в
Бранденбурге же мы видим, вероятно, просто пешку в игре политических сил. Однако, симптоматично, что все трое провоцировали своими действиями единообразное коллективное поведение окружающих. Хронисты, по большей части наблюдавшие события
издалека, могли только удивляться тому массовому помешательству, которое возникало при появлении самозванцев. Осуждая обманщиков. хронисты обычно приписывали их успех интригам и
заговорам князей. Швингес ищет другие причины успеха самозванцев (естественно, временного) и определяет три "базовые детерминанты" его.
Первая из них - недостаток государственной; централизации в
Империи: самозванцам не приходилось завоевывать столиц - столица была там, где был властитель, поэтому они могли завести
сноп "дворы" в любом месте, которое было для них более благоприятным, и это ни у кого не вызывало удивления.
Вторая причина - выборность монархов в Германии. При этом
часто возникали кризисы престолонаследия, менялись династии,
вокруг выборов шла острая борьба заинтересованных сил - т.е.
обстановка благоприятствовала восхождению на трон неожиданно
(иной раз более, чем через тридцать лет после исчезновения!) объявившегося представителя той или иной династии, сумевшего
привлечь к себе одну из состязающихся партий. Так, лже-Фридрих стремился пробиться во Франкфурт-на-Майне, где по традиции проходили выборы императоров, ибо там он имел бы больше
всего шансов получить подтверждение своих прав на грестол. Он
призывал своих сторонников собираться там, даже ко"да шел на
костер.
Третий фактор успеха самозванцев - их "демонстративная династическая или государственная деятельность": все трое устанавливали или пытались установить соответствующие отношения
со своей "родней" и другими государями. Кроме того, они вели
себя так, как подобало добрым монархам: начиная от издания законов и раздачи ленов и кончая бросанием монет в толпу.
Эти обстоятельства, по мнению автора, в принципе обусловили
то, что именно в XIII-XIV вв. - не раньше и не позя-е - в Священной Римской империи отмечается большое количество самозванцев. До и после этого времени ни династическая ситуация,
ни политическая организация в государстве не позволили бы им
добиться успеха: в самом деле, в последующие столетия удачливых самозванцев становится все меньше.
Далее Швингес переходит к рассмотрению "детерминант мгновенного успеха" самозванцев, т.е. тех сил, которые влияли на
массовою поведение людей в районах их появления. Таких "детерминант" (оговорив, что они являются не более чем аналитическими категориями) автор выделяет пять.
1. "Предрасположенность" регионов: наличие экономических
трудностей, социальных конфликтов, больших масс люмпенизированного населения.
2. "Структурное напряжение" (неурожай, голод), когорое давало возможность лжеправителю завоевать в народе слазу благодетеля и избавителя -- раздачами хлеба, заботой о бедны;; и т.п.
3. Эсхатологические ожидания масс, в частности, ожидание
"последнего царя", который положит конец мирским бедам. Этот
образ, подпитанный мифом о возвращающемся герое, проецировался на самозванцев; ведь они обычно возвращались Е Германию
после многих лет скитаний и забвения (т.е. как бы ис небытия),
многие - после Крестовых походов, а лже-Балдуин Фландрский даже после занятия константинопольского престола. И конечно,
на самозванцев переносились слава и любовь, которыми пользовались в народе подлинные властители, чьи имена они присваивали. Эти первые три детерминанта являются "главными предпосылками коллективного поведения и управляющего и ~л менталитета", т.е. создают долговременные условия.
4. "Стимулирующие факторы" - самые разные в ксждом конкретном случае: конфликты между князьями, городские волне
ния, ненависть народа к своему правителю, войны, эпидемии и
другие возбуждающие моменты. Облегчался успех и тем, что информированность населения была очень низкой, массовое сознание питалось слухами и люди быстро и охотно принимали желаемое за действительное.
5. Последний "детерминант успеха" - то, что несколько расплывчато названо автором "мобилизацией участников": способность самозванца вызвать к себе доверие, вести себя сообразно
статусу, на который он претендует, привлечь к себе людей и
притом тех людей, которые помогут утвердиться на троне.
Заметим, что все указанные Швингесом факторы имеют главным образом социально-политическую или социально-пс^холсгическую природу и едва ли могут быть отнесены к области мент.iлитета, если таковую обособлять от прочих", если же, подобно
М.Блоку, считать, что все социальные феномены есть к глубинной своей природе феномены ментальные, то "менталитет успеха
самозванцев" может включать в себя и недостаток г.ентрализации, и выборность монархов в Германии.
Этот пример показывает, насколько сложно установить продуктивные "правила" выделения элементов истории ментальности из социальной, политической, культурной нстор1И. Ведь в
принципе в исследовании Швингеса без понятия "менталитет"
вполне можно было обойтись; оно здесь ничего нс объясняет и
кроме того наполняется весьма дискуссионным содержанием. К
тому же описанный менталитет витает в воздухе без определенного носителя, что довольно непривычно и кажется нарушением неких правил. Однако при всем при этом - нельзя ли (читать эту
работу смелым методологическим экспериментом в области применения этого странного понятия, с которым очень многие историки просто не понимают, что делать? Здесь предложен подход i\
нему, радикально отличающийся от всех прочих, предстаплеппых в сборнике. Этот подход, как нам кажется, тоже должен
быть испытан - и только после этого отвергнут.
Клаус Шрайнер в своем исследовании под заглавием "<Соггесtio priiicipis>: идейное обоснование и историческая Ирак'.'ика кри-
тики правителей в Позднее Ср<'дневековье" ставит принципиальную проблему - можно ли изучать "критику правителей" в Средневековье, если в источниках такого понятия нет? Многие ученые достаточно аргументировано относят появление политической критики не ранее чем к рубежу XVIII-XIX вв., к)гда сферы
морали ч политики в общественной жизни достаточно разошлись. Шрайнер, однпко, настаивает на своем праве говорить об
этом явлении уже применительно к Позднему Средневековью.
При этом он признает, что понятие "критики" не очень удобно
для работы медиевиста: ее весьма трудно реконструировать как
особую форму деятельности, направляемой интересами и определяемой социальными и ментальными предпосылками. Критические высказывания в адрес правителей встречаются в самых разных типах источников. Кроме того, критический заряд могли нести символические акты в отношении королей (например, неявка
вассала на зов). Критика правителей наверняка оставалась в основном устной, но то, что передавалось из уст в уста, до нас в
болыпинстве случаев не дошло.
Чтобы не потонуть в море разнообразных фактов, не поддающихся структурированию и осмыслению, и получить, при столь
сложной источниковой ситуации, удовлетворительный ответ на
свой смело поставленный вопрос, Шрайнер ограничивает исследование одной проблемой и обозримым комплексом источников. Он
реконструирует теоретические основы и понятийные выражения
того, что он называет средневековой критикой правителей на основе политических трактатов. На втором этапе исследования по
материалам хроник, на примерах высказываний современников о
личностях и правлении трех германских монархов (Карла IV, его
сына Вацлава и Фридриха III) изучается "критическая практика". В заключение автор пробует связать определенные формы
критики с определенными группами - ее носителями. По ходу
изложения делаются наблюдения по поводу меняющегося с течением времени содержания и идейной окраски критических высказываний.
Шрайнер исходит из тезиса, что критика основана на сопоставлении ожиданий и идеальных представлений с реальной деятельностью королей. Образ "хорошего короля" включал в себя:
защиту церкви и истинной веры - борьбу с еретикамг и схизматиками, заботу о приращении империи и укреплении центральной власти, покровительство простому народу, защиту его от обманщиков и разорителей - купцов, ростовщиков, не в меру жадных сеньоров и, в связи со всем этим - враждебность по отношению к евреям. Соответственно, короля критиковали за потворство всякого рода врагам, но кроме этого также за жестокость,
немиролюбие или леность и безволие, или пренебрежение интересами тех или иных областей или групп населения и т.ч. В вину
ему могла ставиться плохая экономическая конъюнкг/ра, неурожаи, ему могло приписываться самозванство, христопродавство
(юдофильство или даже сговор с дьяволом), разнообразные .1114
ныс пороки.
Как выясняет автор, один и тот же монарх знавал за свою
жизнь и хвалу, и хулу, причем часто - почти или вовсе одновременно, иногда - из уст одних и тех же людей. Он прш.одит курьезный пример: на основании одобрительных отзывов современников о своем монархе исследователи делают вывод, что "представления о "короле-благодетеле" сохранялись с Раннего Средневековья до XV в. с поразительной устойчивостью", а на основании
критических (отстоящих от одобрительных только на пятнадцать
лет) - "что времена средневековой сакрализации кэролевской
власти уже давно миновали" (с. 241).
В целом, по мнению Шрайнера, наивный цезаризм и стремление влиять на деятельность властей вряд ли могут сосуществовать в рамках одного менталитета.
Впрочем, Шрайнер почти не пользуется термином "менталитет", посвящая ему только заключительную часть рабогы, где пишет, что ее предмет едва ли может считаться подходящим для
истории ментальностей, если, согласно определению К.Гинзбурга,
"специфическим полем ментальности является архаическое, аффективное, иррациональное". В статье, продолжает Шрайнер,
речь не идет о "ментальной атмосфере", "коллективной психологии или восприятии", "предсознательных установках", архаических образцах поведения или элементарных типах реакций общественных групп. Критика образа действий средневековых властителей есть, по словам Шрайнера, "сознательная устная деятельность (Sprachhaiidelii)". Поэтому в своем исследовании он пытался выявить идейные обоснования, понятийные выражения и формы высказывания этой критики. "В источниках, - пишет он, лишь спорадически отражаются представления, которые могут
быть названы в строгом смысле формами выражения коллективного менталитета. Иными словами, элементы ментальности, которые являются формообразующими (факторами сознательных аргументов критики властителя, в сохранившихся источниках обнаружены быть не могут и даже не могут быть ВЫЧИТАНЫ между
строк".
Более позитивно настроен в отношении понятия "менталитет"
и его применения Клаус Арнольд. Его статья посвящена теме
"Менталитет и воспитание: половое разделение труда и сфер жизни как объект социализации в Средние века".
Арнольд присоединяется к Граусу в формулировке понятия
менталитета как "функционирующей, часто противоречивой, но
всегда структурированной, никогда не аморфной системы, влияющей на поступки, чувства и мнения людей в сообществах". Он сочувственно цитирует и определение менталитета, принадлежащее
Г.Телленбаху: "всеобщая установка или коллективный обраа
мысли, обладающий относительным постоянством и основывающийся не на критической рефлексии или спонтанных случайных
мыслях, а на том, что рассматривается в пределах данной группы
или общества как само собой разумеющееся"'.
Но главным для Арнольда является не определение менталитета, а вопрос о его возникновении. Эту проблему он решает эмпирически, рассматривая, как складывались средневековые представления о месте мужчины и женщины в жизни.
На первый взгляд, пишет Арнольд, "подлинные" истоки разделения сфер трудовой и прочей активности по схеме "женщина
- в доме, мужчина - вне дома" кроются в биосоциапьных особенностях полов: в "оиндустриальной Европе, по подсчетам
М.Миттерауера, периоды беременности и послеродового покоя занимали в среднем около 60"^. времени жизни женщины в браке,
поэтому "естественно", что она выполняла работы по дому, которые не так тяжелы и опасны и которые легче прервать в случае
необходимости. Однако счесть половое разделение труда антропологической константой нельзя, ибо эти якобы биологически обусловленные сферы активности наполнены содержанием, которое
при сравнении разных культур обнаруживает разительные отличия, причем каждое общество обычно считает установленное в
нем разделение естественным.
Как внедрялись в сознание средневековых людей "естественные" представления о природе мужчин и женщин, Арнольд рассматривает на материале самых разнообразных источников -проповедей, ди тактических трактатов, зерцал, завещаний и т.п.
Нормативные тексты о половом разделении труда и вообще о подобающем каждому полу поведении, существовали во всех странах Европы и для всех сословий. Часто нормы полового поведения транслировались в виде топосов, пословиц, поговорок (и так
дошли до сегодняшнего дня). Они обычно выводились из соотношения между мужчиной и женщиной, описанного в книге Бытия".
Разделение на "мужское" и "женское", кроме разделения труда, проникло во многие другие области быта и сознания. Элементы дуальных оппозиций "главное - второстепенное", "правое левое", "добродетель - грех", "здоровье - болезнь" и т.д. имеют
в средневековой Европе четкую и обоснованную привязку к определенному полу. Эти представления являлись более илд менее общепринятыми и усваивались как мужчинами, так и женщинами
в процессе воспитания.
Как утверждает Арнольд, "органическая асимметрия половых
сфер оказывается результатом воспитания" (с. 287). Наряду с
^по^стивленнями о поли'! пческом, религиозном, сословном порядке. понятия о "женском" п "мужском" являлись чистью (р^дHfWKOBoro сознания, важнеишал категория которого - "oi'ilo".
Kai: такойы^ они обосновываются не голько естествол. человека,
но ii т^м. что угодны Богу.
Чав^ршается соорник выступлением Райнхарда Шнайдера
"Среднесйковые менгальности как исследовательская, проблема",
в котором oil резюмирует итоги конференции.
Первый вывод Шнайдера состоит в том, что исследование
средневековых ментальностей необходимо в той ж.е мере, как и
прояснение самого понятия менталитета.
Очень важной методологической проблемой Шнайдер считает
10, что исследователь, излагая результаты своего аналлза, непроизвольно использует "собственный материал", то есть, стремясь
описать чужой менталитет, на самом деле описывает :-вой собс.т
венный пли близкий к своему, ибо принципиально F'e способен
помыслить нечто другое. Эту опасность устранить вовсе нельзя,
но можно свести к мипимуму, соблюдая пои формулгроцке ("нербал1Ы;Щ11И") результатов исследования ментальностеН болы.пую
осторожность.
В качестве одной из наиболее заслуживающих сбсуждепия
проблем автор называет проблему "возможной величины поля не.
следования": следует ли изучать только отдельные м>лые группы. к чему принуждает требование гомогенности исследуемого
объекта или нужно найти другие критерии и перейти к большим
группам? И вообще: только ли на группах могут исследоваться
ментальности? Или, может быть, они могут изучаться п на отдельных личностях? Речь не идет о менталитете отдельного человека, а о попытке на примере одного узнать что-то о многих.
В отношении тезиса Грауса, что "менталитет не уожет быть
"высказан", а может быть только "тестирован извне", Шнайдер
замечает, что никем не дг.н ответ на вопрос, как следует его тестировать. Сам он предлагает считать "тестом" 11аС.людение за поветеппем человека, ибо в поцелении проявляется и менталитет.
Один из наиболее интересных вопросов, оатронутых Шнайде
ром, к<1са>тся истоков ментальностей: как очи формируются и
как усваичаются челг.чеком? В некоторых докладах ни копференII.H'TI oi.T.'in предложены отг.еты. Так, Ламу.ерс считая г. что они
оо условливаются "кor;c
. птvиpующим устройством" группы, ,".о. iговременными условиями ее жизни, "е историей. Мпчке и Лр^
нольд говоря'] о воспитании и обрайозаьип как "тра-лсляторах"
мент. iAir.eTa. сч^бппкппих его новым членам групп {:>:' метим, однако. чго существующие в социологии теории трансляции п сохранения групповой ментальности историки, судя по ?i.i11'j4i.'i:'.M
данной конференции, не используют).
Итак, что касается определения (или, скорее, описания) "<ч)
мина "менталитет" и содержания этого понятия, можно коист.г
тировать значительную близость в подходах к нему всгх авторов.
уделявших этому вопросу внимание в своих выступ, <'пнях. Они
пользуются теми определениями менталитета, Ko'r('pi,ie б}.[ л и
предложены Гордом Тетленбахом и Франтитпком Грауссм.
Однако преоолг.дающей тенденцией является либо декларированное, либо молчаливо избегание всего, что связано с :>;им понятием: выступающие ограничиваются исключительно отними и
достаточно тривиальными теоретическими и методологическими
положениями. Практическое ж.'; применение последш х лиоо отсутствует, либо сильно р. <сходится с теорией.
В обласчи методики ис.следо.ча.иин немецкие l;
тopil ки : lpo.^ll-;ляют п большинстве своем традпционалистские HIIIIMI..!,IHHOCT.I:
они изучают в первую очередь нарративные источникт , изилекая
н:! них информацию о событиях, на основании когорой дел-, ют
выводы о тех или иных характеристиках описываемь к <]< рсонажей, в частности, об их менталитете. Менее употребич елеи, х'ля
также неоднократно встречается в сборнике, другой мпод: иссле
дование текста (независимо от жанра) с целью пол\'"ен1]я инфо'...мации о его авторе историографе, теолол' или H)piic"i-'. I-]<'C^IOT
ря на провозг.ташенный 1'раусом принцип пооч: II;H:) к-пня ".'"'"
1'.{ешнюю стч-.рону чекста, vpai^TiinecKoe осушествлегие .iTOi'c' cc.iii
и можно ^-чидечь Б какой -либо из стач-^й, 'и. лиин. и ca''o'] чрч:.и:
чивной и градициолиоп фоиме.
Специальных меч-одических приемов для изучения менч^ль.чо
0411 на конференции Т^онсч-лнцского К1)\жк-.'. иродемоя.-грпроваин
не было.
Складываеч'ся впе^гачление, что чракч^ически зсе 11рсолемь1. которые ставились на конференции, были решен),> без обращения к
концепции менч'алитета, и лишь "па обязанносчи" это ион.тгие
было введено в тексч'ы. Очевиден ризрыв между ч'ои в}.[сок(Ч1
оценкий, которую даюч- некоторые ученые концепции меи-галич-еч'а, и те','; уровнем ее практического применения, коч^рый они
демонстрируют.
' Mciilaln.llcil nn Mllk-l.iiicr: iri'AlliHlls^h' iind lllliailli^lic l'iiihLii^. 11[^ L'. vo".
l-'.Ciraii^. .'^ч^]г:lllll^L n. 14S7. Роферач' K^.E.ApliayTciHoil см. n i'i'i. Ку.чь-гуи:) ii
o^')l;l,^'( ч Hll i! ('{n';ui!ic [<'Kil и , ^a])у(")c /[\Пi>.- ,' пгг.чедониниях. Bllll!- i. M.,
1990.
-' Слова "конституция", "конституционный" являются, ножа.пуН, ни
c.iiilUKOM адекватными переводами немецкого "Verfassung", которое также означает "устройство", "строение", "уклад". Однако 6oJee удачного
прилагательного нам найти не удалось, поэтому здесь и ниже мы используем слово "конституция'.
' На наш взгляд, в самом стремлении "упорядочить' мир и ониепть
его иерархическую гармонию в отношении к труду, военным и религиозным обязанностям, можно было бы усмотреть проявление именно особо-
го менталитета мыслителей Античности (схема встречается еще у Платона) и Средневековья. Предметом изучения для историка ментальностеН
в данном контексте могло бы стать "сословное мышление" или "упорядочивающее сознание", в целом в корне отличающееся от сэвременного
предоставления об обществе. Заметим еще. что это явление отмечается не
только в Европе. В мусульманских странах также существовало деление
населения на четыре сословия: людей меча. людей пера, торговцев и ремесленников. земледельцев (см., напр., Османская империя и страны
Центральной и Юго-Восточной Европы в XV-XIV вв. М. 198-1, с. 27).
- См. статью Ti'llt'liluicli (i. "Mentalil.il" // Cicscliiclllc. WiitsL'liall. (lcsclIsL'lKill.
Bcillii. 1474. S. IS u.a.
' (Собственно, в ней содержатся два разноречивых описан 1я акта творения, что давало аргументы сторонам, спорившим о природе и месте
женщины в мире.
" Любопытно, что те же нормы поведения, что были приняты для
женщин в католических семьях ("сидеть дома, заниматься прядением.
шитьем или готовкой и нс допускать праздности, быть тер юливыми и
скромными") Арнольд находит и и завещании одного майнцгкого равнина XIV в.
КА.Левин.сон
10. ИСТОРИЯ МЕНТАЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ. ОЧЕРКИ по ОСНОВНЫМ
ТЕМАМ. ПОД РЕД. И. ДиНцельбахерла.
EUROPAISCHE MENTALITATSGESCHICIITE. HAUPTTIIEMEN IN
EINZELDARSTELLUNGEN. HRSG. VON P.DiNZELBACHER.
STUTTGART, 1993.663 S.
По замыслу составителя, книги представляет собой иервын
опыт более или менее полной - как в тематическом, тик и в хронологическом отношении - истории ментальности в Европе с Античности до Новейшего времени. Она содержит, помимо теоретического введения, семнадцать глав, посвященных отдельным "темам" - понятиям, институтам и феноменам западноевропейской
цивилизации. Каждая из этих глав состоит из трех очерков:
"Античность", "Средневековье", "Новое время" (причем "Новое
время" доводится до современности и включает ее). Эти исторические очерки написаны в большинстве случаев разными авторами и автономны по отношению Друг к другу. Каждый очерк
снабжен авторской библиографией по данному периоду: кроме
того, каждая глава заключается обобщающей библиографией по
соответствующей теме. Списки литературы включают западноевропейскую и американскую историографию за весь XX век, причем преобладают немецкоязычные работы.
Вот полный перечень больших тем и авторов отдельных очерков (звездочками отмечены авторы тех очерков, о которых будет
идти речь в настоящем реферате):
Индивидуум - семья - общество (по периодам Б.Файхтипгер, П.Динцельбахер'-'-', М.Кессель);
Сексуальность - любовь (Б.Файхтингер, П.Динцельбахер'-,
В.Бойтин);
Религиозность (Х.Зоннабенд, П.Динцельбахер'-'-', В.Бойтин);
Тело и душа (К.Беме, П.Динцельбахер и Р.Шпрандель'''-', К.Ваня):
Болезнь (И.Штальман,К.Ваня'-'-', К.Ваня);
Возраст (И.Штальман, К.Арнольд'"', Б.Бастль);
Смерть (В.Портман, П. Динцельбахер'-'-', М.Кессель);
Страхи и надежды (К.Беме, П. Динцельбахер, К.Воцелка);
Радость, печаль и счастье (К.Беме, У.Кюстерс'"', Б.Лундт);
Работа и праздник (Х.Клофт, Ж.Ле Гофф'-'-', А.Виршпнг);
Коммуникация (Х.К.юфт, А.Классен, И.Реквате);
Чужое и свое (Д.Штутцингер, Х.Кюнель, А.Классен 1:
Власть (Х.Клофт, Х.-В.Гётц, Й.Б.Мюллер);
Право (И.М.Райнер, В.Шильд'"', В.Шильд);
Природа - окружающ.чя средп (Г.Э.Тюри, Х.Кюнель, Р. Зис1)ерле);
Пространство (Э.Ольсхау.чен, П. Динцельбахер'"'. Г Штромай^Р);
Время - история (К.-Ф.Гайер, Х.-В.Гетц'"', П. Динпг.тьбахср).
С'оставителем сборника и автором целого ряда очерков, посвященных (Средневековью, является Петер Динцельонхер, немецкий медиевист, автор книг "Видения и визионерская литература
в Средневековье"(1981), "Христианская мистика HI Западе"
(1993), составитель ряда сборников по народной культуре и религии Позднего Средневековья. Книга открывается его вводной
статьей "К теории и практике истории ментальности". Хотя ее
едва ли можно считать методологическим ключом всего сборника (даже глав, написанных самим Динцельбахером), представляют интерес эксплицитные теоретические установки автора.
Ментальность можно скорее описать, чем определить, замеча.
ет Динцельбахер вначале, но если все же попытаться это сделать, то возможна, по его мнению, следующая формулировка:
"Историческая ментальность - это сочетание (Ensemble) способов
и содержании мышления и восприятия, которое является опре
деляющим для данного коллектива в данное время. Ментальность выражается в действиях". Дилее Динцельбахер раскрыпает
содержание всех составляющих этого определения.
Eiisenihle означает "взаимообусловленность", "продукт взаимодействия" многих элементов. История ментальности, по Дин-
цельбахеру, - это нечто большее, нежели изучение илтеллек-гуальных концепций элит или отдельных мыслителей, это больше.
чем история идеологии или религии, это больше, чем история
эмоций и представлении и т. д., ибо все перечисленное - своего
рода вспомогательные дисциплины по отношению к истории
ментальностей. Только тогда, когда результаты, полученные к
рамках этих дисциплин, дают, соединяясь, некую уникальную
комбинацию характерных и взаимозависимых элементов, можно
сказать, что описана определенная ментальность.
Что касается 'содержания мышления и восприятия"
(IJenk'.iihalte), то Динцельбахер понимает под этим общезначи.
мые для данной культуры базовые убеждения; идеологические,
политические, религиозные, этические, эстетические и прочие
концепции, которыми пронизаны религии, культуры п пскусства, в той мере, в какой они осознаваемы. Они могут быть вербализованы (хотя бы потенциально, абстрактно, - как, например,
представления, воплощенные в образах, метафорах, аллегориях)
и являются предметом дискурсивной рефлексии.
Именно здесь заложено своеобразие дефиниции Дичцельбахера, ибо оолынинство принятых в исторической науке опреде.че
нии ментальности как ра:! исключают из нее область сознательного, считая ее относящейся к ведению истории идей или истории духа. С точки зрения Динцельоахера, поведение человека в
значительной мере формируется именно за счет неотрефлектированного присвоения - интериоризации - исходно сознательного
"мыслительного багажа" (Denkinhalt). Такова вся история этических норм: наше сегодняшнее отношение к сексуальности, например. базируется на принципах, провозглашавшихся христианскими теологами в позднеантичные времена, ^а два тысячелетия они были настолько "интериоризованы", что соблюлаются и
качестве норм поведения в обществе также и больши летном неверующих, и их нарушение может произойти только и виде сознательного слома табу.
Термин "коллектив", входящий в дефиницию Динце.чьбахера,
означает любую группу людей: это может быть и население континента, и религиозная секта. Речь может идти также о половозрастных группах и, наконец, об индивидуумах и их менталитете.
Хотя отдельный человек, пишет автор, пока не становился предметом изучения в истории ментальности, не ясно. по какой
принципиальной приятно специфический менталитет отдельной
личности не мог бы таковым стать, тем более что всякая коллективная ментальность складывается из индивидуальных.
Важно, продолжает автор введения, не только как можно более детально описать менталитет определенной группь в определенное время, как это сделал, например, Э.Леруа Лад ори в своей книге о пиренейской деревне первой половины XIV в. ("Монтайю"), но и показать его изменения с течением времени. До сих
пор подчеркивали loiig'ue durce: Ж.Ле Гофф писал, что история
ментальностей это история замедлений в истории. Но нужно
принимать во внимание и существование более краткосрочных
циклов, в том числе совсем коротких, которые можно было бы
назвать "модами". Следует изучать и переломы сознания, но не
открытия в области духа сами по себе, как и истории идей, а
процессы, в результате которых идеи становятся иссоощим достоянием [1 начинают определять массовое сознание.
Касаясь источниковедческих проблем, автор отмечает, что,
хотя для историка ментальностей массовый материал, позволяющий статистическую обработку, является излк^бл.'нным типом
источника, необходимо работать и с индивидуальными источниками, личными свидегелып вамп, если они выражают широко
распространенные установки.
Таковы основные идеи вводной статьи. Представляя далее отдельные тематические очерки, мы познакомим читателя с большинством из тех, что посвящены Средневековью.
Индиаидццм семья - общество
В этом очерке Динцельбахер анализирует процесс открытия
индивидуума" на протяжении Средневековья. Он отмечает, что
для людей Средневековья естественной была включенность в сообщество: естественное (род, клан) или искусственное (дружина,
братство). Показательно, что в изобразительном искусстве Раннего Средневековья отсутствует портрет, а литературные герои всегда выступают не в одиночку, но в коллективе.
Утверждение христианства с его идеей спасения UJU проклятия каждой отдельной души означало некоторую индипидуализацию, однако исполнение религиозных норм осуществлялось коллективно (например, в Исландии около 1000 г. жители острова
крещены были все вместе).
Высокое Средневековье приносит коренной перелом - "открытие индивидуума", которое происходит в первую очередь в высших слоях дворянства. Каузальное объяснение этому явлению
дать трудно, но социально-экономические его предпосылки, на
взгляд автора, таковы: рост населения и вызванный им рост разнообразия социальных ролей (дифференциация в ремесле, появление множества монашеских орденов и т.п.), между которыми
человек мог выбирать, расцвет городов, рост мобильности и
культурных контактов (крестовые походы). Хотя и в Позднее
Средневековье жизненно важно было принадлежать к сообществу - клану, семье, ордену, корпорации - возможности выбора такого сообщества, равно как и возможности социальной мобильности, теперь расширились. Правда, открыты они были главным
образом для мужчин, в первую очередь - для представителей
элит.
"Открытие индивидуума", продолжает Динцельбахер, вызы-
вало и сознательную традиционалистскую реакцию. Так. теологи. выстраивавшие модели общества (наиболее известьой из них
является схема трехчастного функционального деления), попрежнему изображали его статичным - и желали, чтобы оно таким и было. Причем такое, а не иное членение общества стали
теперь объяснять не божьим произволением, а практическим
здравым смыслом. Властители также стремились к цементированию существовавших общественных отношений - в ."том автор
видит симптом растущей бюрократизации и огосударствления общественных организмов. Сословные различия в Позднее Средневековье все сильнее подчеркивались одеждой и прочими внешними атрибутами: идея необходимости иерархии и отрицательное
отношение к мобильности оставались господствующими.
Главными в сети общественных связей, в которую '")ыл включен человек, были семейно-родственные связи, все другие отношения часто описывались по их образцу (аббат монастыря отец, монахи - братья). Короли становились крестными отцами
христианизируемых правителей и вводили их в "свою семью".
укрепляя свое влияние на них. В XII в., как и и IX, епископ ы
наследовали кафедры по закону кровного родства и наследствен
ному праву, а не по каноническому.
В среде дворянства к концу Высокого Средневековья распространяется обычай на".)1вать себя по родовому замку, отражающий утверждение нового, но тоже имперсонального принципа
самоидентификации: по месту происхождения. Одновременно начинается территориализация влагти, приходящая на слюну отношениям личного подданнства.
В то же время несомненна индивидуализация сознания в
Позднем Средневековье, расшатывание ментальности "Мы" и утверждение ментальности "Я". Среди признаков эчого автор
называет появление людей, осмеливающихся ставить свое суждение выше авторитета церкви - еретиков, распространи е автобиографической прозы и .чирики, появление реалистического портрета в начале XV в. Поскольку освобождение от ментальностп
"Мы" вызывало потребность индивидуума в общении на равных
с себе подобным, с XIII в. развиваются мотивы дуал1ных отношений в фаблио, новеллах и прочих малых нарративных формах.
(\'K(. ll^^. ^I^Ч^)( n1^,
.'lionodh
"Любовь" в античном - подобном нашему сегодняшнему
понимании исчезает в Раннем Средневековье и появляется вновь
только с середины XI в., пишет Динцельбахер. Сексуальность,
обусловленная биологически, оставалась на протяжении веков
неизменной, но отношение к ней изменялось. Христианство сводило ее до прокреативной функции, насаждало женоненавистничество; близость даже с целью производства потомства считалась
грехом (только в области медицины, унаследовавшей античные и
арабские традиции, соитие рассматривалось безоценочно и даже
прописывалось как лекарство).
Отрицание половой сферы служило, осознанно или бессознательно, самодисциплинированию клира и угнетению пчствы. Необычайно большая роль, которую играют до сих пор в западноевропеяской культуре чувство стыда и вины, в ;значите.ч1-ноН cii'iieни - вя.^aн^^. по мнению Дилцельбпхер.), с позицией церкви, В1)а
ж^еонои сексу и эросу.
В ;1очал1" t^biccKoi'o Сое.^н"векор,ья (XI и.) a'i'n мок.иисская норма Gbi.iia рпс^ро^траие^я p.;i мирян при посредство акгивной пас:"1;)1^01; ^.o^Tt.'.bHoc^-'i, проповедей и изображении R ll^^^к^ :яx.
' ".'1\'ч:1Йно .;и, ..адается вопросом ;Л!ТОР, что TIMOIIHO 'гогда иониля^o ^<. ^i ii iiopBi.if сви/юте.чьства о "любви"? В период с .')(.)<) но
1000 14. °Р ме'1' в источниках', словом anior ооо^ничастся ci'i^cvч^ьное влечение.
"Открытие" любви в XI.XII вв. шло по двум направлениям.
Во-первых, ч монастырях речь шла о любви к Иисусу Христу.
что OCOOL-KHO ярко проявилось в мистике "Христовых непест", ил
которых наиоолее экзальтированные цно1да "зачинали" от Иисуса. Изображения святых и иллюстрации в книг.:х самого олагочестиЕого содержания становятся в конце Средневековья часто
просто "неприличными".
Во-вторых, при дворах государей формировались образцы кур
туазной любви. Любовь превращается в raison гГе^ге. Оформляются [.онятия, близкие к нашим сегодняшним представления о
любви как о горячей, взаимной, длительной и исключительной
ср.яз11. Иоявленпр темы "тоски по возлюбленной!" о"р;>кает, как
считает автор, изменение положения женщины, ее вознышение ести не в жизни, то г. идеале.
Рс.ччгчп.-тость
(-редневековая религиозность определяется, как отмечает автор, полтервых, дохристианскими традициями (в Шпарцвальде
еще в XI в. многие крестьяне и не слыхивали о католичестве):
во-вторых, активностью церкви. Только с. началом пронопеднической деягельности нищенствующих орденов и распросгранениегл
догматических предписаний IV Латсранского собора 1215 г. религиозная жизнь интенсифицировалась и вошла и повседневность городов и деревень, (.'тали обязательными испов:-Д1, и при.
частие, хотя бы один р>.! v год на Пасху.
K.ai.)THl-ia ми!"а, характерная для большинства людей того времени ( . Алгичнос^и до :)по.{.-1 Просвещения, а за пределами Европы ;i поз:ке) может бь^.ь, как ^ читaeт Дипцельбах.с.р. опрглечена
вебепоьскпм теомиг-ом ^.Ko'^oBaHHb^i мир". C'p^,'iH >.pl c^иaпи.
зированных народов псе еще очень распространена 61.1. ia магия.
Отно-.иепие церкви .'х магии определялось тем, была ли посл-ед.
няя рключена в ее системы 'целительные мощи и т.ii.) или была
свя.зана с нехристианскими формами религиозности.
Констпнтой на протяжении вс"го Среднсв^копья "ibii.'i конкретность, телесность знаков ре.^игиояности^ 'iiiil.-i''o '.'hiisti
(noapa'-Kn'iiie Христу), показа, -ушстерии и др. т-^ .тr^ )л.Чl
^^;)вai^HL.i('
дсиства, ['дс .7ЮД11 Mor.'iii и '^ ^'[( нile нескольких дш^' .'шчпс, {('.'
лесно участвоват), в Творении, (лр^стях, Сграишом (.'v;'.t .
('редневековая религиозность пп практике основыяа'1:1С1, на
принципе взаимности (p< <
! aeт интенсивное)'!, и i'.iVi''iii-iii религиозности. Появляются еретические се^ты. на ^стор.ые H.Iправ.чяетгя внутренняя агрессгя. подобно р.импнен. ['..He.'iemiCH
Т1ротив нехристианских народов. Однако преследокалне .^^oдeU
з.1 их ложную веру оборотная сторона углубления ргтнгиозчо..
сти, основанной на освобождении индиниду.ма от McHTii.'ii.Hociii
"MP>I" и понимаемой как встреча индивидуальной дулки " 'Зогом
наедине. Только с начала Высокого (средневековья н:lяг.ляютl ч
свидетельства беекоры^тной любви к Богу (Ь" pнapд Клервое^ии),
но она остается все же неким идеалом.
В Позднее (Средневековье наблюдается свое; о рода 'квантифнкация", "арифметизация" ре.^игио.зностлк станопится важно
знать, сколько именно ран было на. теле ('гги-итсля, ско.п.ко здесс
нужно отс.тужить для нетто.чнени.я определенной iipoci.Cb] н '...т. 1-1
этом сказывается влияние схоластики на сознание к.4110,1 и ми
рян. В теологии и философии зарождается разделение на в"ру и
знание. В первой половине XIV в. Уильям Оккам выдвигает' спой
принцип - "бритву Оккама" (требование все лишнее при объяснении мира "отсекать"), которым закладывается основа современного антирелигиозного мировоззрения. Судьба этой идеи, как
отмечает Дпнцельбахер, прекрасный пример того, как менталитет и его изменение связаны с конкретными мыслями и воззрениями отдельных выдающихся мыслителей: проходит иногда
полтысячелетия, прежде чем их влияние скажется на глубинных
уровнях массового сознания.
Лщии ч тс.пп
Идея антагонизма души и тела, пишут авторы очерка П.Дпнцельбахер и Р.Шпрандель, была унаследована европейцами от
Античности. Но христианское Средневековьье, как никакая Другая эпоха европейской истории, принижало тело и возвышало
душу. Тело, согласно Франциску Ассизскому - враг души, ее
тюрьма. Смирение плоти (imitatio Christi, монашеская аскеза и
проч.), во-первых, направлено было на то, чтобы, своими телесными страданиями вымолить спасение для других людей, а вовторых, было "соматическим выражением" религиозности.
Связь души с телом сохранялась и после смерти: мощи святых обладали чудодейственной силой; тела грешников и ерети
ков истязали и сжигали после их смерти (часто годы спустя). Вообще, Позднее Средневековье характеризуется поянлепием нового интереса к телу. В миру денежные штрафы заменяются тe.'l< ( ными наказаниями, клятва - пыткой, распространяется обычай
клеймения воров, стигматизации, поиска ведьминых отметин:
все, связанное с душой человека, должно было иметь и знак на
теле. Через тело же в пытке, наказании - искали воздействия
на душу человека.
Представления о душе долгое время тоже были достаточно
"телесны". По некоторым сообщениям, душу представ.пяли себе в
образе оленя, агнца, голубки. В "Диалоге о чудесах' Цезария
Гейстербахского говорится о душе как о сферическом прозрачным сосуде с глазами спереди и сзади: она может любить Бога и
лицезреть его, а это и есть высшее стремление христианина. Часто душу представляли в виде маленького голого человека - Бог
оденет его, когда примет (2 Кор. 5;2,3). Таким обра.чом, душа
предстает не в виде незримого бестелесного духа, а в виде второго тела, содержащегося в первом, и более важного. Чистилищем
для души могло стать и тело другого человека, обыч-ю бедного
(клюнийские монахи за упокой души каждого из умерших
братьев кормили одного бедняка, видимо, рассматривавшегося
как временное пристанище души покойного).
Постепенно, ближе к концу Средневековья и нп рубеже Нового времени, это представление о телесности души уступило место
образу души как духа незримого и бестелесного. Предпосылки
для этого имелись и в Библии, и у Августина, но победило это
воззрение не сразу и не без борьбы - как в масштабах всего христианского общества, так и в сознании каждого отдельного человека.
Bo.'ic.iHh
Кристина Ваня. рассматривающая тему болезни, то-,ке отмечает соединение разнородных традиций в качестве характерной
черты мировоззрения европейцев в Средние века.
С одной стороны, представления о болезни в Средневековье
восходили к античной гуморальной теории о B3anN одействии
жидкостей в организме, с другой болезнь воспринималась как
событие в жизни христианина, которое привлекает его внимание
к грядущей смерти и наводит на мысль о необходимости изменить свои regula vitae (правила жизни). Болезнь воспринималась
также как наказание за грехи уже на земле. Прямая сиязь болезни с грехом наглядно была продемонстрирована сомневавшимся
на примере сифилиса, завезенного в Европу матросами Колумба.
Болезнь умножала заслуги праведника, смиряла гордого. Лечение болезни осуществлялось как средствами, происходившими
из сокровищницы греческой и арабской медицины, 1ак и христианско- и дохристианско-магическими. Отношение к больным,
равно как и к раненым, к сиротам, даже к прокаженным, было в
принципе позитивным, и забота о них считалась богоугодным делом, которое часто брали на себя монастыри, а затем наряду с
ними и городские власти: здоровье граждан постепенно превращается в дело государственное.
В эпоху Ренессанса утвердилось отношение к телу как к "инструменту" жизнедеятельности, распространилось стремление подольше пожить на этом свете. Марсилио Фичино (XV i..) отделял
заботу о душе человека - дело священников и теологов - от заботы о его теле, что было делом врачей.
Bo.ipucm
Клаус Арнольд, перечисляя весьма распространенные в литературе Средневековья разнообразные аллегорических деления
жизни человека и символы различных возрастов, задается вопросом: насколько они соответствовали представлениям рядовых
людей? С его точки зрения, весьма вероятно, что они являются,
скорее, продуктом элитарной игры ума.
Наиболее нагружены смыслами для средневекового человека
были, по-видимому, лишь первая и последняя ступени в жизненной лестнице - детство и старость. В автобиографиях, правовых
текстах и рассказах о чудесах сообщения о возрасте детей и стариков содержат обычно точные указания лет, а для остальных
возрастов счет идет на десятилетия. Старость и детстио выделялись на практике особым вниманием, так как это периоды, когда человек не работает, болеет возрастными болезнями. В детстве носят особую одежду; для детей существуют особые нормы поведения, особые игры и особые наказания.
Старость рассматривалась как кульминация жизни и дел человека. Старейшина цеха (Alter, Eiteriiiaiiii) считало; наиболее
мудрым и авторитетным из его членов и обладал реальной властью, связанной именно с его возрастным статусом. Старики выносили суждение о поведении молодых людей (характерно, однако, что женщины этого права не имели). Чем старше был человек, тем ближе он считался к Богу.
Но тоска по юности (вечной) видна в легендах о колодце, возвращающем молодость, в лирике Позднего Средневековья. Связано это, по мнению Лрнольда, в первую очередь с материальными
трудностями, ждавшими человека в старости. Тол;, ко сравнительно поздно, с XIV в.. в городах, в бюргерской среде, постелен
но рождается институт "шпиталей", в некоторых аспектах приближавшихся к позднейшим "богадельням".
Смерть
Отличительной чертой сознания средневековых христиан,
отмечает в этом очерке Динцельбахер, было восприятие смерти
не как конца человеческой жизни, а как очередного жизненного
шага. Характерно, что в текстах - до Позднего Средневековья мало упоминаний о смертном часе (Sterbeii): он не составлял
предмета особой заботы для человека. Событие это происходило
в большинстве случаев в обстановке максимально возможной
публичности. Приближение смерти чувствовал сам чэловек (об
этом возвещали, например, сны), а часто и окружающие. По
мнению автора, умирать не боялись, особенно в битве, о чем свидетельствует, в частности. Песнь о Нибелунгах.
В VII-ХШ вв. появляется множество видений потустороннего
мира. Все они схожи между собой. Существовало очень много вариантов перехода души в потусторонний мир, - в рай или в ад, в
зависимости от исхода Страшного Суда. Показательнг, что картины загробных мучений были гораздо живее и красочнее, чем
рассказы о блаженстве в раю - кроме дивных ароматов и ангельского пения визионеры мало что могли сообщить о нем.
Уже в Раннем Средневековье существовали предсчавления о
некоем третьем месте, в которое попадает душа сразу после смерти и где еще не поздно молить за ее спасение. В Х11-Х111 вв.
оформляется образ Чистилища. Распространяется обы' ail чтения
заупокойных молитв и месс (количество их особенно выросло с
середины XIV в.).
Считалось, что мученики и благочестивые христиане, причислявшиеся после смерти к лику святых, обязаны помогать людям в этой жизни. Мертвые (а не только их души) продолжали
присутствовать рядом с живыми и могли помогать или вредить
им. Веря в загробную активность умерших, в могилы клали
предметы, и притом распространено это было как раз i наиболее
христианизированных верхних слоях общества.
В VIII-XI вв. кладбища переносятся из мест, расположенных
за пределами деревень, к церквям, чтобы умершим быть ближе к
своему святому покровителю в момент воскресения и Страшного
Суда. Кладбища активно использовались как места торгов,
празднеств, там часто и жили (особенно в Х1-Х11 вв).
Отношение к смерти меняется в конце Средневековая: возрастает ценность земной жизни, а могила рассматривается как место, где человека ждут лишь мрак и черви. С начал;, XIII в. в
литературе, а с начала XIV в. в изобразительном искусстве появляется персонифицированный образ смерти, перед которой ВСР
равны - отвратительная фигура с различными атрибутами (коса,
камень, сеть и т.д.).
В Позднее Средневековье особое внимание начинают обра-
щать на смертный час. Как симптом секуляризации общественного сознания Динцельбахер отмечает, что умирание (Sterben)
воспринимается теперь как болезненный последний момент земной жизни. Возникает понятие "смертной муки" (Torksscliiiierz).
Внимание переключается с потустороннего мира на преходящесть этой жизни, красоты, счастья. Важным становятся "правильно" умереть, распространяются сочинения жанра "ars
niorieiuli "(искусства умирать) - сперва как руководство для священников, затем - в переводах на народные языки, для широких масс. Мотивы загробного мира и Страшного Суда в искусстве постепенно уступают место размышлениям о "хорошей смерти", о том, как важен и ужасен последний час. Постепенно происходит смещение акцента с принципа "memento топ ' (помни о
смерти) к "carpe diem" (лови мгновение). Это, как подчеркивает
автор, один из факторов, определяющих нашу секуляризованную
картину мира и сегодня.
Особенно усилилось ощущение присутствия смерти после великой эпидемии - Черной смерти, чумы. Часто чума представлялась носителем зла, так сказать, палачом Господним. В XIVXV вв. образ смерти-демона сменяется образом скелета. Представления о загробном мире становятся нагляднее - о? этом свидетельствуют миниатюры, порталы, фрески в церквях, театрализованные костюмированные действа. Наблюдается и некоторая
меркантилизация в заботе о судьбе своей души: распространяются индульгенции. Очень частыми становятся в Позднее Средневековье явления покойников, в связи с чем стал развиваться экзорцизм.
В период Реформации отношение к мертвым радикально изменяется. То же поколение, которое проводило бессчетные часы
в заупокойных молитвах, жертвовало большие богатства за спасение душ умерших и ожидало для себя того же от своих детей,
вдруг отказалось верить в чистилище, в явления мертвых и т.д.
Это, пишет Динцельбахер, весьма интересная мутация, которую
еще предстоит исследовать.
Рид()("11ь, печаль ч ('чист ьс
В Раннее Средневековье такие эмоции, как радосчь, печаль,
переживание счастья или горя, пишет Урбан Кюстерс, подавлялись церковью. Счастье и горе были "открыты" только в XI в.
При этом вернулись в обиход античные топосы.
С этого времени выражение коллективных и индивидуальных
эмоциональных состояний вписывается в стиль придворных
празднеств и турниров. Выражение чувств поощрялось, хотя
проявлять их следовало строго определенным образом. Свою
роль играли здесь и миннезанг, и лирика трубадуров, где речь
шла о счастье - не только "общественном", но и очекь личном,
заключенном в первую очередь в любви, перенесенною; обычно в
идиллическое пространство (путешествия, дальние страны, пасторали) и выраженном с помощью знаков и аллегорий. Много
нового привнесла лирика вагантов, позже - буколики, где позволительна большая эротичность и радостность, чем в реальном
мире, хотя многие черты придворной жизни угадываются в этих
выдуманных мирах.
С XIII в. куртуазные представления о счастье начинают входить в противоречие с теоретическим наследием Аристэтеля (как
его осмысливали Альберт Великий и Фома Аквинский). Начинается спор теологии с куртуазной концепцией счастья. В городах
в Позднее Средневековье повсеместно налагаются запреты на
пышные процессии, танцы п прочие выражения коллективных
аффектов: поэтому они концентрируются в карнавалах или находят "литературное" выражение в историях о странах, где живут
"дураки" и где все наоборот. В эпоху Высокого Средневековья
сложилась и в Позднем Средневековье сохранилась и^нятииная
пара "печаль - счастье": i-i.i опыта печали часто выводится
стремление к счастью. Но "стремление к счастью" как основное
право человека в буржуазном обществе - Средневековью нс бы.чо
известно.
В целом, речь у Кюстерса идет, однако, почти исключительно
о проявлениях радости, горя и т.д., как они отражены в источниках, вышедших из "ерхнего слоя общества. Ситуация п среде
"безмолвствующего большинства" остается практически не освещенной.
*
Работа ч праздник
Написанный одним из выдающихся представителей французской школы "Анналов" Жаком Ле Гоффом очерк раскрывает
развитие понятий "работа" и 'праздник" на протяжении столетий и изменения отношения в обществе к институтам труда и
праздника.
В Средневековье, как показывает Ле Гофф, не существовало
такой пары понятий, как "работа - праздник", противопоставленных друг другу. Долгое время для "работы" даже не было
специального снова - ни в латыни, ни в народных языках. ТольVJ в конце Средневековья появляются слова Arbeit, ti avail, этимологически связанные с понятиями "пытка", "напасть", так
как работа, как следствие грехопадения, оценивалась в принципе отрицательно. Деятельность монахов направлена была на искупление человеческого греха, а не на достижение материального результата, и основным их трудом была молитва. Иисус Христос, как подчеркивалось, не работал ("Взгляните на птиц небесных...").
Праздник же, радость (но не смех и не театр) в принципе всегда оценивались положительно. Но церковь осуждала в
празднике телесное и смеховое как проявления бесовской одержимости. Поэтому праздник всегда нес на себе некоторый налет
"бесовскости".
В Каролингскую эпоху устанавливается воскресенье как еженедельный день отдыха и молитвы. Одновременно начинает вызывать осуждение образ работоспособного, но ленивого человека
(среди прочего и потому, что такое поведение ущемляло интересы светских и духовных властей). Возрождается принцип римского права, согласно которому арендатор обязан улучшать,
культивировать землю, которую о); арендует. Но при ггом отношение к крестьянскому труду оставалось презрительным, оценка
его - низкой.
В Каролингскую эпоху наблюдался также "ренессанс смеха":
в монастырях это были "ioca iiioiiachorvm" (шутки монахов), а в
IX в. был реабилитирован смех при дворах, вплоть дс представления пародий на мессы, на Евангелие и проповеди; их смотрел
даже папа.
В X-Xfll вв., с появлением рыцарства, турниров, даже война
и крестовые походы превращаются в "праздники". Новое дворянство адаптировало старые праздники и создавало свои (по
случаю посвящения в рыцари, охоты и т.д.), приурочивая их к
дням св. Троицы, Св.Духа'
С развитием городов праздник "урбанизовался", превратился
из сельского в городской. Возник карнавал, появились шуты,
танцы на площади; клир уже не мог этому противодействовать,
как в деревне. Праздники и театры при дворах стали демонстрацией силы и славы государства перед лицом "Первого зрителя"
государя. Часто танцевали на кладбищах, танцевали с
"мертвыми", такова была реакция на события Черной смерти.
Одна из функций праздника заключалась, по мнению Ле Гоффа,
в том, чтобы канализовать страсти, дать выход агрессии, отрыть
социальное неравенство.
В XIII в., пишет далее Ле Гофф, в городской среде формируется новая система ценностей: среди прочего, ценностью (социальной и моральной) становится теперь для горожан работа. Ее
ритм задают городские колокола, как ритм религиозной жизни -колокола церковные. Время обмирщается. Труд рационализируется, и появляется "досуг" как его дополнение и противовес
(схоластическая "recreatio"), причем не только в ремесленном
производстве: тогда же были изобретены каникулы в университетах.
IJpiltti)
Как хаиактерную особенность предлагаемой Воль(1)ганг'ом
Шильдом когшеипии, следует отметить непривычное дпя нас использование понятия "тела", "телесности", "телесного', котг.рыс
играют F> tieil важнейшую роль. Демонстрируя разлн"ие между
правовым соонанием и самой сущностью права в раз) ые эпохи,
автор вводит различения между преступлениями (и наказан ияMil), "идущими or свободы" (что характерно для н.плего п;)^-^1l
ни) и "идущими от тела" (в архаическом обществе).
Древним германцам (а в своем очерке Шильд говорит исключительно о германцах и об Империи) была неизвестна возможность и необходимость для каждого индивидуума самоопред*ляться в свободе. Главным было благополучие (Heil) рода. .Правовые отношения существовали между родами, а не между индивидами. Родовая вражда, примирение, мир все это был праповоп
процесс - имея в виду архаический вариг.нт "права ', которою
еще исходит не от свободы и не отделено от "религии" и "морали".
Понятно, что такои "правовой процесс" опосредовался и разрешался чисто физически, телесно. "Преступление" злолеяншпротив рода, такое как убийство кровных родственников или инцест - было чем-то непостижимым и списыналось на ipo6pan:m-гося в род чужака или оборотня. Поэтому изничтожение этою
злого духа, вселившегося в человека, требовало чего-го больтего, чем просто смерти, ибо он и после нее мог бы явля"ься и врс
дить людям. Труп топили, сжигали, расчленяли, оставляли на
виселице. Это были не наказания, а меры самозащичы рода от
опасности.
Постепенная замена войны между родами, кровной мести поединком хотя и не уничтожила телесной основы правовых отношений, но трансформировала их. Король или его судья и собрание вооруженных мужчин (тинг) были той общественьостью, перед глазами которой победитель доказывал теперь свою правоту.
Сторона, которая могла собрать достаточное количество соприС.1ЖНИКОВ, доказывала тем самым свою правоту, поддерживаемая
ими как социальным телом. При клятве физическая, телесная
сторона подавлялась, "дисциплинировалась", "цив^лизовывалась", но телесное начало все же сохраняло свое центральное
значение. Центром порядка оказывалось теперь тело короля, .затем шло дворянство и его дворы как телесные места пребывания
власти, затем - чины, сословия (телесно различные и упорядоченные). Телесным центром управления и решения конфликтов
был трон судьи. Королевская власть фиксировала правила разрешения конфликтов, каталогизировав вергельд и наказания, что
делало излишней кровную месть. Правовые установления защищали и саму власть, так как она была центром порядка, и преступление против нее было преступлением против всесбщего мира и порядка.
Христианизация принесла идею Бога как творца порядка.
Многие старинные традиции были интерпретированы ло-новому:
поединок и клятва превратились в "Божий суд", где Вог - творец ii блюститель порядка - открывал людям правду. Ордалии
основывались на доверии к справедливости Бога. Кипяток,
огонь, раскаленное железо и т.д. должны были спропоцировать
злые силы, с Божьей помощью заставить их выдать себя. Королевский судья лишь вел процесс, освобождал путь для правды.
Христианизация увековечила порядок, который однажды был
установлен, и отдельный случай, казус, был в нем жестко закреплен. Решение одного казуса превращалось в прецедент для других. Все большую важность стали приобретать вопросы судьи к
участникам процесса: они призваны были помочь установить отношение данного казуса к порядку, к праву, к норме; функцией
судьи помимо ведения процесса становится постепенно и вынесение суждения, приговора. Судья представлял правовую власть
христианского короля наместника Бога (vicarius Deil, который
имел право суда, полученное от Иисуса Христа Вышнего Судии.
Наказание оставалось "телесным", поскольку считалось, что
преступления исходят непосредственно от тела - свобода пе была еще осознана. Сперва христиане, а затем и власти стали требовать, чтобы злое тело преступника было убито, уничтожено;
тем самым уничтожалось и зло, воплотившееся в поступке, связанном с этим телом. И Бога можно было этим умилостивить.
Это новое понимание смертной казни нашло свое выражение в
Х в. в "движении за Божий мир", из которого, по мнению
Шильда, родилось современное уголовное законодательство. Дела
теперь рассматривались не только по иску пострадавшего, но и
по инициативе властей. "Божий суд" исчез в Позднее Средневековье. Уже IV Латеранский собор 1215 г. запретил духовным лицам участвовать в нем, так как эта процедура рассматривалась
теперь как недопустимое магическое понуждение Бога к действию. Постепенно эта практика сошла на нет.
В "сословии преступников" не все были одинаковы. Рыцари
или бюргеры являлись в процессе полноправной стороной и могли защитить себя клятвой. Что касается простых людей, тут чащ" ьсего "и так все было видно". Достаточно было клятвы истца
с соприсяжниками, а иногда даже просто указания на "дурную
славу" обвиняемого, чтобы казнить его.
Однако не всегда преступления были столь"оче]шдными".
Возникала проблема доказательства. Решение ее было найдено п
XIII в. это было введение пытки, которая отражала новое представление о душе и теле: преступник - это человек со слабой душой, которая не справилась с телом. Ей нужно помощь сказать
правду, причиняя страдание телу, подверженному слабостям и
похотям.
Постепенное осознание индивидуальной свободы - процесс,
который начался в Высоком Средневековье - было связано, как
полагает Шильд, именно с повсеместным распространением представления, согласно которому тело и душу следует четко отделять друг от друга. Душа стала рассматриваться как иладычица
тела. Душа - то есть также и Сознание, Мысль, Дух, Я - определяли теперь действия человека, и главным в деяни i стало не
телесное действие, а душевная сила, выбравшая такое, а не иное
действие. Эта возможность выбора наиболее наглядно отражается в концепции пакта, заключаемого человеком с Богш, либо с
дьяволом - по собственному произволению. В последнем случае
главным считалось теперь прегрешение в мыслях, в во ie, то гсть
- в бестелесной душе.
Такое преступление против Бога каралось не только за гробом, но и в этой жизни; сформировался институт инквизиции
(сперва церковной, затем и светской) и инквизиционного процесса, призванного сделать преступление и преступника поучительным примером для всех. Для этого процесса уже не обязателен
был иск пострадавшего: достаточно было подозрения ити показаний двух свидетелей. Главным же средством получен 1Я доказательств, в том числе и их "царицы" - признания обвиняемого
была пытка, рассматривавшаяся теперь как вполне правовой
способ достижения правды. Целью пытки было побудить обвиняемого расторгнуть договор с дьяволом. Казнь прекращалась,
таким образом, из уничтожения "злого тела" в нскупляющее наказание, призванное примирить грешника с Богом и привести
его ко спасению.
Представления о том, в каких случаях и как именно следует
применять пытки, постепенно трансформировались. Под влиянием просветительских идей их применение постепенно сокращалось, хотя сошло на нет только в XIX в. Вытеснение пытки, которая на протяжении столетий считалась вполне правомерной, в
сферу неправового есть, по мнению автора, один из заметнейших
показателей конца целой эпохи в истории ментальностд.
[Jpoc тра не т во
В этом очерке Динцельбахер отмечает прежде всего что люди
Средневековья вряд ли воспринимали пространство оптически
иначе, чем мы, но у них были с ним связаны иные эмоциональные коннотации. Наше представление о пространстве точнее,
жестче - вследствие геометрических и геофизическр х измерений, вошедших в нашу жизнь. Для средневековых людей подземный, земной и небесный миры соприкасались. Небо' представлялось им сферой, за которой начиналось "духовное" небо. При
молитве человек обращался к атмосферному небу и оно разверзалось, являя святых и Всевышнего. Правда, пишет долее автор,
во многих языках для обозначения и "духовного", и атмосферно-
го неба существует только одно слово, и это означает, гго они не
различались в массовом сознании. Двоякая конструкция была,
очевидно, продуктом изощренного ума, а не народных космогонических представлений.
Пространство не воспринималось как нечто абстрактное; главным в восприятии было реальное, телесное, физическое переживание его; в эпосе и в видениях визионеров пространс"во упоминается только если его преодолевают: проходят, проезжают.
Воспринимаемое нами как гомогенное, для средневековых
людей пространство было разделено на "зоны", вызывавшие различные эмоциональные реакции в зависимости от того, было ли
оно обжито человеком или нет. Чужое, неосвоенное прзстранство
воспринималось как нехорошее. Называние места означало его
превращение из "terra incognita" в более или менее "свое". Наименование поселения по основателю или первому владельцу
было основой семейной или родовой идентификации. Названия
мест но именам демонов и прочих злых сил сигнализировали об
опасности.
Динцельбахер пишет далее, что отношение к пространству
сильно изменялось на протяжении Средневековья. В высших
слоях общества уже очень рано отдавали предпочтение вертикали перед горизонталью, примером чему служит готическая архитектура; в этом же ключе, считает автор, можно пассматривать возвышение (в теории) женщины до "прекрасной дамы" или
перенос места жительства с равнинной местности в расположенные на возвышенности замки (инновация Высокого Средневековья).
Однако, .замечает Динцельбахер, все это пока достаточно дискуссионно. Бесспорным является другой процесс. В "Песни о Роланде" (сер. XII в.) пространство и время - нечто подчиненное
эпическим событиям и их значимости. Расстояния и лх преодоление не играют роли, соотношение событий, происходящих одновременно в разных местах, едва ли было понятно слушателю.
А в "Виллехальме" Вольфрама фон Эшенбаха (нач. XIII в., менее
пятидесяти лет спустя) представление о пространстве в принципе
уже соответствует нашему трехмерному: оно здесь внутренне
единое, более структурированное и обозримое. Данные о месте и
времени у Эшенбаха точные. Автор смотрит на события как бы с
некоей отдаленной и возвышенной точки, видя при этом больше,
чем автор более раннего текста, смотрящий на них вллотнун.) и
видящий только то, что находится прямо перед ним.
Подобные же изменения перспективы произошли в изобразительном искусстве. В романской живописи фигуры обычно плоско висят перед зрителем, их нужно "читать" одну за другой. В
готическом искусстве они уже стоят на прописанной земле (на
полу) и включены в ландшафт или архитектуру. Постепенно по-
является глубина, трехмерность, ощущение, что "и картину
можно войти". Введение в живопись линейной перспективы сперва интуитивное, потом геометрически выверенное а оно,
подчеркивает Динцельбахер, не случайно происходит в прогрессивном мире городов Северной Италии (Джотто, Брун^ллески) имеет огромное значение в истории ментальности. Теперь размер
фигуры определяется уже не ее значением, а объективным положением в пространстве. Показательный пример: в часословах
Позднего Средневековья посюсторонний мир изобража ^тся уже с
использованием перспективы, а ад и чистилище - еще в старой
манере.
Восприятие пространства, продолжает автор, было различным
у разных сословий. Слова "priiiceps", "Fuei-st" (от "fliri" перед), "dllx", "Herzog" (ведущий войско за собой) означали того,
кто занимал самое переднее место в пространстве. Способ расположения или передвижения человека в присутствии высокопоставленного лица являл собою признак определенного социального положения.
Пространство воспринималось по-разному и разными полами.
В венецианских источниках XV в. женщины описывают помещения, исходя из своего основного местопребывания внутри дома,
мужчины же обычно - от главного входа. Целый клубок коннотаций обнаруживается в том факте, что в церкви женщины стояли на левой, худшей, северной, ночной стороне.
В эпоху Возрождения появляются частные помещения,
предназначенные для одного человека: кабинеты ученых, частные капеллы в церквях, одиночные кельи в монастырях даже
в тех орденах, уставы которых предписывали общие спальни: все
это были "пространственные признаки" ренессансного индивидуализма.
В пространстве различались зоны разной степени "святости".
Оно могло быть освящено, подчинено Богу путем установления
креста. В Позднее Средневер;овье, как потом и в эпоху Барокко,
Европа была просто усеяна крестами, столпами и прочими религиозными памятниками. Святую землю - а с нею и святость места - переносили, подобно мощам: например, из Палестины привозили в XIII в. землю ни одно пизанское кладбище, ^тобы умиравшие могли быть похоронены в Святой земле.
Согласно Ветхому Завету, Иерусалим находится в центре мира
(поэтому Мессия должен прийти именно туда, чтобы в'?сть о спасении дошла одновременно до всех народов). По аналогии и в
церкви - модели небесного Иерусалима - в центре стоит крест,
символ Голгофы. На всех средневековых картах хорош и свят
центр (где располагается, опять же, Иерусалим), его с'уть - покой, обеспечивающий вознесение души. Поэтому бенедиктинцы
так ценили "stabilita.s loci" (постоянство места), а цистерциан-
ским монахам было .запрещено совершать паломничества: в проповедях порицалась мобильность ("iiiobilitas"). как социальная,
так и пространственная, миннезингеры воспевали неизменность.
Но этот идеал сам себя изжил. Великое дело обновления было
начато в XI в. странствующими проповедниками и привело к появлению нищенствующих орденов, не придерживавшихся принципа stabilitas loci.
Место становилось еще более святым, если на нем строили
культовое сооружение. Церковь или капеллу почти в(егда обносили стенами, выделяя из окружающего проспанного мира. Поскольку, согласно пророку Иезекиилю, Господь вошел во храм
через ворота, обращенные ча восток, и в иудаизме, и в христианстве сохранилось представление о востоке как о наиболее священной из стран света, и, согласно Евангелию, Мессия должен
снова прийти именно с востока, как восходящее солнце. Изначально церкви ориентировались при постройке по странам света.
Запад же был стороной тьмы и дьявола, поэтому часто с западной стороны ставили приделы в честь Михаила Архангела - демоноборца, или в честь Спасителя, который, смертью с-мерть поправ, нисходил в мир мертвых. Почти все средневековые церкви
вытянуты в длину: входивший совершал психологическое движение от страха к блаженству, от греха к благодати, or нужды к
благополучию. Постепенное нарастание святости чувствовалось
конкретно, физически, когда он проходил от входа к алтарю и
потом вниз - к мощам. Санктуарий, где служил священник, был
священнее хора, где стояли монахи, а хор - священнее нефа, где
находились миряне.
Время - чстчрпя
Если в предыдущем очерке Динцельбахер не разделяет пространство как абстрактное понятие и как физическое "место",
что было присуще, возможно, также и самой ментальюсти средневековых людей, то Ханс-Вернер Гётц в данном очезке проводит четкое различие между временем и историей , рассматривая эти категории сначала каждую отдельно, а затем в их взаимосвязи, как она осознавалась на средневековом Западе. Он обращает внимание на то, что теология истории, т.е. христианс.кофилософские основания представлений об истории, как и представления об историческом процессе и само средневекзвое понятие "история" изучены более или менее хорошо только в том,
что касается великих теоретиков. А исторические про/,ставления
широких масс, их "историческая ментальность" пракчически не
изучались.
Зато отношение средневековых людей ко времени изучено
достаточно хорошо. Время само по себе считалось, с одной стороны, созданным Богом, .;ак и все прочее, и имеющим в силу :)того
сакральный характер, но с другой стороны, время как изменение
считалось принадлежащим миру, следствием грехопадения. По-
этому существовало как миним^ м два онтологически взаимосвязанных уровня времени - сакральное и земное. Границы между
ними преодолевались в видениях.
Все авторы - от Августина до схоластов - подчерк IBBAH, что
время .что движение "от прошлого к будущему" и его можно измерять. Интерес к этому измерению был огромен, все учение об
исчислении -- coiiiputus - служило именно ему. Теоретические
деления времени, предлагавшиеся Гонорием Августодунским (в
одном часе - 4 пункта, 10 минут, 15 частей, 40 моментов, 60
знаков и 22560 атомов) были фактически не измеряемыми.
Практические же деления были сугубо функциональны: например, важен был только день смерти святого, а не год.
В Раннее и Высокое Средневековье время было "временем
церкви": день делился звоном церковных колоколов (отсюда английское o'clock), а год - церковными праздниками (разными в
разных регионах).
В целом, утверждает Гетц, люди Раннего и Высокого Средневековья вопреки тому, что писал М .Блок - не были равнодушны ко времени, но им не нужна была абсолютная точность его
измерения. Только в Позднее Средневековье появляечся "время
торговцев" (однако раньше его и шире - "время городов"). Изобретение в конце XIII в. механических часов с часовой, а потом
и с минутной стрелкой привело к переходу от теологического
времени к технологическому - сперва в монастырях, ..атем в городах. В Позднее Средневековье контроль над временем взяли в
свои руки городские коммуны. Это показывает, что новое отношение ко времени шло сверху, от властей; в течение еще долгого
времени оно не захватывало значительные области жи^ни.
С дпохои Возрождения, отмечает Гети, ПОНИМПНИР времени
приобрело новые черты, связанные, во-первых, с материальным
фактором ("время - деньги"), во-вторых, с потребностью в точном измерении. Однако, привести юлианский календарь в согласие с солнечным в то время не стремились. Время все еще оставалось связанным с теологическими представлениями ч преходящести всего сущего на земле. И смерть изображали с несочными
часами в руке.
Затем Гётц обращается к пониманию истории в Срецние века.
Оно, пишет автор, определялось христианской эсхатологической
перспективой: история была прежде всего историей спасения человечества, рассматривалась как начатое и руководимое Богом
продвижение от греха ко спасению. Этот процесс имел смысл
благодаря божественному откровению, поэтому мир поддавался
экзегетическому толкованию, как и текст Библии (что тоже именовалось historia). Историческое толкование мира особенно распространено было в эпохи, когда образ этого мира изменялся (в
поздней Античности, в XII в., в эпоху Возрождения). Однако,
это теологическое представление задавало только рамку, внутри
которой понятия об истории определялись политическими, погестарньгми, партийными интересами: средневековое историческое мышление было очень сильно связано с институтами с ко
ролевским или княжеским двором, монастырем, епископством,
городом и при этом различные сферы интересов пересекались.
В Позднее Средневековье возросла региональная направленность
исторического сознания, но историю своего маленького местного
мира авторы - например, Оттокар Штирийский все равно стремились вписать в ход всемирной истории.
В отличие от "антиисторического" времени архаических культур, в христианской картине мира "время" и "история" тесно
связаны. Время обусловливает течение и изменение мира, оно
есть сущностный признак исторического. С XI в. возникает также происходящая, по мнению Гётца, от принципа "traii.slatio
iiiiperii". идея континуитета и развития в истории.
КА.Левинсон
11. КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИя жеста. Сборник статей под редакцией
Я. РЕ>МЕРА И Г. РУДЕНБУ>РГА.
A CULTURAL HISTORY OF GESTURE. ED. BY J.BREMMER AND
H.ROOUENBURG. lTHACA (N.Y.), 1992. XIV, 268 P.
БИБЛ.: P.253-260
Коллоквиум по истории жеста, проведенный в Утрехте осенью
]989 г. с участием искусствоведов, филологов, антропологов, этнологов и историков, явился следствием усиливающегося внимания специалистов к изучению стилей поведения в исторической
ретроспективе, открывающему путь к пониманию культурного
кода и эмоциональной жизни той или иной эпохи. Реферируемый сборник - результат работы коллоквиума.
Сложность изучаемого феномена определила дово.-ьно широкую его трактовку. Одни исследователи рассматривают внешнее,
визуальное выражение эмоционального состояния, другие анализируют сознательно зафиксированный в жесте знак., тэетьи стремятся к цельной характеристике манеры поведения. С точки зрения автора введения к сборнику, известного оксфордского историка Кейта Томаса, именно последний подход является наиболее
оправданным.
Томас отмечает, что для современного подхода к изучению
жеста характерны принципиальный отказ от тезиса о его вневременной универсальности и признание жеста продуктом социальных и культурных условий. Будучи неотъемлемым элементом социальных гзаимоотношений прошлого, он является своеобразным ключом, открывающим путь к познанию важнейших ценностей и умонастроений, лежащих в глубинах сознания общества, к
познанию его менталитета.
Историку важно не только услышать язык людей прошлого,
но и "увидеть" их во время разговора. Это приоткроет ему театр
торжественного церковного или светского действа, а гакжс, что
особенно важно, даст понимание невербального языка повседневного общения. Этот язык не менее значим для проникновения в
конкретный исторический период, чем язык слова.
Жест является показателем и средством социальной дифференциации общества. Подобно другим способам коммуникации, он
может объединять и разъединять. Высшие и амбициозные группы общества используют жесты для заявления о своей дистанцированности от низших слоев. Те, в свою очередь, нередко выражают жестами презрение к показному гонору господствующей
элиты.
Жест выражает деление общества не только по социальному,
но и по половому признаку. Женщине всегда предписывалось
вести себя иначе, чем мужчине. Так, в соответствии ( эстетикой
и этикой Ренессанса, женщины должны были скромно опускать
глаза, ходить маленькими шажками, есть небольшими порциями
и сморкаться в миниатюрный платочек. Любой жест, разрушающий принятый образ женственности, считался недопустимым. А
в сельских местностях Андалузии мужское превосходство поддерживается и выражается активной нападающей жестикуляцией,
которую автор вводной статьи называет "хореографией мужской
дееспособности".
Однако, подчеркивает Томас, не следует объяснять различие в
манерах "естественной" разницей между мужчинами и женщинами или, скажем, между южанами и северянами. Хотя кители Северной Европы уверены, что темпераментная жестикуляция
итальянцев объясняется климатом их родины, на самом деле
причины надо искать в религиозной и культурной сфере. Ведь
древним римлянам, напоминает Томас, ссылаясь на одну из статей сборника, бурная жестикуляция вовсе не была свойственна, а
экспрессию они считали характерной чертой поведения рабов - в
отличие от свободных граждан.
Но за долгой историей регламентации манер, продэлжает он,
стоит не только откровенное желание подчеркнуть разницу социальных статусов или религиозные различия. Здесь несомненно
также присутствие этического компонента. Жесткое oi ношение к
тем, кто путает языки жестов, связано с представлением о соответствии внешних особенностей поведения и внутренней жизни
души. В неподобающем жесте видели грубую неспособность
управлять собственными движениями и презрительно определяли
его как "жестикулирование". Напротив, способность контролировать свои движения с течением времени все больше осознавалась
как проявление внутренней гармонии, свидетельство господства
ума над телом.
В этом пункте поиски авторов сборника соприкасаются с концепцией процесса цивилизации, предложенной Норбе^том Элиасом. Большинство из них, отмечает Томас, разделяет взгляд
Элиаса на период раннего Нового времени как ключевой в сформировании поведения современного цивилизованного человека,
привыкшего держать в узде свои сфизические и эмоциональные
порывы. Однако, если с точки зрения Элиаса подобные идеи характерны только для Нового времени, то в ходе исторических исследований выясняется, что подобные тенденции можно обнаружить и в другие периоды. Ян Бреммер, например, доказывает,
что о необходимости регламентировать телодвижения человека
размышляли еще в Афинах IV' в.
В то же время, тенденцию к эмоциональной сдержанности
вряд ли можно считать окончательно победившей и в наше время. Как замечает Биллем Фрихоф в статье "Поцелуй сакральный
и мирской", после многих веков преследования поцелуй, как
приветствие при случайной встрече, возвращается в быт Северной
Европы. Культ дружеского и неформального общения свидетельствует, возможно, о том, что мы вступаем в новую, Сюлее демократическую эру жеста. Наш современный опыт, заключает Томас свое введение к сборнику, подтверждает выводы историков:
за самыми, казалось бы, незначительными различиями в манере
поведения можно увидеть глубинные сдвиги социальных отношений.
Публикуемые в сборнике статьи трактуют историю жеста на
материале европейского региона со времен древней Греции и кончая современностью. Представляем читателю три из них, касающиеся Средневековья и раннего Нового времени.
Статья известного французского историка Жана-Клода Шмитта "Смысл жестов на Западе: 111-Х111 вв.", по его собственным
словам, является весьма кратким резюме его одноименной книги
(Schmitt J.-C. La raison des gestes dans l'Occident incdicval. P.,
1990).
Шмитт считает резонным распространенное определение средневековой культуры как культуры жеста. Оно может быть обосновано как особой значимостью жеста в реальной жизни того
времени, так и интересом средневековых мыслителей к его природе. Шмитт останавливается на обеих сторонах вопроса.
Нередко, пишет он, огромное значение жестов в жизни средневековых людей объясняют недостаточным распространением
грамотности. Такое мнение высказывал, в частности, Марк Блок.
Действительно, считает Шмитт, вплоть до XIII в., когда быстрое
развитие городов и торговли привело к широкому распространению грамотности, жест часто выполнял те "юридические" функции, которые в позднейшее время взял на себя документ. Очень
немногие умели писать, и поэтому принятие на себя каких-либо
обязательств осуществлялось с помощью ритуальных жестов,
слов, (формул и сакральных предметов (рака, гостия, меч и т.п.).
Жестами и клятвами закреплялись социальные отношения; с помощью жестов совершались политические и религиозные властные действия: жестом вассал заверял сеньора в преданности, а
епископ рукополагал посвящаемого в сан.
.Однако, по убеждению Шмитта, жесты не были длл средневековых людей только техническим средством коммуникации, применявшимся в силу отсутствия других, более совершенных. Соотношение между письмом и жестом не было столь простым. Значимость жеста определялась не столько малым количеством грамотных, сколько иным строем всей жизни, в том числ^ духовной,
религиозной, иным состоянием души и ума человека того времени. В этой жизни письменность играла роль не менее .значимую,
чем в современной, но тоже иную: процесс писания воспринимался как своего рода ритуал, священнодействие; в пределе речь шла
о Священном Писании.
Человек, пишет Шмитт, понимался тогда как соединение
бренного тела и связанной с горним миром души. соединение видимой оболочки и невидимой сути. Жест, соответствен-io, воспринимался как телесное выражение тайных движений души. Отсюда его глубоко символический характер. Средневековый человек
никогда не находился наедине с самим собой. Даже отшельник в
пустыни или монах в своей келье действовали как бы з присутствии неусыпного ока Божьего. Присутствовавшая в Ж1 зни людей
"невидимая суть" создавала постоянный фон социальных отношений. Человеческие связи были неотделимы от общения с Богом.
Люди "вкладывали в жесты всю силу своей веры (в ей средневековом двойном значении - мирской верности и релит иозной веры), все символические ценности, присущие их социальной страте, и все надежды, связанные с их собственной судьбой - до самой смерти и даже после нее" (с.61).
Поэтому Шмитт считает бессмысленным формальное описание, каталогизацию жестов, создание словаря жестов. Изучение
жестов самих по себе не позволяет нам проникнуть в "трои чуждой нам жизни. Больше того, не зная средневекового сбраза мысли, мы часто не можем понять не только глубинного, но и чисто
житейского смысла самих жестов. Внешние формы поведения, в
которых подчас надеются обрести ключ к внутренней жизни, не
прочитыватся адекватно без знания этой последней.
Так что главным, согласно Шмитту, оказывается проникновение в "толщу пристрастий и предубеждений", разделяющую современного историка и человека Средневековья. Поэтому столь
значительное внимание он уделяет в статье (и, соотиетственно,
книге) средневековым теориям жеста.
Поскольку жест был столь значим в жизни общества, размышления о его природе были одновременно и размышлением об
индивидуальности, о душе и теле, о человеческом и божественном, о взаимоотношениях людей. Наблюдения над жестом стали
"лабораторией новых форм рациональности, развивавшейся на
протяжении Средних веков" (с.65). Особенно это относится, с
точки зрения автора, к трем переломным эпохам - поздней Античности, Каролингского Возрождения и складывания городской
цивилизации в Х11-Х111 вв.
О первом из названных периодов Шмитт говорит как о времени усвоения языческих представлений о жестах и вместе с тем
времени важных инноваций. Средние века унаследовали от Античности немало жестов (связанные с судебной процедурой,
жесты ритора, жесты молящегося). Слова gestus, gesticulatio,
motus пришли из Античности со своим интеллектуальным, моральным и научным контекстом: этикой социального поведения,
искусством риторики, медицинскими рассуждениями с теле и его
движениях, идеей гармонии, которая должна управлять движениями тела так же, как и всем универсумом. Ко всему этому христианство присоединило модели поведения, почерпнутые из Библии. Ключевую роль в становлении христианского понимания
жестов Шмитт отводит Августину, который определил их как
конвенциональные акты, устанавливающие связь между человеком и сферой сверхъестественного. Развитие нового института
монашества принесло множество аскетических и покаянных жестов и новых форм коллективной молитвы и литургии.
Каролингское Возрождение частично оживило традиции Античности, вписывая их в христианскую этику. Жестокость моральных санкций против бурной "жестикуляции" была смягчена,
утверждалась мысль, что последняя может быть вдохновлена не
только дьяволом, но и Богом (иллюстрацией чему служила священная пляска Давида).
Х11-Х111 вв. принесли принципиальные изменения. В результате нараставшего расслоения общества усилилась необходимость
для каждой социальной группы отделить себя от других. С этим
связано развитие "литературы хороших манер", различных сводов специфических правил для молодых рыцарей, женщин, детей
и т.д. Шмитт отмечает также возраставший интерес теологов к
разработке всевозможных поз молящегося, к вопросу о символической действенности жестов.
Появление педагогики жестов сопровождалось написанием
многочисленных трактатов. Лучший пример из этой области, по
мнению Шмитта, сочинение Гуго из Сен-Виктора, представляющее собой наиболее разработанную теорию жестов за все Средневековье. Теория Гуго была частью более широкого этического,
политического и эстетического учения, созданного мьслителямп
Парижской школы.
В целом, резюмирует Шмитт, развитие взглядов на жесты в
рассматриваемое тысячелетие, как и эволюция их реального значения в повседневной жизни, не были прямолинейными. С одной
стороны, усиление контроля над телом в сфере повседневности,
суровое морализаторство снижали роль жеста в общей системе
коммуникации. С другой, нараставшая дифференциация общества и усложнение социальных отношений повышали его значимость, а развитие изобразительных и пластических искусств, литературы, возрождение практики публичных речей, вдохновляемые позднесредневековым мистицизмом попытки теологов дать
объяснение религиозным обрядам ставили проблем;/ жеста в
центр идеологических дебатов.
Перу известного французского ученого Робера Мюшембле
принадлежит статья "Правила жестов: социальная история чувствительности при Старом порядке во Франции". По его мнению, в
течение XVI-XVIII вв. в Европе нарастала "культурная биполяризация". проявлявшаяся не в последнюю очередь в сфэре быта и
жеста. Различия между культурой низов и культурой господствующих социальных групп начали углубляться еще в Средние
века. Присутствовавшая в жизни крестьян символика и обрядность сохраняла для них глубокий смысл, который однако все
менее был понятен представителям элиты.
Важно помнить, пишет Мюшембле, что, поскольку простолюдины были неграмотны, историк, воскрешая их менталитет и
жесты, вынужден обращаться к документам, вышедшим из привилегированной среды. Поэтому с особой осторожностью необходимо развести в них изображение реальности и те предубеждения, которыми данные источники буквально пропи"аны. Корректное исследование, по мнению автора, позволяет выявить две
совершенно различные и в то же время тесно связанные социальные сферы, народную культуру и культуру элитарную.
*
Воспроизводя народную культуру и ее проявления в жестах,
автор анализирует описания традиционных, почти ритуальных
зимних вечеров, на которые собирались вместе несколько девушек, чтобы шить или прясть. Эта особая микрообщность обеспечивала контакт в замкнутом пространстве различных позрастов и
полов: стабильный мир взрослых был представлен хозяином того
помещения, где молодежь коротала зимние вечера, женская стихия вела с мужским началом в лице юношей вечную игру надзора (старухи) и обаяния (девушки). Каждый участник действа
имел свою роль, выражавшуюся языком жестов. Поведение молодых людей во время ухаживания было строго кодифицировано и
включало два основных пласта - движения и манеры, поддерживаемые групповой этикой, и безобидные вольности, допустимые,
однако, только в ситуациях таких вечеринок. Автор, ьслед за этнографами и фольклористами, замечает, что такое явление, как
ухаживание, часто вообще не нуждается в словах. В ритуализи-
рованном мире жест был тем знаком, который читали все. Чтобы
отказать в руке дочери, достаточно было подарить неудачливому
претенденту яйцо, не предлагать ему стула или просто помешать
огонь в очаге. Однако, для историка расшифровка внутреннего
смысла этой визуальной цепочки - задача не из легких.
Реакция привилегированного меньшинства на крестьянскую
культуру жеста и стиля поведения определялась двумя моментами: 1) постепенным изменением критериев вкуса и хорошего тона в светском обществе в сторону сковывающего мора." изаторства
контрреформации, поддерживаемого светской властью и церковью; 2) резким осуждением эмоциональности и импульсивности
поведения в крестьянском мире, а также "суеверий", ритуалов,
уходящих корнями в язычество. Автор анализирует документы,
зафиксировавшие различные штрафы, которые взимались за 'ганцы на улице, "непотребное" поведение в церкви и на кладбище и
т.п., а также сочинения, принадлежавшие перу настоятелей монастырей и приходским священникам и направленные против
так называемых суеверий.
Эти источники воссоздают целый театр жестов и позволяют
приблизиться к порождающим их кодам. Так, в доме, где жила
невеста на выданье, опасно было выронить полено из очага (предзнаменование, кроющееся в этом действии, связывало зь с традиционным поведением отца, отказывающего мужчине, который
просит руки его дочери).
Элитарная культура отказывалась признать народные веровагия, танцы традиции ухаживания, свадеб, молодежных празднеств и т.д. Крестьянство, пассивно сопротивляясь социальному
гонору высшей страты, охраняло свое собственное миросозерцание и консервировало принятые манеры поведения. Для аристократической среды, напротив, характерны постоянные метаморфозы стиля поведения, жестов, движений, отражающих вежливость и учтивость в XVI в., родовую гордость в XVII г.. или личностную честь в XVIII в. Уже с середины XVI в. дети р:з наиболее
известных фамилий, а позднее и учащиеся коллежей получали
уроки хорошего тона, что все более отдаляло их от сельского населения и низших городских слоев.
Углубление культурной биполяризации породило неожиданный социально-психологический эффект. Светское осмеяние присущих крестьянам манер и обычаев, а также грозные инвективы
церковников, почти не повлияв на самих сельских жителей, наложили заметную печать на формирование повседневной культуры среднего слоя. Бюргеры всячески стремились диета нцироваться от стиля жизни своих отцов. Слепое подражание манерам аристократов и готовность высмеять низшего по статусу породило
феномен "мещанства" - не в прямом, а в переносном смысле слова.
Умонастроения поднимающихся городских слоев выразились,
в частности, в моде на жанровую сатиру. Картины Пгтерп Брейгеля Старшего и его подражателей могут служить визуальной метафорой социальной этики бюргеров Нидерландов и южной Германии. Ярким документом эпохи является гравюре Брейгеля
"Коробейник, ограбленный обезьянами". На опушке леса заснул
утомленный разносчик товаров. Суетливые маленьких людишки
в облике обезьян растаскивают из его мешка предметы, символизирующие городскую жизнь: перчатки, зеркало, очки. В их движениях легко угадываются манеры сельских жителей. Подобные
изображенния, видимо, позволяли покупателю-бюргеру рассмеяться и утвердиться в сознании своего превосходства н.чд представителями почти животного крестьянского мира.
В статье "Жест, ритуал и социальный порядок в Польше XVIXVII вв." Мария Богуцка констатирует усложнение, ритуализацию и рост значимости жеста в поведенческой культуре польской
шляхты на протяжении рассматриваемого периода. Ai.'rop связывает это с потребностью дворянства заявить о своем социальном
статусе в условиях потери экономического и политического могущества и установления господства магнатов. Исполнен -юе степенности и благородства поведение защищало дворянство от размывания и проникновения в его среду представителей низших сословий, укрепляло самоуважение и престиж этой социальной
группы часто более эффективно, чем юридические нормы. Роскошь, блеск и респектабельность неизбежно должны были присутствовать не только в одежде или убранстве помещений, но
также и в манерах шляхты. Ритуализированные жесты воспроизводились почти с сакрализованной последовательностью.
Исследование автор строит на основе дневников, воспоминаний, художественных произведений самих представителей благородных кругов, свидетельств иностранцев, инструкций, адресованных польским дипломатам, фамильных архивов крупных дворянских родов, включающих, в частности, ритуализированную
переписку.
Достойная и благородная манера поведения отражала не только гордое осознание своей принадлежности к привилегированному сословию, но и иерархию в среде дворянства. Каждый дворянин должен был знать, как поклониться, сделать реверанс, уступить место во время застолья, пропустить в дверь, проявить почтение к старшему по возрасту и положению во время торжественной процессии. К XVI в. приветствия и прощания в благородной
среде превратились в сложнейшую церемонию. Особое ,чн.".чение
придавалось роли головного убора. При встрече с вышестоящей
персоной необходимо было снять шляпу да так низко поклониться. чтобы подмести ее полями пол. Даже письмо от знатного лица, а также послания, где упоминалось имя короля или папы
Римского, следовало читать с обнаженной головой. Не послед-
нюю роль в жизни польского дворянства играли пра.чднестра и
банкеты, обставленные собственными ритуалами. Порядок размещения приглашенных во время застолья, соответствующий их
возрасту и социальному положению, имел принципис льное значение. Недовольный местом или соседом немедленно покидал помещение или в знак протеста разрезал ножом скатерть
К концу XVI в. исполненное достоинства и гордости поведение
дворянина начинает видоизменяться. Экспрессивная и театрализованная барочная культура содействовала его раскрепощению и
обусловила вариативность его стилистики. С одной стороны, с
ростом зависимости польского дворянства от магнатов жесты, выражающие лесть и подобострастие, становятся все белее откровенными. Зависимый дворянин падал ниц перед своим патроном
- обычай, неслыханный в XVI в. С другой стороны, все большее
значение приобретал, например, публичный поцелуй, недопустимый раньше как свидетельство дурного вкуса и проягление плебейских привычек, распространенных на востоке страны.
Дневники иностранцев свидетельствуют, что в XVI] в. поляки
были очень эмоциональны и не считали нужным скрывать свои
"/вства. Считалось, что даже взрослому мужчине пристало лить
слезы, бурно выражая свое горе или радость. Даже ес^и человек
и не ощущал столь сильной внутренней боли, обычай требовал
рыданий.
Постепенная политическая дезинтеграция стимулировали
стремление тем ярче продемонстрировать власть короля, могущество Речи Посполитой. Все более внушительными становятся торжественные церемонии открытия и закрытия сейма. Они сопровождались теперь процессиями депутатов, направляющихся к королю, чтобы приложиться к его руке. Факт неучастия в подобной
церемонии влекза собой изгнание из символической общности
польской знати. Во время парламентской сессии депутаты не снимали ни головных уборов, ни оружия. Росла и экспрессивность
жестов депутатов: без этого их выступления были просто непонятными при постоянном шуме, царящем в зале заседаний.
Чрезвычайную важность приобрел жест в дипломатической
сфере. От него могла зависеть судьба короля и целой нации. В
1601 г. были изданы специальные рекомендации и инструкции
для польских дипломатов. Интересно наставление короля от
30 мая 1667 г. польским посланникам в Москве, которое предписывало вести себя в соответствии со старой традицией: и не снимать шляп, а также при поклоне не ударять лбом об пзл, как это
принято в России. Длительные переговоры в Москве завершились
лишь тогда, когда польским дипломатам было позволено войти с
покрытыми головами в залу, где находился русский царь. Впоследствии им все же пришлось обнажить головы, что воспринималось как унижение достоинства и польского короля, и Речи
Посполитой.
Особая значимость и экспрессия жеста во время службы в
польской католической церкви была связана со стремлением оградить ее от влияния иных конфессий. Праздник Тела Христова,
Рождественская и Страстная недели сопровождались покаянием
распростертых на земле людей, демонстрацией оружия в знак готовности защищать праведную веру от Османской Турции, многочасовым стоянием верующих в позе распятого Христа или присутствием на мессе в полной боевой амуниции.
Усваивались ли ритуальные жесты, возникшие в среде дворянства, представителями других социальных групп? Или последние
шли ли по пути развития своего собственного языка телодвижений? Автор отмечает, что респектабельная культура благородного
шляхетства привлекала богатых бюргеров, которые стремились
уменьшить социальный зазор между своим сословием и элитой.
Дворяне, естественно, пытались воспрепятствовать подобному
вторжению в их избранное сообщество и делали это путем срывания масок с "обманщиков", выдающих себя не за то, тем они являются на самом деле. Однако, повысить свой социальный статус, усвоив благородные манеры, могли надеяться только бюргеры и богатые крестьяне, в то время как представители низших
социальных групп такой надежды были лишены. В результате
они отказались от подражания и создали свой собственный суверенный мир жестов.
Е.Н.Мараси нова, Д.Э.Бромбсрг
128
12. М.Э. ВИТМЕР-БУТШ. СОН И СНОВИДЕНИЯ В СРЕДНИЕ века>
М.Е. WITTMER-BUTSCH. ZUR BEDEUTUNG VON SCHI^AF IJNI)
TRAUM IM MITTELALTER// MEDIUM AEVVM QUOTIDIANUM. SONDERBAND 19. KREMS, 1990. 400 S.
Монографию швейцарской исследовательницы М.Э.ВитмерБутш можно считать, пожалуй, первым в историографии опытом
воссоздания картины восприятия феноменов сна и сновидений,
интерпретации их причин и того .значения, которое им придавалось в разных слоях общества в эпоху христианского Средневековья (500-1500 гг.).
Тема сна и сновидений традиционно разрабатывается психологами. Психоанализом З.Фрейда был дан первый импульс к изучению сна и сновидений как самостоятельного историке-культурного феномена. Одним из наиболее ранних исследований в этом направлении была книга П.Сентива (1930 г.), содержавшая критический разбор снов, описанных в "Золотой легенде" Якоба Ворагинского. Используя методы психоанализа, П.Сентив сделал ряд
интересных предположений о происхождении некоторых мотивов
средневековой агиографии^.
С конца 40-х гг. начинают выходить работы о видениях и снах
средневековых людей, и такого рода исследований, несомненно,
больше, чем работ просто о снах. Это не удивительно: само Средневековье не различало сон религиозного содержания и "видение": амбивалентный термин "visio" переводится словами и
"сон", II "видение". Сегодня литература о видениях и снах в
Средние века, о значении этих феноменов в религиозной и политической жизни того времени весьма обширна^. Характерно, однако, что при всем ее многообразии, отражающем литературоведческие, медицинские, теологические аспекты и аспект истории
ментальностей, все еще отсутствует целостное представление о
снах и сновидениях как существенном компоненте повседневной
жизни средневекового общества (исключением следует считать
эссе Ж.Ле Гоффа о месте и роли сновидений в культуре и массовой психологии Средневековья^).
Витмер-Бутш поставила своей задачей всестороннее рассмотрение связанной со сном проблематики. Постановке проблемы, обзору историографии и источников посвящена первая глава реферируемой работы. Сон, как и болезнь, голод, смерть, относится к
антропологическим константам, люди спали во все времена, но
их поведение, связанное со сном, обязательно несет но себе отпечаток эпохи и позволяет нам заглянуть в их духовный мир, постигнуть то, в чем они сами вряд ли отдавали себе отчет, ^)то
главная задача Витмер-Бутш. Несмотря на фрагментарность данных, содержащихся в источниках (автобиографические снидетельства, агиография, медицинские и медико-теологические сочинения и т.п.), ей удалось сложить их в своеобразную картилу-мозаику, дающую представление о стереотипах, связанного со сном
поведения, о средневековых теориях, объясняющих природу сна
и сновидений, о том, как эти теории соотносились с повседневной
жизнью различных слоев общества и как реалии этой повседневной жизни, в свою очередь, отражались в сновидениях
Исследовательница ставит и ряд методологических проблем,
связанных с необходимостью проработки информации, как бы лежащей на поверхности в детальных описаниях снов в житиях,
биографиях, хрониках, но нуждающейся тем не менег и дешифровке. Знакомство с современными теориями сна и сновидений
помогает Витмер-Бутш расшифровывать сообщения источников.
Однако, она постоянно задается вопросом, насколько современные объясняющие модели применимы к средневековою у материалу; что общего между снами средневекового человека и нашего
современника; возможно ли в продуктах ночных фантазий людей
столь отдаленной эпохи выделить те же структурные особенности, которые наблюдают современные психологи,прежде всего переработку дневного опыта в ночных переживаниях.
В главе 2-й "Сон в повседневной жизни" Витмер-Бхтти. на материалах биографий, писем, медицинских рекомендаций, мона-
стырских уставов, привлекая также данные археологии и иконографии, проводит нечто вроде социологического исследования
поведения, связанного со сном.
Такая глубоко частная и к тому же казавшаяся современникам "само собою разумеющейся" сфера жизни, как организация
сна, освещена источниками весьма слабо: где, как, на ICM, с кем,
как долго спали? Автор показывает, что до Х11-Х1П вв. даже в
городах жилища были очень просты, люди спали в одном помещении (а в деревне и до XVI в. в домах редко бывало больше,
чем одно-два помещения). В холодное время года даж'? в относительно состоятельных семьях люди спали все вместе в эдной комнате, обогреваемой жаровней или открытым огнем (каменные печи появляются с XIII в.), а потому кровати, если они взобще имелись, были рассчитаны на то, чтобы в них помещались и родители, и дети, и их незамужние тетушки. Колыбели для младенцев
вошли в обиход знати еще в эпоху Меровингов, однако в низших
слоях общества они приживались крайне плохо вплочь до 11озднего Средневековья, и взрослые предпочитали брать миленьких
детей в свою постель.
Иногда постель делили между собой и совершение посторонние люди - паломники, бедные путешественники, рассчитывавшие на дешевый ночлег в гостиницах и на постоялых дворах. К
XIV в. относятся жалобы на жадных хозяев постоялых дворов в
Риме: пользуясь наплывом паломников, они умудрялись класть в
одну постель не по два-три человека, как было принято, а по
пять-шесть. В подобных условиях находились также старики и
больные в госпиталях и приютах.
В монастырях эта сфера жизни до мелочей регламентировалась монастырскими уставами. Братия должна была спать в одном помещении; если народу было слишком много, занимали несколько спален. Кельи на одного появляются впервые у итальянских эремитов в XI в., в других орденах - позже, с XI [1 в. Во избежание однополовых контактов, которые могло порождать монастырское одиночество, в дормиториях не гасили светильников на
ночь, монахи, в отличие от мирян, спали в одежде.
Спальные аксессуары не отличались разнообразием. В деревне
простые люди долгое время спали на соломе на полу. Среди знати
с Раннего Средневековья в обиход вошли простые деревянные
кровати в форме ящика (форма эта просуществовала едва ли не
до XIII и.). Матрасы для этих кроватей набивали соломой, тростником, листьями или мхом, перины были редкостью. На матрас
стелили льняное покрывало, меховое или матерчатое одеяло, были и небольшие подушки. В городах c^XJI в. в простых семьях
спали на высоком деревянном лож.е, у тех, кто побогаче, оно было более роскошным, с кожаными ремнями вместо современных
пружин. От остального помещения кровать отделялась матерчатым занавесом, а с XIV в. добавляется и деревянный навес-кры-
ша. Балдахин на резных деревянных столбах входит в моду у
итальянской знати в конце Х\^ столетия.
Чередование сна и бодрствования определялось долготой светового дня. С наступлением темноты все укладывались спать.
Только в исключительных случаях да в праздники отход ко сну
откладывался, и люди пользовались искусственным освещением.
В холодное время года, когда темное время суток продолжите.Ч!,
нее, люди спали, вероятно, дольше.
В монастырях режим сна был довольно суров; негативное отношение к сну было заложено Библией, являлось одной из составляющих аскетического образа жизни и должно было способ.
ствовать осмыслению грехов и покаянию. Для монахов сон был
лишь необходимой данью природе: он возвращал силы, необходимые для служения Господу. Поэтому время, отводимое на сон,
131
должно было быть минимальным и его запрещалось тратить, например, на чтение в постели.
В отношении к сну у мирян, как пишет исследовательница,
тоже чувствовалось сильное влияние церкви. Благословение постели перед сном, регулярные вечерние молитвы, по мисник) Витмер-Бутш, свидетельствуют еще и о том, что сама ночь воспринималась людьми как наиболее опасная часть суток; во время сна
они не чувствовали себя спокойно, так как всегда суцествовала
опасность набега, пожара, вторжения грабителей. Засыпая, человек не знал, проснется ли он здоровым и проснется .ill вообще.
Чувство неуверенности, страха, беспокойства воплощалось и ночных кошмарах, которые официальная теология приписывала воздействию демонов. Именно беззащитностью спящего и страхом
перед наступающей ночью объяснялась, с точки зрения ВитмерБутш, популярность распространившегося на рубеже Х1-Х11 вв.
трактата "De lapidi.s" - о свойствах драгоценных камюй и, в частности, об их способности влиять на глубину сна и на сновидения. Считалось, что рубин вызывает сладкий сон, несущий отдых
и приятные сновидения, бриллианту свойственно отгонять "пустые" сны и кошмары.
"-Особый интерес вызывает у Витмер-Бутш бессонница как факт
повседневности. Упоминания о ней встречаются в источниках с
Х в. Наряду с домашними средствами против бессоньицы (пиво
или вино на ночь) в средневековых источниках приводится множество "официальных" рецептов врачей, что может служить косвенным подтверждением распространенности этого явления. В состав этих рецептов входили травы с наркотическим эффектом
(белена, красавка), в Позднее Средневековье также опиум, поэтому история применения этих средств полна криминальных эпизодов.
Глава 3-я "Теории сновидений в их исторической ретроспективе" посвящена подробному анализу почти тысячелетний истории
взглядов на природу и роль сновидений от христианской Античности до начала Нового времени. При этом автор стремится различать "теории" и "обыденные представления", свойственные
разным слоям общества, выяснить, насколько были взаимопроникаемы эти разные "этажи" духовной жизни общество, в какой
мере они расходились и насколько влияли друг на друга.
Витмер-Бутш подчеркивает, что на протяжении всего Средневековья все авторы в своих рассуждениях в большей или меньшей степени основывались на трудах греческих и римских философов; эта зависимость имплицитно присутствует во всех без исключения "официальных" теориях сновидений. Интерпретация
природы сна как (феномена (физиологического и средневековых
132
медицинских и медико-теологических трактатах осионывалагь
главным образом па античной гуморальной теории, согласно которой вся деятельность человеческого организма базируется на
правильном ф\ нкцlfoниpoвa^lll]l и гармоническом сочетании четырех главных жидкостей: крови, слизи, черной и ж:', .'той жел
чи. Многие авторы (Константин Африканский, ХильД1: гарда Г>ингенская, Вильгельм Тьеррийский) связывали состояния сна с процессами пищеварения. Теоретические изыскания Адама Кремонского в этом направлении легли, например, и основу (го практиче-ских рекомендаций по режиму питания, сна и дипжсния, адресованных собиравшемуся в крестовый поход императору Фрид
риху II.
Для Античности характерно пристальное внимание к сновидениям, стремление непременно их толковать. Однако o'i ношение к
сновидениям первых христиан, оказавшее впоследствии влияние
на все Средневековье, коренным образом отличается эт отношения к снам в Античности. Ожидание скорого конца света и второго пришествия Христа, которое освободит мир от скверны страхов и заблуждений, характерное для общественных настроений
первых веков христианства, имело следствием тот фак", что отцы
церкви отрицательно относились ко всем попыткам пэозреть будущее, вопрошая оракула или толкуя сновидения, хотя это и
вступало в некоторое противоречие с тем внимательным отношением к пророческим снам, которое свойственно ветхозаветным
текстам (видения в книге пророка Даниила, сон Иаког.а) и отчасти даже евангельским (сон Иосифа).
Средневековье унаследовало обе традиции - и античную, и
р .ннехристианскую. С одной стороны, мы видим откровенное неприятие возможности толкования снов, с другой - налицо признание некоторых "истинных", пророческих сновидений и видений потусторонней жизни. Такая двойственная позиция теологов
во многом объясняется, по мнению Витмер-Бутш, сложным поло-
жением раннесредневековой церкви в условиях массовой христианизации европейского населения. Осуждая толкование снов
как "суеверие", официальная церковь не могла не учитывать,
сколь глубоко коренится вера в пророческие сны в языческой
культуре.
Уже в сочинениях отцов церкви природа сновидений получает
неоднозначное толкование. На рубеже 11-111 вв. Тертуллиан в
трактате "De anima" признает, что сны могут носить характер откровений, и пытается доказать это примерами из греческой и
римской истории. Он делит сны на три категории: те, что от Бога, светлые и ясные; сны, насланные демонами, вводящие человека в заблуждение; сны, которые исходят от души человека, бодр133
ствующей день и ночь. Эту трехчастную схему источников сновидений в той или иной степени признавали все среднерековые авторы и, конечно же, отцы церкви (Лактанций, Иеродим, Августин).
Августин, испытавший влияние неоплатоников и, и свою очередь, оказавший особое влияние на идейный мир Срелневековья,
проявлял к снам пристальный интерес. Они интересоьали его не
только в теоретическом аспекте, но и как факт повседневной
жизни. Его собственные сны и сны его матери, которые она ему
подробно рассказывала, производили на него большое впечатление. Августин полагал, что, когда тело человека спит, перед его
внутренним взором проходят впечатления прожитого дня, воспоминания о давно прошедшем, скрытые желания, помыслы, которые переплетаются между собой и создают новые, подчас фантастические картины и образы. Поэтому за "содеянное" во сне душа не несет ответственности перед Богом (последнее особенно касается эротических сновидений). Одновременно Авгусчин считал,
что временами Бог открывает свою волю спящему через своих посланцев - ангелов. Осуждая популярное в римской культуре (и
связанное с культом предков) мнение о том, что мертвые могут
пророчествовать живым во сне, он утверждает, что это ангелы облекаются в зримые образы воспоминаний спящего.
Для периода Раннего и отчасти Высокого Средневековья проблема отношения к сновидениям сводится к вопросу о том, верить или не верить снам и как отличить "истинные" сны от ничего не значащих "пустых" сновидений, на которые не следует
обращать внимания. Исидор Севильский, например, (читает эту
проблему практически неразрешимой для простого смертного, поскольку Сатана может принять образ светлого ангела и ввести в
заблуждение легковерных, а демоны могут, с Божьего попущения, мучить во сне людей в наказание за грехи или же во испытание. Григорий Великий также скептически относился к возможности интерпретировать сны, поскольку неугомонный враг
рода человеческого не упускает ни одной возможности морочить
люд^м голову, и сны, смешиваясь с собственными мыслями спящего, кажутся очень правдоподобными. Вопросы, тревожащие
человека, облекаются в, казалось бы, "ясное" пидсни^. но отличить "истинное" откровение от дьявольского наваждения могут
только святые. Следует добавить, что Григорий Великой, подобно
всем церковным авторам, все же допускал, ссылаясь на примеры
из Библии, возможность таких "истинных" откровений.
Начиная с XII в. в источниках количество сообщений о снах
значительно возрастает. Возрастает и интерес к их интерпретации, эта тема больше не считается "опасной". Большинство авто
134
ров этого времени убеждено в способности души к тому, что можно было бы назвать ясновидением, хотя и постоянно предостгрегает от наивного доверия всем "откровениям"; мнение о том, что
сны - прекрасный "плацдарм" для наступления демоннч-ских
сил, сохраняется. Однако прежнее объяснение невозможности интерпретации снов опасностью поддаться дьявольскому искушению постепенно сменяется убежденностью, что попытки толкования лишены смысла из-за многозначности предстающих в сновидениях образов.
С расцветом схоластики европейские ученые-филогофы обращаются к Аристотелю, в частности, к его трактата.^ "О сне и
бодрствовании" и "О сновидениях", где была выдвинута идея о
том, что Бог-Творец воздействует на человечество через "мировой
разум", а пророчества и сновидения представляют собой одну из
разновидностей такого воздействия. Альберт Великий первый в
Европе комментатор Аристотеля - дополнил и скор дектиропал
его учение о сне и сновидениях в соответствии с христианской
идеологией и уровнем современного ему натуралистического знания. Вслед за Аристотелем Альберт Великий допускал возмож
ность пророческих, "вещих" снов, источник которых - исходящий от Бога "мировой разум", влияющий на человека посредством света звезд. Это влияние облекается в разнообразные картины сновидений, от сумбурных снов до ясных пророчеств. Альберт
Великий выделял в отдельную группу сны, которые касаются событий повседневной жизни, хотя и в завуалированной, метафорической скорме. Эти сны-метафоры, по его мнению, поддаются расшифровке при помощи астрологии, толкования чисел и других
?'.1гическнх искусств (что, впрочем, категорически осуждалось
официальной церковью). Фома Аквинский также воспринял новое учение о роли небесных светил и "мирового разума" и возникновении сновидений, хотя в этом вопросе не выходил за рамки учения Аристотеля, развитого Альбертом Великим После работ Альберта Великого и Фомы Аквинского феномен сновидений
стал традиционно обсуждаемой темой в церковной литературе,
своим авторитетом великие философы как бы сняли с нее запрет.
Для XIV-XV столетий характерно большее разнообразие част-
ных мнений и точек зрения. Новым явилось и то, что "еория сновидений находит теперь практическое применение: в)ачи стали
использовать ее для диагностики. В сновидениях все реже видели
или бесовское наваждение, или божественное откровение. Даже
мистики перестали выискивать в каждом сне божественное послание. Монахиня-мистик Маргарита Эбнер признавалась, например, что характер многих ночных образов заставлял е( усомниться в их божественном происхождении.
135
В интересе к снам все яснее проступает "светский" акцент. С
юга из Средиземноморья надвигается "бум" толкования снов посредством сонников. Слабые попытки церкви противостоять этому не дали каких-либо существенных результатов. Принципиальное осуждение Николаем Кузанским, Дионисием Картузианцем
любых попыток толкования снов как запретного магического искусства гадания терялось в общей атмосфере терпимости и интереса к новым веяниям. Гуманист Сильвио Пикколомини, будущий папа Пий XI, в своей истории императора Фридлиха III не
побоялся даже поведать о разговоре во сне этого властителя с папой Николаем V. подчеркнув пророческий характер сн'-видения.
Специальный раздел III главы Витмер-Бутш посвягила практике использования сонников. Сонники были разные. Врачи, пытавшиеся определять болезни, анализируя сны больных, пользовались сонником, приписывавшися Арнольду из Виллановы. Существовали астрологические "лунные сонники": сны толковались
в них в зависимости от положения и фаз луны. Самы\д популярным в Средние века был так называемый "Сонник Даниила", содержавший перечень мотивов сновидений и традиционные их
толкования. Составивший его не позднее IV в. анонимный греческий автор скорее всего переработал более древний (II в.) сонник
Артемидороса Дальдианского, я использование имени пророка
Даниила в качестве воображаемого автора должно было служить
подтверждением авторитетности этого сочинения"*. (Любопытно,
что недоверие, которое средневековые клирики испытывали к
толкованию снов, совсем не помешало его использованию и распространению. Начиная с Х в., списки "Сонника Даниила" на латинском языке изготавливаются в разных частях Егропы. Кто
же, если не монахи, их переписывали и использовали? Прим.
реф.)
В 4-й главе "Сновидение как личное переживаниг" ВитмерБутш собрала многочисленные свидетельства о снах, содержащиеся в источниках разных жанров: в житиях, миракулах, автобиографических сочинениях, письмах и т.п., наметила на основе
этпх свидетельств некоторую типологию сновидений и попыталась их интерпретировать, исходя из того, что в снах отражаются
обстоятельства жизни людей, их мысли и чувстяа.
Наиболее интересной представляется автору книги проблема
интерпретации сновидений самими носителями средневековой
культуры. Каким образом, например, истолковывало они свои
сны? Всегда ли обращались они к сонникам? Ж.К.Шмитт, исследовавший сновидения из автобиографии Гвиберта Нзжанского,
полагает, что аутентичные мотивы знаменитый абба"' объяснял
скорее интуитивно, исходя из обстоятельств собственной жизни
136
или жизни своей матушки". Такой же анализ, проделанный
М.Э.Витмер-Бутш на материале множества подобных текстов,
свидетельствует о том, что большинство людей постучало точно
так же Вопрос о причинах этого автор оставляет открытым.
Как отметил в одном из первых исследований средневековых
сновидений Р.Манселли^, те описания снов, которые мы находим
в источниках, уже являются интерпретациями, посьольку, вопервых, человек не может утром помнить весь сон и, во-вторых,
(фиксирует в записи (рассказе) только то, что кажется ему важным и достойным запоминания. Встает вопрос: каковы критерии
этой "авторской цензуры"? Именно они и могут пролить свет на
"содержание сознания", ментальность средневековых людей.
Манселли изучал только агиографический материал и, соответственно, установки в отношении к снам прежде всего клириков. Витмер-Бутш расширяет источниковую базу, стремясь осветить все многообразие жизни и мотивов сновидений. Разделы 4-й
главы касаются самых разных сторон повседневной жизни: "Здоровье и болезнь в зеркале сновидений", "Сексуальность и сон",
"Сон как зеркало различных эмоций", "Сон и смерть", "Вещий
сон и ясновидение", "Символические сны и их интерпретация".
Часто отражаются в сновидениях переживания, связанные с
болезнью или с угрозой заболеть. Такие сны - важный источник
для изучения средневековых представлений о болезни, ее причинах и способах исцеления, характерных для носителей массовой,
народной культуры. Особенный интерес представляют сны, описанные преимущественно в агиографической литературе, в которых "объявляется" о наказании болезнью за прегрешение или,
наоборот, об исцелении "милостию Божией". Такие сюжеты есть,
например, в житии св. Ульриха Аугсбургского, в миракулах св.
Девы Вальбургии. св. Гвиберта Семпрингеймского. Подспудное
чувство вины, истинной или мнимой, и предчувствие возмездия
облекались в картинах сновидений в образ святого, карающего
или несущего спасение. Спонтанные заболевания или исцеления,
которые люди связывали со сновидениями, свидетельствовавшие
о глубокой религиозности средневекового человека, воспринимались современниками как чудо, хотя теперь они вполье объяснимы с точки зрения психосоматики. Сам факт, что о приближении
болезни или, наоборот, о близящемся улучшении самочукствия
человек узнавал во сне в форме, типичной для его эпохи (явление
святого. Богоматери, звучание "некоего голоса"), служит еще одним аргументом в пользу предположения о том, что в снах отра-
жались основные мыслительные схемы Средневековья.
Как известно, крайне негативное отношение ко всему плотскому со стороны раннехристианских отцов церкви,особенно к тому,
137
что связано с сексуальностью, переняло и Средневековье. Насколько реальная действительность была далека от требований
религиозной морали, сказать трудно, однако, некоторую информацию об этом можно извлечь из описания .эротических сновидений. При этом, однако, возникает ряд методологических трудностей, связанных с тем, что письменные свидетельства такого рода
вышли в основном из-под пера клириков. Негативная оценка
сферы сексуального церковью обусловила искажение содержания
таких снов из-за своеобразной "оптики" авторов текстов. Именно
поэтому Витмер-Бутш достаточно скептически относ ггся к известной работе о средневековых снах Ле Гоффа, активно применявшего фрейдистские модели в своих исследованиях и не проводившего четкого различия между описаниями снов к чириков, в
которых присутствует официальная церковная позиция и их истинными переживаниями, а также переживаниями лиц светских,
которые записывались опять-таки клириками.
Описания эротических сновидений в источниках довольно редки, ибо считалось, что они могут вызвать и у пишущего, и у читающего запретные фантазии. В немногих дошедших л о нас сообщениях о таких снах их сюжеты комментируются чаще всего как
предвестники беды или объясняются наваждениями демонов. По
сообщению Цезария Гейстербахского, некий монах увидел во сне
своего товарища, которого монахиня в черном обнимала и целовала: в тот же день бедняга заболел и вскоре умер. Мать Гвиберта
Ножанского поведала ему о сне, в котором ей явился инкуб;
лишь призвав св. Деву Марию, она спаслась от поругания.
Автор книги показывает, что в снах средневековых людей отражались и самые обычные житйские переживания, находили
свое разрешение внутренние душевные конфликты. В хронике
Салимбене есть сюжет о том, как он против воли своего отца
вступил во францисканский монастырь. Разрыв с семьей, со своим сословием вызвал у юного монаха глубокое душевнзе потрясение. Но подтверждение правильности своего поступка, в чем он,
по-видимому, сам того не сознавая, нуждался, неожицанно пришло во сне. Ему приснилось, что он молится у алтаря св. Девы
Марии, и та явилась ему и протянула своего ребенка, чтобы он
его обнял и поцеловал.
Сны могли казаться небесным посланием, посредством которого до человека доводится воля Всевышнего, либо намеренно выдаваться за такое послание. Объявление о таких снах IBCTO делалось в политических целях, или когда речь шла, например, о
том, кому быть преемником на месте епископа, аббати. Простым
людям, особенно страдающим каким-нибудь недугом, часто снились сны с указанием о том, что им нужно совершить паломничество к могиле того или иного святого, дабы полнить исцеление.
Автор книги полагает, что средневековые сообщения о кошмарных снах полезно рассматривать, связывая их с событиями
повседневности, которые, предположительно, могли спровоцировать такой сон. Так, Гвиберт Ножанский рассказывает в своей автобиографии, что в детстве он часто просыпался ночью от страшных снов. Он приходил в ужас от зрелища мертвых тел, разрубленных мечом, с зияющими внутренностями. Уже взрослым он, в
соответствии с воззрениями своего времени и своего круга, объяснял эти видения кознями дьявола. Исследовательница, однако,
предлагает вспомнить, что его отец, происходивший из рыцарского рода, участвовал в войне французского короля ( Вильгельмом Завоевателем и находился тогда в плену у герцога, известного своей жестокостью и кровожадностью.
Сны, в которых людей укоряют, порицают за что-нибудь. Витмер-Бутш считает следствием переживаний, сомнений, мук совести. Титмар Мерзенбургский, будучи епископом, должен был посетить умирающего священника в Дортмунде. Прибыв туда, он
почувствовал себя усталым и отложил визит на другой день, а утром уже не застал беднягу в живых. Ночное бдение у гроба покойного Титмар опять-таки препоручил своему викарию, так как
плохо переносил бессонные ночи, а сам отправился спать. Вскоре
после похорон ему явился во сне этот священник и спросил, почему он дважды пренебрег любовью к ближнему и не исполнил
долг милосердия.
Один из наиболее частых мотивов в средневековых сообщениях о снах - "объявление" о грядущей смерти, о смерти кого-то из
близких или явление во сне умершего. Любопытное сообщение
содержится в житии св. Хатумоды - аббатисы монастыря Брунсхаузен, составленном ее дядей, корвейским монахом Лгием. Хатумоде снилось много раз, что она покидает свою телесную оболочку и парит между небом и землей, заглядывая в окрестные
дома как бы сквозь крышу. Однажды во сне она подлетела к
церкви и увидела огромную яму в полу. Неизвестный голос объявил ей, что это ее будущее жилище. Понятно, что такие сны не
могли не оставить у нее тягостного впечатления, и она обсудила
их с гостившим в монастыре Агием. Заболев, она увидела еще
один сон, будто бы вместе с другими канониссами гулает по цветущему лугу. Внезапно вспыхнуло пламя, угрожавшее все сжечь.
Тогда Хатумода призвала на помощь Христа и особо почитаемого
ею св. Мартина Турского, который тут же явился и погасил
огонь. Пламя, в Средневековье ассоциируемое с огнем чистилища, равно как и вид раскрытой могилы - важные трациционные
139
символы смерти в снах. Хатумода вскоре умерла, а ае биограф
Агий признается в своем сочинении, что чем больше он думал
над этими снами, тем больше проникался уверенностью в том,
что они указывали на истинный ход событий. Это заг/ечание кажется автору реферируемой книги очень важным: под покровом
"официальной" церковной культуры даже среди "высоколобых"
клириков жила уходящая корнями в глубокую архалку вера в
пророческие свойства сновидений. Точно так же клир-iKii, не говоря уже о простых людях, верили в возможность явления во сне
мертвых и разговоров с ними. Официальная теология со времен
Августина считала такие сны "фантазиями" спящих, тем не менее монастырский устав Клюни в XI в. предписывал рассматривать явление монахам во сне их умершего брата каь реальную
просьбу помочь его душе, умножив количество молитв о нем и
заупокойных месс.
В средневековой культуре сны служили неким "медиумом" между сферой земного и сакрального, разумеется, по-разному воспринимаемым и объясняемым на разных "этажах" этой культуры. Тем не менее все слои общества (может быть, каждый по-своему) искали в них встречи с божественным, совета, поддержки в
трудной ситуации или при выборе решения. Простые люди доверяли снам, и это позволяло использовать видения и сны как "аргументы" в житиях, при основании новых монастырей и храмов,
переносе реликвий, что порой служило прямым интересам (и материальным в том числе) церковных и светских властей.
Обилие в источниках сообщений о сновидениях свидетельствует, по мнению Витмер-Бутш, о том, что их истолкование играло
большую роль в повседневной жизни средневекового общества.
' Si.iiiil\\'('.\ P. \:.\\ ni.ii'^c (jc I.I Lc^cniJc doi'cc: songcs. lnll',l^. lL ^ L'I МГУ^.ИИЛ'^. V..
1^0.
' CM., напр.. Lcyrnin W. Die Polilik in dcii .lcnscitsviMoncn (jcs liiil'cii Millchillci^
// iih'iii. Ails rliciiiischcr liiid Irankischer РшЬ/.сИ. О^^с^огГ. 194^'. ^)^^^ч^^^^^ l Ч.
Pohtischc lind acscilichllii-'lic Eicilicnic in lllillcliillcrik'hcn jcnscitsvisioncii his /iini Elide
des 1.^. j.lhl h^.lndel l^^. Wlir/hiirg. l%3: Diii^clhacliii P. Ki)iperliche liiid .seelisi-'he
У>1^^11пц1.1п1;е11 relimoser Тг.шпп.' liiid Vi.siuiien // I Sofni IK'I Medni l.\(): Seniiiiaiio
Roniii 2-4. 10. 1ОД.Ч. Roma. 1ОД5: Hnni Л. Ti'aliin lind Traliimision in dei dullls^. hell
Myslik // Aiialecia Cai'Uisiaiiii l()(). Sal/.hlirg, 1ЗДЗ: Munxl'lli К Riecic.i siill'iiiHiieii/.i
della nrole/.i.i iiel hasso inedioevo // Biillclin dell'lnstUlilo Storico [(аНап') pel il Medi()).
' /.( (loll".1. Les reves dans I.I clililii'e el la psyeholouie colleclive de ГОе^еШ //
idem. Polir 1111 aliti'e Moveii-Aue. P..1975.
^ ^ 'l. ^< ^u'l S. The cniiipicic niccliL-val circuinhiniks. \ nnilnliliau.il. .iliilKilx'lic.i!
"Sonini.i Daniclis" Cnll.ilii)n. l 'l ^lllkl^lrl :i.M.. 1^2.
' S< ^lllllll ./.-<". R^ \ cs cUi 12-с MCLk' // I SdL'ni ncl ML-dii) ['.vn.
Mtiii^'Hi K. II sd^lio i-'onic j^l'l. lll^^nl/lllпc. i.()iisi^ll(i с iiiL'Ji.sniilc :^'ll.i li.11.11/111111'
nlcdicv.ilc ,'/ I SIIL'III ncl Mctlio h\4.
Ю.ЕАрначт.ови
13. Э.КАНТОРОВИЧ. ДВА ТЕЛА КОРОЛЯ. ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.
E.KANTOROWICZ. LES DEUX CORPS DU ROI. ESSAI SUR LA
THEOLOGIE POLITIQUE DU MOYEN AGE. PARIS. 1989. 638
P. БИБЛ.: PP. 560-581
Эрнст Канторович (1895-1963) - выдающийся немецкий медиевист, непростая биография и многоплановое творчество которого привлекают все большее внимание историков^. Необычна и
судьба его книги "Два тела короля". Опубликованная впервые в
1957 г. В США^, она прошла почти незамеченной дл^ современников. О Канторовиче вспомнили тогда, когда "нова^ историческая наука' заинтересовалась политической историей и началось
обновление ее сюжетов и методики, связанное с решением таких
задач, как анализ самого феномена власти, политическая семиотика, история политических представлений. Проблем? тика работы Канторовича во многом оказалась созвучной задачам политической антропологии, поскольку это был один из первых опытов
обобщения возникших в Западной Европе представлений о королевской власти и ее сакральной природе. Книга была переиздана,
переведена на многие языки, вызвала широкий отклик и самые
разноречивые суждения.
Свое исследование историк посвящает "политической теологии" Средневековья. Как известно, король рассматривался в
Средневековье и как индивид, и - по крайней мере уже со времен Каролингов - как сверхъестественное существо, причастное
сакральной власти. Отсюда вопрос: к каким аргументом прибегала королевская власть для освящения своего господства и каким
образом эволюция представлений о власти связана с эволюцией
средневекового общества? Исследуя эти проблемы, Канторович
опирается прежде всего на теологические и литературные сочинения, политические и юридические трактаты.
Представление о существовании "двух тел" короля нашло наиболее полное отражение в трактатах английских юристов XVI в.
Канторович начинает с анализа этих трактатов, чтобы выявить
характер и содержание представления о "двух телах" короля, а
затем обращается к предшествующей традиции, чтобы посмотреть, как формировалось это понятие. Подтверждения существования исследуемого понятия он ищет и в трактатах знатоков
римского права, и у Данте, и в теологии. Поэтому книга носит
скорее характер связанных между собой единой темой очерков,
чем монографического исследования.
142
В первой главе ("Проблемы: донесения Плаудена") комменти-
руется следующий пассаж из трактата английского юриста
XVI в.: "У короля есть два тела, тело естественное и тело политическое. Его естественное тело, .чаключенно^ в нем самом, есть тело смертное, подверженное всем недугам, происходящим естественно или в результате несчастного случая, по недомыслию детского или почтенного возраста или вследствие других недостатков, присущих естественным телам обычных людей. Н-) его политическое тело, которое нельзя увидеть или потрогать, существует
для наставления народа и для осуществления общественного блага: это тело совершенно свободно от детского состояния и других
недостатков и слабостей, которым подвержено тело естественное.
По этой причине то, v"o король делает в силу того, что обладает
политическим телом, не может быть признано недействительным" (с. 22). Эти два тела короля, по мнению средневековых
юристов, составляют "невидимое единство": каждое из них полностью "содержится в другом". Но все же юристы, как показывает затем Канторович, констатируют превосходство "политического тела" над "телом естественным".
Понятие "два тела" короля нашло отражение и в пьесах Шекспира, в чем Канторович видит подтверждение распространенности этого представления в XVI в. Об этом идет речь в главе II
"Шекспир, король Ричард". Трагедия короля Ричарда II у Шекспира интерпретируется Канторовичем как трагедия "двух тел"
короля. Есть король мистический - король "милостью божьей".
Но этот образ королевской власти у Шекспира постепенно сходит
на нет, по мере того, как реальная власть короля слабеет. Образ
короля, который "никогда не умирает" (qiii nu]iqiia;ii iiioritlir)
вытесняется образом короля смертного. Ричард II боле? не воплощает мистическое тело своих подданных и английской нации. Он
оказывается предателем по отношению к своему бессмертному
"политическому телу". "Естественное тело" короля предает свое
"политическое тело". Власть короля оказывается призрачной, перед читателем лишь бессильная плоть.
Канторович обращает внимание на определенное сходство между сформулированной юристами концепцией "двух тел" и постулатами канонического права, удостоверяющими, чго церковь
и христианское общество в целом суть "мистическое тело"
("corpus mysticum"), во главе которого находится Христос. По его
мнению, эти церковные представления были перенесены из теологической сферы в северу общественного устройства в частности, государства, главой которого был признан король. Если термин "два тела", пишет Канторович, заменить термином "две природы", то станет ясно, что английские юристы XVI в заимствовали свои представления из теологии.
Истоки этого представления Канторович ищет в трактатах
анонимного нормандского юриста XII в., что составляет предмет
третьей главы "Королевская власть, основанная на Христе". Эти
трактаты исполнены роялистских чувств и, по выражению Кан-
торовича, еще горят "огнем, зажженным борьбой за инвеституру". В трактате "Об освящении епископов и королей" речь идет о
двойной природе короля, а также раскрывается мистический
смысл миропомазания королей и епископов. По естественной
природе своей король - обычный человек, а по божественной власти, переданной ему освящением, он - милостью Божьей Христос, Богочеловек. Аноним характеризует ветхозаветных царей:
они предвосхитили приход настоящего владыки - Хризта, "помазанного вечностью". После прихода воплотившегося Христа и после его вознесения в качестве царя небесного, земная власть получила свою функцию в системе спасения. Земные владыки являлись отныне не провозвестниками Христа, но его тенями, "подражателями" Христа. Христианский суверен - "christomimetes",
"актер" или "персонификатор" Христа. На земной сцене он представляет живой образ Бога. Но между королем и Христом существенная разница: Христос - "помазанник вечности", а его земной прототип - король - "временный помазанник".
Как считает Канторович, теологическая концепция королевской власти в это время (XII в.) строится вокруг антитезы naiura
- gratici (природа - милость). На этот счет историк приводит высказывания того же анонимного нормандского юриста: "Власть
короля есть власть Бога; [она] принадлежит Богу по природе и
королю по милости". Таким образом, король есть в то :ке время и
Бог, но по милости, и все, что он ни делает, он делает не только
в качестве человека, но как "наделенный милостью Божьей".
Все эти идеи, пишет Канторович, были очень актуальными в
период борьбы за инвеституру. Защищая интересы кэролевской
власти, сторонники монархии часто ссылались на божественную
природу короля. Именно в это время и сформировалась теория
короля-священника, представление о королевской власти как литургической. Со временем ставшая очевидной невозможность победы в борьбе за инвеституру ни одной из сторон положила конец
попыткам утвердить литургическую модель королевсъой власти.
Представление о короле-священнике, в котором видели прежде
всего образ Христа, постепенно исчезло. По в Х-Х1 вв. именно такие представления о королевской власти были, как предполагает
Канторович, наиболее типичными.
Чтобы убедиться в этом, он обращается к иконографическоН
традиции. Подтверждением того, что земной владыка воспринимался как "персонификатор Христа", является, по мнению Канторовича, знаменитая миниатюра "Евангелия Аахенской
капеллы", выполненная в 973 г. в аббатстве Рейхенау. Эта миниатюра представляет восседающего на троне Оттона [1. Суверен
изображен с императорской диадемой, пурпурным плащом на
плечах, все атрибуты его земной власти ниже его, тогда как сам
он парит в небесах. Трон его подвешен в небе и в те' же время
спускается на землю, вокруг него - символы евангелистов, князья, церковные иерархи и т.д. Божественный нимб, окружающий
руку Бога, почти касается королевского нимба. Император нахо-
дится между Небом и Землей: он принадлежит и Земле, верша
земные дела, и в то же время он существо сверхъестественное,
наделенное властью небесной. Точно так же и в ви.чантийской
иконографической традиции императоры изображались с нимбом
над головой, этот нимб символ вечной власти, идущей от бога,
знак сакральной природы императора.
Когда представление о короле-священнике начинает терять
свою очевидность, формирующаяся политическая мысль для подтверждения сакральной природы королевской власти обращается
уже к иной аргументации. В четвертой главе книги ("Королевская власть, основывающаяся на законе") историк прослеживает,
как концепция королевской власти постепенно удаляется от теологической сферы и выкристаллизовывается новая политическая
теория - не на основе представлений о короле как образе Христа,
а на основе ученой юриспруденции. Это не означает, что прежняя
концепция была отброшена и бесследно исчезла", скорее существовавшая ранее система ценностей была адаптирована к новому образу мышления - светскому и преимущественно юридическому.
На примере правления Фридриха II Гогенштауфена Канторович показывает, как это происходило. Фридрих II во всех своих
актах вдохновлялся идеей Божества, но оправдание сг.оих действий черпал из кодекса Юстиниана (так же, как раньше короли
ссылались на библейскую традицию). По мнению Канторовича, и
XIII в. на смену религиозным ценностям пришло римское право.
Если в эпоху борьбы за инвеституру королевская власть рассматривалась как эманация литургических и сакрамснтальлых ценностей, то теперь - как эманация права. Государь не переставал
быть "королем и священником", но утверждал свой сг.ященнпчсскпй сан через посредство высоких претензий философии римского права, которое приравнивало экспертов права к священникам.
Фридриха II называли "lex aniinata" - "воплощением юстиции".
Императорский сан - величество, которое есть lex .miliiata на
земле и в котором гражданские законы имеют свое начало. Юстиция стала рассматриваться как опосредующее звено м'?жду королем и Богом. Юриспруденция как закон божественных и человеческих вещей таков лейтмотив юридических трактатов. Новая
дуальность образа короля была основана на "религии права" "i'eligio juris". Поле напряжения власти теперь определялось не
поляризацией человеческой природы и божественной милости, а
поляризацией, сформулированной в юридических терминах: "закон природы" - "закон человека", или "природа - человек", а
позже "разум - общество". Король - "pater et filing jnstitiae"
("отец и сын юстиции"). Отныне связь устанавливается между
Христом и Юстицией, Таким образом, очевидной становится секуляризация медиаторской функции короля. Праву приписывается божественный характер: "Юрист может ошибатьгя, но Юстиция - никогда" (с. 103). государь же, являясь "во (лощением
юстиции", разделял с Юстицией ее могущество.
Все эти идеи получают свое развитие в^етштических и юридических трактатах, в частности, в сочинениях английского юриста
XIII в. Брактона, анализу которых Канторович посвящает специальный раздел главы четвертой. Говоря о причастност-i короля к
божественной Юстиции, Брактон утверждает, что государь "и выше и ниже закона". В одном из трактатов он пишет: "Будучи викарием Бога и его министром на земле, король не обладает иной
властью, чем та, которую он имеет от Закона". В другом тракт,пе
он утверждает: "Король должен быть подчинен Богу и Закону,
так как именно закон делает короля" (с. 122). Сакралгзация власти короля осуществляется через посредство юстиции.
Важно, что в это же время формировался принцип неотчуждаемости прав короны. Этой проблеме посвящен разде.' "C'liri.stosfiscHS" ("Христос-фиск") той же главы. По отношению к королевскому домену постепенно стала употребляться формула "N nil um
tenipn.s currit contra regem" ("Против короля срок давности недействителен"), которая ранее употреблялась лишь по отношению к имуществу церкви. Королевская казна, домен, регальные
права стали рассматриваться как "неотчуждаемые" Брактон,
подразумевая их, говорил о "почти священных вещах" (res quasi
sacrae), которые не могут быть отчуждены, как и res sacrae, принадлежавшие церкви. Стали различаться права, которыми наделен король для "своего блага", и принадлежащие ему права, в
которых реализуется "благо общества". Различия, таким образом, делались между частными и публично-правовыми прерогативами короля, между (феодальными и (фискальными ег') правами.
Его сеньориальные прерогативы - это одно, его регальные права
- это другое. Начиная с XIII в. считалось, что фиск представляет
собой внутри королевства или империи некую скорму сверхличной и вечной ценности, которая так же мало зависит от жизни
того или иного суверена, как мало зависит собственность церкви
от жизни конкретного папы или епископа. Возникают понятно
"бессмертного списка", отделенного от личности монарха. Происходит своеобразный процесс "приравнивания" (acquiparatio)
церкви и фиска. Абстрактное понятие "корона" сближается с понятием фиска или королевского домена. Брактон прямо сближал
"res quasi sacrae" и "res fisci", утверждая тезис "Quoil noil capit.
Christus, rapit l'iscus" - "Чего не получает Христос, то забирает
фиск". Церковь и фиск оказывались таким образом рапноправными.
На основании этих постулатов юристы начали подвергать сомнению, в частности, и законность Константинова дарл. Они рассуждали так: государь не имел права отчуждать собственность
империи, а церковь, спустя много лет вспомнив о Константиновом даре, также не могла претендовать на эти земли, поскольку
срок давности не распространяется на собственность империи
(списка). ^^.
Итак, во времена Брактона было осознано различие между ко-
ролем-сеньером и королем - сверхиндивидуальной личностью,
олицетворявшей "политическое тело", которое "никогда не умирает". T.iKoe же религиозное представление было экстраполировано - посредством сравнения между вечностью фиска и вечностью
Бога или Христа - И на сферу королевской власти. Если анонимный нормандский хронист XII в. приписывал королю божественную и богоравную природу божьей милостью, то пек спустя
Фридрих II, будучи lex aiiiniata, уже видел сущность суверенитета в бессмертной идее юстиции. Король стал "викарием Юстиции", как раньше был "викарием Христа".
Новый ореол теперь окружает нацию и рождающееся государство: административный аппарат и публичные институты стали
приобретать тот характер, который ранее признавался за церковью. Средневековая дихотомия "sacerdotium" и "regnum" была
заменена дихотомией короля и права. Но эта сакрализация статуса короля и государства была бы незавершенной, если бы новое
государство само не рассматривалось как эквивалент церкви и в
своих видимых частях, и как "мистическое тело".
Анализу этих представлений посвящена пятая г.т ава книги
"Королевская власть, основанная на politia: corpus inysticum".
Канторович показывает, что взаимоотношения между государством и церковью приводят к образованию "гибридов" в обеих областях. Происходит взаимное заимствование инсигний, политических символов и пр. Папа украшает свою тиару золотой короной, облачается в императорский пурпур, посылает впереди своей
процессии имперские стяги. У императора появляется митра на
короне, он надевает папские башмаки и другие церкопные одежды и во время коронации получает, как и епископ, кольцо. В
XIII в. этот взаимный обмен символами переносится с персон на
коллективные общности. Иерархи римской церкви стремятся сделать ее совершенным прототипом абсолютной монархии, базирующейся на мистической основе, в то время как государство все
более становится квази-церковью и мистической корпорацией на
рациональной основе.
Особое влияние на политическую мысль Позднего Средневековья имели представления о т.н. "мистическом теле церкви". Понятие "corpus Ecclesiae iiiy.sticiiiii" было в сжатом виде дано в
1302 г. папой Бонифацием VIII в булле "Uiiaiii напс^.ин": "Движимые верой, мы должны верить в единую церковь католическую, а также апостолическую... без которой нет ни спасения, ни
отпущения грехов... которая представляет собой едино ^ тело мистическое, голова которого Христос, а голова Христа - Бог"
(с. 146). Так духовной властью было предпринято усилие, пишет
Канторович, чтобы дать отпор рождавшейся независимости светского политического корпуса и по возможности руководить им.
Мысль Бонифацпя VIII состояла в том, что политическое тело
имеет чисто (функциональный характер внутри универсальной
общности мистического тела церкви.
Само понятие о церкви как "corpus Cliristi" ("теле Христа")
восходит к апостолу Павлу, но термин "corpus iiiysticum" ("мистическое тело") не имел библейской традиции. Впервые он появился в каролингское время. Вначале этот термин употреблялся
по отношению к освященной гостий. В XII в. термины меняют
свое значение. Возможно, считает Канторович, это было связано
со спорами о пресуществлении, имевшими место в XI в. В ответ
на учение Неренгария Турского и еретиков, имевших тенденцию
спиритуализовать освящение гостий, церковь должна была настаивать на реальном присутствии (а не спиритуальном и мистическом) Христа-человека и Христа-Бога в гостий. Освященный
хлеб стал называться "corpus verum" ("истинное тело"), а
церковь "corpus iiiysticum". После 1150 г. понятие стало использоваться для обозначения церкви как объединенного в таинстве христианского общества. После 1215 г., когда на IV Латеранском соборе был принят догмат о реальном присутствии Бога
в гостий, и евхаристия была официально объявле-ia "corpus
veruiii", термин "corpus iuysticum" стал использоьаться для
обозначения церкви как политического института. Выражение
"corpus iiiysticum", которое поначалу имело лишь литургический
смысл, получило II социологическое .шаченне. Церкопь nT/n'c'i'e с
церповной бюрократией стала рассматриваться как "мистическое
тело Христа". В да.чьнешием. не терян сакраментальют харак
тера, понятие все больше наполняется снетским, н)l:.и^^""ll ( ^;ll.^l
содержанием. "Мистическое тело Христа" превращае-юя и "мистическое тело церкви". Уже Фома АКВИН! !;ий упol jer). [^[e l :rr<)
последнее выражение: "Как церковь в целом на.^ывае-юя единым
телом мистическим в силу своего сходства ; естественным телом
человека и в силу разнообразия своих функций, сходных < рази')
образием членов человеческого тела, точно так же Христос называется главой церкви" (с. 151).
В то время как грандиозная идея церкви "corpus mysticuni
cilius caput Christus" ("мистическое тело, голова которого Христос") наполнялась светским содержанием - как корпоративным,
так и юридическим, само светское государство впадало, быть может, в другую крайность, претендуя на свое почти религиозное
освящение и прославление. В этих целях использовал? сь концепция corpus niysticum, которую политизировала и секуляризировала уже сама церковь; и постепенно это понятие становилось достоянием юристов, государственных людей и ученых, создававших новую идеологию суверенных государств. Стремление сакрализовать государство привело к заимствованиям не только из
римского права, но и из канонического. Новое территоииалыюе и
фактически национальное государство провозгласило свою независимость от церкви, использовав все богатство церковных идей.
Так, Винцент из Бовэ говорил о "corpus reipublicae niysticum",
также подразумевая под этим все христианское общее гво. Всюду
" ы встречаемся с этим сравнением: "государь глава мистиче-
ского тела государства" сравнивается с Христом - главой мистического тела церкви. Образ Христа как супруга церкви переместился из духовной сферы в светскую и был адаптирован юристами для определения отношений между государем и государством.
Французские юристы употребляют термин "corpus niysticum" и
по отношению ко всем сословиям общества. Наследование престола было определено кутюмой и согласием всех трех сословий: Король принадлежит "всему гражданскому или мистическому телу
государства". Имел место своеобразный мистический бзак короля
с королевством. Как церковь была "невестой Христовой", его
мистическим телом, так и королевская власть была "мистическим телом" королевства.
Тогда же - в XIII в. возникает и понятие родины (patria),
анализу которого Канторович посвящает специальный раздел. В
классической античности это понятие означало совокупность всех
моральных, политических и религиозных ценностен. В эпоху
Средневековья оно изменило свой смысл; вассальные связи вытеснили идею patria, хотя само слово не исчезло. Оно употреблялось применительно к городу, деревне, лачуге и пр. Но в это время "сражаться за родину" было уже частным делом. Войны велись не с помощью ополчений граждан, а с помощью армий вассалов. Это скорее жертвы "pro domino", а не "pro patria" ("за господина". а не "за родину"). Только в XIII в. юристы провозгласили, что обязанность защищать родину выше вассальных обязательств.
Однако в церковном языке понятие "patria" сохраняло прежний смысл. Христианин был гражданином другого мира. Его настоящая родина - царство небесное. Небесный Иерусалим. Цель
христианина заключается в том, чтобы его душа попала "ad
patriam Paradisi" - "в райскую родину". Христианским мученик,
умирающий "за веру" - образец для подражания. Во время крестовых походов взимались налоги "для защиты Св. Земли". То,
что было хорошо для "Христова царства", было хорошо для королевств Сицилии, Англии, Франции. Идея "belhim justum" ("справедливой войны") провозглашалась ради защиты родины и Святой Земли. Крестоносец погибал в борьбе против неверных и сразу отправлялся в небесный рай. Ив Шартрский в своих трудах
"Decretum" и "Paiiormia" собрал все отрывки, где небесное вознаграждение было обещано тем, кто умирал "за истину веры, спасение родины II защиту христиан".
Но постепенно происходила секуляризация понятия "patria",
причем терминология заимствовалась из римского права, переполненного патриотической лексикой. Так, в "Дигестах" различались 'patria propria" (свой город) и communis patrii ("общая
родина"). Легисты использовали символ Рима в качестве patria
coiiiimmis применительно к различным монархиям. TIK, средневековый Париж - это Рим Франции. Франция стала постепенно
patria comiiiuilis для всех французов. Идея суверенитета Рима бы-
ла заимствована всеми национальными монархиями. Верность
новой родине, территориально ограниченной, заменила транснациональные связи фиктивной всеобщей империи. Церковная
идея стала светской. Политики стали использовать силу религиозного чувства в откровенно политических целях нового мистического тела территориальной национальной монархии.
Во Франции возник культ королевской династии. Французские "христианнейшие короли" были наследственными защитниками церкви. Политико-моральные идеи смешивались с религиозными ценностями. Проповедник требовал от своих соотечественников жертв во имя своего короля. Смерть на поле боя за политический "corpus mysticlini" во главе с королем официально
приравнивалась к мученичеству. Понятие "мистического тела родины" перекрывало понятие "мистического тела церкви".
Итак, церковная идея "мистического тела" была перенесена на
политические общности. Милость и Юстиция оставались вечными ценностями, они сыграли свою роль в разработке идеи континуитета новых монархий, так как идея правителя милостью Божией обрела новую жизнь в династических идеологиях, а идея
Юстиниана о вечной и бессмертной власти сыграла важную роль
в формировании представлений о неизменном характере королевской власти и короны и континуитете политических тститутов.
Об этом идет речь в следующей, шестой главе "О континуитете и
корпорациях".
За проблемой "дв\"'- тел короля", как полагает Канторович,
стоит проблема континуитета. Аристотелевская концепция "вечности мира" и ее аверроистская интерпретация вопрос о печном
континуитете стала в XIII в. философской проблемой номер
один. С этого времени в западноевропейской политической мысли
начинается процесс, переосмысления доктрины о "вечности мира". Этот процесс совпадал с процессом формирования представлений о "континуитете" в конституционной и юридикс-политической! сфере.
XIII век в истории Западной Европы отмечен как "аристотелевский ренессанс". Изучение Аристотеля, по мнению Канторовича, привнесло в культуру новое понимание времени и это стало одним из факторов активизации западноевропейской мысли.
До этой эпохи время имело, прежде всего благодаря авторитету
Блаженного Августина, плохую репутацию. Противопоставлялось
р^емя, как измерение жизни "земного царства", и вечность, как
категория "небесного царства". С XII в. схоласты пыт.ются пересмотреть дуалистическую концепцию времени Августина. Акцент
перемещается на понятие "aevniii" ("век"), которое сокращает
пропасть между вечностью и конечным временем, соединяет их
между собою. Царство земное, земные институты и реалии также
приобрели новое измерение, приобщились вечности, происходила
реабилитация земного мира.
Эти изменения в отношении ко времени привели к (формированию представления о почти бесконечном континуитете публичных институтов. Максима о неотчуждаемости королевского домена, как и идея бессмертного публичного фиска, стали вехами новой концепции института континуитета, инспирированной римским и каноническим правом. Новое понимание земного времени
проникает в повседневную жизнь, публичные, финансэвые, юридические и административные институты.
Тогда же формируется и представление о короле как главе
вечного и бессмертного "политического тела". Об ЭТО]У речь идет
в седьмой главе "Король никогда не умирает". Формирование
этой идеи зависело от нескольких факторов - представлений о
вечности династии, бессмертии короны и королевском достоинстве ("dignitas").
Во времена господства литургического типа власти, как известно, король приступал к реализации своих прерогатив только
после освящения церкви - миропомазания, которое и сообщало
его господству сакральный характер. В эпоху секуляризации всех
сфер общественной жизни ^се западноевропейские монархи стремились разъединить начало реального правления и его церковное
освящение. Так, после смерти Людовика IX Филипп III сразу
взял власть в свои руки и датировал свои указы с момента своего
воцарения, а не с момента церковного освящения. Эдуард 1 после
смерти Генриха III в 1272 г. сразу же стал править, хэтя его коронация имела место лишь в 1274 г. За церковью остается лишь
право объявления следующего правителя. Из публичного права
заимствуется мысль о том, что на королевском троне преемник и
предшественник есть одно лицо. По мысли ученых юристов, перерыва в наследовании не могло быть. Истинная легитимность
короля - династическая. Право на трон наследника определяется
Богом. В это время получает распространение представление о
том, что св. Дух уже присутствует в королевской крови, тогда
как ранее считали, что он явлен в выборе епископа, а дары св.
Духа передаются путем церковного помазания. Французские легисты доказывали, что королевская династия происходит от Карла Великого, ее представители были святыми королями, по природе и по милости божьей наделенными мистическими способностями. Так династия, "королевский дом" приобретал черты
сверхиндивидуального общества, сходного с "бессмертной корпорацией" ("ulliversitas qui nuiiquam moritur").
Подобные изменения происходят и с представлениями о королевской короне. Представление о "видимой и невидимой короне"
бь:л<.< характерно еще для античности: считалось, что император,
помимо "материальной и видимой короны" диадемы, имел "невидимую корону", которой его короновали боги. Об этой невидимой короне можно было сказать, что она вечная ("corona quae
lion moritur"). Во времена классического Средневековья в западноевропейских монархиях термин "корона" вновь входит в упот-
ребление. Однако он применяется прежде всего для о^означсппя
фискального имущества, собственности королевства. В английских документах XII в. различают главных держателей, которые
владеют тем, что "принадлежит короне", и тех, кто держит от
короля рыцарский фьеф не по нраву короны, п по npaw баронства. В трактате английского юриста XIII в. Гланвиля термин "корона" относится к публичной сфере и общественной пользе. Это
то, что принадлежит королю, а значит является неотчуждаемым.
К концу XIV в. формула о неотчуждаемости имущества короны
была записана во все юридические акты. Король и корона становятся своеобразными вечными и безличными институтами.
В это же время формируется представление об особом "достоинстве" ("digilitas") короны, которое рассматривалось как высшее воплощение суверенитета всего политического тела королевства. Юристы проводили аналогию между королевским достоинством и сказочной птицей Феникс, возрождающейся из пепла.
Эта метафора соответствовала максиме "бессмертное дсстоинство"
королевской власти. Английские юристы также доказывали, что
не сам король бессмертен, а бессмертна его "digilitas". Феникс не
случайно был эмблемой королевы Елизаветы. Король умер да
здравствует король! Король-индивид мог умереть, но король как
представитель суверенной Юстиции, воплощение "digilitas" - никогда^.
К тому же времени относятся первые изображения суверенов.
Начиная с захоронения Эдуарда II в 1327 г. существует обычай
помещать на крышке гроба "изображение" или "королевский
лик" - из дерева или кожи. Демонстрация изображений монархов была связана с новыми политическими идеями, например,
представлением о том, что королевская "dignitas" никогда не
умирает и что через изображение юрисдикция умершего короля
действует вплоть до дня его похорон, когда покойный король в
последний раз представляет персону "digilita.s". Наушная с Людовика XII (умер в 1515 г.) надгробные памятники фраш.узских королей начали представлять короля или королевскую пару такими, какими они выглядели в жизни, чаще всего склоненными в
молитве: или же надгробная скульптура изображала короля под
покрывалом, с закрытыми глазами. На закате Средпенековья западная культура особенно остро осознала противореше между
бренным характером плоти и бессмертным великолепием
"dignitas", которую эта плоть представляла. Утверждая бессмертие "digilita.s", юристы, тем самым, обнаружили и сделали более
уязвимой эфемерную природу смертного венценосца. Доктрина
"двух тел" достигла в эту эпоху высшей точки своего развития.
Последняя, восьмая глава труда Канторовича посвящена анализу представлений о власти в сочинениях Данте.
В эпилоге своей книги Канторович пытается найти какие-ни
будь намеки на существование понятия о "двух телах" короля
еще в античности. Такие сведения он обнаруживает, например, у
Плутарха, который различает "друзей Александра" и "друзей царя". Представление о том, что античный правитель является божественным существом и в своем поведении подражает Богу, отражено в трактатах неопифагорейцев. Его отличие от взглядов
нормандских юристов XII в. заключается, по мнению Канторовича, лишь в том, что в первом случае обожествление есгь "результат мимесиса", а во втором - результат наделения монарха божественной милостью ("gratia").
Но все же, приходит к выводу Канторович, доктрина юристов
тюдоровской эпохи опирается на паулинскую концепцию. Несмотря на определенное сходство с языческими представлениями,
концепция "двух тел" короля является продуктом христианских
понятий и представляет собой определенный этап развития христианской политической теологии.
' CM., Buurcuu A. Histoircs (l'iiii Ilistorieii: K.iiit.orowicz. F., 1990; см.
также: Экслс О. "Император Фридрих II" Э. Кинторовпчп и по.чптпческоИ полемике цремсн ВсПмарскоп республики. Док.чад на ю.члоквиуме
"Эрнст Канторович сегодня" (Франкфурт-нп-МпИне, дек. 1993 г.)
Одиссеи 1996 (в исчати).
^ Kantorou'fcz Е. The king's Uvo bodies. A study in iiiedii'val Dolitic.il
theology. Pi-iiicetoil, 1957.
'" По мнению А. Буро, теория "двух те.ч" короля, содержащаяся в
трактатах юристов елизаветинскоН эпохи, является всего лишь часчиым
случаем применения более ранней и распрос.траненнои формулы
"Digtiitas noiiquan] iiioritiii-" ("бессмертное достоинство"), и Канторович
неоправданно приписывает частному случаю характер "вс.-общей догмы". К ч-ому же, отмечает Буро, сам текст Плаудсна акцептирует неделимый характер личности короля, который есть и король милостью
оожьеН, и обычный человек. Речь идет, таким образом, об одном теле
коро.чя (см. Bourcau A. Le simple corps dii i-oi. L'iiiipossible sacralitc des
souveraiiis t'i-am-ais XV-XVIII. P.. 1988.
С.И.Луч 11 ц кия
14. СИМВОЛИКА КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ.
ОБЗОР.
Проблема изменяя средневековой королевской власти имеет
применительно к Франции свою специфику. Э.Канторович убедительно показал, что средневековая монархия неоднократно предпринимала попытки разработать собственную "политическую теологию", перенося религиозную символику в политическую северу*. Тринадцать веков существования монархии во Франции привели к появлению "королевского мифа", соединившего христианскую доктрину и национальную символику, утвердившего идею
избранности Франции и ее короля и обеспечившего преемственность политического и культурного развития страны. "Королевский миф" во Франции стал фактором первостепенной важности,
"мобилизовавшим", по выражению П. Симона^, общес"во и политику Старого порядка.
Для формирования "королевского мифа" во Франции, как писал Канторович в своей книге, посвященной культу правителя в
Средние века^, решающим было царствование св. Людовика.
Именно тогда королевская власть усилиями спиритуалов XIII в.
была возведена до трансцендентного уровня, а королю удалось
стяжать сокровище "божественной благодати", которая затем
стала неотъемлемой принадлежностью французской монархии.
Мистическое восприятие королевской власти достигло своего апогея в эпоху Карла V, когда была сформулирована теория о том,
что государство представляет собой "corpus mysticum" во главе с
королем. "Королевский миф" обеспечил французскому королю
ореол и престиж, не сравнимые с властью других епропейс.ких
монархов.
Долгое время королевская власть была предметом изучения
той политической истории, которая ограничивала свое внимание
описанием генезиса институтов власти, политических идей и событий. Возродившийся в 70-гг. интерес к политической истории
в рамках "новой исторической науки" сопровождался изменением самого ее предмета. Историки обращаются к политической истории, обогащенные опытом историко-антропологическпх исследований. Акцент перемещается с описания институтом власти ча
их функционирование в контексте данной историко-культурноп
системы. В работах, появившихся в 80-е-90-е гг., политика рассматривается не просто как инструмент организации власти, но
как одна из форм социальной коммуникации, а новая политическая история включает, среди прочего, анализ языка политиче155
ских символов и мира представлений. Внимание современных исследователей все более привлекают такие ранее не востребованные темы, как семиотика политического ритуала, способы осуществления королевской пропаганды, различные формы репрезентации королевской персоны.
В качестве примера можно указать на статью .Поу^енса Брайанта "Церемония королевского въезда в Париж в Средние века"'*.
Истоки ритуала восходят к поздней Античности (adventus императоров). В Париже церемонии этого рода существовали в XIVXVII вв., однако содержание их, как считает автор, значительно
менялось с гечением времени. Лишь постепенно въезд в Париж
нового короля 113 церемонии местного значения про тратился в
один из важнейших королевских ритуалов. Среднеиекопая церемония королевского въезда в Париж символизировала единство
"политического тела" государства. Она являлась выражением об-
щественного права, молчаливее признаваемого как королем, так и
его подданными. Посредством этой церемонии, объектом почитания в которой был король, представители различных сословий
Парижа как бы вступали с ним в символический диалог. Автор
показывает, как через жесты, символы, цвета одежд и т.д. выражается идея взаимности прав и обязанностей социально-юридических групп, участвующих г. церемонии.
В разные периоды акцентировались различные аспекты ритуала
королевского въезда в Париж. Например, при сохранении в ритуале
призыва к новому монарху подтвердить прежние вольности и привилегии сословий, в XV в. особо подчеркивалась роль парижского парламента как важнейшего юридического института, занимаю дего второе
110 значению место после короля. В XVII в. ритуал королевского въезда был полностью переосмыслен в духе идеологии абсолюгизма, и его
юридический дискурс сменился льстивой риторикой восхваления королевского величия. Королевский въезд в Париж, считагт Брайант,
стал рассматриваться как трансцендентный по своему характеру акт,
выражающий скорее некое универсальное содержание, "эсхатологическую миссию" короля, чем связь с конкретными обстоятельствами его
царствования.
Среди работ, демонстрирующих новые подходы к изучению
политической истории, обращает на себя внимание статья Ж..Tie
Гоффа "Реймс, город коронации", помещенная в известном, изданном Пьером Нора сборнике "Места памяти"''. В центре статьи
Ле Гоффа (как и всех работ, помещенных в книге "Места памяти") - способ исторического самосознания нации, ее политической самоидентификации и тех созидательных символов, посредством которых это самосознание осуществлялось. Ве;,ь нация это не просто юридический термин или территориальная общность, это еще и коллективные предс.тавЬения люден о себе, их
историческая о себе память. Реймс - гЬрод, место коронацин
французских монархов - стал одним из узлов национачьного сознания II национальной памяти первостепенной важности.
На протяжении Х11-ХП1 вв. три соперничавших центра - Париж, Реймс, Сен-Дени - оспаривали право стать наплональным
символом Франции. Париж, оказавшись цантром светской власти, местом королевской резиденции и администрация, не стал,
тем не менее, средоточием власти сакральной. Именно Реймс,
сделавшись местом коронации французских королей, объединив
церковь и монархию вокруг "королевской религии", в XIII и. становится политическим символом Франции, а сам рит\ал коронации - литургическим и символическим выражением равновесия
церкви и государства. Прослеживая генезис "мифа" Реймса
(включавшего в с"бя воспоминание о крещении Хлод1.ига, культ
св. Ремигия и т.д.), Ле Гофф стремится выявить как объективные, глубинные причины, позволившие городу занять в истории
столь исключительное место, так и субъективные, случайные обстоятельства. Он помещает историю города в глобальный истори-
ческий контекст, рассматривая географические, этнические факторы, роль римского наследия и христианства, описывает историю "мифа" Реймса в "longue durce". Важным политическим последствием интеграции французской монархии в национальную
память стало развитие в XIII в. идеи независимости и превосходства (французской короны над всеми христианскими монархиями.
Специальных работ, посвященных "королевскому мифу" во
Франции, мало^. Авторы, как правило, исследуют отлельные атр.юуты этого мифа и их эволюцию, не углубляясь в содержание и
причины, обеспечившие его необыкновенную жизненность. Папример, Дж.Стрейер исследовал политические последствия "монархической религии" во Франции для складывания национального государства. Французской монархии, но мнении; С'трейера,
удалось примирить противоречия в сознании отдельного индивида между ощущением себя частью единого христианского универсума, главой которого был папа, с одной стороны, и подданным
национального монарха, с другой. Французский король, историко-культурным архетипом которого выступал сам Хр ici'oc, стал
символом единства Франции, которая, в свою очередь, воспринималась как символ небесной монархии.
Одна из первых попыток рассмотреть в целом феномен "королевского мифа" была предпринята П.Симоном'. Отмечая, что
"миф" состоит из множества элементов, понять которые можно
лишь в их соответствии с теми представлениями, тем способом
мыслить, которые их породили, и логика которых значительно
отличается от нашей, Симон ставит перед собой .задачу объяснить
исчезновение "королевского мифа" в XIX в. изменением традиционного менталитета.
Несмотря на попытки десакрализовать персону короля и развенчать "королевский миф", предпринятые республиканцами в годы Великой (французской революции, старая монархическая вера не была
полностью исчерпана. "Королевский миф", загнанный в глубины подсознания, вновь всплыл на поверхность при Наполеоне. Намерение
Наполеона основать новую династию, его желание быть похороненным
в крипте базилики Сен-Дени, т.е. в усыпальнице французских королей, свидетельствуют о его стремлении возродить традиционные формы монархии Старого порядка. Все это, по мнению авторл, говорит о
том, что он в полной мере осознавал живучесть "мифа" и его действенность. Акт коронации Наполеона 2 декабря 1804 г., споей символикой и мистическим содержанием копировавший коронационные
ритуалы Капетингов, диктовался, по-видимому, стремлением подкрепить легитимадию на основании демократического права легитимадией на основании права божественного.
Поражением Наполеона и концом Первой империи Симон датирует смерть "королевского мифа" во Франции. Но его мнению,
она стала следствием рационализма, порожденного веком Просвещения. Период веры в "чудеса" закончился, начиналась эра мате-
риализма. Однако то, что некоторым сегодняшним политическим
лидерам приписывают харизматические черты, заставляет усомниться в том, что "королевский миф" исчез бесследно. Не является ли его закат в XIX в., задается вопросом Симон, лдшь одним
из эпизодов бесконечно возобновляющейся истории? И не ожидает ли "королевский миф" своего часа в глубинах коллективного
бессознательного, чтобы возродиться, как Феникс из пепла? Все
это вопросы, остающиеся пока без ответа.
Одной из форм воплощения "королевского мифа" ()ыли коронационные обряды. Ритуал как знаковая система и проблема его
интерпретации сравнительно недавно стали привлекать к себе
внимание историков. Историография XIX в. рассматривала средневековые политические ритуалы лишь в качестве пс'ли'1'ико-религиозного орнамента, не обладающего самостоятельной ценностью. Впервые вклад ритуальной практики в разработку средневсконой политической теологии был осознан историками немецкой школы (прежде всего П.Э.Шраммом).
Изучению различных видов средневекового королевского ритуала во Франции посвящены работы Р.Джексона, ЖЛе Гоффа,
М.Валенсис, С.Хэнли, Л.Брайанта^. Доминирующее положение в
изучении семиотического поля средневекового piiTyn.'i.i занимает
сегодня американская школа (Р.Джексон. С.Хэнчи и др.). Рассмотрение ритуала в свете глобальной проблемы склады.ч.шия государства - специфика этой школы и бесспорное ее достижение.
Средневековая политическая церемония рассматривается как выражение определенных представлений о королевской Biac'i'H и даже как формирующее эти представления начало. Американские
исследователи выделяют три последовательно сменяющиеся модели королевской власти: религиозная модель (доминировавшая до
конца XIV в.), юридическая (приблизительно XV-XVI зв.) и абсолютистская. Они концентрируют свое внимание на изучении второго из этих периодов.
А.Буро подверг резкой критике концепцию американских lieследователей^, прежде всего их представление о том, ч' 'о ритуальный язык представляет собой некую "трансцендентную форму",
предшествующую политической практике. Он возражает против
такого упрощенного, по его мнению, подхода к политическому
средневековому ритуалу. Прежде всего, отмечает Буро, поскольку
политические ритуалы (функционируют и развиваются в некоей
социально-культурной глобальности, то при всем их своеобразии
и собственных ритмах развития, им присущих, они вряд ли обладают самостоятельной историей. Более того, даже взятая в своем
историческом развитии, любая ритуальная церемония существенно меняет свое содержание с течением времени. Если американская школа рассматривает ритуал как изолированный, самодостаточный текст, замкнутый в себе и обладающий окончательным
смыслом, то Буро, высказываясь за усложнение исследовательских подходов к изучению ритуала, перемещает внимание с его
статической структуры на процесс смыслообразования. Для Буро
рчтуал - не структура, а функция, постоянный процесс порождения смыслов. Это беспредельно открытый текст, вступающий в
разнообразные связи с окружающим его культурным пространством, способный трансформировать его и сам трансформироваться
под его влиянием: текст, который перестает быть равным самому
себе. Строго структурированной, гомогенной системе ритуала
американской школы Буро противопоставляет свою систему открытую вовне, комбинаторную, объединяющую многочисленные
разнородные элементы. Пространство ритуала - не просто вместилище извне заложенных смыслов, а само по себе смысловой
генератор. Таким образом, каждый ритуал обладает множеством
кодов и может быть дешифрован в различных регисграх. Буро
полагает, что расчленяя семиологическое единство церемонии,
исследователь может обнаружить новые, более сложные формы
языка. Неоднозначность и множественность интерпретаций ритуала он считает вполне естественным явлением.
Коронационная церемония относится к особому виду ритуалов
- к так называемым "ритуалам перехода". А. ван Геннеп, еще в
начале века посвятивший им специальное исследование"', предлагал считать "ритуалами перехода" (rites de passage) те, которые
сопровождают всякую перемену человеческого состояния, социального положения или статуса. Ле Гофф особенно поцчеркивает
характер коронационной церемонии как "rite de passage" в большей степени, чем просто "inauguration". Он выделяет ь структуре
церемонии фазы, характерные для "rite de passage": фаза открепления от занимаемого ранее места в социальной структуре (separation), "пороговая" фаза (marge) и фаза воссоединения (aggregation), т.е. обретения стабильного состояния на качественно
ином, более высоком уровне. В конце церемонии, как показывает
Ле Гофф, король получает новое качество, существенно повышая
свой статус: в результате обряда миропомазания королевская
власть обретает черты священства, происходит причисление нового суверена к небесной иерархии.
Существуют три вида источников, содержащих информацию о
коронационных ритуалах. Это ordines - наиболее полные описания ритуала, вплоть до текстов молитв, гимнов и антифонов: так
называемые modus, т.е. более краткие руководства нормативного
характера, предписывающие то, что должен включать в себя коронационный обряд; и, наконец, описание современниками виденных ими коронационных церемоний.
Остановимся на первом из них. Ordines - чрезвычайно ценный
источник для уяснения сущности института королевской власти
и ансамбля представлений о нем современников. Однако, познавательный потенциал ordines еще недостаточно оценен. Немногочисленные исследования посвящены отдельным ordines (см. работы Дж.Нельсон о коронационных программах Раннего 0'редневековья^) или отдельным сюжетам (см. статью А.Хидемдн, изучавшей механизм рождения мифа о коронационной церемонии на
примере фамильного манускрипта ordo^). Р.Джексог одним из
первых в своей монографии "Vive ie roi!"^ предпринйл попытку
рассмотреть комплекс французских коронационных программ в
их развитии на протяжении значительного периода времени
(XIV-XIX вв.). Такой анализ позволяет npo'-.'i^/iiiTi. энолюцию
представлений о королевской власти, смену [):'. шчпых моделей,
на которые она должна была ориентирован.с.я. ('vinpcTBvci' и дру
гой подход - всестороннер (с привлечением иллюстраций манускрипта) изучение одного единственного ordo в его кош; х^тпо-исгорической закрепленности, как это сделали Ле Гофф и lit.-It. Бонн
в отношении ordo 1250 г.'*. Тогда оказывается возможным увидеть, как церемония в неповторимой конкретной п(торической
ситуации XIII в. (царствование св. Людовика) наполняется особым уникальным смыслом.
Французский ритуал коронации претерпевал в ход'? своей истории значительные изменения. Различные символы получали
актуализацию и начинали доминировать в определенлыс периоды, и это не случайно, т.к. в каждую эпоху ритуал - это не просто повторение традиционных формул, а результат гворческой
деятельности, некой селекции, осуществляемой его участниками.
Изменения, вносимые в ритуал, приводят его в соотвечствие с историческим контекстом, всякий раз особым.
XIII в. представляет собой особый период в развитии коронационных ordiiies. По мнению Ле Гоффа, в середине XIII в. во
Франции сложилась уникальная ситуация баланса сил королевской власти и церкви. В середине XIII в., пишет он, коронация в
Реймсе приобрела три функции:
- выражала баланс королевской власти и церкви;
- объединяла в одном ритуале и заставляла взаимо/.ействовать
представителей трех религиозных центров, исторически оспаривавших друг у друга право коронации монарха;
- утверждала автономность французской монархш и ее превосходство над другими христианскими королями'''.
До XIII в. французские коронационные программы в целом
воспроичводили модель коронационного ритуала, расгространенную на всем христианском Западе. Именно в царствование св.
Людовика коронационный ритуал приобретает ярко выраженный
французский колорит и становится одной из форм "королевской
пропаганды". В так называемом Реймсском ordo (ок. 1230 г.)
впервые появляются пэры Франции и впервые фигурирует легенда о св. Сосуде. Согласно этой легенде, во время крещения Хлодвига св. Ремигием, архиепископом Реймса, с неба спустился голубь, державший в клюве сосуд со св. миром. Кроме того, среди
других нововведений указание на причащение короля под двумя видами (хлебом и вином) но образцу священника. Настойчи
вое подчеркивание политико-религиозного имиджа французского
короля как короля-священника (параллельно которому выступают ветхозаветные цари) должно было поставить его в ")олее независимое положение по отношению к церковным иерархам. Королевские лилии (символ французского королевского дома), впервые упоминаемые именно и Реймсском ordo, а также и культ св.
Ремигия, были призваны подчеркнуть национальный характер
церемонии.
Начиная с Реймсского ordo, посредством важных инноваций и
коронационном ритуале, король Франции подчеркивает свое превосходство над другими монархами, приобретаемое им вследствие
его исключительной привилегии использовать священное миро
при миропомазании. Знаком особого статуса французского монарха, приобретаемого им после миропомазания, является способность исцелять золотушных больных, которую короля Франции
разделял лишь с английским королем.
Вышеупомянутые инновации Реймсского ordo нашли свое логическое развитие и были закреплены в ordo 1250 г. Сама предполагаемая дата создания ordo (1250 г.) свидетельстьует о том,
что оно не предназначалось ни для какой конкретной коронации
(очевидно, ordo не могло быть использована при коронациях Людовика Vlll в 1223 г. или Людовика IX в 1226 г.^). Но именно
благодаря этому обстоятельству, являясь некой идеальной коронационной программой, как ее представляли себе сосгавители п
середине XIII в., оно наложило печать на тер;сты погледующих
коронационных ритуалов.
Нужно отметить, что исследователи ordme.s не дают четкого
ответа на вопрос о том, кто именно занимался составлением текстов коронационных программ. Вероятно, это связано с тем, что
как 110 поводу датировки отдельных ordine.s, так и по поводу определения места их составления существует много неясностей.
Что же касается их авторства, то косвенным образом помочь установить его, по-видимому, должен анализ самих текстов. В случае с коронационными программами Людовика Святого, содержание ordines не оставляет сомнений в том, что их авторы принадлежали к окружению короля и, возможно, действовали по его непосредственному распоряжению.
Ле Гофф показывает, как тщательно - через обозначение мест,
занимаемых внутри Реймсского собора участниками церемонии,
через тексты королевских клятв и литургических песнопений,
через жесты и символику одежды - текст ритуала как бы исключает возвышение кого-либо одного из главных протагонистов церемонии. Лишь к концу ритуала, в момент, когда король торжественно занимает свое место на троне, он начинает доминировать
над прелатами и светскими пэрами. Поцелуй, которыИ они приносят королю, становится символическим выражением верности
новому сюзерену.
Бонн, изучивший цикл иллюстраций к тексту 1250, находит
в них свидетельство того, что коронация не рассматривается
больше в качестве единственного мистического фундамента королевской власти, скорее, налицо стремление придать официальный статус национальной традиции, имплантируя ее в ритуал' '.
Как показывает опыт историографии последних дьух десятилетий, использование историко-антропологического подхода как
метода исследования "языка" политической символики, при помощи которого выражала себя королевская власть, дает возможность более глубоко увидеть социально-культурное целое. Анализ
этого "языка" и тех (не обязательно отрефлектированных) представлений, которые за ним стояли, в идеале, думается, мог бы
объяснить взаимосвязь между политическими концепциями, с
одной стороны, и событиями, с другой.
' Kuntorou'icz Е. The King's two bodies. Priiict't.oii, .1957.
^ Simon P. Le inythe i-oyal. Lille, 1987. P. II.
'* Kantorou'lcz E. Laudes regiae: n study in liturgic.'il асс^пп.июня and
medieval ruler worship. Berkeley, Los Angeles, 1946.
' lii'\tiiil 1. 1..i ccrciUDlllc (lc Гспп-сс ,i Pans .m Mnvcn AJC // Anii>ili:v \ .' ^^ ' . I'^-Ci. \ ^
' l.l' b l.i till' lie l'l^. llC ^'чш \\il II: l"i
ii.itniii. ^'.. I^Sd
^ Существенные соображения можно, правда, паитн и кн.: Hliii'li М 1.с^
roi\ lll:^^ll]la^^l] gc^^. P.. l^.).'-^: Kini^u'i- 1. 1л caraciciv ^aci'c (lc la rovalitc 41 Fi'aiec // 'Пк'
racial
Кш^Ьф. l^culL'n. 1^57: ^{f't!\('r ./ France the hulv land. llie chuscn De^nic and tl'e iiio^t
ehi'Mian
Kill^ // Аспоп and coii\)elh)n in eai'l\ iiiodcril Ниго^с. Pi'ineclon. l^b^
' Simon P. Le niyllie roy.il. Lille, 1987.
' Uniiiil 1. ()i1ci[ : ^h.'\^..l^l^k\llllK.\ \i\ele nil' Chapel Hills. IWt: \tll^ ll^ .^
.l/'l'lieii^aleeiiiuiiali^ii
tile bieneli nniiiaiel^-, s\ iiih^lie stiate^v alul nolineal (1()е111пе//'Лп11а1е^1^,.^(',. I ^Sd. \ ^
" Нчипчт .\ lx's eelcniDiiie.s roval llanl,alse ^ eillie peiliiiiiaiiee iliinliqii^ el eiiiiipeleiiee
lilurgmiie// Aiiiiales b.SX'. 14^1. N h. P. 125(1
"' Gcuncp A. van. Les rites de passage. Bruxelles, 1909.
" NelKon J. Politics and ritual in early medieval Еигсре. Loiidoii,
1986.
^ Hflicrnun A. The couinieiiioration of Jeaniie d'Evreux's roroiiatioii in
tile Ordo ad Coiisecraiidum at the University of Jllinois /' Proceodings of
tlie Illinois Medieval Association. 1990. Vol. 7.
' " Jackson R. Op.cit.
^ Bonne J.(". Tlie manuscript of the Ordo of 1250 and its illuniiiiat.ioiis
// Coronations: medieval and early iiiodern monarc.llie ritual. Berkeley, Los
Angeles, 1990: Lc ('off } A coronation program for the ,:ge of Saint
Louis, ibidem.
'" Le (ioff J. Reims, ville du sacrc. P. 121.
"' Хотя Годфруа {(iiHliliiiY^ 1^ eereiiioiiial Iraii^ai^ P., 1619) именует его
"ordo de Louis VIII", современные исследователи склоняются к дате
1250 г.. как наибо.чее вероятной. О датировке Ordo 1250 см : Lc (/off -1.
A coronation program...
' ' Bonne J.C. Op.cit. P. 70.
Е.Н.Мтиинкино
15. Э. Коэн. ПЕРЕКРЕСТКИ ПРАВОСУДИЯ. Закон и КУЛЬТУРА в
ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦИИ.
E.KOHEN. THE CROSSROADS OF JUSTICE. LAW AND CULTURE IN
LATE MEDIEVAL FRANCE. LEIDEN, NEW YORK, KOLN,
1993. 208 P. БИБЛ.: P. 209
Книга исследовательницы из Израиля Эстер Ко.чн посвящена
изучению связи, существующей между законодательством, правовой практикой и их социокультурной почвой. В отличие от собствкнно правоведов, автор ставит своей задачей рассмот зеть не изменения закона как такового, а его бытование в историческом и
географическом, социальном и культурном контекст; х, как составной части культуры. Закон и культура, по мнению Ко^н, и
любом обществе постоянно влияют Друг на друга и непостигаемы
вне этого взаимоотношения.
Автор стремится изу^чить их соотношение в момент перехода
от устной традиции правосудия к письменной, справедливо полагая, что это позволит ярче высветить их реальную диалектику,
увидеть явление в его трансформации. Коэн избрала предметом
своего исследования правовую практику Северной Франции XIIIXVI вв., где в эти столетия протекал, в той или иной форме, процесс записи обычного права (т.н. кутюм).
Анализ записи обычного права Коэн сочетает с изучением
внешней, формально-ритуальной стороны судебной практики,
несшей на себе огромную смысловую нагрузку и определявшейся
и уровнем правосознания, и общим культурным контекстом. Такая постановка проблемы определила выбор источников это кутюмы разных областей, записи судебных решений, постановления парижского парламента, правовые трактаты, с ол.ной стороны, хроники, агиографическая литература, жесты, фарсы, поговорки - с другой. Она же определила и структуру работы: первая
ее часть посвящена собственно закону, а вторая отдана исследованию ритуала и его значения в контексте судебной процедуры.
Правовые теории, восприятие закона разными слоями и группами средневекового общества и воплощение того и другого в ритуалах судебной практики и публичных наказаний - вот те "перекрестки" ученой и народной культуры, идеологии и практики,
которые составляют ткань бытия закона в Средние века и. соответственно, ткань книги Коэн.
Обращаясь в главе первой к собственно закону, Коэн прежде
всего отмечает многообразие форм и функций> законодательных
систем вообще и средневековых в особенности. (Автор полагает,
что этот факт не до конца осознпн в правовом контексге, однако,
хотелось бы напомнить исторпко-правовед^еские работы конца
прошлого - начала нашего столетия, обозначившие :)ту особенность средневекового права как его "разорванность" - прим. реф.)
В правовой ученой культуре Западной Сиропы она выдгляет
две основные традиции - иудаистскую, впитанную с христианством, и римскую, утверждавшую приоритет писаного закона. Наряду с ними чрезвычайно долго сохранялось обычное право (иод
"обычным правом автор понимает, видимо, устное облчное право: термин "обычное право" в переводе соответствует термину
"custoiiiary law" в оригинале - прим. реф.). Создание варварских
правд, соединивших германское обычное право и письменную
правовую традицию, ^з уничтожило устного обычного нрава, и
средневековое общество по большей части пользовалось именно им.
Письменная (фиксация обычного права начинается в XIII в.
(на первом этапе она осуществлялась местными судьями и администраторами на основе собственного опыта судебных решений).
Запись обычаев не сняла, а скорее закрепила правовы? различия,
присущие разным областям страны, которые составили локальные
подсистемы, связанные воедино королевским законодательством.
Впрочем, как отмечает Коэн далее, средневековое право, особенно в своей практической части, никогда не составллло единой
системы, дробясь на особые установления для разных социальных групп и территориальных единиц. Существование разных
уровней светского правосудия соответствовало разным уровням
иерархической структуры общества и не создавало особых сложностей, так как был выработан механизм их соподчинения. Подругому взаимодействовали светская и церковная системы правосудия, ибо, пишет Коэн, церковная юрисдикция представляла собой "независимую соперничающую систему, основанную на иных
источниках и подкрепленную иными силами"(с.16). Тем не менее, полагает Коэн, взаимодействие светской и церковной, королевской и сеньориальной, местной и центральной юрисдикции,
не всегда мирное, обогащало их и способствовало развитию всех
этих систем.
Областные записи устного обычного права Х111-Х1"' вв. представляли собой промежуточную стадию между устной версией и
письменной законодательной традицией. Впрочем, определение
"писаный обычай", по мнению Коэн, противоречиво в самой своей сути. Хотя обычай понимался как институт неизменяемый и
древний, все же была осознана необходимость его загнои - фиксации с целью сохранения. Стремление создателей эт-ix записей
зафиксировать "древние" обычаи, действительно включавшие реликты древних верований, сохранившихся в ритуализованной
практике, сочеталось с упоминанием (и записью) недагно возникших "в народе" обычаев и, более того, с четким осознанием изменения древнего обычая в результате "порчи нравов" пли деятельности судей и появления новых обычаев, выраставших из прецедента. Сама запись нисколько не повышала в сознании ее создателя ценности или действенности обычая, проистекавией из его
древности и его всеобщности. Точно так же создание письменного
обычного права не уравнивало его с римским правом или королевскими законодательными актами.
Итак, в писаное право были включены элементь обычного
права, и традиция устного права получила первостепенное значение в судебной процедуре.
В то же время сама запись вынудила юристов обратиться к поиску способов выражения абстрактных понятий и категорий, таких, как закон, правосудие, право. Это повлекло за собой обращение к римской традиции и привело к проникновению во французские кутюмы терминологии, типичной для Кодексы Юстиниана или Институций. Римской же традиции обязаны французские
юристы и организацией материалов кутюм; образцом становились
Дигесты или Кодекс. В остальном влияние римского права было
незначительным, и парижский парламент подтверждал, что в областях обычного права римское право не имеет силы.
Фиксация обычного права привела к постепенному дистанцированию юридической теории от судебной практики. На первом
этапе различия между ними были минимальными, ибо тексты
кутюм были "записью" почти в буквальном смысле слова. Однако, в XV" в. легализация их королевской властью, создание компиляций в масштабе страны усилили этот процесс, параллельно
которому шли изменения в судебной процедуре и системе доказательств, провоцируемые центральными судебными органами. Чем
дальше, тем большую роль приобретала королевская законодательная власть. Но и она, как прежде народное сознание, вопреки новым веяниям в юриспруденции, продолжала пс'льзоваться
представлениями о силе закона, основанного на старом добром
обмчае, лежащем в основе правосудия.
Страницы, которые Коэн посвящает представлениям о правосудии (с. 39-51), - маленькое, но очень яркое самостоятельное нсследование. На конкретных примерах автор показывает, как отчуждение законодательной и судебной функции сообщества и
концентрация ее в руках должностных лиц, чиновников приво-
дит к разрыву в массовом сознании понятий "суд" i "правосудие". Образ судьи, стряпчего становится олицетворением алчности, хитрости, лжи, о чем свидетельствуют восходящие к XIIIXV вв. поговорки, фарсы, фаблио. Если судья и изображался хо166
рошим, то лишь умом II компетентностью, но отнюдь не гправедливостью (Святой Ив в этой ситуации - исключение, подгвер
ждающее правило, и связано это, видимо, с его духовной деятельностью в первую очередь). Воплощением же право"удия и
справедливости, как показывает Коэн, н народной Tpa/iiiiuiii < тановится король Людовик Святой, котором справед/пиость пргсуща не в силу знаний или ума, а в силу самой природы королевской власти.
Миф о справедливом короле Коэн связывает с миф^м о старом
добром законе, который король свято соблюдает "вмес"е со своим
народом", а не навязывает ему. Таким образом, в массовом сред
невековом сознании монарху (функция судьи присуща в большей
степени, чем функция законодателя.
Закон, как продукт культурной атмосферы эпохи, принимал и
формы, ей свойственные. Средневековой культуре, пишет Ко:)н,
вообще присущ образный способ самовыражения. В сфере правовой культуры он отлился в форму ритуала, которому посвящена
вторая часть книги. Склонность к ритуалу, характерная для всего средневекового права, прежде всего проявляется в судебной
процедуре или, по выражению Коэн, церемонии. На ранних .этапах в ней посредством жестов и слов фиксировались взаимоотношения индивидов между собой и индивидов с космосом. Этот
глубинный смысл со временем меняется, в конечном дтоге уступая место отношениям профессионала-судейского и ис"ца или ответчика как таковых, вне их связи с окружающим миром. Этим
объясняется и изменение роли священнослужителей, и тот факт.
" го судебный ритуал утратил свое значение, в то время как ритуалы, связанные с наказанием, сохраняли его еще долгие столетия.
Однако, до XIII в. средневековые судебные процессы носили
ярко выраженный ритуальный характер. Корни этих обрядов
уходят к древнегерманским традициям и позднеримскому вульгарному праву. Когда другие способы доказательств п)авоты той
или иной стороны бывали исчерпаны, дело решалось при помощи
поединка либо ордалии. Индивидуальное и человеческ эе отступало на задний план, когда необходимо было установить истину.
"Божий суд" мог касаться нс только людей, но и учений: соперничающие книги следовало бросить в огонь, и та из двух, в которой излагалось истинное учение, должна была, как ожидалось,
сама "выпрыгнуть" из огня.
Поединки и ордалии не теряли своей популярности долгое вре-
мя, несмотря на противодействие церковных и светских властей.
Даже тогда, когда они перестали практиковаться в судах, они
продолжали происходить на страницах литературных произведений. Наиболее интересный из таких "письменных" поединков состоялся между человеком и собакой. Многочисленные версии его
описания повествовали о том, как после насильственной смерти
хозяина, одного из рыцарей Карла V, его пес явился ко двору,
чтобы вызвать на поединок убийцу - другого рыцаря. В честном
бою пес победил, чем и доказал всем, что именно этот человек
убил его хозяина.
Символизм и точное следование ритуалу пронизывали судебную процедуру и особенно ярко проявлялись в речевых формулах. Речь, произнесенная по всем правилам, приобретала особую
ценность и силу, а малейшее отступление от правил могло привести к проигрышу тяжбы. После исчезновения ордалий слово
заменило жест. Искажение речевой формулы было опасно не
только для тяжущихся, но даже для судей -- за это их тоже могли вызвать на поединок. В то же время правильно произнесенная
свидетелем речевая формула служила первым доказательством
истинности его свидетельства. (Можно было, впрочем, обезопасить себя от роковых последствий оговорки, если она была сделана не самим тяжущимся, а его адвокатом, но только в том случае, когда его подопечный заранее заявлял свое право лсправлять
его ошибки). Подобное отношение к слову проявлялось в отношении суда к письменному тексту, который приобретал ценность
только в том случае, если точно передавал устную речь.
С течением времени отношение к речевому формализму, а следовательно и к письменному слову, изменилось, и значительно.
Ибо трудно было, например, примирить способ получения признания под пыткой с принципом приоритета первых сказанных в
суде слов, ибо поначалу обвиняемый всегда отрицает ^вою вину.
Речевой формализм был одной из форм выражения ритуала, и
его упадок возвещал постепенное исчезновение целой эпохи в
правовом сознании и правовой практике. И хотя в KOF це Средневековья суд оставался местом встречи тяжущггося с судьей, теперь они говорили "на разных языках"' один на бытовом, повсеД1"'в:юм. другой на языке сугубо специализированном и потому
труднопонимаемом. Камерность того суда, где судьи, подсудимые, свидетели знают друг друга, подчиняются одной местной
традиции и говорят на одном языке, не мог";,i п;.отпвг'стоят1> миру профессионального закона, восторжествоцавшего к XV в.
Однако, напоминает Коэн, в средневековом обществе собстпен110 юридические нормы распространялись далеко не H:I всех. Существовали категории лиц. безоговорочно не отиравших нормам
общества, их судили и наказывали не так, как Bii'x.
К отверженным прежде всего относили евреев и женщин. Обе
группы воспринимались как существующие вне мужского хри-
стианского сообщества и ассоциировались с грехом: женщины с
первородным, а евреи с грехом отвержения Иисуса Христа. Евреи
и женщины находились в бесправном и униженном i сложении.
Но это пограничное или даже запредельное положение наделяло
их в глазах окружающих некой потусторонней, непонятной, а
потому пугающей силой. И тех и других обвиняли в приверженности магии и волшебству. Подобные взгляды отразглись в судебных ритуалах: попав в руки правосудия и будучи осуждены
на смерть, они должны были умирать иначе, чем умирал преступный мужчина-христианин. Еврей в сознании простолюдина
ассоциировался с нечистотой, с животными, считавшимися нечистыми (свиньями, собаками). Неудивительно, что в некоторых
судебных кодексах евреи отнесены к той же категории, что и животные. Если еврея казнили, то всячески старались продемонстрировать его принадлежность не к человеческому, а к животному
миру. Его вешали вниз головой рядом с повешенными собаками
или связывали со свиньей. Казненный мертвый еврей уже не вызывал того иррационального страха, как при жизни. Его губительная связь с потусторонними нечистыми силами, которая чудилась христианам, пропадала вместе с его исчезновением из мира живущих.
По-другому обстояло дело с женщинами. Женщины принадлежали к христианской общине и воспринимались "как люди" и до
и после кончины. Вредоносность женщины, исходившая от нее
опасность заключалась в том, что по представлениям, бытовавшим в ту эпоху, она обладала тайными и магическими знаниями
и силой и потому после смерти становилась еще более опасной.
Ведьма или женщина, умершая не своей смертью, могла явиться
с того света и причинить большой вред. Дабы помешать этому,
существовали специальные оградительные обряды. ^Кенщинупрестугшицу казнили иначе, чем мужчину. Ее, например, опасались отправлять на виселицу: считалось, что повешенные еще несколько дней после казни не умирают до конца. Женщин или
сжигали, или живьем закапывали в землю, или при похоронах
кольями протыкали тело в нескольких местах.
Но правосудию присуща была и противоположная тенденция
- подчинять себе все сотворенное Богом. Правосудию иодвластио
все, что относится к этому универсуму - и женщина, и преступник, и пчела, и бестелесный дух. Суды над животными и над
умершими - выражение этих представлений. Таким образом, судебные ритуалы отражали две переплетающиеся культурные традиции: тенденцию разграничения и универсалистскую, интегрирующую тенденцию.
При помощи "ритуалов включения" общество стремилось распространить законы правосудия, действующие только внутри
христианской общины, на весь сотворенный мир. Обычай судить
на суде человеческом животных, которых общество сочло преступными, - одно из проявлений этой тенденции. Повседневная
жизнь средневекового человека проходила в непосредственной
близости к животным, и люди переносили на животных представления о человеке. В фольклоре животным приписывались человеческие свойства: охотничья собака олицетворяла гордость и
высокомерие, лев - храбрость, свинья - обжорство. (Считалось,
что амулеты, сделанные из различных частей тела животных, наделяют владельца амулета тем качеством, которое свойственно
этому животному. Животные не только олицетворяли отдельные
человеческие черты, но нередко символизировали собой типы людей (например, лев в зверином эпосе - аналог и паро/.ия на властелина людей). Их считали и носителями грехов че.товеческого
сообщества. Представление о том, что смерть одного животного
может очистить всю человеческую общину, пришло из глубокой
древности. В Средние века весь город иногда собирался поглазеть
на сожжение одного-двух котов и отмечал это событие как праздник.
С'удебные процессы над животными могли быть KtiK светскими, так и церковными. Светские происходили в тех случаях, когда какому-то человеку наносился смертельный вред. Целью церковных процессов было избавление от язвы, стихийного бедствия, то есть вреда, нанесенного всей общине. Привлеканшиегя к
суду животные были настоящие, из плоти и крови, и воспринимались как истинные обидчики.
Родиной процессов над животными была Франция. Первая запись такого процесса (светского) относится к XIII в. Животное
заключалось в тюрьму, выслушивались свидетельские показания,
выносился приговор, могло быть получено высочайшее помилование. Судебная процедура проходила так же, как если бы подсудимый был человеком. Только он не приглашался на слушание своего дела.
Церковные суды над животными появились значительно позже -- в XV в. - и протекали по-другому. Здесь интересы человеческого коллектива сталкивались не с конкретным животнымубийцей, а с враждебной природной средой (например, когда грызуны уничтожали урожай). Если коллектив людей выигрывал
процесс, нарушитель порядка предавался анафеме и гму приказывали в короткий срок покинуть территорию. Понятно, что результпты суда мало влияли на последующий ход событий, однако, вся местная община принимала деятельное участие в изгнании непрошеных гостей. В 1487 г. в городе Отоне для избавления
от многочисленных улиток был, по постановлению церковного
суда, совершен крестный ход с песнопениями.
Правосудию были также подвластны и мертвецы, хотя они и
находились за пределами христианского мира. В Средние века
мертвый представлялся как бы спящим; он по-прежнему обладал
своим телом, существовал физически, а потому мог потревожить
живых. Это могло произойти в том случае, если погребение не
было произведено по всем правилам или если человек умер не
своей смертью, не дожив до старости. К этой опасной категории
относились женщины, умершие при родах, убийцы, самоубийцы,
жертвы насилия и т.п. Некоторых из них, например, убийц и самоубийц, сознательно не хоронили по правилам. Чтобы после
смерти они не возвращались, их тела выкапывали, отрубали готовы, расчленяли, а иногда просто тщательнейшим образом перезахоранивали. Чем страшнее было совершенное преступление,
тем более серьезные меры предпринимались для того, чтобы отделаться от тела казненного преступника. Но и покойник-потерпевший мог требовать мести, уплаты долга, перезахоронения или
другого акта правосудия. Для того, чтобы отпустить душу умершего на покой, необходимо было включить его в общую систему
правосудия и тщательно выполнить все решения суда.
Присущая Позднему Средневековью забота о "хорошей", "благопристойной" смерти широко известна. Умереть "так, как надо", было настоящим искусством. Человек готовился достойно
встретить свой конец. Бытовало представление о том, что у постели больного завязывается битва между ангелами и чертями за душу умирающего, и исход битвы во многом зависит от того, как
человек поведет себя в этот момент. "Хорошая" смерть не была,
однако, прямым последствием "хорошей" жизни, поэтому особенно было важно благопристойно окончить свои дни тому, чьи земные дни протекали слишком бурно. Однако, "хорошо" умереть
не обязательно означало умереть у себя дома в кругу близких, без
страданий. "Хорошо", с точки зрения средневекового человека,
мог умереть и приговоренный к повешению.
Начиная с XIII в., боль, страдание начинают рассматриваться
как то, что приобщает человека к страстям Христовым, что очищает и исправляет, искупает вину. В средневековой народной литературе умерщвление плоти с целью искупления греха и освобождения от него объединяет преступника, шагающего на виселицу, и священника, ищущего путей Божьих. Смерть преступника
на виселице включалась в рамки обращения, покаяния и спасения. Экзекуция (и даже в некоторых случаях пытка) воспринималась не как жестокость, но как средство морального и физического исправления, как акт правосудия, поиск истины и спасение. Для блага всех участников - судей, преступников и зрителей - этот мрачный спектакль проводили публично, как ритуал,
имеющий целью очищение, наставление и упреждение преступления. Одновременно карательные церемонии были частью символики, предназначенной для того, чтобы продемонстрировать публике величие и мощь закона и его представителей.
Итак, по сути дела Коэн задала своим правовым источникам
вопросы об их соотношении с глубинными понятиями человеческого бытия: понятиями о жизни и смерти, о "своем" и "чужом",
о власти и мироздании. Анализ ритуалов, сопровождавших весь
ход судебного дела, приводит ее к выводам, выходящим далеко
за пределы собственно "правосудия": средневековое право оказалось тем перекрестком, на котором встретились философия и литература, теология и (фольклор, анатомия и зоология. Результатом этого взаимодействия, по мнению Коэн, стало создание и существование "понятийной инфраструктуры", которая нe была ни
"ученой", ни "народной", ни "королевской" (государственной).
ни церковной, но общей и присущей всем, кто имел дело с судебной процедурой, с судопроизводством вообще, то есть практически всем членам общества. Центром этой системы понятий был
миф о "справедливом короле" и "старом добром законе", дарящих правосудие каждому, безотносительно к его статусу.
Законодательная система, основанная на общепринятых представлениях, обеспечивала определенное согласие внутри общества
и гарантировала возможность противостоять тем, кто нарушал
правила и единство сообщества. Кроме того, такая система сама
по себе олицетворяла это сообщество и его границы. Осознание
общности находило выражение в ритуалах, подчеркивавших внеобщественный характер действий, нарушающих установленный
порядок.
Однако, наряду с прочной инфраструктурой существовали более подвижные элементы, менявшиеся под воздействием внешних факторов. Наиболее яркое свидетельство и проявление этих
изменений - эволюция самой судебной церемонии и публичных
ритуалов, с ней связанных. Судебная церемония постепенно отмерла под давлением королевских судов, в то время как ритуалы,
имевшие отношение к системе наказаний, дожили до Нового времени, пользуясь полной поддержкой королевской власти. В чем
же причина этого?
Ритуалы, связанные с судебной процедурой, считает Коэн, выражали веру человека в существование справедливости и правосудия вообще, как таковых. Это не обязательно правосудие, влекущее за собой наказание, это правосудие как "знак истины", почему оно и могло воплощаться в божьем суде ордалий и поединков,
и основой его был якобы древний закон. Изменение характера суда, его правовой основы и техники судопроизводства свели эти
ритуалы на нет, лишив их глубинного значения, ибо к концу
Позднего Средневековья суд утратил роль объединяющего центра
сообщества.
Публичные ритуалы наказания, напротив, активно использовались королевской властью как знак объединения всего королевства. Даже казнь теперь не отторгала преступника от сообщества,
а лишь подчеркивала зависимость и преступника, и сообщества
от власти. Огромную роль в этом смещении акцента сыграло и
изменение религиозных представлений, происшедшее в Позднее
Средневековье.
Динамика судебных ритуалов отражает глубокие изменения в
позднесредневековых общественных представлениях вообще. Мир
представлений человека Средневековья покоился на признании
обоюдности обязательств внутри иерархии. К Позднему Средневековью понятие взаимности постепенно уступает место концепции
господства и подчинения. На уровне судебной практики этот переход выразился в изменении ритуалов, связанных с системой
наказаний. Если Высокое Средневековье признавало обвинительную систему правосудия, при которой истец и ответчик в определенной степени оказывались в отношениях обоюдозависимости,
то введение розыскной системы передало функцию пресечения
преступления государству, сделав таким образом отношения истца и ответчика с судом односторонними. Это в корне меняло положение человека в обществе и государстве.
О.И.Варьяш, Н.В.Вандышева
16. НОВОЕ ВРЕМЯ
Р.МАНДРУ. МАГИСТРАТЫ И КОЛДУНЫ ВО ФРАНЦИИ В XVII В.
АНАЛИЗ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
R.MANDROI. MAC.ISIRAI'S ?:Г SORCIKRS EN FRANCI' АН XVII SIKCLL.
UNU ANAI.YSI' 1)K PSYCHOLOCIIK COI.I.ECTlYK. P., 14SO. 576 Г.
Впервые изданная в 1968 г. книга известного французского
историка Робера Мандру, одного из пионеров истории ментальностей, является капитальным исследованием важной культурологической проблемы: каким образом в течение XVII в. произошел
переход французской королевской юстиции от усердного преследования колдунов как сознательных пособников дьявола к рационалистической квалификации феноменов колдовства и одержимости либо как проявлений психических заболеваний, либо просто
как мошенничества. Эту смену позиций автор рассматривает как
настоящую "ментальную революцию", связанную с утверждением
характерных для Нового времени деистических представлений о
сравнительной редкости сверхъестественного вмешательства потусторонних сил в земную жизнь.
Мандру провел исчерпывающее исследование своей темы, использовав огромный комплекс как печатных, так и рукописных
источников. Библиографический список содержит названия Я45
текстов XVI- XVIII вв., в основном памфлетов, написанных в связи с различными ведовскими процессами и вызывавшимися ими
спорами. Обширные фонды Парижского парламента и Государственного совета в Национальном архиве, многочисленные тома документов из Национальной библиотеки, фонды провинциальных
парламентов в департаментских архивах и бумаги отдельных
парламентариев, скопившиеся в муниципальных библиотеках,
составили солидную документальную основу суждений автора.
Нужно сразу же отметить, что тематика книги шире ее заглавия. Фактически речь идет о перемене отношения к проблеме ведовства вообще у французских интеллектуалов, в ряды которых
по заслугам входили многие столичные и провинциальные парламентарии. Особое значение имело столь важное для XVII в. мнение представителей опытной науки, в данном случае медицины.
Некоторые врачи уже с начала века имели смелость открыто выражать скептическое отношение к обычным объяснениям конкретных случаев одержимости кознями дьявола (разумеется, не
ставя под сомнение возможность таких козней в поичципе). Кообще книга дает немало оснований к тому, чтобы отчасти "реабилитировать" в глазах читателя как французских врачей XVII в.
(карикатурные образы которых слишком хорошо известны по комедиям Мольера), так и Парижский парламент, начат, шин смягчать свою судейскую позицию в процессах о ведовсчве гораздо
раньше, чем это стало делать королевское правительство.
Работа Мандру построена по хронологическому принципу и делится на три части: 1. "Средневековое наследие: эпидемии конца
XVI в. и первые сомнения"; 2. "Кризис сатанизма: скандальные
процессы"; 3. "Отлив после 1640 г.: колдовство перестает быть
преступлением".
Веру в колдовство автор считает органической составной частью средневекового культурного наследия, глубоко укорененной
во французской деревне. В обычных условиях местная "колдунья" может здесь мирно жить, оказывая по своей части различные услуги односельчанам и пользуясь молчаливым гризнанием
своего авторитета знахарки и изготовительницы приворотного зелья. Но горе ей, если на деревню обрушиваются бедстпия: неурожаи, эпидемии, эпизоотии... Тогда народное сознания начинает
искать виновных"слуг дьявола" и быстро их находит. Начинаются доносы, и в дело вступает королевская юстиция, доводящая
"ведьму" до костра. В крайних случаях сельским обществом овладевает настоящий психоз. Мандру приводит немало примеров
деятельности бродячих "умельцев", якобы обладающих свойством выявлять скрытых колдунов по малозаметному плтнышку в
их зрачках. Общины вскладчину приглашают к себе -in жительство таких "специалистов", проводят массовые осмотры, и количество выявченных агентов нечистой силы ошеломляе" ко многому привычных судейских. Массовая охота на ведьм до-тигает пароксизма в 1580-х-1610-х гг., причем тогда ее оправдывало и
обосновывало подавляющее большинство французских юристов
во главе со знаменитым Жаном Боденом, чья вышедшая в
1580 г. "Демономания" (резкий ответ на книгу призывавшего к
осторожности немецкого врача Иоганна Вира) многократно переиздавалась: скептики в это время были еще малочисленны.
Положение меняется в первой половине XVII в., в сзязн с описанными во второй части книги тремя большими "скандальными
процессами": в Эксе (1611 г.), Лудене (1633-1634 "г.), Лувье
(1643-1647 гг.). Их характер был в принципе иным, чэм у ведовских процессов, проходивших в деревнях и не привлекавших к
себе особого внимания, поскольку их "героями" и жертвами ста-
новились лица низкого социального происхождения. В.) всех трех
случаях дело начиналось в городских женских монгстырях на
почве принимавших характер психоэпидемии случаен "одержнмости бесами". В отличие от злокозненных колдунов, заключавших "пакт с дьяволом", одержимые рассматривались нс как агенты, а как жертвы сатаны; они нуждались в помощи священнослужителя, изгонявшего из них бесов (экзорциста). Cavia эта процедура происходила не в тюремных застенках, где допрашивали
"ведьм", но публично, в присутствии многотысячной толпы зрителей. Заклинаемые экзорцистом бесы, изгоняемые из пациентки, должны были назвать имена пособников дьявола среди людей. Священнодействие переходило в публичный допрос, результаты которого оставалось лишь передать местным королевским
судьям для осуждения пособников. Понятно, что судьям было
очень трудно усомниться в показаниях, принятых на веру тысячами собравшихся, какое бы подсознательное сведение личных
счетов ни стояло за ними. Экзорцируемые монахини во всех случаях принадлежали к "хорошему" обществу провинциального
дворянства и буржуазии; конечно, они были охвачены религиозным рвением и в иной обстановке были способны на подвиги благочестия. Они ощущали себя героинями борьбы с сатаной, неспроста насылавшим на них многочисленных бесов.
Но и жертвы экзорцистских процессов, выявляемые "пособники", не были безвестными темными крестьянами. В Эксе в
1611 г. был сожжен на костре марсельский кюре Луи Гофриди,
бывший исповедником монахини-урсулинки Мадлен Демандоль;
в результате показаний его "духовной дочери" при изгнании из
нее бесов Эксский парламент пришел к выводу, что сам Люцифер
поставил обвиняемого "князем над колдунами", дав ему притом
особую способность "очаровывать женщин, дуя на них".
Особое впечатление на французских юристов произвела судьба
жертвы луденского процесса, также взошедшего на кх-гер кюре
Юрбена Грандье, пользовавшегося большим уважением своей паствы: показания на него давала приоресса монастыря урсулинок
Жанна дез Анж ("мать Иоанна от Ангелов") и находившиеся под
ее началом монахини. Принадлежавший к кругу местных интеллектуалов Грандье (он был добрым знакомым и земляком основагти^го "Газету" Теофраста Ренодо) мужественно и с достоинством защищался, апеллируя лично к королю. В отличие от Гофриди, он выдержал пытки и вплоть до костра не признал себя виновным ни в чем, кроме "плотских слабое') <:и". К. несчастью для
него, он чем-то настроил против себя лично кардинала Ришелье,
чьи владения находились по соседству с Лудепом. При нормальной обстановке процесс должен был прийти на апелляцию в Парижский парламент, который уже имел случай оправдать Грандье от неких наветов но Королевский совет запретил парламенту заниматься этим делом. Обвиняемого судил специальный ipuбунал, составленный под началом интенданта Лобардемона. Та-
ким образом, дело Грандье было связано с утверждением чрезвычайных, административных методов отправления правосудия, что
должно было соответственным образом настраивать парламентскую оппозицию. Между тем, возбуждаемые умелыми экзорцистами монахини и после казни Грандье еще несколько лет продолжали свои обличения все новых слуг дьявола, в результате чего их монастырь стал известным всей Франции. Жанна дез Анж
пользовалась репутацией святости, она демонстрировала толпе
чудесным образом проступившие на ее руках после экзорцистских сеансов священные стигматы; она была представлена Лобардемоном самому Ришелье и присутствовала при рождении будущего Людовика XIV.
Пример луденских урсулинок оказался заразительным для монахинь-госпитальерок из нормандского города Лувье. Занявшийся этим делом Руанский парламент (который, в отличие от Парижского, еще стоял на традиционалистских позициях в вопросе
о ведовстве), учитывая результаты экзорцистских процедур, довел процесс до сожжения эксгумированного трупа покэйного кюре Матюрена Пикара (бывшего духовного наставника монастыря)
и сожжения живьем одного из его викариев.
Однако столичное общественное мнение с самого начала оказалось настроенным против нового процесса благодаря памфлетам
авторитетного медика, личного врача королевы Анны Австрийской Пьера Ивлена, открыто заявившего о своем скептическом
отношении к откровениям монахинь. Когда же изгоняемые бесы
принялись обличать в пособничестве нечистой силе бывшую настоятельницу лувьерского монастыря мать Франсуазу, с тех пор
переехавшую в Париж и основавшую там новый престижный монастырь, а Руанский парламент стал требовать выдачи находившейся за пределами его округа новой обвиняемой - чогда Королевский совет решительно пресек назревавший скандал, запретив
руанцам производить какие бы то ни было судебны э действия
против матери Франсуазы. На этом примере правительство могло
убедиться, что спонтанный, с трудом контролируемый религиозный энтузиазм французского "века святых" имеет своп неприятные для него издержки. Но и нормандские власти сочли благоразумным не стимулировать новые экзорцистские процессы: монастырь госпитальерок в Лувье был расформирован, а первая из
одержимых бесами монахинь Мадлен Баван была сочтена скорее
пособницей, чем жертвой дьявола, и заточена в церковную тюрьму при епископстве Эвре.
Отношение к обвинениям, добытым во время экзорцистских
сеансов, было в столице безусловно отрицательным. Начиная с
1615 г. такое мнение неоднократно высказывал (факультет теологии Парижского университета: Сорбонна полагала, что бесы не
заслуживают доверия даже когда они говорят, заклинаемые экзорцистом. К 1640-м гг. вполне определилась "мягкая" гозиция Парижского парламента в вопросе о ведовстве. Он старался умерить рве-
ние местных судей в ведовских процессах, поставив их иод строгий
контроль. Еще в 1601 г. всем подчиненным трибуналам '5ыло запрещено применять при расследовании дел о колдовстве арх. ическое испытание погружением в воду, а также предписано не препятствовать
подаче приговоренными апелляций в Парижский парламент.
В 1624 г. передача в столицу в апелляционном порядке всех
ведовских процессов, если они вели к принятию решений о
смертной казни, телесном наказании или к применению пытки,
была объявлена автоматической, не зависящей даже от просьбы
обвиняемого: мера, которая десять лет спустя могла бы спасти
Грандье, если бы в его процесс не вмешался Королевский совет.
При апелляционном рассмотрении такого рода дел парижские
парламентарии очень строго проверяли доказательства вины и
систематически смягчали приговоры, заменяя смертную казнь
изгнанием или даже вообще оправдывая подсудимых.
Следя за исполнением постановления 1624 г., Парижский парламент жестко поддерживал дисциплину по возглавляемой им
вертикали судебной власти: известен случай, когда к 1(141 г. трое
провинциальных судей были им судимы и приговорены к повешению на Гревской площади за то, что они распорядились казнить одну обвиненную в ведовстве женщину, в нарушение правила об обязательной апелляции к парижскому трибуналы.
На позицию парижских коллег начинают переход! ть и некоторые провинциальные парламенты, прежде всего Дижонский,
который в 16Д5 г. также принял постановление об автоматической апелляции к нему по ведовским процессам, i в 1644
1646 гг. активно противостоял эпидемии охоты на ведьм, охватившей бургундские деревни. В то же время другие парламенты
(Руанский, Гренобльский, Эксский) еще стояли на впс'лне традиционалистских позициях.
В целом для Франции новый подход к проблеме ведовства утверждается с 1660-х гг., когда точку зрения Парижского парламента принимает правительство. Для Кольбера, всег^.а относившегося к проявлениям чрезмерной набожности как к симптомам
потенциальной политической неблагонадежности, такое решение
было естественным. Подготовленный по его инициативе "Уголовный ордонанс" 1670 г., установивший единые для всей страны
правила судебной процедуры в уголовных делах, не касаясь прямо темы ведовства, фактически подтверждает принятую в Париже и Дижоне норму автоматической апелляции к парламентам,
распространяя ее вообще на любые уголовные процессы, приговоры по которым предусматривали бы смертную казнь, телесные
или порочащие наказания. Вначале Кольбер намерева.гся, в свойственной ему манере, издать специальный регламент для ведовских процессов с точной классификацией, какие доказательства
вины подсудимых должны считаться достаточными (упоминания
об этом проекте встречаются в административной корреспонден-
ции 1671-1672 гг., когда правительство под этим предлогом в
массовом порядке изымало дела о колдовстве из ведения Бордосского, Руанского и Беарнского парламентов, в округ; х которых
происходили очередные всплески антиведовской истерии). Однако этот регламент так и не появился - принятое в конечном счете решение оказалось более радикальным. Июльский эдикт
1682 г. "О наказании предсказателей, магов, колдунов и отравителей" последовательно трактует ведовство как "суеверие", занятие обманщиков, "соблазнителей", не рассматривая "пакты" колдунов с дьяволом как реальность. За такое преступление смертная казнь полагалась только при отягощающих обстоятельствах
- если имело место кощунственное обращение с предметами религиозного культа. Этот эдикт и сто лет спустя, в эпоху Просвещения, считался последним и наиболее авторитетным словом французской юриспруденции по данному вопросу.
Такова представленная Р. Мандру хронологическая канва эволюции. Естественно, может возникнуть вопрос о том, ^ак она согласуется с другими культурологическими феноменами. В этой
связи стоит обратить внимание на отмеченное Ж. де Вигри повсеместное падение с 1660-х гг. числа зарегистрированных "чудесных исцелений", которые затем, с 1680-х гг., вообще становятся
очень редкими (J. dc Vignoric. Le miracle dans la France (ill XVII-e
siccle". P., 1983, N 3. P. 318). Как видим, совпадение и по хронологии. и по существу - здесь налицо. Развивающихся скептицизм рационально мыслящих людей XVII века крайнр ограничивал возможности проявления сверхъестественного в обыденной
жизни. "Есть три относящихся к религии вещи, в которые нужно верить с большой осторожностью: чудеса, явления духов и
одержимость бесами, - писал цитируемый Мандру парижским
врач Ги Патен. - Из 99 распространяемых о них слухов не найдется и одного достоверного'.
В. Н-Милое
17. Э.П.ТОМПСОН. ПЛЕБЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И МОРАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ. СТАТЬИ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИСТОРИИ
XVIII и XIX вв.
E.P.THOMPSON. PLEBEISCHE K.ULTUR UND MORALISCHE OKONOMIE. AUFSATZE ZUR ENGLISCHEN SOZIAL-GESCHICHTE DES
18. UND 19. JAHRHUNDERTS. FRANKFURT Л.М., 1980.
377 S.I
Эдвард Палмер Томпсон (1924-1993) - один из крупнейших социальных историков, автор множества работ, посвященных центральным темам английской истории XVIII и XIX в>. Томпсон
родился в Оксфорде, в либеральной семье, учился в Кембридже,
18-ти лет вступил в английскую коммунистическую партию; принадлежал к группе историков-марксистов, занимавшимися историей рабочего движения. В 1952 г. несколько членов этой группы
основали один из ведущих в мировой исторической науке журнал
"Past and Present". В 1956 г., после разоблачения сталинизма на
XX съезде КПСС, событий в Венгрии и Польше группа распалась. В 1963 г. появилась знаменитая книга Томпсона "Становление английского рабочего класса", положившая начало его известности. В 1968 г. Томпсон основал университский Центр по
изучению социальной истории и руководил им до 1970 г., а потом посвятил себя целиком исследовательской работе.
Томпсон считал себя марксистом, хотя и совершенно особым марксистом "социалистическо-гуманистического" на правления.
Однако, его научно-теоретические и методологические установки
и более всего конкретное содержание его исторических работ свидетельствуют о том, что в практике исторических исследований
он далеко отошел от ортодоксального марксизма. Это особенно
ясно видно в статьях, содержащихся в реферируемом сборнике.
В статье "Этнология, антропология и социология" Томпсон пишет, что, занявшись изучением плебейской культуры XVIII в. и
плебейских форм протеста, он, пытаясь восстановить социокульгурный контекст эпохи "доиндустриального общества", пришел к
заключению, что в рамках социально-экономической гстории это
невозможно. Изучая заново материалы, собранные английскими
этнологами, историк понял, что к ним необходимо обратить новые вопросы, которые помогут выявить состояние сознания и
характер повседневной жизни. При этом многим "главным представителям" истории - политикам, мыслителям, предпринимателям, генералам придется переместиться на задний 117 ан: вперед
проталкиваются статисты, которых всегда считали лишь зритсля180
ми исторического процесса. Все эмпирико-историческне исследования Томпсона, созданные в 70-х-90-х гг., шли в этом русле.
В работах Томпсона поражает необычайное изобилие и разнообразие документального материала, извлеченного из сборников
документов ХУШв., из газет и журналов XVIII-XIX ив., мемуаров, писем, судебных материалов, научных гочиненш' и литературных произведений, из старых и новых исторических работ,
посвященных изучаемой им эпохе. Важное значение историк
придает работам английских этнологов, дающих ем^ особенно
ценный материал. Все дело, говорит Томпсон, в отноп^ении к документам, в умении обратить к ним новые, нетривиальные вопросы, которые раскрывают их с неожиданной стороны. Впрочем, творческая лабор-.тория Томпсона остается для читателя нераскрытой, специальных методов работы с документами он не показывает. Похоже, он во многом руководствуется интуицией; недаром во время одной из встреч с коллегами, когда каждому надлежало что-то о себе сообщить, историк коротко представился:
"Томпсон, писатель".
В нашей литературе вклад Томпсона в изучение истории куль-
туры совершенно не оценен. Между тем, идеи, теоретико-методологические установки и подходы Томпсона оказали большое
влияние на развитие историко-антропологических исследований.
Отмечу, например, что германские "историки повсецневности"
начали свои исследования именно под влиянием работ Томпсона^.
Наиболее полно проблемы английской народной плебейской
культуры в контексте социальной жизни Англии XVIII в. рас1".<1атривают"ят в пяти статьях реферируемого сборнике: "Моральная экономия" низших слоев английского населения XVIII в.";
"Патрицианское общество, плебейская культура", "Английское
общество XVIII века. Классовая борьба в отсутствия' класса?";
"Rough music" или английская кошачья музыка"; "Этнология,
антропология, социальная история". Проблема отношения к труду, ко времени, к дисциплине труда в связи с формированием
рыночного хозяйства и системы свободного наемного труда поставлена в статье "Время, трудовая дисциплина и пзомышленный капитализм".
Томпсон характеризует XVIII век в Англии как эпоху внедрения свободного рыночного хозяйства и перехода к индустриальном обществу. Начинается медленное вытеснение прежних полусвободных форм труда и столь же медленное внедрения свободного наемного труда мобильных рабочих; в сознании как господ,
так и трудящихся укрепляется понимание неизбежное ги этой перемены. Впрочем, признавая преимущества наемного труда, господа желали сохранить и прежние удобства. Они все гще цеплялись за привычный образ рабочего-слуги, тесно связанного с работодателем-господином. Свободно передвигающийся наемный рабочий для джентри - сельского дворянина - все еще бродяга, бездельник, которого следует задержать, высечь и заставить работать.
Однако, старое уходило. Система денежных выплат вытесняла
всякого рода поощрения и связи, широко распространенные в начале XVIII в. и облегчавшие патерналистский контрс'ль за всей
жизнью рабочих. Раньше рабочие ели за столом своего работодателя, жили у него в амбаре или в мастерской и таким образом все
время находились под его контролем. Теперь в экономике расширился новый сектор. Это были мелкие работодатели и рабочие,
почти или совершенно независимые от джентри; их-то последние
и считали "канальями", вышедшими из-под общественного контроля. Из них - городских ремесленников, суконщиков, горняков, лодочников, грузчиков, мелких торговцев продовольствием,
рабочих, нанятых мелкими работодателями и не имевлих постоянного заработка, рекрутировались участники волнении.
В статье "Моральная экономия" низших слоев английского населения в XVIII в."^ Томпсон анализирует продовольственные
волнения в Англии XVIII в. Он вступает в спор с историками, которые усматривают в этих волнениях лишь реакцию на повыше-
ние цен, безработицу, голод. Так, У. Ростоу, еще в 1943 г. составляя свою "диаграмму социального напряжения", счит;л, что достаточно скоррелировать индекс безработицы и индекс повышения
цен на продовольствие, и можно без труда вывести кривую социальных волнений.
Конечно, соглашается Томпсон, восстания вспыхивали спонтанно, в результате резкого повышения цен, из-за подозрительных действий торговцев или просто из-за нехватки продовольствия; но они протекали в рамках народных представлений о том,
что законно и что незаконно - на рынке, на мельнипе, в пекарне. Общее согласие относительно этих представлений было основано на традиционном понимании социальных норм, ,i также на
представлениях о хозяйственных функциях, долге и особых обязанностях некоторых членов общества. Сумма этих представлений и составляла то, что автор называет "моральной экономией
бедноты" (moral economy of tile poor). Грубые нарушения этих основных моральных понятий вызывали волнения столь же часто,
сколь и действительная нужда. И главной целью бунтов было
восстановление строгого соблюдения норм этой "моральной экономии".
Традиционная патерналистская модель поставки и продажи
зерна составляла комплекс правил, основывавшихся к а обычном
праве. В периоды нужды правительство осуществляло торговлю
зерном по этим правилам, их придерживались и многие местные
власти. Потребители покупали зерно на рынке прямо у производителя, у фермера. Фермеры должны были привозить зерно ни
местные рынки большими партиями, не продавая его на корню и
не придерживая его у себя в расчете на повышение п^ны. Мельники привозили на рынок муку. Никто не имел правд начинать
продажу зерна или муки до установленного времени, наступавшего утром с ударом колокола. Сначала покупали бедняки, маленькими порциями. Затем раздавался второй удар колокола, теперь
могли совершать покупки имеющие лицензии торговцы. Для них
существовали многочисленные ограничения, основанн-де на принятых в давние времена законах против скупщиков, посредников, перекупщиков. Посредник оставался в глазах общества подозрительной (фигурой до конца XVIII в. Мельники ж:? и особенно пекари считались слугами общества, трудящимися не ради наживы, а ради общественной пользы. Они могли рассчитывать
только на честное, установленное обычаем вознаграждение. Эта
модель, во многих пунктах уже не соответствовавшая фактической ситуации, функционировала, хотя бы частично, в течение
всего XVIII в. Власти, придерживавшиеся традиционной патерналистской позиции, признавали ее, но до известного прэдела: "моральная экономия бедноты" предусматривала прямы'- действия
масс в случае нарушения традиционных правил, тогда как и число основных ценностей патернализма входило безуслонное сохранение порядка, и массовые действия решительно воспрещались.
На смену тюдоровской стратегии попечительства пришла мо^ль Адама Смита, основанная на требовании полной свободы
зерновой торговли. Общественное благо может быть обеспечено
только естественной игрой спроса и предложения на свободном
рынке. Вскоре после жатвы мелкие фермеры и все те, кому нужно платить зерном за аренду земли, спешат обмолотит), его и доставить на рынок. Часть, которую они заранее договорились комуто продать, они могут оставить у себя. Так идет торговля от сентября до Рождества, и в это время можно рассчитывать на низкие цены. Фермеры среднего достатка придерживаю г зерно до
весны, рассчитывая взять за него подороже; богатые фермеры и
джентри, занимающиеся сельским хозяйством, придерживают
зерно до августа. И так, без вмешательства государства, с помощью естественного рыночного ценового механизма, резервы зерна
рационально распределяются на протяжении года. Зерно перетекает из тех районов, где его слишком много, туда, где его не хватает. Деятельность посредников рационализирует торговлю. Но
все это означало отказ от установленных традицией моральных
норм, и они стали помехой для внедрения модели новой политической экономии.
Главный конфликт в Англии XVIII в. развернулся вокруг цен
на хлеб, и вспыхивавшие то и дело волнения чаете называли
"хлебными бунтами". Борьба шла между джентри-традиционалистами, с одной, и адептами "laisser faire", с другой стороны. Трудящееся население вовлекалось в борьбу из-за периодических
вздорожаний. Главную часть питания трудящихся составлял тогда пшеничный хлеб. По сравнению с другими сортами - ржаным, ячменным и овсяным, он был дорог, и если цены в неурожайный год подскакивали, больше половины недельного бюджета рабочей семьи уходило на хлеб. Чтобы выйти из положения,
власти пытались предписать производство более грубых и дешевых сортов, но ни мельники, ни пекари не подчинялись и предпочитали продавать белый хлеб или муку тонкого помола; им это
было выгоднее. Да и среди городских жителей темные сорта вызывали подозрение: считалось, что они содержат вредные примеси. Даже в самые трудные годы трудящееся население не желало
менять свои привычки. Когда в 1800 г. правительстио приняло
так называемый закон о черном хлебе (Brown Bread Act), предписывавший мельникам поставлять муку только грубого помола,
народ реагировал тотчас же. Меньше, чем через два месяца закон
пришлось отменить.
Старая патерналистская модель, обеспечивавшая в трудные
времена потребности простолюдинов, жила в их сознании и составляла горючий материал, вновь и вновь вспыхивавший в выступлениях против новой рыночной экономики. Свободная торговля, которая в следующем столетии будет считаться естественной, пока еще казалась безнравственной. Власти вынуждены были прибегать к наказаниям за нарушения давно установленного
порядка торговли зерном. Но все это имело уже чисто символиче-
скую цель - показать бедноте, что о ней заботятся. В урожайные
годы, когда цены падали, патерналистская модель как бы съеживалась и почти исчезала, но когда цены повышались и среди бедня^оа начинались волнения, она вновь оживала, хотя прежде
всего в этом символическом значении.
Участники волнений черпали ощущение .'[егятимности своих
действий в привычной "моральной экономии". 1-1 многие из тех,
кто ш' участвовал в бунтах, тоже придерживались ее, :;о'гя бы м'ч^сти, отвергая, например, посредников как незвань х проныр,
присваивающих чужие доходы. Враждебность по отношению к
ним разделяли многие мировые судьи в сельской местности. То
же самое было и в городах. Большинство столичных жителей, например, подозревали в обмане всех. кто имел дело с верном, мукой или хлебом. Некто доктор Маннинг в 1750 г. опубликовал
предупреждение, что муку при хлебопечении пекари разбавляют
квасцами, известью, мелом, бобовой мукой и даже гашеной известью и свинцовыми белилами. Мельники будто бы похищают
кости покойников, перемалывают их и "в пищу жигым людям
подмешивают эти отбросы".
Бедняки защищали местный характер своей "моральной эко<номии". Зерно следовало потреблять там, где оно выращивалось.
Вывоз зерна, особенно в трудные годы и особенно за границу, вызывал их гнев. Необычайо обострилось положение в 1795 г., когда распространились слухи о тайном вывозе зерна во Францию.
В городах блокировали улицы, чтобы помешать вывозу зерна из
общины, угрожали разрушить каналы, штурмовали корабли в гаванях. Были и другие поводы для обострения ситуации. Иногда
страсти накалялись по поводу неправильного применения мер и
весов. Но попытки властей унифицировать их наталкивались на
противодействие - люди не хотели менять ничего.
Томпсон характеризует "прямые акции" толпы (особенно в
1740, 1756, 1766, 1795 и 1800 гг.), в которых участвовали угольщики, рабочие оловянных рудников, ткачи, чулочники и др. Эти
акции отличала, во-первых, строгая дисциплина участников, вовторых, устойчивая модель поведения, установившаяся с давних
времен. Главное в ней - не ограбление зерновых амбаров, не кража или дележка зерна или муки, а установление твердых цен.
Иногда восставшие требовали воспроизвести те меры гомощи нуждающимся в голодные годы, которые были введены в конце
XVI и начале XVII в. Тогда мировые судьи инспектировали запасы зерна, обеспечивали его доставку на рынок и там следили за
установленным порядком, чтобы бедняки могли купить зерно по
доступной цене. Во время гражданских войн времен революции
эти законы не соблюдались. Но память народа, особенно в неграмотных обществах, считает Томпсон, исключительно устойчива.
Простые люди объявляли, что если этого не делают власти, они
сами приведут в действие прежние законы. Не раз случалось, что
жители города, завидев повозки с зерном, намеревавшиеся мино-
вать местный рынок, задерживали возниц и сами доставляли зерно на рынок.
Вот как проходила одна из акций, похожая на все другие. По
звуку рожка собралась толпа, состоящая из ткачей, ремесленников, подмастерьев, сельскохозяйственных рабочих, годростков.
Собравшиеся отправились на мельницу и забрали там муку, затем посетили важнейшие рынки в округе и установили свои цены на зерно. Через три дня те же люди посетили фермеров, мельников, пекарей и торговцев, забрали у них продукты и продали
зерно, муку, хлеб, масло, сыр и сало по собственным денам. Выручку отдавали владельцам проданных продуктов. Там, где им
шли навстречу, вели себя сдержанно; встречаясь с противодействием, применяли насилие. Затем толпа разделилась на группы по
50 и 100 человек, которые отправились в деревни и ни хутора.
Там они предлагали владельцам зерна доставлять его на рынок и
продавать по умеренным ценам. Большая группа участников этой
акции явилась к шерифу. Они положили на землю свои дубины,.
выслушали упреки шерифа, затем несколько раз грокричали
"God save tlie King!", подняли дубины и пошли продолжать свои
действия.
Трудно представить себе, что при этом не было злоупотреблений и грабежей. Но документы, настаивает Томпсон, свидетельствуют о противоположном. Все сообщения о случаях, когда бунтовщики отбирали продукты силой или не платили за ^их, требуют, считает он, проверки и выяснения всех обстоятельств дела.
Почти всегда обнаруживаются либо насильственные, либо идущие против патерналистских обычаев действия властей, или нарушение предварительных договоренностей. Неизменно повторяется одно: люди, находившиеся на грани голода, нападали на
мельницы или зернохранилища не с целью грабежа, а чтобы восстановить справедливость и наказать за нарушение обычаев. Бедняки боролись за собственное понимание справедливости, олицетворенной в традиции.
Проявления социального протеста редко носили политический
характер. Только в 1795 и 1800/1801 гг., когда в подметных
письмах и листовках появилась якобинская окраска, возникает
впечатление существования подлинно политической мотивации.
Так, в 1800 г. в г. Рэмсбери на дереве повесили такую листовку:
"Долой правительство, купающееся в роскоши, светское и церковное, или же вы умрете с голоду. Вы наворовали 'гебе хлеба,
мяса, сыра ... и забираете тысячи жизней для участия в ваших
войнах. Пусть Бурбоны сами решают свои дела, дайте нам, британцам, заняться своими. Долой вашу конституцию. Провозгласите республику, иначе и вам, и вашим детям суждено голодать.
Господи, помоги беднякам и долой Георга 111!"(с. 120-121).
1795 и 1800/1801 годы были переломными и, по мнению
Томпсона, они требуют специального анализа. Умирает старая
традиция, новая только еще формируется. Возникает новая форма давления через заработную плату. В 1816 г. рабочие в Восточной Англии уже требовали установления минимума заработной
платы. И в другом отношении эти годы стали переломными. Формы волнений, существовавшие до этого времени, отражали равновесие между властями и населением. Во время наш). ICOHOBCKIIX
войн это равновесие было нарушено. Антиякобинские -^строения
джентри усиливали их страх перед любым самостоятельным действием простых людей, и даже собрания, где толковали о ценах
на зерно, рассматривались как признаки приближающегося бунта. В стране боялись вторжения извне, создавались отряды добровольцев, и это давало гражданским властям больше возможностей в случае необходимости справиться с массами, и не только (
помощью уговоров, а и репрессиями.
Соединение страха, связанного с событиями Фран1.узской революции, и успехов новой политической экономии нанесло решающий удар патернализму. На первое место выдвигается теперь
не благотворительность, не помощь беднякам, а требов.шие к ним
- терпеть, трудиться, веровать, проявлять умеренность.
Агония "моральной экономии" тянулась так же долго, как и
крушение модели патерналистского вмешательства в "орговлю и
производство. Прежние заповеди звучали еще в течение всего
XVIII в. - с церковных кафедр, в памфлетах, в газетах, листовках, стихах, анонимных письмах. Прежние моральные нормы
были еще живы и среди патерналистски настроенных джентри, и
среди мятежных простолюдинов. Но от самой старой системы попечительства после наполеоновских войн осталась лишь благотворительность. Что касается "моральной экономии бедноты", она,
по мнению Томпсона, была подхвачена некоторыми социалистами, последователями Р.Оуэна.
В нескольких статьях реферируемого сборника Томпсон рассматривает английское общество XVIII в. в социокультурном аспекте, обращая особое внимание на противостояние и вместе с
тем взаимосвязанность культуры образованных людей :i народной
культуры.
Все жаловались на беспорядки, но никто не видел и них угрозы существующему общественному устройству. Рабочий желал
освободиться от непосредственных ежедневных унижений и был
готов к действиям, но "дальние контуры власти" и его собственное положение в этой жизни представлялись ему столь же незыблемыми, как земля и небо. Структуры власти и даже формы эксплуатации казались ему естественными, что не исключало, конечно, скрытого недовольства. Томпсон определяет этт как "менталитет подчинения".
Унижения, которые испытывал трудящийся, не исходили непосредственно от господ. Когда взвинчивались цены, народная
ярость направлялась не на землевладельцев, а на торговцев и
мельников. Джентри представлялся благодетелем. Присвоение
труда бедняков осуществлялось через арендаторов, через торговцев. Самого хозяина рабочие видели редко. Управляющий освобождал его от прямого общения с арендаторами, кучер - от случайных встреч на дороге. Простых людей он видел только тогда, когда они искали его покровительства и помощи. В этих случаях
выход джентри был поистине театральным. Пудреный парик,
пышная одежда, обдуманные патрицианские жесты и высокомерие в облике и речи все было направлено на то, чтобы вызвать
почтение у плебса. Ритуал охоты, театральный стил), судебных
заседаний, поздний приход и ранний уход из церкви и особые
скамьи в ней - все это был "театр", предназначенный для поддержания своего влияния. Участие в более долгих церемониях
свадьбах, крестинах, праздниках совершеннолетия, сопровождавшееся пожертвованиями, похороны с раздачей милое' I>IHH нее
это тоже "театр" патернализма. Тема "театра" элиты ;:ак составной части хорошо разработанной техники господства и "антитептра" бедноты, предназначенного, с одной стороны, для защиты от
давления культуры джентри, а с другой - для сохранения взаимосвязи с ней - одна из важнейших в статьях Томпсона.
Первоначальный смысл патернализма, предполагавший сердечное участие господ в делах бедняков, непринужденность отношений и прямые контакты, был очень далек от "театра" британских "патрициев". Но простые люди воспринимали его всерьез.
Шоу были столь впечатляющими, что даже историки попадались
на удочку и рассуждали о патерналистской ответственности английской аристократии, на которой якобы зижделась гся система
отношений в XVIII в. В действительности, считает Томпсон, почти все представители аристократии, джентри и клира выполнение своих патерналистских обязанностей перекладывали на подчиненных, которые их не выполняли. Сами же они лишь демонстрировали свою щедрость: зажаренный бык на празднике, призы на спортивных состязаниях, щедрые подаяния, посещения
бедных, высказывания против перекупщиков. Все это были жесты, не заслуживающие того, чтобы считать их 11рояв.'1"нпям11 ответственности. Лишь одну общественную функцию джентри считали собственной - отправление правосудия и поддержание порядка во время кризисных ситуаций. Здесь они признавали, что
это их обязанность, но ведь за ней скрывалась забота с своей собственности и своем положении в округе.
Был н "театр" властей. Предел их терпения регулярно и торжественно демонстрировался публичными казнями и Лондоне,
разлагающимися трупами на виселицах вдоль улиц. Разработанный в деталях ритуал публичной казни выполнял важ ную функцию устрашающего примера, предназначенного для осуществления контроля над обществом.
Однако, действенное патернплистское господство требу'.;т ш'
только светской, но и духовной власти, и здесь было самое слабое
место системы. Церковь в Англии XVTTI в. утрачивала силу и
влияние как альтернативная духовная к.">п"ть. Практически она
ею уже не являлась: многие пасторы были мировыми судьями и
служили тому же закону, что и джентри. Епископов ч ICTO назначали по политическим соображениям, а молодые родственники
джентри становились пасторами и сохраняли жизненный стиль
своей прежней среды.
"Магическая" власть церкви и ее ритуалов над простолюдинами еще существовала, но очень ослабела. Прежде, когда священники находили возможность совмещения религиозных постулатов с языческими или еретическими суевериями прихожан, они
соединяли народные праздники с церковными обрядами и тем самым в какой-то степени их христианизировали. Это укрепляло
авторитет церкви. В XVI и XVII вв. пуритане принялись ломать
оковы идолопоклонства и суеверий, но тут же заменили их оковами суровой дисциплины, которую простолюдины не принимали. В результате в XVIII в. пуританизм стал ослабевать-.
Прежде всего церковь утратила власть над праздниками, а тем
самым над значительной частью плебейской культуры. В ритуальном церковном календаре праздники концентрировались в месяцы от Рождества до Пасхи. Этим двум главным церковным
праздникам прихожане еще отдавали дань. Но поскольку в жизни простонародья многочисленные праздники и праздничные дела переплетались с трудом, как переплетались в сельскохозяйственном труде "работа" и "жизнь", народный календарь праздниKJB совпадат с аграрным, и церковь, не участвовавшая во всем
этом, утрачивала связь с "эмоциональным календарем' бедняков.
Происходила секуляризация календаря, а вместе с ней секуляризация стиля и функций праздников. Пуританские священники
жаловались, что праздники освящения храма оскверняют плясками, травлей животных и всевозможными видами распутства.
Они пытались изгнать народный танец из церкви, а лавки мелочных торговцев убрать с церковного двора. Но ничего не получалось.
Происходило заметное разделение культуры образованных людей и плебейской культуры. Это выявлялось не только во время
уличных процессий, когда пели народные песни или несли соломенные куклы, но и в более серьезных вещах. Вот, нагример, ритуал "продажи женщин", распространенный в Англии среди простонародья в XVIII и XIX вв. Муж сообщает жене о своем намерении продать ее с аукциона на рынке. В назначенный день на
П1СЮ или на талию ей набрасывают веревку и ведут на место продажи. Рядом идет аукционист, обычно ее муж. Происходят торги, проданную женщину передают покупателю. Тут же, на рынке, пили за здоровье молодых, и за выпивку обычно платил бывший муж.
В статье "Этнология, антропология и социальная история"
Томпсон излагает результаты своего анализа трехсот случаев этого экзотического ритуала. Он извлек сведения о нем из газетных
заметок и сочинений этнологов. Но это, говорит исследователь,
были сторонние наблюдатели, смотревшие на происходящее
"сверху" и по формальным атрибутам толковавшие его как "продажу женщин". Все были потрясены тем, что такие варварские
акты происходят в цивилизованной Англии. Но если изучить документы более вдумчиво и посмотреть на дело "снизу", выясняется иной аспект происходившего. Этот ритуал был формой развода, поскольку других форм народу не предлагалось. Почти в каждом из известных историку случаев брак был фактически уже разорван, и "продажа" представляла собой лишь открытое объявление о случившемся. Покупатель знал об этом или даже был любовником женщины. Разыгрываемый публично спектакль часто
был предназначен для того, чтобы скрыть позор мужа, теряющего супругу.
Итак, на первый взгляд, варварство, женщина с варевкой на
шее на скотном рынке. Но анализ реальных отношений меняет
картину. Ритуал регулирует заранее согласованный обмен партнерами, и это свидетельствует, с одной стороны, о признании
большей сексуальной свободы, с другой - о народной легитимации развода, о самостоятельности народной культуры в решении
столь важного жизненного вопроса. Отвечая на вопрос священника, собиравшего материал относительно продажи женщин, один
респондент воскликнул: "Боже мой. Ваша честь! Да можете спросить любого, был ли этот брак хорошим, разумным и христианским, и всякий Вам скажет, что не был". Уже в словах "Боже
мой. Ваша честь..." звучит покровительственный оттенок. И далее: всякич человек знает, что правильно, а что нет, кроме, конечно, священника, сквайра или его образованных дегей; ./побои
.чнает лучше, чем знает сам священник, что значит "христианский". Так проявляется скептическое отношение простолюдинов
к церковным установлениям и уверенность в собственной правоте
(с. 278).
Ритуал "rough music", английский вариант шаривари, существовавший в Англии до конца XIX в., который Томпсон подробно
описывает и aнaлизиpуeт'', мог быть в иных случаях устрашающим и в высшей степени грубым. Он тоже свидетельствует о существовании самостоятельной народной культуры, передающейся
в устной традиции. Это был, по выражению Томпсона, "социально-консервативный" ритуал, защищавший обычай, опиравшийся
на существующий консенсус и апеллирующий не к разуму, а к
предрассудкам. К тому же "rough music" легитимировала агрессивность молодежи, а юношество, говорит Томпсон, нс всегда является протагонистом разума и сторонником перемен. Это была
реакция протеста против одной из самых болезненных форм отчуждения в бюрократических обществах - отчуждения права. Г()
сударство отбирает у общества функцию управления и передаег
ее чиновникам. Тем, кто лишается этого привычного важного
права, нетрудно прийти к заключению, что с ними поступают несправедливо. Ритуал "rough music" свидетельствовал о том, что
право отчуждено еще ie полностью; он также обнаруживал, что
принадлежность права народу, его неотчужденность вовсе не делает его более толерантным; оно соответствует ценностной системе народа.
Томпсон считает, что долгое существование в Англии самостоятельной, живой плебейской культуры объяснялось слабостью
духовного авторитета церкви. Эта культура защищала плебс от
вмешательства джентри и духовенства. Поскольку простолюдин
не ориентируется на будущее, не видит в нем никакой прочности
и не планирует никакой карьеры, хватается за любую возможность выживания, не заботясь о последствиях, это придает плебейской культуре известное "легкомыслие". Во время бунтов это
проявлялось и в поведении толпы, действующей посгешно, сознавая, что триумф будет недолгим.
Вместе с тем простолюдины понимали свою связь с джентри, и
джентри, приверженные традиционализму, относились к плебейской культуре, по крайней мере в середине XVIII в., более или
менее доброжелательно. Господа опасались применять силу во
время бунтов и соблюдали осторожность, изыскивая меры, которые не слишком отдалили бы бедноту. Та часть бедняков, которая порой все еще объединялась под лозунгом "цер-:овь и король", чувствовала, что, принимая милости богатых и -1ДЯ с ними
на компромисс, можно добиться ощутимых выгод. В известном
смысле господа и массы нуждались друг в друге, каждая сторона
разыгрывала свой "театр", определяя тем самым поведение другой стороны.
В статье "Английское общество XVIII в. Классовая борьба в
отсутствие класса?", еще раз объясняя отношения между плебсом
и джентри, их отталкивание и их взаимосвязанность, Томпсон
прибегает к метафоре, вводя в исследование понятие общественного "силового поля". Он напоминает школьный опыт на уроке
физики. Электрический поток магнетизирует железные опилки,
рассыпанные на плоской поверхности. Они начинают двигаться,
стремясь к двум противоположным полюсам, а те, что остались в
середине, располагаются так, словно их тянет либо к одному, либо к другому полюсу. Так создается силовое поле. В английском
обществе XVIII в. на одном полюсе - массы, на другом - аристократия и джентри. Между ними группы лиц академических профессий и купцы. Магнитные линии влекут этих последних к господствующим слоям, но иногда они прячутся за спиной народа,
участвуя в его акциях. Так намечается классовый конфликт, между тем как классов еще нет.
Плебейская культура в Англии XVIII в. не была ни революци-
онной, ни предреволюционной, но она не была и "куль турой почтения". Томпсон характеризует ее как "консерватизно-мятежную". Мятеж совершается именем традиции и в защиту традиции. Это акты сопротивления направленные против экономических новаций или рационализирующих хозяйство методов. Плебс
воспринимает все это как новые формы эксплуатации, как отчуждение прежних прав и разрушение привычных норм груда и отдыха. Историк предлагает читателю проследить с точки зрения
плебейской культуры некоторые черты проявлений протеста в
Англии XVIII в.
Прежде всего, им свойственна анонимность. В сельской местности, где всякое открытое сопротивление хозяевам тотчас может
повлечь за собой возмездие - отнимут жилище, работу, откажут
в аренде - производилось множество анонимных действий - анонимное письмо с угрозой, убийство животного, кирпич, брошенный в окно, ворота, снятые с петель, спуск воды в рыбном пруду
и т.д. Тот, кто днем усердно стягивал шапку с головы перед
сквайром, - демонстрация почтения диктовалась ОТЧАСТИ собственными интересами, отчасти страхом или притворстг.ом и была
частью "театра бедноты" - ночью мог отравить его собаку или
пустить змею к фазанам.
Другая черта плебейской культуры, определявшая некоторые
действия во время бунта, тоже имеет отношение к "театру бедиоть'". Совершенно так же, как господа напоминали о споем верховенстве стилем одежды или манерой поведения, плебс напоминал
о себе "театром угроз". Публично сжигали соломенную куклу, вешали на виселицу сапог, снимали с дома крыпт\. выбивали стекла. В столице непопулярным министрам и популярным политикам не нужно было изучать свой рейтинг, чтобы понять отношение толпы. Первым в лицо выкрикивали непристойности, вторых
в случае триумфа несли по улице на руках.
Третья черта народных акций - скорые и прямы" действия
толпы. Если не удавалось добиться успеха сразу, она тут же о'гступала. Нужно было немедленно сломать :)ту мельницу, запугать этих торговцев, снять крышу с этого дома - и сделать это
быстро, пока не явились войска.
Господствующие силы и толпа нуждались друг в друге, разыгрывали друг перед другом свой театр и проявляли взаимную умеренность. На словах нетерпимые к поведению свободных рабочих. особенно к их перемещениям, на практике господа проявляли поразительную терпимость к передвижению волнующейся
толпы. Простолюдины сознавали, что господа, обосновывающие
свои претензии на власть не законом, а древним обычаем, вовсе
не стремятся отменить все плебейские обычаи и права. Это всегда
составляло фон символических выражений гегемонии или протеста. Необузданность толпы была той ценой, которую аристократия и джентри платили за то, чего они хотели в политике: не до-
пустить ограничения своего влияния и усиления кзролевской
власти. Конечно, они платили эту цену без всякой охоты. Слабость государства не позволяла надеяться на скорую и решительную помощь войск, появлявшихся всегда неохотно и с опозданием. В стране еще не существовало единого господствующего класса, готового взять под контроль жизнь страны. По мнению Томпсона, XVIII-й век в Англии - это век классовой борьбы в отсутствие класса.
К числу азбучных истин относится ныне то, что между 1300 и
1650 гг. в Европе коренным образом изменилось отношение к
времени. Начиная этими словами свою статью "Время, трудовая
дисциплина и промышленный капитализм", Томпсон почти тотчас же ссылается на две статьи Ж,. Ле Гоффа, опубликованные в
1960 и 1963 гг." Заметим, однако, что реферируемая статья, во
многом напоминающая статью Ле Гоффа "О "церков-юм времени" и "времени купцов"", построена исключительно ъя материале английских источников, и проблему своей работ:з1 Томпсон
сформулировал так: почему в эпоху промышленного переворота в
Англии происходит переход от "природного", конкретного времени к абстрактному, определяющему всю жизнь человека, и какова роль этой перемены в формировании новой дисциплдны труда.
У примитивных народов время измеряется трудовыми процессами и домашними работами. Пастух выгоняет скот н.) пастбище
и перемещает его, следя за временем по солнцу. На Мадагаскаре
время измеряют продолжительностью варки риса (около получаса) или жарения кузнечика (одно мгновение). В Чили в 16-1< г.
землетрясение длилось столько времени, сколько требовалось для
того, чтобы дважды прочесть "Верую", а время варки яйца измерялось громко прочитанным "Ave Maria". Но ведь ча-ы уже существовали. Такое равнодушие к измерению времени ". помощью
часового механизма возможно только в общинах мелких крестьян, или, например, рыбаков, где все зависит от ежедневных трудовых заданий, от возникающих рабочих ситуаций и их связи с
природными ритмами. Для аграрных обществ способ исчисления
времени, ориентированный на трудовые занятия, наиболее эффективен. Он сохраняет значение и для деревенского производства и домашней промышленности. Здесь менее всего зиметно разделение между "работой" и "жизнью", и такая ориентация во
времени понятнее, чем работа по часам. Все изменяется с появлением наемного труда. Решающей становится цена времени, выраженная в деньгах.
Не вполне ясно, насколько к началу промышленного перевороти было распространено точное измерение времени го часовым
механизмам. Церковные и другие часы в общественгых местах
городов и торговых сел существовали уже в XIV в. К концу
XVI в. многие общины в Англии имели церковные часы. Но еще
в XVII в. во многих местах утром и вечером раздавался отмерявший время звон церковного колокола и вообще знаком времени
служили звуки.
В XVII-XVIII вв. изготавливали все больше различных часов.
В этом деле рано возникло разделение труда, облегчавшее и удешевлявшее массовое производство. Но в середине XVIII в. иметь
часы все еще было, по-видимому, привилегией сельского дворянина, мастера, торговца, зажиточного крестьянина. Однако, к
концу XVIII в. это уже не предмет роскоши. В хижинах некоторых сельскохозяйственных рабочих были дешевые деревянные
часы. Даже рабочий мог один-два раза в жизни, неожиданно получив деньги, приобрести часы. Карманные часы были сберегательной кассой маленького человека: в трудные времена их можно было продать или заложить. В конце XIX в. двойная золотая
цепочка часов была непременной принадлежностью удачливого
профсоюзного лидера; шеф фирмы за 50 лет труда дазил своему
рабочему гравированные золотые часы.
Пока производство протекало на дому и в маленьких мастерских, потребность в его синхронизации оставалась незначительной, ориентировались на задание. Рабочий сам определял, сколько часов в день ему нужно работать. Одновременно он мог заниматься и чем-то иным. Оловянщики из Корнуолла нанимались
ловлей сардин, рабочие свинцовых рудников на севере возделывали небольшие пашни. Высочайшая интенсивность труда сменялась праздностью. Подобные ритмы и сегодня свойственны лицам
свободных профессий. Может быть, размышляет Томпсон, это и
есть естественный трудовой ритм человека?
1
^Ш
В условиях домашнего производства и мелких предприятий
понедельники были нерабочими днями. Этот порядок, идущий от
старого обычая мастеров по понедельникам собирать готовую работу и раздавать новую, сохранялся в Англии в течение всего
XIX в. В опубликованном в 1903 г. сообщении одного "старого
горшечника" рассказывалось о том, что в середине XIX в. горшечники все еще соблюдали "нерабочий понедельник", хотя уже
заключались годичные договоры и размер недельной заработной
платы зависел от выработки. Впрочем, для женщин и детей понедельник был рабочим днем, хотя и более коротким, ^ем обычно
(дети готовили материал для квалифицированных горшечников).
Мужчины по понедельникам и вторникам пропивали заработанное на прошедшей неделе; со среды по пятницу все работали по
15-16 часов. Автор заметок объяснял такой порядок отсутствием
механизации.
В первые десятилетия XIX в. труд не был регулярным еще и
из-за праздничных дней и ярмарок. Хотя еще в XVII ь. воскресенье заменило отмечавшиеся раньше дни святых, народ упорно
придерживался прежних традиционных праздников.
Впервые о дисциплине рабочего времени говорится в относящемся к 1700 г. своде правил железоделательного завода Кроули:
"Чтобы разоблачить леность и гнусность, наградить добрых и
усердных, устанавливается расписание и объявляется, что от
5 часов утра и до 8 вечера, или от 7 утра и до 10 вечера - это
15 часов. Из них вычитается 1,5 часа на завтрак, обед и т.д. Итого получается 13,5 часов аккуратной работы. Не будет учитываться время, проведенное в пивных или кафе; игры, сон, курение, чтение газет, споры - все, что не касается работы" (с.50).
Надсмотрщику и привратнику предписывалось представлять контрольную карту, на которой с точностью до минуты обозначается
время прихода и ухода рабочих. Так уже на пороге XVIII в. мы
вступаем на почву промышленного капитализма с его дисциплиной, с контрольной картой, надсмотрщиками, доносчиками и наказаниями.
Некоторые мастера старались лишить рабочих возможности
следить за временем. По свидетельству одного современника, работавшего на фабрике некоего мистера Брэда, летом там работали, пока не стемнеет. Часы имели только мастер и его сын. У одного рабочего были часы, но их у него отобрали и отдали на хранение мастеру. Другой рабочий сообщал, что у них на фабрике
мастера утром и вечером передвигали стрелки на часах. Часто хозяева старались сократить время обеденного перерыва, возвещая
его не вовремя. Однако, пишет Томпсон, постепенно рабочие научились воспринимать время так, как его понимали работодатели,
Л-"^
b-i.e^
^ЙЙ1,-1
и усвоили формулу "время - деньги". Первому поколению фабричных рабочих вдалбливали в головы, что значит время; второе
поколение боролось за сокращение рабочего дня: третье аа оплату сверхурочных часов.
Все это было давление извне. Но задолго до того, как ремесленник смог приобрести карманные часы, Ричард Бак:'тер*' предложил ему внутренний моральный хронометр. Его сочинение
"Напутствия христианам" содержит немало вариации на тему:
"Береги время". Каждую минуту следует ценить как драгоценный дар и использовать ее для исполнения долга.
Призывы ценить время звучали не только из ус'" теологов.
Томпсон приводит слова Б.Франклина, с классическои ясностью
выразившего отношение к времени, свойственное человеку Нового времени: "С тех пор как наше время измеряется единым способом II золотой слиток дня разделен на часы, прилежные люди
всех профессий умеют использовать каждую минуту для своей
пользы. Но кто беззаботно растрачивает время, тот действительно
швыряется деньгами. Я вспоминаю одну женщину, которая понимала цену времени. Ее муж был превосходным сапожником,
но он никогда не следил за тем, как бегут минуты. Напрасно пыталась она внушить ему, что время - деньги... Однажды он сидел
с друзьями в трактире, и кто-то заметил, что пробило одиннадцать. "Ну II что, - сказал он, - если мы сидим тут все вместе?"
Когда жена через мальчика передала ему, что пробило двенадцать, он ответил: "Откажи ей, чтобы успокоилась, больше быть
не может!" Когда наступил 1 час, он сказал: "Она должна утешиться, меньше тоже не может быть" (с.58). Это Франклин вспоминает о Лондоне, где он после 1720 г. работал печатником. Он,
однако, никогда не следовал примеру своих коллег, огмечавших
нерабочий понедельник. Не удивительно, замечает "Томпсон, что
этот человек, сочинение которого послужило Максу доберу для
иллюстрации капиталистической этики, является уже представителем нового мира.
Разделение труда, контроль, наказания, отсчет времени с помощью удара колокола и по часам, денежное стимулирование,
проповеди, упразднение ярмарок и народных увеселений - все
это были меры, которые в конечном счете способствовали выраоотке ноных рабочих привычек и новой дисциплины виемени. Но
нерегулярные рабочие ритмы сохранились и в XX в. и даже были
пнституционализированы, особенно в Лондоне и в больших гаванях. Можно ли вообще утверждать, что с переходом к индустриальному обществу произошло радикальное преобразование социальной природы человека и его трудовых привычек?
^
В развивающихся странах и сегодня можно наблюдать неспособность рабочих позитивно реагировать на введение в опредечен
ные рамки дисциплины. В Африке и с('йч.;и' стиль ж^зни таков,
что тяжелый и непрерывный труд в течение всего рабочего дня
невозможен. Развитому индустриальному общестт нрисуще
строгое отношение к времени и четкое разгр.шичение 'работы" и
"жизни". Человек этого общества энергичен, стремитсч к усовершенствованиям. Дисциплинированность - одна из г.1жнейн]их
характеристик жителя развитой страны. Но это вовсе не значит,
что один стиль жизни лучше другого. Ценности не только приобретаются, но и теряются.
"Брак по расчету" между пуританизмом и промышленным [капитализмом не только придал новую ценность категории времени; формула "время-деньги" прочно вошла в сознание челонска.
Пуританизм как необходимая составная часть трудового :)тоса
способствовал индустриализации и помог вырваться из хозяйственной системы прошлого, с необходимостью предполагавшей
бедность. Но каково будущее? Ослабляющего человек i давления
бедности больше нет. И что же, будет ли ослабевать пуританское
понимание времени, покинет ли человека внутренняя тревога,
внутренняя необходимость постоянно помнить о том, что следует
рационально использовать время?
Если отношение к времени теряет оттенок чего-то тягостного,
давящего, то, может быть, нужно вновь учиться искусству жить,
утраченному в эпоху промышленного переворота? Учиться заполнять пустые отрезки своих дней обогащающими и расслабляющими личными и общественными отношениями? А можег быть стои. разрушить искусственное разграничение "работы" и "жизни"?
Конечно, возвращение к прежней культуре невозможно. Но
для удовлетворения высокосинхронизированной и автоматизированной промышленности и заполнения значительно расширяющегося свободного времени человеку следует соединит> элементы
старой и новой культуры в новом синтезе, ориентированном не
на годовой цикл, но и не на рынок, а на потребности человека.
' АВТО]) рсфоратп 11ол1>.!онплся сборником статен Э.П.Тгмнсоиа, п.чд.шном п ФРГ на немецком яныкс п.чвестным историком Днтером Гро.
( плодившим его оостоятельным предисловием. По c.'lonilM Д Гро. I[<'.MV[I.
кис читатели на страницах этого сборника впервые но.чнакочн.-ик-]. ( работами JTOI'O выдающегося анг.чнИского нсследоватс.чя
- В HaiLicii литературе о Томпсоне можно нанти лишь крагкне упоминания. О статье "Моральная экономия" английскоп толщ,] в Х\'1П столегнн", онублнкованнон в 1971 г. в "Past and Preseill" н дискуссии, ра.чиорнувшеися вокруг нее. писала Л-А.Модр.'п> (Проб.'li'Miii бргганскон нс197
тории. М. ,1984). Подробнее о книге "Становление пнг.пийск^го рабочего
класса", о месте Томпсона в британской историографии говорится в
работе В.В.Согрина, Г.И .Зверевой и Л.Н.Рспинои "Современь ая историография Великобритании" (М.,1991). Его научные позиции авторы рассматривают в рамках марксистского направления. В книг^ американского историка Г.Иггерса "Историческая наука в XX веке" (lggerx G.
Geschichtswissenschaft ini 20. .Jahrhundert. Gottingeii, 1993) Томпсон тоже трактуется кок представитель современной марксистской историографии. Однако, раздел, где речь идет о Томпсоне, называется: "Марксистская историография на пути от исторического материализма к критической антропологии". Пожалуй, это наиболее точно характеризует позицию и путь в науке Э.П.Томпсона.
'' Существует мнение, что применяемое Томпсоном выражение "the
moral economy" на русский язык следует переводить словари "моральная .жономика", поскольку речь идет о системе хозяйства^ тому же,
слово "экономия" может быть понято двояко). Я же считаю, что следует
употребить выражение "моральная экономия", ибо речь 1дет прежде
всего о некой "теории" (ср. "политическая экономия"), о системе пред
cinlia.'lCHUU бедноты относительно социальных и моральнь^ норм, связанных с патерналпстской моделью зерновой торговли.
^ Статья Э.П. Томпсона "Rough music: ie charivari arglaiK" была
впервые опубликована в 1972 г. в "Annales", 27, II.
" CM.: Le Goff J. An Moyeil age: temps de l'cglise et tenps (In iiiarchanci // Aniiales 15 (1960): idem. Le temps dll travail (lair la crise (In
XIVe siccle; du temps medieval an temps modern // Le inc yen Age 69
(1963)
*' Ричард Бакстер - английский теолог, один из идеолог> пуританизма.
С.В.Оболс некая
18. КУЛЬТУРА ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ. НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ В БАВАРИИ 1$
XVI-XIX ВВ. СбОРНИК СТАТЕЙ ПОД РЕД. Р. ВАН
ДЮЛЬМЕНА.
KVLTVR DER EINFACHEN LEUTE. BAYERISCHES VOLKSLEBEN VON
16. BIS 19. JAHRHUNDERT. HRSf,. VON R. VAN OILMEN.
MVNCHEN, 1983. 265 S. БИБЛ.: S. 259-261
Реферируемая книга - сборник ("гатей молодых немецких ученых, обратившихся к изучению истории повседневности. Это направление возникло в германской исторической науке в конце
70-х гг. Его приверженцы идут путем, обозначенным трудами
английского исследор...теля Эдварда Палмера Томпсона и французского этнолога и социолога Пьера Бурдье.
Что касается французской "новой исторической науки", то после второй мировой войны, в пору расцвета и триумфа "Анналоп"
наиболее влиятельные тогда немецкие историки Герхард Риттер,
Т.Шидер, Д.Гро заявляли о полном неприятии ее теоретических
принципов и исследовательских методик. С тех пор многое, конечно, изменилось. В 70-х гг. крупнейшие представители нового
течения в германской историографии -"историко-критической
социальной науки" - X.-У. Велер, Ю.Кокка и др. высказались в
пользу "анналистов". Анналистские тенденции все больше проникали в германскую историографию'. В 80-е гг. сближение происходило в рамках "истории повседневности", причем немецкие
представители этого направления проявляют не свойственный анналистам интерес к XIX и XX вв. Их интересует так называемый
"особый iiy'lb" (Sondei-weg) Германии. Если он определяется особым состоянием сознания, то очень важным представляется изучение немецкой ментальности, начиная с конца XVIII в. Как
формировались у немцев коллективные политические представления и в чем причины массового успеха национал-социализма в
Германии; какие изменения произошли в общественною сознании
немцев после второй мировой войны? Поскольку изучение коллективных феноменов требует привлечения репрезентативных серийных источников, возникают серьезные трудности. Что касается истории XX в., немецкие историки пытаются преодолеть их с
помощью методов "устной истории".
И все же работ по истории повседневности, которые ведут исследователей к изучению истории ментальностей, и Германии
сравнительно немного. Реферируемый сборник принадлежит к их
числу. Его составитель, профессор университета в Саарбрюкене
Рихард ван Дюльмен, автор ряда работ по истории Реформации,
придает особое значение изучению культуры низших слоев общества. Авторы статей, представленных в сборнике, исследуя феномены и структуры культуры низших слоев и групп населения Баварии в XVI-XIX вв., стремятся реконструировать традиционный
мир той эпохи. Они определяют этот мир как "до-иидустриальный", "до-современный", "до-буржуазный", существующий рядом с "современным", "буржуазным,.
С XVI в. начинает расти "дисциплинированность" простых
людей, воспринимающих новые ценностные ориентации и нормы, вводимые церковью и государством. Но, как полагают молодые исследователи, народная культура не умерла, а приспособилась к социальным изменениям. Еще и в Новое время в повседневной жизни простые люди руководствовались собственными
ценностными ориентациями и прежде всего собственным "кодексом чести". Для сельского жителя главную роль продолжали играть не имущественное положение и не отношения со светскими
и церковными властями (хотя и это нельзя сбрасывать со счетов),
а прежде всего понятие чести отдельного лица или группы, выведенное из неписаных законов деревенского сообщество, и постоянная забота о ее защите.
Авторы статей имеют общий взгляд на природу и функции ритуалов в народной культуре Раннего Нового времени. То, что в
эпоху Просвещения людям образованным казалось либо диким и
безнравственным суеверием, либо курьезом, было чрезвычайно
важным для общества с собственными строгими нормами, ориентированными на выживание каждого его члена. Только индустриализация и бюрократизация разрушили вместе с прежними социальными отношениями и прежний мир обычаев и ритуалов.
Для реферата избраны те статьи сборника, в которых с наибольшей наглядностью выявляются ментальные установки простолюдинов баварской деревни XVI-XIX вв. и с наибольшей убедительностью звучит главный тезис книги - о существовании в
Новое время автономной народной культуры, отстаивавшей свою
независимость еще в конце XIX в.
Х.Хайдрих. Нарушение границ. Дом и народная культура в
Раннее Новое время
Темп диссертации Хайдриха "Устройство жилищ;-. Семья и
сельская культура в XVIII и начале XIX в.". В данной статье поставлена проблема: насколько в Раннее Новое время г снятие неприкосновенности жилища, закрепленное в юридических доку-
ментах, соответствовало тому, что происходило к повседневной
жизни баварских крестьян.
Исследуя дом и его границы в социокультурном асп акте, автор
стремится высветить некоторые нормы поведения Е народной
культуре Раннего Нового времени. Его источники - хранящиеся
в Мюнхенском архиве протоколы заседаний окружных судов
XVI-XVII вв. и акты обследования жилых домов в городах и деревнях того времени.
В деревне дом выступает как некоторая граница м(жду внешним миром и частной жизнью крестьянина. Это единственное место, где он находит защиту и чувствует возможность жить по-своему, насколько ему позволяют обычаи коллективною народной
культуры. В течение дня вся жизнь крестьянина протекает открыто, на улице. Труд, приготовление пищи, праздник - все на
виду у всех. Для того, чтобы укрыться от посторонних, предназначен дом.
Автор статьи подчеркивает, что в судебниках XVI в. дому придается огромное значение. В законе содержится опрелеление понятия дома и его границ; зафиксирована разветвленная система
правил применения закона о неприкосновенности жшища. Но в
протоколах судебных разбирательств отмечаются и постоянные
нарушения этих законов и правил: следовательно, в повседневной
жизни, в сфере господства народной культуры понимание независимости домашней жизни было все же не слишком глубоким.
Жители деревень в зависимости от ситуации то признавали, то
нарушали неприкосновенность жилища; ее приходилось постоянно подтверждать и защищать.
Однако, нарушение границы дома, которое сегодня кажется
проявлением беспорядка, не лишено было своей логики. Дом
это сфера чести; честь дома - не магическое свойство и не правовое качество, она имеет общественный характер и завысит от авторитета хозяина, отвечающего перед соседями за соблюдение определенных правил поведения теми, кто живет в его доме. Такова, подчеркивает автор, была общепризнанная роль мужчины.
Если честь дома затронута, хотя бы в результате унижения хозяина собственной женой, общество обязано вмешаться.
Автор приводит документ, относящийся к 1700 г. В нем описывается коллективный спектакль, который разыгрывали перед
домом, где муж допустил, чтобы его побила жена. Около трехсот
добровольцев из разных деревень, в шутовских нарядах, вооруженных деревянными саблями, являются к дому. У них колесо,
на котором укреплены две деревянные фигуры - жен .цииа " колотушкой в руках и мужчина. Колесо поворачивают, и женщина
наносит удар мужчине. Разыгрывают суд с речью прокурора и
выступлениями свидетелей. Обвиняемому трижды предлагают поладить с судом с помощью отступного в виде четыре;; мер вина
(мера - от 140 до 160 .'штров). Ести тот не соглашается, начинается "экзекуция": с дома сбрасывают черепицу, снимают три
верхние перекладины, могут выбросить из печи котел для подогрева воды - символ "сердца дома". Это ритуал "лишения чести".
Все это было одновременно и развлечением, и подтверждением
власти деревенского коллектива и не означало отчуждения от него обвиняемого. Ему демонстрируют такую возможнос'"ь, но дают
шанс остаться в коллективе. Это совместная работа по утпержению правил чести, причем в ней участвует и жертва. Обвиняемый может доказать способность и стремление к интеграции и
вновь укрепить свое положение. Но, замечает Хайдрих, конкретная граница, которая обозначена домом, в этом случа" не более,
чем фикция, II общество ее легко нарушает.
Механизм взаимодействия компонентов "игры чест i" честь,
дом, коллектив, автор показывает на таком примере В деревне
живодер, человек презираемой профессии, имел монопольное
право на труп павшего животного. Если кто-либо из жителей сам
закапывал мертвую скотину, это ставило его на одну доску с живодером. Тот являлся к дому нарушителя правил и вонзал свой
нож в дверную раму. Хозяину грозило бесчестие, он ддже не мог
сам выдернуть нож - прикосновение к орудию живодера тоже
бесчестило, и это означило бы принять вызов, а вызов только тогда заслуживает быть принятым, когда он брошен разным в играх чести. Если хозяин дома выдергивал нож, он как 5ы признавал перед всеми, что выполнил бесчестную работу. Живодер,
впрочем, вовсе не стремился к конфронтации, своим поступком
он публично предлагал компромисс тому, кто нанес ему ущерб, и
вполне удовлетворялся материальной компенсацией.
Роль самого дома в народной культуре Хайдрих вь ясняет путем "проникновения" внутрь крестьянского жилища г помощью
архивного документа об осмотре дома одного умершею крестьянина. Рассказывая об организации жилого пространства, об интерьере, автор подчеркивает, что в устройстве дома тоже отразилось отношение ко всякого рода границам. Нет точного разграничения помещений по назначению. В скудном интерьере нет предметов, которые позволили бы судить об их принадлежности определенному лицу. К тому же, при всех имущественных различиях
между жителями деревни, интерьер везде почти одинаков. Входя
в чужой дом, крестьянин точно знал, как надо себя вести, не возникало затрудняющей начало общения неловкости, которую мог
почувствовать бюргер, входя в дом, отличающийся o'i его собственного, где разница в интерьере ощущалась как нек^я граница
между беседующими.
В деревне и сам дом, и его внутреннее убранство не 5ыли предназначены для социального представительства; индиг.идуальные
инновации в обществе, чья жизнь определялась коллективной
культурой, были почти немыслимы: крестьянин XVI-XVII вв. не
имел желания придать своему жилищу индивидуальные черты, это
могло быть истолковано как попытка отделения от коллектива.
Характерно, пишет автор статьи, что в крестьянскою доме как
бы присутствует природа. Инструменты, утварь, домашние животные включают ее в домашнюю жизнь, и вся деятельность людей в доме связана с аграрным контекстом. В любом помещении
дома есть что-то связанное с работой на природе. Это господство
природного (фактора было одним из тех моментов, что отчасти
уравнивали тогда социальные различия.
Изменения наступили в XVII в., когда в деревне стали строить, по примеру городов, двухэтажные дома, что наглядно свидетельствовало о более высоком, чем у других, социальном положении хозяина. Первенствующее значение совместно переживаемого природного опыта, отражавшееся в культуре жиллща, стало
исчезать. В XVIII и XIX вв. индивидуальность интерьера усиливается и постепенно распространяется на весь дом.
Б.Мюллср-Виртманн. Драки. Насилие и честь в деревне
Автор статьи получил степень магистра за работу "Деревенская жизнь в зеркале протоколов окружного суда". Главный его
источник - протоколы суда округа Штарнберг с конца XVII в.
по 1863 г., ежегодные отчеты суда и его переписка с правительственными органами Баварии. Анализируя многочисленные столкновения жителей деревни, кончавшиеся драками, автоэ выясняет
типичные случаи и формы конфликтов в деревне, объясняет механизмы возникновения конфликтов и пути их разрешения.
Обравнивая судебные протоколы XVI и XVII вв., он прослеживает
изменения в поведении деревенских жителей и в ПОЕОДСНИИ судей, рассматривает роль в конфликтах таких структур, как соседское или семейное сообщество или же трактир.
"Кодекс чести", "игры чести" как важнейшая часчь ментальности деревенского жителя XVII-XVIII вв. состапляк:т, по мнению автора, источник и сущность всех конфликтов, о которых
идет речь в его исследовании. В деревне, где общение было особенно тесным, постоянно ощущалась угроза чести и необходимость ее поддерживать и защищать. Если кого-либо из жителей
деревни обозвали вором, мошенником или шлюхой, существовали две возможности восстановить поруганную честь - обратиться
в суд и добиться формального снятия оскорбления или самому
стать судьей и отомстить немедленно. Чаще всего дело решалось
вторым способом, в пылу спора мысль об обращении в суд не возникала. Если же противники все-таки оказывались пезед судьей,
то чаще всего они стояли перед ним уже в полном согласии. Ссора улаживалась так же быстро, как и возникала.
Каково было типичное содержание и смысл консул иктов? Автор анализирует один из них. Девушка жалуется в суд на своего
отца. Находясь в трактире, он ее оскорбил и ударил. Приступ его
гнева, по словам дочери, был вызван тем, что ее мачаха, сидевшая тут же, припомнила, что падчерица не раз называла своего
отца мошенником и вором. Глава семейства на суде говорил, что
дочь оскорбляет и мачеху, и его самого. Девушка на суде упомянула, что отец до сих пор не передал ей и брату завещание и напомнила, что он обещал ей приданое. Однако, подчеркивает автор статьи, документы показывают, что гораздо больше, чем упреками насчет завещания и приданого, отец был зад('т оскорбительными словами дочери. В фокус его сознания попало прежде
всего то. что затрагивало его честь. И у дочери на первом плане
явно защита собственной чести, а не забота о материальной стороне дела.
Большинство деревенских конфликтов обнаруживает примерно один и тот же механизм. Выясняется различие i; мнениях,
возникает спор, брошено обвинение (или в состоянии аффекта,
или хладнокровно, с провокационной целью), на которое оскорбленный противник, ощущающий, что задета его честь, отвечает
рукоприкладством. Не соглашаясь с мнением Н.Элиаса, что в
Раннее Новое время господствующей формой коммуникации были вербальные средства, автор статьи утверждает, чтэ в XVI в.
насилие было обычной составной частью жизни и воспринималось столь же естественно, как изменение погоды, болезнь или
смерть, ("пор почти никогда не останавливался на вербальной стадии и его продолжение в драке не казалось чем-то неординарным. Когда пострадавший являлся в суд и требовал справедливости, речь шла прежде всего о восстановлении поруганной чести:
главным пунктом обвинения всегда было словесное оскорбление,
насильственные физические действия неизменно оставались на
втором плане.
Применение насилия предопределялось характером деревенской жизни. Крестьянину приходилось постоянно напрягать
мышцы, его повседневные дела предрасполагали тело к насилию,
насилие было как бы формой труда. Осуществление насилия и
его претерпевание входили в число неотрефлектпрованньтх способов поведения. Били скотину, чтобы застанпть ее повернуться,
били женщину, чтобы указать ей ее место, били соседа, сказавшего неверное слово, незнакомца, попавшегося на пути. Акт насилия - не случайный результат приступа ярости, а закономерный продукт существования мира, нашпигованного потенциальными конфликтами, выработавшего правила поведения, разрешающие насильственные действия. Вспыхивавшая в драке ярость
воспринималась как должное, и сама драка не становилась помехой в дальнейших отношениях. Повседневный опыт указывал и
на собственную предрасположенность к неконтролируемым способам поведения, поэтому забыть поведение соседа было' нетрудно.
Ссоры не рассматривались как нечто непреодолимое, о5щая солидарность сохранялась.
Конфликты затухая.! так же быстро, как и разгорались. Ввиду
их множества и их "обыкновенности" незлопамятство обиженного было необходш.юй предпосылкой дальнейшей совместной жизни в деревне. Если бы каждый потерпевший настаивал на формальной сатисфакции, внутренний порядок, обеспечивавший нормальное течение жизни, стал бы немыслимым.
В XVIII в., как показывают протоколы Штарнбергского окружного суда, появляется тенденция к разбору в суде даже мелких стычек, простых перебранок. Налицо стремление властей навести порядок и положить конец неконтролируемому поведению
подданных.
Но мотивации действий противников остаются прежними и
опираются на понятие чести. Демонстрация собственной особой
чести воспринимается как провокация, как скрытое покушение
на честь противника. Вот яркий пример. В 1721 г. в трактире
( рактир, K:IK и раньше, - "горячая точка" деревенских конфликтов) старик, местный житель, и молодой крестьянин-мясник, из другой деревни, вышли вместе помочиться. Счарик спросил чужого, кто он и откуда. В ответе чужака старику почудилась издевка и, вернувшись в помещение, он без церемоний удирил того в лицо пивной кружкой. Через час мясник подошел к
старику, без единого слова ударил его стулом и выбгл ему :)уб.
Итак, старику оказалось довольно одного лишь подозрения в покушении на его честь, чтобы перейти к насильственному действию, и пошатнувшееся ощущение незапятнанной чест]- он вернул
себе ударом пивной кружки, заработав при этом ответный удар
стулом по голове.
Человек считал свою честь затронутой и тогда, когда некое
провокационное высказывание было адресовано всем окружающим. Автор приводит пример из судебного дела 1721 '. Молодой
человек, в подпитии, ночью вышел из трактира. Как он сам показывал, радость жизни переполняла его, и поэтому, почувство^ "т-дг*
MI
=fe?^>
' v\4
вав, что кто-то здесь настроен против него, он сказал и пространство: "Если кто-нибудь здесь думает, что он лучше ^еня, то он
такой-то и такой-то"(так в тексте судебного протокола). Один из
присутствовавших почувствовал себя задетым и бросился на заносчивого парня. Вспыхнула драка, победил жизнерадостный молодой человек, уверявший перед судом, что драться любят все.
Здесь драка впервые оценивается как развлечение. По видимому,
драку в деревне того времени действительно нельзя оценивать
только как проявление ненависти. Она могла, как показывает
вышеприведенный пример, выражать и перехлестывающее через
край жизнелюбие. Для выражения эмоций в сельской жизни воз-
можности были очень ограниченные, раскованность отдельного
человека часто вызывала неудовольствие окружающих. В этой
связи драки можно считать общепризнанными и ритуализированными формами "раскрытия личности". В соседском сообществе
они играли роль вентиля в паровом котле и не угрожали общине
как целому, хотя, конечно, бывали случаи, когда они порождали
долгую вражду между семьями.
Особо автор статьи останавливается на драках, в которых участвовали женщины. ^Кенщины в деревне, работавшие наравне с
мужчинами, использовали в поведении чисто мужские формы.
Они не останавливались перед насилием точно так же, как и
мужчины.
Итак, главным источником конфликтов в деревне б.э1ло тонкое
ощущение неписаных правил чести, связывавших деревенское сообщество и определявших отношения между людьми.
Что касается отошений между окружным судом и жителями
деревни, то тут происходит как бы пересечение двух силовых полей: необузданная сила жизненных проявлений деревенских жителей с одной стороны и настойчивые попытки обуздать эту силу,
с другой.
Х.Эттснхубср. Шаривари в Баварии. Мж-бахский самосуд
1893 г.
Эттенхубер посвятила свое исследование происходившему в
1893 г. в юго-восточной Баварии, в местечке Мпгоах самосуду
шаривари, который она рассматривает как феномен народной
культуры^. Она использовала хранящиеся в баварских архивах
судебные протоколы, в особенности показания устроителей шаривари и появившиеся в связи с этим печатные материалы. Происходивший там самосуд - коллективный спектакль, разыгранный
с целью обличения и общественного наказания отдельных лиц.
Как считает автор, тут налицо не только противоречие, но и противоборство с правовыми нормами, которые вводило государство.
Ритуал шаривари в Баварии в конце XIX в. не был чем-то новым. В протоколах окружного суда в Мисбахе сохранились, на
пример, материалы об относящемся к 1766 г. собыгии, ко1да
группа молодых людей отправилась ночью к дому, где' жила девица легкого поведения, и учинила там целый спект:]кль. Хохотали, свистели, били стекла, ломали забор. Слышались и выстре.
лы. Кроме главной цели - наказания - этот самосуд имел и другую, скрытую с^ункцню. Его устраивали холостые парни от 17 до
26 лет, для которых это был опыт усвоения социокультурных
правил и их применения на практике. Им как бы довеэялн общественный контроль 31' поведением готовых к замужестну девушек. Выраженная в шаривари деятельность деревенской (лощины
затрагивала больше всего семейную, домашнюю жи.п ь, а в ней
главным образом сексуальные отношения. Но с начала XIX в. деревенские самосуды стали приобретать еще один оттенок. В них
начало явственно проступать противодействие - пусть косвенное
- усиливающейся регламентации со стороны государстпа.
В ночь на 8 октября 1893 г. в Мисбахе, центральном пункте
местной окружной администрации, услышали шум и выстрелы.
Это продолжалось 5 минут и было вступлением к спектаклю.
Один из собравшихся начал громко выкрикивать куллеты, высмеивавшие и позорившие "обвиняемых" - столяра, священника,
королевского коммерции советника, окружного техника, типографа, судью, крупного местного землевладельца-барсна, мелочного торговца, крестьянина - всего десять человек. В конце каждого куплета читающий обращался к публике с вопзосом: "1st
das wahr?" "Ja, walir ist es!" - скандировали в ответ ("Это правда?" "Да, это правда"). Власти Мисбаха, получившие анонимное
предупреждение, подготовились и направили к холму, где собрались участники шаривари, жандармов, вступивших в перестрелку с "бунтовщиками".
Тщательно разработанная организация, предварите тьные тайные совещания, заранее намеченные маршруты движ.ения групп
во главе с назначенными руководством командирами - все это,
по мнению Эттенхубер, с одной стороны напоминает крестьянские восстания, с другой заимствовано в военных структурах и
связано с действием всеобщей воинской повинности. Участники
демонстрировали как будто бы готовность к конфронтации. Однако, когда узнали, что идут жандармы, большинство разошлось. В
действительности, конфронтации не хотели; это была лишь игра
с властями, которую вели у них на глазах, но так, чтобы те не
захотели и не смогли ее подавить. О том, что это была игра, свидетельствуют элементы праздничности: устроили фейерверк, гремела музыка, продавали пиво. "Потеха", любопытствэ, но главное - ощущение, что участие - дело чести и испытания храбрости
- таковы были мотивации участников.
Мисбахское шаривари отличалось от прежних своими масштабами. Эти масштабы были обеспечены, между прочим, и тем, что
стихи, которые прежде просто выкрикивались, а затем передавались из уст в уста, теперь были напечатаны. Это вывело Мисбахский самосуд за рамки данной местности и за рамки (функции общественного контроля за нравами в общине. Она теперь была дополнена протестом против властей и стремлением защитить собственную культуру. Это вытекает, утверждает автор статьи, из
анализа куплетов, звучавших в Мисбахе. В десяти куплетах содержались обвинения и насмешки в адрес тринадцать лиц. Все
они мужчины (в XIX в. вообще среди жертв все меньше женщин). Главные обвинения - нарушение правил сексу; льного поведения: нарушение супружеской верности, кровосмепение; священника обвиняли в нарушении целибата. Это традиционные об-
винения. Но, высказывая их, авторы куплетов особенно подчеркивали существование - вопреки мнимой государственной монополии на правосудие - собственного, независимого морального
правосудия деревенского сообщества.
Обвинения в нарушении нравственных правил часто служили
средством выражения враждебности, вызванной на деле совсем
иным. Они выражались в самой непристойной форме. Грубость
языка нарочито противопоставлялась уклончивой утонченности
выражений, принятой в буржуазной среде и отражавшей вытеснение сексуальности из общественной жизни. Между тем, в деревне сексуальность по-прежнему была в известном эмысле открытой составной частью повседневности, подлежащей строгому
коллективному контролю.
Другая часть обвинений касается недобросовестного исполнения общественных обязанностей, а также поведения, не соответствующего общественному положению. Священника обвиняли в
растрате церковных пожертвований, в распутстве и некоторой
странности поведения. Он построил в окрестностях Мисбаха маленькую обсерваторию и по ночам посещал ее лля ас грономических наблюдений. В адресованном ему куплете отражена не только сексуально ориентированная ментальность простолюдинов
считали, что в этом домике он и распутничает но и подозрительность по поводу его наблюдений за звездами. По ;днению деревенских жителей, это занятие совсем не подходило для священника,
В куплете по адресу представителя местного сельскохозяйственного ферейна - он купил в Швейцарии племенной скот, а дело
с выращиванием не ладилось - звучит обвинение не только в неразумном расходовании общественных денег, но и предубеждение
против всяческих инноваций как ненужного отклонения от общепринятого. Окружного техника упрекали в том, что он погряз в
долгах, и это выявляло одну из ценностных ориентаций. Условия
жизни стали более жесткими, вынуждали к бережливости. Тот,
кто делал долги, представлялся ленивым и расточительным, это
подлежало общественному осуждению.
Среди куплетов были и такие, что выражали социально мотивированный протест. Они были адресованы трем руководящим
служащим местного рудника, которых обвиняли в чрезмерной
строгости, в несправедливых увольнениях рабочих, а также помещику, который плохо кормил своих слуг.
Тексты куплетов, замечает Эттенхубер, выявляют глубокую
связь ритуала с повседневной жизнью. Общественная и частная
жизнь все еще составляли единство, в рамках которого индивидуальная свобода поведения была весьма ограниченной. 13 этих текстах неизменно звучит мотив силы деревенского обп.ественного
мнения: это знают "все", "все" над этим смеются. Для деревенского общества ритуал шаривари был одним из CHMBOJOB его соб-
ственной культуры. Государство его запрещало; организаторы
бросали вызов властям. Шумный спектакль символизировал притязания деревенского сообщества на собственный контроль за повседневной жизнью.
^ См. Дюльмсч аан Р. Историческая антропология в немецкой социальной историографии // Thesis, вып. 3. М., 1993.
^ Об обычае "шаривари" см. Le charivari. P., 1981.
С.В.О')плснския
19. Ж. ЛЕФЕВР. ВЕЛИКИИ СТРАХ 1789-1794 годов.
Среди множества книг, вышедших к 200-лет11Ю начали Вели
кой французской революции, было и переиздание небольшой монографии Жоржа Лефевра "Великий страх 1789 г." (и переиздании она была дополнена статьей того же автора "Ренолюционная
толпа" и снабжена предисловием Ж.Ревеля).
Следует сразу упомянуть о своеобразии научного оформления
этой книги: в 1932 г. она вышла в свет (и с тех пор традиционно
переиздается) без справочно-библиографического аппарата, лишь
с приложением внушительного перечня использованных архивных фондов, печатных коллекций документов и локальных исследований. Решение публиковать столь глубоко фундированное
научное исследование без сносок было продиктовано, по собственным словам Лефевра. лишь трудностями, с которыми он встретился при издании. Однако эта огорчительная особенность работы
почти не ощущается читателем, как в силу ее обобщающего,
"синтетического", по выражению Лефевра, характера, так и благодаря тому, что он сумел насытить ее текст исключитзльным богатством (фактического материала. Доброкачественность этого материала самоочевидна и обеспечивается, помимо всего прочего,
научной репутацией автора - к моменту написания .'<той книги
уже маститого ученого, известного глубоким знанием архивов,
одного из ведущих специалистов в области истории французской
революции, крупнейшего знатока крестьянской Франции.
Изданная более чем полвека назад, работа ничуть не устарела. Это
объясняется не только ровном исследования и мастерством автора, но
отчасти и избранной им темой, которая хорошо вписывается в столь
актуальную сегодня историю коллективных умонастроений.
Французскому читателю не надо объяснять, что т; кое "великий страх", для русского же поясним, что речь идет о массовой
панике, прокатившейся ио большим территориям Франции во
второй половине июля и первых числах августа 1789 г. и вызванной убеждением, будто в ближайшем соседстве появились орды
разбойников, грабящих и уничтожающих все на своем пути. Само название "великий страх" придумано историками, однако оно
вполне соответствует впечатлению, оставленному этими события-
ми в народном воображении - Лефевр указывает, что "ще в середине XIX в. в некоторых французских провинциях 1"89 год называли "годом страха"
Необходимо отметить, что в отечественной .'[птерптхре, особенно учебной и популярной, нередко можно встретить ф )п.чы о "великом cтpc^xe", который испытали в июле 1789 г. оби"атели дворянских замков. Здесь явно смешиваются два отчасти взаимосвязанные, но все же совершенно разные явления: крестьянские антисеньериальные выступления (пугавшие, естественно, сельское
дворянство), и собственно "великий страх", главными (хотя и не
единственными) жертвами которого оказались как раз крестьяне.
Книга Лефевра состоит из трех больших частей: "Деревня в
1789 г."; "Заговор аристократов": "Великий страх".
Рассматривая состояние (французской деревни к 1789 г., Лефевр обращает особое внимание на те факторы, которые способствовали состоянию нестабильности, неуверенности и страха у огромного большинства французского населения.
Прежде всего это реальный страх голода, угроза которого неотступно висела не только над нищим городским плебсом, но и
над казалось бы более благополучным крестьянским населением.
Из-за безземелья и широчайше распространенного малоземелья
огромные массы крестьян были почти столь же зависимы от покупного хлеба, как и горожане. При этом цены на хлеб (как и
вообще на продовольствие) неизменно росли, а избыток рабочих
рук держал заработную плату (особенно поденщиков и сезонных
рабочих) на низком уровне. Традиционно большим подспорьем
для бедняков были общинные права и деревенское ремесло, рассеянная мануфактура. Но в 70-80-е гг. XVIII в. на первые обрушилась сеньериальная реакция, вторую - подрывала неуклюжая
политика правительства. Ухудшению положения сельского населения способствовало и множество других факторов, такие как
разорение от воинских отрядов, от дорожных повинностей и т.п.
Поэтому малейшие неблагоприятные обстоятельства способны
были вызвать кризис, сопровождавшийся нехватками и голодовками, и такие кризисы случались достаточно часто.
Был еще один (фактор, способствовавший постоянному состоянию неуверенности и страха. Чудовищное перенаселение порождало нищенство, к которому сельские жители вынужцены были
прибегать в массовом порядке, кто постоянно, кто сезонно, а иногда - посылая нищенствовать детей (это не считалось постыдным
даже для крестьян, имевших собственное хозяйство, если детей у
них было много). Такого рода "местные нищие" были тяжким
бременем для остальной части населения, но их еще ^ак-то терпели. Гораздо хуже, что, не в силах прокормиться в своем приходе, многие из них вынуждены были бродяжничать. Массовая без
работица в городах и деревнях также выталкивала людей на дороги - они бродили в поисках работы. "Население дорог" увели-
чивали сезонные перемещения сельскохозяйственных работников
- на сбор винограда, на жатву; профессиональные странствия
подмастерьев (так называемые tour de France); постоянно находившиеся в пути контрабандисты или торговцы контрабандной
солью и т.п. Вся эта разнородная масса людей (в которой попадались и уголовники) постоянно стучалась в крестьянские дома,
сбивалась в группы, просила и требовала днем и ночью, соскальзывая от просьб к угрозам, от попрошайничества к преступлению, разоряя, озлобляя и пугая "оседлое" сельское население.
Особенно возрастали страх и тревога в период, непосредственно
предшествовавший сбору урожая: крестьяне опасались за созревший хлеб. Наконец, не редкостью были настоящие преступные
банды, истязаниями вымогавшие деньги у более зажиточных хозяев или требовавшие выкуп, угрожая поджогом. Крестьяне защищались как могли и зачастую сами прибегали к насилию. Однако их регулярно разоружали - как по требованию сеньеров,
опасавшихся за свою монополию на охоту, так и из страха перед
мятежами.
Опасения эти были не напрасны - кризисные годы неизменно
сопровождались народными бунтами. Волнения начинались
обычно в городах и главным образом на рынках. Зерно и мука
либо просто разграблялись, либо насильственно продавались по
установленной народом цене. Городской рынок был пунктом неразрывной связи между городом и деревней. Город снабжался там
продовольствием, крестьяне же продавали излишки (иногда более
чем скромные, вроде одной-двух куриц - это было для многих
единственным развлечением) п тоже снабжались продовольствием, главным образом мукой, особенно беднота. Поэтому когда в
городе вспыхивали волнения, в них как правило принимали участие сельские жители. Потом они возвращались в деревню и пугали зажиточных крестьян своими рассказами, а нередко становились зачинщиками волнений и у себя.
Городские буржуа опасались этой сельской голытьбы - соучастников действий городского плебса. Но и крестьяне опасались
горожан: они сталкивались с угрозами (иногда приводившимися
в исполнение - и Лефевр дает тому примеры) заставить крестьян
насильственно продать им свой хлеб или добиться у штенданта
разрешения на реквизицию. Таким образом, город внушал страх
деревне, а деревня городу.
Но II сами крестьяне, восставая, оказывались друг для Друга
объектом страха. Если деревня "возмутилась", она хочела, чтобы
II соседние деревни ее поддержали, требовала этого нередко с угрозами (разграбить, поджечь). В пути отряд-банда останавливался есть и пить - и домогался насильственного угощения. Самый
бедный не чувствовал себя при этом в бе.чопасногти. Пс'этиму иногда крестьяне оказывали сопротивление (пплоть до вооруженного) вступлению такого отряда в деревню. Таким обра.юм, любой
бунт порождал в душе крестьянина стремление присоединиться
и в то же время опасения. По образному выражению Лефевра,
народ внушал страх самому себе.
К тому же, если где-то происходили волнения, то до соседних
местностей известия о них нередкою доходили в виде СЛУХОВ о том,
что там бесчинствуют орды разбойников.
Впоследствии многие удивлялись, что во время "великого
страха" люди так легко поверили в "разбойников". Лефевр показывает, что удивляться тут нечему: слово это жило, и не только в
сознании народа. Это рчушающее страх слово употреби яло направо и налево само правительство, неизменно аттестовавшее "{разбойниками" все мятежные и непокорные элементы. (Даже в
1789 г. король оправдывал стягивание войск к возбужденному
Парижу необходимостью защиты от "разбойников"). Городские
муниципалитеты в официальных документах все происходившие
в их городах волнения, особенно если они сопровождались эксцессами, приписывали "пришлым" и "разбойникам". Если вспомнить, что сами крестьяне жили в постоянном страхе перед бродягой, который мог обернуться разбойником, и что огромную роль
тут играла коллективная память воспоминания о Тридцатилетней и других войнах, когда вооруженные люди (свои, чужие, а то
и действительно разбойники) предавали деревни насилию и разграблению, то неудивительно, что слухам, и тем более официальным заявлениям о "разбойниках" всегда готовы были зерить. ТаK.IM образом, любые волнения оказывались своеобразным "фактором страха". И отдельные вспышки страха или тревоги были не
такой уж редкостью.
Рожденный голодом бунт легко принимал социальный и
политический характер, оборачиваясь против властей, против
сеньеров, против налогов. Такого рода волнения происходили постоянно и были свойственны даже самым благополучным царствованиям. Обычно с ними худо-бедно справлялись. Но накануне
революции сошлось сразу множество неблагоприятных факторов
- от тяжелого неурожая 1788 г. и огромного роста цеп до неловкой политики правительства, чьи отчаянные попытки спасти положение парадоксальным образом дали обратный эффект. В результате кризис - экономический, политический, социальный
разразился с особой силой. Голодной весной 1789 г. вспыхнули
волнения, в обстановке начинавшейся революции быстро принявшие резко выраженный антисеньериальный характер: крестьяке отказывались платить повинности, нарушали все (еньериальные монополии и даже начали кое-где уничтожать (еньериальные документы. Причем особенности политической ситуации
привели их к убеждению, будто все их действия такого рода узаконены и соответствуют воле короля. В июле волнения возобновились в .значительно больших масштабах. Учитывая, что эти
волнения, а также всколыхнувшие всю Францию события 14 июля в Париже пришлись как раз на ту критическую "невралгиче-
скую точку" - канун и начало жатвы - когда страхи особенно
возрастают, вспышек паники вполне следовало ожидать.
Но что же вывело эти паники за обычные локальные рамки и
сделало явлением национального масштаба? Понять это, по мнению Лефевра, поможет сопоставление с более или менее аналогичными событиями, происходившими как до, так и после Французской революции. И он описывает две крупные паники, одна
из которых относится к 1703 г., а вторая - к 1848 г. В первом
случае причина была реальной - во время восстания камизаров
отряд протестантов человек в 150 проник не слишком глубоко на
"католическую" территорию, кормясь за счет местного населения, и сжег по дороге несколько церквей. Это происшествие породило массовую панику, которая с чрезвычайной быстротой охватила непропорционально огромные районы на юге Франции и
внешние проявления которой очень похожи на "великий страх":
бьют в набат, вооружаются, немедленно посылают уведомит ь и
просить о помощи соседние деревни; отряды, посылаемые на помощь, принимаются за неприятеля и тут же все соседи извещаются, что "разбойники уже здесь" и т.п. Масштабам и распространению паники способствовало убеждение, что, во-первых,
протестанты взялись за оружие не для защиты, а для нападения
на католиков, и во-вторых, что они действовали при поддержке
иностранных держав, с которыми Франция в то время воевала.
Около полутора веков спустя, после революции 1843 г. (и особенно после парижского июньского восстания), в провинции, не
без помощи пропаганды со стороны правящих классов, распространилось тревожное убеждение, что мятежные парижские рабочи"-"уравнители" скоро явятся в деревни конфисковызать у крестьян землю и зерно. В этой обстановке возникло несколько
крупных волн паник, одну из которых Лефевр подробно описывает: возникнув (в отличие от событий 1703 г.) по совер ценно смехотворному поводу, она с чрезвычайной быстротой ох затила всю
Нормандию, возрастая в масштабах по мере распространения. И
здесь, как в 1703 г., помимо общего чувства неуверенности, порожденного экономической и политической нестабильностью, в основе паники лежало представление о существовании партии или
общественного класса, которые угрожают жизни и имуществу
большинства нации, возможно, опираясь при этом ни иностранную помощь. Именно это придавало местным тревогам их эмоциональную силу и заразительность, способность к быстрому распространению.
То же произошло и в 1789 г. В самом деле, в топ ситуации
мегтные вспышки страха были бы, повторим, вполне естествены:
но, как и в описанных выше случаях, в дело вступили мощные
"усилители", которые и вывели панику далеко за локальные
пределы: общее беспокойство, распространившееся в провинции
после восстания 14 июля и особенно - глубокое убеждение
третьего сословия в том, что ему угрожает заговор со стороны
аристократов.
Возникновению и распространению этого убеждения.
сыгравшего столь важную роль в истории "великого страха",
Лефевр посвящает вторую часть своей работы. Оно во; никло еще
в связи с острой борьбой вокруг созыва Генеральных Штатов, питаясь подспудной уверенностью в том, что представители привилегированных сословий не смирятся с утратой главе; ствующего
положения, с угрозой своим правам и преимуществам и захотят
взять реванш, отомстить, "уничтожить третье сословие", .')ти опасения были не беспочвенны, хотя несомненно, что третье сословие сильно преувеличивало и силы, и решимость, и умение своих
противников. Однако для того, чтобы объяснить истоки "великого страха", важнее понять, какое представление создатось о возможностях и планах аристократии, нежели выяснить, насколько
это представление соответствовало действительности.
Доказательством существования заговора стала в глазах народа и начавшаяся эмиграция. В те июльские дни она была еще
достаточно скромной, но слухи ее преувеличивали. Эмигрировали
первые люди королевства, увозя с собой крупные суммы. Можно
ли было предположить, что за границей они будут жп'ь спокойно, не захотят вернуться во главе армии наемников и отомстить?
Так, уже в июле 1789 г., зарождалась идея сговора аристокра
тин с заграницей, сыгравшая такую роль в истории революции.
Но если эмигрировавшие принцы собираются использовать иностранных "разбойников", отчего бы им не привлечь к себе и местных? Так давний страх перед разбойниками начинает сливаться
со страхом перед аристократами. И именно в критической ситуации второй половины июля произошло резкое соединение всех
бесчисленных причин и поводов для тревоги, терзавших страну,
с идеей аристократического заговора - это слияние и оказалось
основной причиной "великого страха".
Идея "разбойников на службе у аристократии", в силу ряда
обстоятельств, зародилась в Париже и оттуда распространилась
по стране.
Новости "путешествовали" тогда на лошадях, гласным образом почтовыми каретами. Крупные города, стоявшие i:n больших
путях, получали известия из столицы каждые три дня, иногда от 3 до 4 раз в неделю. Небольшие и малые города получали известия еще медленнее (тут Лефевр приводит множество примеров). Частные лица при необходимости передать сведения на небольшое расстояние (или получить их), часто посылали своих
слуг с известием - и именно таким путем в значительной мере
"путешествовал" великий страх.
Что касается парижской прессы, то она была очень слабо распространена в провинции, даже в крупных городах. В этих условиях главным источником информации оказывались письма (ча-
стные или официальные) и рассказы путешественников. Естественно, что все эти источники недостаточно точны и нередко передают слухи, сплошь и рядом совершенно фантастические.
Еще хуже обстояло дело с информацией сельского населения.
За небольшими исключениями, информация шла путем устной
передачи сведений: чаще всего получали ее на городских рынках.
Когда доходили слухи об особо крупных событиях, крестьяне посылали специального представителя в город за сведениями.
Таким образом, в целом источники информации были
несовершенны и неоперативны, в значительной мере носили
устный характери были в высшей степени подвержен;^ приятию
и распространению всяких слухов. Поскольку не бьио никакой
возможности проверить известия, они производили впечатление
даже на самых разумных и уравновешенных.
Слухи из Парижа и Версаля о "заговоре аристократов" нашли
в провинции подготовленную почву. Так обстояло дело даже в
крупных городах, но особенно в малых, где дворяне значительно
больше на виду и где они особенно держатся за свой сгатус и почетные привилегии - а потому уж вовсе невозможно было поверить, что откажутся от них без борьбы (сами дворяне нередко давали повод для таких предположений, позволяя себе резкие высказывания, которые молва раздувала и преувеличивала).
Бурные события 14 июля и нескольких предшествующих
дней, сопряженные с недостаточной информацией и том, что произошло на самом деле, произвели сильнейшее впечатление в
стране. По городам прокатились волнения - люди забирали оружие, ставили ночные караулы п т.п.; но главным образом
повсеместно создавали национальную гвардию.
Из городов слухи о "заговоре аристократов" распространились
по деревням. Сам факт, что крупные и мелкие городе вооружались, подтверждал в глазах крестьян существование заговора;
они тоже стали создавать национальную гвардию, иногда прямо
побуждаемые к тому активными представителями третьего сословия городов, но чаще действуя самостоятельно. Причина их веры
в заговор - не только вести из Парижа и Версаля. Увидев еще в
обращении короля о созыве Генеральных Штатов освобождение
от своих тягот (или обещание такового), крестьяне были уверены,
что сеньеры не смирятся. Свою роль играла историческая память
- все прежние восстания были потоплены в крови. Крестьяне жили в тени замка, как парижане в тени Бастилии, даже если эти
замки давно были мирными. Уверенные, что аристократы поклялись погубить третье сословие, крестьяне, не ограничиваясь помощью городским буржуа, восставали против самого феодального
режима, добиваясь отмены всех повинностей, уничтожения описей, сожжения архивов (а иногда громя и замки).
В истории "великого страха" особую роль сыграли вооружен-
ные выступления в норманском Бокаже, Франш-Конте, Эльзасе,
Эно и Маконнэ. Волнения во Франш-Конте и Маконнэ были прямыми причинами паник. Опираясь на документы, Леф^вр прослеживает ход событий в этих районах. В целом они повсюду развивались по общей схеме. Собравшись отрядом, крестьяне шли в замок или монастырь и требовали от сеньера, светского или духовного, письменного отказа от сеньериальных прав; час'ю, не ограничиваясь этим, требовали выдать архивы, особенно описи и тут
же их сжигали, если же они были помещены у нотариуса - нередко совершали поход в ближайший город.
На юге Франш-Конте уже начинался "великий страх" - восставших принимали за "разбойников". "Разбойниками" неизменно называли их и власти.
Однако позднейшие расследования показали, что акты прямого насилия были чрезвычайно редки и связаны либо с особой
ненавистью к данному сеньору, либо с попытками сопротивления. Практически не было и грабежей. Конечно, при разгроме
замка кто-то не мог устоять перед искушением взять понравившуюся вещицу (иногда совершенно не имеющую ценности). Конечно, часто требовали денег, "выкупа", но объясняется это просто: прежняя уверенность крестьян в том, что их действия соответствуют намерениям короля, превратились к июлю и глубочайшую убежденность (и Лефевр иллюстрирует ее множеством фактов), что такого рода письменные распоряжения короля и Собрания уже существуют, но скрываются аристократами и кюре. и
что "сокрытие" - часть "заговора". Но коль скоро крестьяне дей1^:-ж1^^
ствуют не по своему произволу, п по приказу короля, как бы находятся на королевской службе, не могут же они даром трпгить
на это рабочий день! Конечно, они также требовали еды и питья,
но не воздухом же целый день питаться! Однако, собрались они
все же вовсе не для того, чтобы пограбить; перед ними стояла задача разрушить прежние порядки и они добросовестно ее выполняли. Речь шла об освобождении от непосильного бремени феодальных повинностей, косвенных налогов, десятин.
Другой явный двигатель - желание отомстить зп прошлые
обиды. Крестьяне требуют возврата отнятых земель, уплаченных
штрафов, уничтожают бумаги сеньориальной юстиции, прогоняют ее агентов и т.п. К этому добавляется стремление наказать
привилегированных за их сопротивление третьему сословию и
именно с этим обычно связаны случавшиеся разгромы их жилищ, иногда очень методично осуществляемые. Это вогсе не были
акты коллективного безумия, как нередко думают такой способ
наказания применялся крестьянами и до, и после того.
Но была и еще одна чрезвычайно любопытная черта, тонко
подмеченная Лефевром (в частности, в документах, касающихся
событий в Маконнэ): крестьянами руководила не только ненависть. В их последующих рассказах явственно проступает отношение к этому событию как к своего рода празднестзу, простодушное удовольствие от столь хорошо проведенного времени.
Чувствуется, что они рады были на время оставить плуг, заступ
или молот, чтобы отдохнуть денек и в большой компании отправиться в замок почти как на ярмарку. Это было редкостное, из
ряда вон выходящее событие и интересно было не только принять в нем участие, но даже просто посмотреть.
Вся деревня приходит в движение, во главе идут синдик и местные нотабли, иногда с барабанным боем; кое у кого ружья,
но главным образом в виде вооружения фигурируют сельскохозяйственные орудия и палки; особенно много среди собравшихся
молодых людей. Толпа кричит во все горло "Да .'.дравствует
третье сословие!" Придя в замок или аббатство, начинают всегда
с того, что требуют еду и особенно питье. Иногда спрашивают
тонкие вина из погребов или омлет или ветчину, но гораздо чаще
довольствуются хлебом и простым вином, бочку которого выкатывают и открывают. Иногда ловят голубей с голубятни сеньера
и жарят их. Если сеньер у себя и соглашается подпистгь отречение, обычно все кончается довольно мирно. Когда его нет, дело
может обернуться плохо, особенно если время уже по:;днее, а собравшиеся хорошо выпили. Ио нередко соглашаются юдождать,
пока отвезут сеньеру документ на подпись. К угрозам, а иногда и
насильственным актам, примешиваются смех и грубые шутки.
Никогда не происходит ни малейших покушений на женщин и,
как правило, - никакого кровопролития.
Эти волнения - скорее часть истории уничтожения
феодальных прав и десятины, чем собственно "великого страха";
но они имеют прямое отношение и к последнему. С одной
стороны, они тесно связаны с идеей "заговора аристократов", без
которой "великий страх" вообще едва ли понятен, с цругой в
ряде районов они были прямой его причиной. При этом важно
подчеркнуть, что описанные выше волнения происходили обычно
до того, как в эти районы пришел "великий г"рах". Это
показывает, что вопреки достаточно распространенному мнению,
для того, чтобы поднять крестьян, "страх" был не обязателен:
когда он пришел, они уже поднялись.
Что касается роли городских волнений, то наиболее важным
их следствием было распространение, сразу после 14 июля, слуха, что, поскольку городские муниципалитеты принимают меры
безопасности, "разбойники" (которым, разумеется, приписывались все произошедшие эксцессы), бегут в провинции. Этот слух
сыграл большую роль в распространении "великого страха"- впоследствии говорили даже, что его распространили нарочно.
Поскольку разбойников ждали, малейшее происшествие, малейший повод приводили к тому, что их "видели". Обычно видят
их наиболее впечатлительные люди, когда несут дозор в одиночку или чувствуют себя в опасности: достаточно появления подозрительного бродяги, поднятой проходящим стадом тучи пыли,
отблеска костра углежогов или отражения заката в окнах ("пожар!" "поджог!"), чтобы совершенно искренне "увидет;з" или "услышать" неприятельский отряд (особенно часто это случалось ночью или к ночи). Далее действует механизм самовнушения. Поднимается тревога, которая сама способствует распространению
паники. Лефевр описывает ряд характерных случаев, в которых
видны по крайней мере две свойственные им всем общие черты:
несоразмерность масштабов паники породившим ее причинам,
даже если они были не мнимы, а реальны (к примезу, стычка
крестьян со служащими застав), а также глубокое убеждение жителей, что они подверглись нашествию разбойников (а нередко,
если географическое положение тому способствовало, и иностран
цен).
Но так или иначе, в народном представлении страх перед ра.ч
бойниками и страх перед аристократами все время были связаны
- этот синтез, начавшийся в Париже, распространился по стране.
Все третье сословие чувствует себя под угрозой этих мятежных
орд, находящихся на жалованье эмигрантов и привилегированных сословий.
Последнюю, третью часть своей работы Лефевр посвящает непосредственному рассмотрению самого феномена "великого страха". Его бросающейся в глаза особенностью, отличием от прежних локальных паник, было то, что он охватил огромные территории и передвигался очень быстро. Это породило представление,
что страх был повсеместен и вспыхнул повсюду одновременно. И
то, и другое, как подчеркивает Лефевр, - заблужде1-не; но это
ошибочное мнение повторяли уже современники, а по"ом и историки. Отсюда возникла идея заговора (не путать с ".'заговором
аристократов" - на этот раз речь шла о сознательном и умышленном возбуждении "великого страха"), в котором представители
враждующих лагерей обвиняли то друг друга, то чес"олюбивого
главу младшей ветви королевского дома герцога Орлеанского.
Живучесть этой версии заставила Лефевра неоднократно рассматривать разные ее аспекты по ходу своей работы, и он ле оставляет от нее камня на камне. (Именно благодаря работе Лефевра версия эта выглядит сегодня совершенно архаичной и уже не встречается в серьезных исследованиях).
Аргументация Лефевра идет по нескольким основным линиям:
прежде всего он показывает абсолютно естественный характер
возникновения и распространения паник, т.е. ненужность версии
заговора для объяснения причин "великого страха"; он выявляет
случайный, непредсказуемый и крайне разрозненный характер
инцидентов, служивших толчками для волн страха, чтг) исключает идею предварительного замысла и специальной организации;
он указывает на то, что события "великого страха" не были выгодны (по разным причинам) ни одной из враждующих "партий";
наконец, он особо подчеркивает, что не существует н 1каких документальных доказательств какого бы то ни было заговора и,
напротив, во всех тех случаях, когда документальные свидетельства сохранились, они доказывают его отсутствие.
Лефевр считает важным не смешивать четыре разные, хотя и
связанные между собой явления: страх перед разбойниками и
аристократами, крестьянский бунт, вооружение народа и "великий страх". Смешение "великого страха" с "обычным" страхом
перед разбойниками (и уверенность, что он идет из Н.рижа) ввело в заблуждение множество историков. Но одно дело верить,
что разбойники могут прийти и бояться их прихода, другое верить, что они уже пришли, что их видели и слышали (именно
здесь - граница между этими двумя страхами). "Великий страх"
не был повсеместным, повсеместным был страх перед разбойниками. Ряд крупных районов не был охвачен "великих страхом"
или же лишь слегка им задет. Неверно и то, что всн)д\ он вспыхнул одновременно. Гетрах передвигался, причем не i'ii; oы(
l p<),
как думают. Лефевр делает подсчеты на нескольких примерах;
поддается, что в среднем страх распространялся со скоростью
4 км в час. Само по себе это достаточно быстро, но слишком медленно, если верить, будто его распространяли специально посланные курьеры. Тезис о "таинственных курьерах" не выдерживает
и столкновения с документами - в ряде случаев они позволяют
установить разносчиков слухов и в этих людях нет ничего таинственного или странного.
Наконец, как уже отмечалось, "великий страх" НИР.ому не послужил: ни аристократам, против которых в конечном счете
обернулся, ни третьему сословию; не он вызвал вооружение народа и народные волнения ( и того, и другого, кстати говоря, не так
уж и хотела - или вов^е не хотела - городская буржуазия) они
уже шли, он их лишь усилил. Чтобы показать, сколь сложной и
не прямой была связь между аграрными бунтами и "великим
страхом", достаточно (и очень важно) подчеркнуть, что именно
там, где произошли особенно бурные крестьянские волнения (во
Франш-Конте, Эльзасе, Норманском бокаже, Маконнэ) - "великого страха" не было; но при этом в соседствующих местностях
"эхо" этих бурных волнений могло вызвать "великий страх" (от
волнений во Франш-Конте пошла крупная волна страха на востоке Франции), а могло и не вызвать (волнения в Бо саже, Эно,
Эльзасе не породили "великого страха").
Основными волнами страха были: западная (Мож и Пуату);
мэнская; клермонско-суассонская; южно-шампанская; восточная
и юго-восточная: юго-западная. Почти все они в той или иной
степени задевали и центральные районы. Лефевр считает важным
установить происхождение этих волн, или то, что он называет
"первоначальными паниками". В ряде случаев документы позволяют это сделать
точно или с большой долей вероят-ioc'rii. Рассматривая причины этих "первоначальных паник", Лрфевр при-
ходит к выводу, что они по существу ничем не отл гчалпсь or
тех, которые порождали предыдущие тревоги, - это ['.равным ооразом местные инциденты на почве экономических трудностей и
продовольственных нехваток, иногда связанные и с противостоянием города и деревни. По если прежде страх оставался локальным, то теперь, в описанной выше накаленной обстановке, казалось естественным для защиты от "разбойников-наймитов аристократии" воззвать к национальной солидарности г приход, в
котором зародилась тревога, тут же посылал во все концы за помощью. Д те, к кому обращались за помощью, в тип оостаноцкс
ни минуты не сомневались в ее реальнейшей необходимости.
Распространителями паники нередко оказывались частные лица: одни хотели выполнить гражданский долг; другш предуиреждали об опасности родных и друзей; путешественники (п также
почтовые курьеры, которым иногда это специально поручали)
рассказывали об увиденном и услышанном; беглецы и^ "угрожаемых" мест с сильными преувеличениями (чтобы не быгь заподозренными в трусости) рассказывали об опасностях. Но весть распространяли и лица, занимающие определенное общес"венное положение, и представители администрации. Кюре часто считали
долгом не только бить в набат, но и тут же извещать коллег в соседних приходах. Дворяне и их управители извещали знакомыхдворян (иногда посланные ими с этой целью слуги сообщали новость в деревнях, через которые проезжали и где их не знали это один из источников слухов о "таинственных курьерах", распространявших "великий страх").
Особенно любопытна роль официальных властей Конечно,
многие пытались навести справки, проверить известие, посылая
специальных людей; но при этом понимали, что на настоящую
проверку уйдет много времени. Поэтому они считали разумным
принять меры предосторожности и запросить помощь, а в ряде
случаев - предупредить соседние деревни или города. Впрочем,
среди лиц, занимавших определенное общественное положение,
встречались и недоверчивые, критически настроенные. Некото
рые из них твердо препятствовали распространению слухов, отказывались бить в набат и т.п. Однако большинство все же принимало на всякий случай меры предосторожности во первых из
осмотрительности (слухи могли оказаться и правдивыми), а, вовторых, из благоразумия: те, кто сопротивлялся принятию мер,
мог быть заподозрен в отсутствии патриотизма и даже
подвергался прямой физической опасности.
Тем не менее возможно, что в тех районах, где нс было или
почти не было "великого страха" (как, например, в Бретани),
большую роль сыграла позиция властей. Но в большинстве случаев, когда паника начиналась, никто не осмеливался противостоять потоку.
Сообщение о том, что разбойников уже видели, вызывало, как
правило, общую панику. Так из небольшого количества "первоначальных" паник возникло множество других, которые Лефевр называет "паниками в результате извещения". Они описаны много
кратно, начиная с набата, который часами раздается над целыми
кантонами, перекидываясь с одного на другой. Женщины, и своем воображении уже переживающие сцены насилии и грабежей,
рыдают и вопят, хватают детей и первое попавшееся под руку
имущество и бегут в леса или по дорогам. Некоторые мужчины,
выгнав скот в поля, следуют за ними. Но большинстио остается
(тут играют роль и чувство собственного достоинства, и храбрость, и страх перед влас-тями), объединяются по призыву синдика, кюре или сеньера и начинают готовиться к обороне. Вооруж.аются кто чем может, расставляют часовых, баррикадируют вход
в деревню или мост, посылают группы рп^педчиков. С наступлением ночи ходят патрули и все остаются начеку. R городах п;>')
исходит подлинная мобилизация - можно подумать, что город и
осаде. Проводятся реквизиции продовольствия, сборы понюха и
боеприпасов. Срочно подправляют укрепления, размещают артиллерию. Кюре дают массовые отпущения грехов, люди прощаются
друг с другом.
Сохранилось множество живописных рассказов. Л^фсвр приводит один из них, Жана Луи Баржа, бывшего солдата, из Лавалле близ Сент-Этье^ла, очень ярко и не без юмора описывающего, как после слез, драматических расставаний, колебаний,
страха и случаев временного дезертирства, отряд крестьян выступил на выручку соседнему городу, где, как оказалось, паника
уже кончилась и все завершилось общим весельем. Э"'от рассказ
Лефевр считает очень характерным такое происходило повсеместно. По существу эти события не вполне точно называют "великим страхом" - не в меньшей мере они характеризуются пробудившимся стремлением побороть опасность и горячим чувством
солидарности.
Ряд "вторичных" паник возбуждался с помощью осс'бых ''передаточных механизмов" (такие паники, по мнению Лефевра, н<следует путать с "паниками по извещению"). Классический пример действия такого "механизма" - неоднократные случаи, когда
крестьянские отряды, выступавшие против "разбойников", сами
бывали приняты за разбойников и порождали следую дую волну
паники.
Какие же пути избирал "великий страх"?
Их изучение прежде всего опровергает предвзятое представление о распространении "великого страха" из Парижа: никаких
идущих от стлицы "концентрических кругов" страха; никакого
следования паники по крупным дорогам или "естественным
путям" (вроде долины Луары). Только две волны страха задели
Париж, и обе шли не от него, а к нему. Второе, что бросается в
глаза, это отсутствие "географических закономерностей". Где-то
"волны" идут по долинам рек, где-то их пересекают, а где-то со-
вершенно не затрагивают. Горы в ряде случаев вовсе н? становятся препятствием. Можно было бы думать, что "страх" распространяется иначе в районах густозаселенных и в районах с редким населением - на деле ничего подобного не происходит.
Это объясняется происхождением и способом распространения
паник. Встревоженное население просит помощи у ближайшего
города или считает долгом предупредить прилегающий район: естественные преграды лишь в крайнем случае останавливают этот
порыв. С другой стороны, распространение страха носит прерывистый характер - идет от муниципалитета к муниципалитету, от
сеньера к сеньеру, от пюре к кюре, а не непрерывным обра.чом,
не от жилища к жилищу или от одного населенного пункта к
другому. Власти, получив предупреждение, приказывают бить в
набат, II он достаточно быстро собирает и жителей густонаселенных деревень, и разрозненное население некоторых бокажей.
Тем не менее, эту несвязанность с географических фактором
не следует преувеличивать. Волна страха могла следовать и по
традиционному и устоявшемуся пути. Иногда на горах "страх"
все же несколько "выдыхался". Наконец, некоторых довольно
пустынные районы остались им не затронутыми, и это тоже естественно - от них трудно было ждать серьезной помоЩ1 и туда за
ней не посылали.
Далее Лефевр детально прослеживает пути основных волн
(или, как он их называет, "течений") страха. Он показывает, как
паники встречаются, перекрещиваются, подпитываются местными событиями, дают ответвления, иногда сливаются Друг с другом. В то же время какие-то течения не сталкиваются и разделены зонами спокойствия, хотя, казалось, могли бы встретиться
страх приходил и из более отдаленных мест. Лефевр пзослеживает движение "волн" не только по дням, но и буквально по часам
(напомним, это последняя декада июля и первая неделя августа).
Особенностью этого раздела, озаглавленного "Волны страха",
является то, что его практически невозможно читать без карты.
Лефевр, разумеется, такую карту прилагает - и все же не случайно, что единственным косвенным упреком, которьп высказал
ему Люсьен Февр в восторженной рецензии па его книгу^, было
пожелание, чтобы при ее переиздании карта была сделана более
подробной и усовершенствованной, включая детали рельефа. (Хотя в издании 1988 г. это несколько "идеалистическое" пожелание
Февра учтено не было, книга дополнена очень четкой картой-схемой, взятой из работы М.Вовеля "Падение монархии" и позволяющей наглядно увидеть границы зон, охваченных и не охваченных "великим страхом", а также эпицентр;.,' '.лунных паник).
Пересказывать эту часть текста, полностью построенную на перечислении населенных пунктов (зачастую мелких п мельчайших),
было бы бессмысленно, и мы от этого воздержимся.
Страх перед разбойниками, объединивший все страхи и тревоги II спровоцировавший "великий страх", отнюдь не исчезал, когда становилось ясно, что разбойники не появлялись. 1! самом деле, те факторы, которые делали возможность их появления прявдоподобной, продолжали существовать, и в недели, последовавшие за "великим страхом", было множество тревог. Некоторые
из них даже грозили образовать новую "волну". Все же они остались на уровне локальных событий, отчасти потому, что июльский опыт уменьшил доверчивость (муниципалитеты и разного
рода официальные лица кое-где препятствовали теперь попыткам
бить в набат), отчасти же потому, что сбор урожая закончился.
Тревога возобновилась при приближении урожая 1790 г. - что
лишний раз подчеркивает важность этого фактора в подготовке
"великого страха". Возник ряд крупных паник, связанных со
слухами об уничтожении урожая. По крайней мере две из них
были вызваны и еще одним уже известным нам фактором - страхом, который внушали маневры аристократии.
В 1791 г. снова были вспышки страха (в том числе в СЕЯЗИ с бегством короля), в 1792 г. - в связи с событиями 10 августа (штурмом Тюильри и падением королевской власти). По крайней мере г.ве крупные
паники засвидетельствованы и в 1793 г. Таким образом, страхи продолжались, пока революция была в опасности.
Каковы же были последствия "великого страха"? .Тефевр снова подчеркивает, что, вопреки сложившемуся мнению, не он вызвал вооружение народа и спровоцировал крестьянские волнения.
Тем не менее, несомненно, что в ряде случаев он ускорил или
придал размах первому из этих явлений, и по крайней мере однажды послужил толчком для второго: имеется в виду "жакерия" в
Дофине, возникшая уже после вспышки "страха", в результате
подозрений, что дворяне возбудили панику нарочно.
Особое значение "великий страх" имел для деревни, где он в
конечном счете обернулся против дворянства и духэвенства прежде всего в общем настроении умов, которое сплошь и рядом
прорывалось в прямых актах враждебности. Сельские дворяне не
могли чувствовать себя в безопасности и были изрядно терроризированы.
Не менее важно и другое. Даже если во время паники многие
люди думали лишь о бегстве и спасении, то в целом она все же
породила мощный и воинственный порыв, в ходе которого с
необычайной яркостью выявилось и укрепилось чувство национального единства. Объединившись для защиты и помощи соседям, крестьяне почувствовали свою силу и это увеличило тот натиск, которому суждено было окончательно разрушишь геньрриальный режим. "Таким образом, - заключает свою книгу Лефевр,
- великий страх заслуживает внимания не только в силу своей
необычности и яркого своеобразия: он содействовал подготовке
ночи 4 августа (заседания Учредительного собрания, на котором
были отменены (феодальные привилегии - Г.Ч.) и тем самым оказался одним из важнейших эпизодов нашей национальной истории" (с. 232).
Рсаол тц ч он и им mo.'inu
В реферируемое издание включена (-татья Лефевра о революционной толпе, тесно примыкающая по своему характеру к работе о "великом страхе" и написанная почти одновременно с ней.
Многие авторы, пишет Лефевр, понимают под революционной
толпой добровольное объединение людей, одушевленных одним
чувством и одним намерением. Однако факты показывают, что
революционные толпы собирались и случайно, поначату без всяких намерений или даже не с теми намерениями, которые впоследствии осуществляли. Для того, чтобы разобраться в этом, надо сначала понять, что же такое толпа вообще.
Толпа в чистом виде - это случайное скопление людей, простой людской конгломерат, в котором каждый существует сам по
себе. Такого рода толпа может образоваться, например, на вокзале при отходе поезда и т.п. В подобной толпе дезинтегрируются
все социальные группы, человек анонимен, и это порождает у одних чувство свободы, у других - ощущение страха и неуверенности.
Между такой толпой и сознательным, добровольным собранием людей существует множество промежуточных форм, которые
можно назвать полудобровольными. К примеру, в сел ^ской жизни большую роль играли воскресные мессы и собрания крестьян
после них (или на местных рынках); в городах - очереди у дверей булочных, те же рынки и др. Во всех этих случаях собрания
не носили преднамеренного характера, люди шли туд.1 по своим
делам, а не для того, чтобы собраться (хотя предвидели, что окажутся в гуще людей, а иногда и хотели этого). По в определенных условиях и при достаточно сильном толчке такое полудобровольное стечение народа может превратиться в сознательное объединение, даже стать мятежным сборищем.
Из сказанного о толпе как о простом людском конгломерате
явствует, что ее свойство - отсутствие коллективной ментальности. Однако такое отсутствие относительно. Как сугубо
биологическое явление, лишенное всякой ментальности, толпа в
человеческом обществе не существует. Хотя индивид i. толпе вырван из своих обычных социальных связей, он не свободен от
ментальности, свойственной его социальной группе (или группам
- не забудем, что чаще всего он входит, разными сторонами своей жизни, не в одну группу) - просто эти чувства и понятия временно оттесняются на задний план. Нередко он становится при
этом восприимчивее к ментальности более широкой группы, и
достаточно какому-то событию вывести элементы этой ментальности на первый план сознания, чтобы у людей внезапно возникло живейшее чувство солидарности друг с другом (так часто случается, например, в очередях у булочных в период нехваток и
т.п.). Внезапное пробуждение группового сознания под влиянием
сильного чувства или впечатления придает скоплению людей новое качество, которое можно назвать "состоянием толпэ1".
Так, по мнению Лефевра, происходит превращение и в революционную толпу - для этого необходимо и достато IHO, чтобы
предварительно в обществе уже сформировалась коллективная
революционная ментальность и чтобы какое-то событие вывело) ее
на первый план сознания, с которого она была временно
оттеснена соображениями, вызвавшими образование людского
скопления. Такое измение обычно происходит резким скачком
Лефевр употребляет термин "внезапная мутация".
Разумеется, формирование коллективной революционной ментальности предполагает определенные социальные, экономические и политические условия - в разных случаях различные. Разумеется, ее черты складываются поначалу в индивидуальных
сознаннях, с разной скоростью. Но для того, чтобы она стала действительно коллективной, необходим процесс определённого "интерментального" взаимодействия. Он происходит прежде всего в
разговорах и беседах - особенно это относится к эпохам преимущественно устной культуры. Не следует думать, пишет Лефевр,
что коллективная революционная ментальность складывается накануне революции - ее зарождение уходит корнями глубоко в историю (отдельными чертами, например, - к крестьянским жакериям и еще глубже, воспроизводясь через механизм исторической памяти, действующей иногда на уровне не только словесном, но и эмоциональном). Конечно, революционное брожение
резко ее усиливает. Революционная ментальность складывается
также путем устной, письменной, а позднее и печатной пропаганды. Наконец, она развивается и в силу того давления, которое
коллектив оказывает на индивида - прежде всего морального, но
также иногда экономического и (физического.
Лефевр считает, что помимо изучения таких факторов
общественной жизни, как экономика, политика, социальная
сфера, авторы исторических исследований должны стремиться
реконструировать и коллективную ментальность. Историки, пишет Лефевр (и для его времени это было совершекно верно),
"охотнее изучают условия экономической, социальной и политической жизни, находившиеся, по их мнению, у истоков революционного движения, а с другой стороны - события, которыми было отмечено само это движение и результаты, которых оно достигло. Но между этими причинами и этими следствиями лежит
еще и формирование коллективной ментальности: именно она устанавливает подлинную причинную связь, и, можно сказать,
единственно и позволяет понять по-настоящему следствие, поскольку оно иногда кажется совершенно несоразмерным причине,
в том ее виде, как это слишком часто формулируют историки" (с.
245-246). И Лефевр показывает на примерах, как многие черты
революционной ментальности проявлялись во время французской
революции.
Важно также помнить, что революционная ментальность имеет свою эмоциональную и моральную стороны. Наиболее характерными из связанных с нею чувств Лефевр считает тревогу и надежду - это очень ярко проявилось, в частности, и во время "великого страха". Эмоциональные стороны коллективной ментальности позволяют понять ту тенденцию к действию, которая отличает революционную толпу от простого скопления людей. Во время революции, когда люди собираются намеренно (например,
чтобы отметить революционный праздник), "состояние толпы"
возникает сразу, без вмешательства какого-либо внешнего события и без резкого скачка. Это "состояние" в данном случае само
как бы и является актом - толпа собирается уже с намерением
осуществить какое-то действие (в конечном счете - способствовать возникновению нового общества). Когда же необходим и
происходит "резкий скачок", он также всегда связан со стремлением к действию, оборонительному или наступательному.
Наконец, замечает Лефевр, в общественном мнении революционная ментальность и революционная толпа обычно связаны с
представлением о разрушительных силах, с понятием разрушения - будь то в прямом или в более сложном значении слова
(разрушение авторитетов, старых институтов). Но как рая "высшей форме" революционной толпы, сознательному и добровольному стечению людей, свойственна и определенная созидательная
деятельность (она созидает новые формы организации, новых руководителей и т.п.). Эффективность этой "творческой деятельности" революционной толпы во многом зависит от интансивности
и глубины коллективных представлений (к примеру, связывают
ли люди происхождение своих бед с действиями местных притеснителей или с центральной властью, с "дурными законами" - в
последнем случае они могут повлиять на важные стороны жизни
в государственном масштабе, как это было в 1793 г.); она зависит
также и от территориального размаха движения.
Лефевр касается также сложных вопросов взаимодействия между толпой и составляющими ее индивидами, отмечая, что толпа
одной своей массой увлекпет человека, подавляет волю к сопротивлению, создает ощущение коллективной силы, подталкивая
тем самым к действию и к дерзости, уничтожая или ослабляя
чувство опасности и личной ответственности. Говоря о поведении
человека в толпе, нельзя исключать я роли "заражения друг от
друга", своего рода стадного, во всяком с.'учае подражательного
инстинкта.
Лефевр считает, что между теориями медика Г.Лебона, видевшего в толпе сугубо животное начало, "отключение интеллекта",
действия на уровне инстинктов, и взглядами тех, кто считает
толпу суммой отдельных личностей, он сам занимает по существу
промежуточную позицию, ибо оба эти взгляда не учигывают существования коллектизной ментальности.
Книга Лефевра снабжена предисловием известного современного французского историка Жака Ревеля. Ревель констатирует,
что работа Лефевра давно признана классической и это суждение,
став привычным, заставляет забыть, что в свое время она носила
новаторский и экспериментальный характер. По выходе в свет ее
ждал скорее теплый, чем восторженный прием и как раз новаторская сторона работы не была оценена и даже замечена многими коллегами автора. Исключение составлял Марк Блок, опубликовавший рецензию, которая показывала, что для него в центре
работы Лефевра было исследование коллективного поведения^.
Блок особенно выделил родственное ему самому стремление писать историю убеждений и верований как сочленение психологического и социального.
Этот новаторский подход позволил Лефевру внести огромный
вклад в историографию французской революции и историографию вообще. Ревель подчеркивает три основных момента: заслуги Лефевра в изучении собственно "великого страха": его вклад в
изучение проблемы толпы, ее роли в истории, особенно в истории
революции; наконец, вклад Лефевра в изучение проблем ментальности, в первую очередь революционной ментальности.
Лефевр был первым историком, монографически исследовавшим "великий страх" на общенациональном уровне и показавшим те возможности, которые таит в себе изучение такого рода
событий. До того "великий страх" считался живописным, но случайным и второстепенным эпизодом французской ре золюции и
не привлекал к себе внимания крупных французских историков.
Единственное исключение - И.Тэн, который, как известно, резко
отрицательно относился к выступлениям и действиям толпы, видя в ней лишь носительницу разрушительного и животного начала. Эта концепция была воспринята и развита Г.Лебоном, автором первой специальной монографии о толпе ("Психслогия толпы"), вышедшей в 1895 г. Концепции Тэна и Лебона оказали
большое и долговременное влияние и на французскую историографию, и на читающую публику. Однако оба они руководствовались скорее политическими пристрастиями и стремлением применить в исторической науке методы и подходы наук естественных,
нежели глубоким знанием фактической стороны дели (особенно
это относится к Лебону, который, не будучи профессиональным
историком, попросту оперировал данными Тэна). Этим авторам
Лефевр противопоставил прежде всего всеобъемлющее и глубокое
владение документальным материалом, знание социальных и экономических реалий, ибо - и Ревель справедливо подчеркивает
это - Лефевр, автор фундаментального труда о крестьянах департамента Нор во время революции, оставался прежде вс^го специалистом в области социальной и экономической история. Но в разработке этой темы есть у него и теоретические предшественники.
Это прежде всего Жорес (чьи взгляды просвечивают в утверждении Лефевра, что страх и надежда составляют эмоциональную
сердцевину революционной ментальности), а также Дюркгейм
(его воздействие угадывается, в частности, в той попытке осуществить систематическую "типологию революционной толпы", ко-'
торую предпринял Лефевр).
Говоря о вкладе Лефевра в изучение истории меьтальности,
Ревель отмечает, что пионерскими работами считаются здесь
"Короли-целители" Блока и "Мартин Лютер" Февра: но к ним
было бы справедливо прибавить и "Великий страх' до такой
степени Лефевр, рассказывая о событиях лета 1989 г., стремился
понять верования и убеждения, страхи и поступки людей в их
контексте и взаимосвязи. Он не довольствуется простыми
объяснениями, не сводит все к какому-то одному основному фактору - будь то заговор или архаическая тяга крестьян х насилию.
Он старается понять значение всех элементов головоломки - и
для этого мастерски работает на разных временных уровнях одновременно: на уровне большой длительности - крестьянская память; более короткой - голод, нищета; наконец, почти мгновенной - слухи.
Ревель считает, что сама тема, возможно, привлекла Лефевра
именно своей сложностью и необычностью, удаленностью от
привычных образцов, непохожестью на все типичные и "нормальные" народные движения - это требовало специальных
размышлений и комплексных подходов. Особенно Ревель выделяет то, что Лефевр идет как бы двумя путями: он старается
230
поместить событие в контекст (вернее, в целый ряд контекстов
разного содержания и хронологии: голод, нищета, страх, ситуация 1789 года - но и методы крестьянской борьбы, способы
объединения, информации и т.п.), тем самым вписывая его в
серию, которая и придает ему смысл - многое перестает быть
странным, становится объяснимым', с другой стороны, напротив,
старается ухватить "великий страх" в его уникальности, конкретности - ритме, способах распространения, деталях местных
условий, локальных инцидентов и т.п.
В результате он не только смог разбить ряд укоренившихся
легенд относительно "великого страха", но и сумел показать, как
для крестьян "великий страх" стал случаем испытать чувство солидарности, которое в конечном счете нередко выливапос], в действие: когда воображаемая опасность рассеивалась, м^жно было
обратиться протиг более непосредственного противники.
Ревель считает, что сама тема, возможно, привлекла Лефевра
именно своей сложностью и необычностью, удаленнос'[ью от привычных образцов, непохожестью на все типичные и "нормальные" народные движения и волнения - это требовало специальных размышлений и комплексных подходов.
Книга Лефевра о "великом страхе" и статья о революционной
толпе оказались у истоков целого направления в исторической
науке. Прежде всего Ревель называет имена Дж.Рюде и Р.Кобба.
Еще одна серия исследований, которые с полным основанием
можно "возвести" к "Великому страху", это труды французских и
англо-американских историков, занимающихся в последние дватри десятилетия исследованиями массового, коллективного иове."^ния как ча уровне "большой длительности", так .1 на более
конкретном и ограниченном материале. Ревель особо выделяет
работы 1).II.Томпсона, которые он считает наиболее адекватным
продолжением и развитием комплексного подхода Леф"вра.
Ревель смотрит на работу Лефевра "из наших дней" и видит и
ней то, что было незаметно (или несущественно) для с.звременников Лефевра. Как известно, сегодня для исторической пауки характерен своеобразный "возврат к политике". Разумеется, речь
идет не о политической истории в прежнем значенг.и: в свете
знаний, накопленных гуманитарными науками за последние десятилетия, само понимание сферы политического стало совершенно иным, пространство политики "втягивает" в себя огромные пласты жизни человека и общества. Как: простой человек
(простые люди) "вступают в политику?" Одну из основных заслуг
Томпсона Ревель видит в том, что за конвульсивными голодными
бунтами он разглядел логику целой системы коллективных представлений и показал, как самые, казалось бы, стихийные и неконтролируемые коллективные действия творят, хотя и в чуждых нам сегодня формах, пространство политического и политический дискурс. И Лефевр, по убеждению Ревеля, в свое время не
случайно избрал объектом своего исследования именно "великий
страх": это позволило ему проследить, как на заре французской
революции, в этот решающий момент "коллективного ученичества", на низовом и неприметном уровне, во множестве индивидуальных поступков и действий совершался переход от жестов к
словам, от чувств к убеждениям, - т.е. увидеть политику в процессе ее зарождения и становления.
Завершая постановкой этого вопроса свое предисловие, Ревель
демонстрирует на примере Лефевра, как подлинно новаторский и
творческий научный труд даже через многие годы продолжает
работать на переднем крае науки, поворачиваясь неожиданными
гранями и отвечая не только на те вопросы, которые автор впрямую ставил перед собой (иногда далеко опережая свое время), но
даже на те, которые он, возможно, сознательно не формулировал
или формулировал иначе, нежели это делается сегодня.
^ См. Февр Л. Гигантский лживый слух: Великий страх июля 1789 г.
- В кн.: Февр Л. Бои за историк). М., 1991.
'^См.: Ann:ilesd'hisloirc.i-i:()norniqMCL4siicialc, 5, 1933. P. 301-304. Любопытно, что о рецензии Февра Ревель не упоминает.
Г.С. Черткова
20. С. ФРАНК. НАРОДНАЯ ЮСТИЦИЯ, ОБЩИНА И КУЛЬТУРА РУССКОГО
КРЕСТЬЯНСТВА 1870-1900 годов.
S.FRANK. POPULAR JUSTICE, COMMUNITY AND CULTURE AMONG
THE RUSSIAN PEASENTRY 1870-1900// THE WORLD OF
THE RUSSIAN PEASENT: POST-EMANCIPATION CULTURE
AND SOCIETY. BOSTON, 1990
В сборнике "Мир русского крестьянина: пореформенная культура и общество", изданном в Бостоне в 1990 г., опубликовано
несколько статей, авторы которых делают попытку раскрыть социально-экономический, политический и культурных мир русской пореформенной деревни. Крестьянская община, миграция
крестьян, крестьянское движение, положение женщины и женский труд в деревне, крестьяне и школа, крестьянская религия и
крестьянское искусство - таковы темы этих статей. Для данного
реферата избрана статья Стивена Фрэнка, профессора Бостонско
го университета, посвященная русскому крестьянскому самосуду.
Автор использовал материалы русских журналов конца XIX и
начала XX в. - общественно-политических, исторических, этнографических, юридических, труды русских юристов этого же периода. Извлекая из них свидетельства о случаях самосудов в русской деревне, он интерпретирует их прежде всего как феномен
народной культуры и выражение конфликта между официальной
и народной культурой. В нашей историографии трудов по этому
вопросу нет.
Самосуд в русской деревне конца XIX в. был довольно обычным явлением почти во всех частях Российской империи; среди
дел, рассматривавшихся волостными судами, дела о самосуде составляли более ]"< (разумеется, неучтенных случаев гораздо
больше). Бывали подобные акции и в городах, но очень редко.
Большая часть образованных людей в русском обществе ус
матривала в самосуде акт слепого насилия толпы, подобный линчеванию в Америке. Между тем, автор статьи обращает внимание
на то, что лучший словарь эпохи, составленный Вл.Далем, определяет самосуд не только как самовольную расправу, но и кик
"самоуправство". "суд в своем деле". Изучение судебных и других материалов показывает, что самосуд в русской деревне новее
не был чем-то стихийным. Крестьяне, хотя они и не задумывались над дефинициями, четко различали типы самосуда: суд над
членами своей общины, носивший ритуальный характер и откры
вавший возможность покаяния провинившегося и примирения с
ним, и суд над чужими, чьи преступления угрожали благополу233
чию общины и влекли за собой наказания с применением различных форм насилия. Именно это различение, считает автор, позволяет рассмотреть природу и функции крестьянского самосуда не с
обычной точки зрения образованных людей, а с точки зрения самих крестьян. Жители деревни руководствовались своими мотивами, они отвергали официальный закон, полагая, что он не охватывает всех проблем, от которых впрямую зависит их жизнь, ц
недостаточно тонко в них разбирается.
Фрэнк анализирует три формы крестьянского правосудия:
1) Ритуализированный акт, подобный европейскому шаривари публичное "срамление" и осуждение проступка, обычно без применения насилия. Автор условно называет эту форму русского
крестьянского самосуда "шаривари". 2) Предусматривающее акты насилия наказание за преступления против собственности (воровство, конокрадство, поджоги). 3) Самосуд над колдунами и ворожеями, тоже включающий акт насилия.
В европейских странах шаривари чаще всего были связаны с
нарушением норм сексуального поведения. В пореформенной Росспи тоже были случаи "вождений" незамужних матерей, или
жен, нарушивших супружескую верность, но их мало. Автор подчеркивает, что он не обнаружил здесь сообщений о практиковавшихся в европейских странах наказаниях мужей, обманутых или
побитых женами. Внимание крестьян было обращено на другое,
прежде всего на кражи. Фрэнк объясняет это тем, что после реформы 1861 г. в России на первый план выступали отношения
собственности, а родственные связи, столь значимые раньше, ослабевали.
Один из наиболее часто применявшихся в российской деревне
видов самосуда, сохранившийся еще в 20-х гг. XX в. "вождение вора" или просто "вождение". Провинившегося водили или
возили на телеге по деревенской улице под крики, хохот и "музыку" били в печные заслонки, тазы, сковороды. Хотя к мелким кражам в деревне относились снисходительно, и суды, как
официальные, так и неофициальные, старались уладить миром
такого рода конфликты, даже и в этом случае в деревне часто
применяли "вождение". В деревне Заболонья Смоленской губернии крестьянина застали за кражей гуся. По решению сельского
схода назначили "вождение вора". Украденного гуся повесили
вору на шею и трижды обвели его вокруг деревни. Участники
процессии стучали в печные заслонки. Затем вор попросил прощения и выставил односельчанам полведра водки. Для женщин
дополнительным способом "срамления" было раздевание. В деревне Череповецкого уезда Новгородской губернии обнаружили,
что одна крестьянка собирает ягоды, не дождавшись разрешенно-
го времени. Ее привели на сход, раздели донага, повесили на
шею корзину с ягодами, и вся община повела ее через деревню с
криками, пением и плясками. После этого женщина заболела, но
мысль пожаловаться по-видимому не приходила ей в голову.
Если жертва проявляла строптивость, наказание ужесточали.
Так, в деревне Мешкова крестьянка, уличенная в краже холста,
была подвергнута "вождению". Когда ее довели до дому, она
схватила цеп и бросилась на своих мучителей, а затем обратилась
с жалобой к земскому начальнику. Тот вызвал деревенского старосту и два дня продержал его под арестом. Вернувшись в деревню, староста собрал сход, рассказал, что воровка донесла на членов общины, и сход постановил, чтобы муж крестьянки публично выпорол ее кнутом, а ее вещи отдал на водку для общества.
Все это было выполнено.
В описанных случаях задача самосуда - добиться прекращения краж, совершаемых "своими". Обдуманной символикой и ритуалом - публичным "срамлением" и "вождением", символизирующим изгнание, община предупреждала всех жителей деревни,
что в случае воровства кары не избежит никто. Вернуться в коллектив было, конечно, возможно, но только после публичного покаяния и прощения. Угощение общины водкой, завершавшее акцию, означало прощение и примирение.
Помимо непосредственной дисциплинарной функции, эта форма самосуда служила важным средством социального регулирования. Исполнение приговора сельского схода при участии всех
жителей деревни должно было поддерживать солидарность, предотвращать споры и развитие открытой вражды, которая могла
бы разрушить социальные связи и общность действий, столь важные в деревенской повседневной жизни. Это также давало выход
враждебным чувствам, гасило их. То, что самосуд совершался по
решению схода, легитимировало его в глазах жителей деревни и
делало маловероятной месть со стороны жертвы: ведь это было
бы равносильно вызову, брошенному общинной власти, а в общине проходила вся жизнь крестьян от рождения и до смерти.
Шаривари", связанные с нарушениями супружеской верности, служили поддержанию отношений господства и подчинения
внутри сельской общины. Отмечены случаи наказания девушек
за добрачные связи, расправы над незамужними женщинами, и
поведении которых наблюдались отклонения от общепринятых
норм. Что же касается супружеских отношений, община предос
тавляла свободу действий мужу, и тот действовал чаще всего
очень жестоко. Когда решение дела передавалось супругу, установленный ритуал не требовался - не было ни "вождения", ни
покупки водки в знак примирения. Община иногда вмешивалась,
но вступалась только за мужа. Вступаясь, она требовала, чтобы
он продемонстрировал свою способность осуществлять семейный
контроль и справиться с непокорной женой. Так, в начале
80-х гг. в одной из северных губерний крестьянка, не вынесшая
жестокого обращения мужа, пожаловалась на него в волостной
суд. Суд никаких мер не принял. Когда в деревне узнали о жалобе, староста вместе с несколькими крестьянами явился к мужу
жалобщицы и приказал ему бить, оскорблять и осмеивать жену в
присутствии всех. Сам староста и пришедшие с ним в расправе не
участвовали, а лишь наблюдали за ней. Община вмешивалась
иногда еще и в тех случаях, когда жена пренебрегала своими
обязанностями хозяйки, и семье угрожало разорение, а общине,
следовательно, предстояли непредусмотренные расходы.
Второй вид русского крестьянского самосуда наказания за
тяжкие преступления против собственности. В этих случаях совершались в высшей степени жестокие акты, нередко связанные
с нанесением тяжелых увечий, с пытками, побоями, завершавшимися убийством преступника, особенно если тот был чужим
или же был задержан при совершении повторной краями. Эти акты насилия почти всегда осуществлялись толпой, и решения схода часто не требовалось, насилие мог прямо осуществить и староста; организованного ритуального действа не происходило.
Если преступник постоянно и долго нарушал покой общины,
собирали сход и принимали решение избавиться от него раз и навсегда. Выделяли несколько человек, которые совершали обдуманное убийство. Крестьянин деревни Григорьева Самарской губернии по приговору сельского схода был сослан в Сибирь, но затем бежал и вернулся в деревню, где снова совершил кражу и
поджог. На этот раз сход приговорил его к смерти. Крестьяне во
главе со старостой окружили избу, где он скрывался, схватили и
убили его.
Особенно неистовствовали крестьяне, когда в их руки попадали конокрады. Лошадь имела такое значение в хозяйстве, что лишиться ее означало разорение. Конокрадов оскопляли, жгли каленым железом, загоняли под ногти деревянные шпильки, забивали гвозди в голову, ослепляли, забивали до смерти. Волостные
суды строго наказывали участников подобных самосудов, но крестьян это не останавливало. Даже в тех случаях, когда община
считала необходимым обратиться к властям, она предварительно
осуществляла наказание сама. Крестьяне не могли быть уверены
в том, что преступника вообще накажут - конокрады умело
скрывались, и волостные власти чаще всего не могли своими силами справиться с этим бедствием, угрожавшим самой основе
крестьянского хозяйства. К тому же, конокрадов и поджигателей
суд приговаривал к тюремному заключению или ссылке, а когда
срок кончался, преступник часто возвращался в родные мест.) и,
движимый стремлением отомстить, опять принимался .зп старое.
В данном случае общинною сознание работало особенно четко.
"Это наш преступник, - говорили крестьян.", - и наказа-! '. его
наше дело".
Третий вид самосуда в русской деревне связан с колдовством.
Важным и активным элементом крестьянской культуры конца
XIX и начала XX в. была вера в колдовство и чудеса. В своих повседневных делах и заботах жители любой деревни постоянно
прибегали к разного рода магическим практикам, к врачевательному искусству колдунов и ворожей. Но когда общину постигали
беды в виде эпидемий или неурожая, ответственность тотчас же
возлагали на тех, к чьим услугам только что прибегали, полагая,
что эти люди стремятся за что-то отомстить всей деревне или отдельным ее жителям.
Вот один из ярких случаев, относящийся к 1879 г. Крестьянка
Аграфена Игнатьева из деревни Врачева Новгородской губернии,
вдова, жившая подаянием, была известна как колдунья и ворожея. Среди жителей деревни было несколько больных эпилепсией, и большинство крестьян предполагало, что падучая болезнь последствие "порчи". Подозрение пало на "Грушку". Однажды
она попросила у соседа творогу, но получила отказ. После этого
дочь соседа заболела падучей и во время припадка стала кричать,
что ее "испортила" Грушка. Вскоре заболела еще одна женщина:
она тоже "выкликала" Грушку, уверяя, что колдунья напустила
на нее порчу за то, что она не разрешила своему сыну наколоть
лров Аграфене. Собрали сход и постановили сжечь колдунью.
Прямо со схода все пошли к ее избе, взломали запертую изнутри
дверь и начали действовать. Дверь заложили колом и забили
гвоздями, окна заколотили досками. Затем в сенях положили веники и солому и подожгли. Двести жителей деревни наблюдали,
как запылала и сгорела дотла изба вместе с колдуньей.
Самосудов над колдунами, завершавшихся убийствами, происходило много. Крестьянам не приходилось надеяться на официальный суд, так как закон не рассматривал колдовство как преступление и кара часто настигала самих жалобщиков. Не удовлетворенные законом, крестьяне расправлялись с колдунами сами.
Автор подчеркивает, что проанализированные им случаи в общем напоминают западные модели. И на Западе, и в России
жертвами расправ оказывались чаще всего нищие старики, бродяги, маргиналы. И там и здесь обвинение в колдовстве могло
быть заведомо ложным предлогом для развязывания конфликта в
деревне. В условиях русской деревни крестьянская злоба вспыхивала в тех случаях, когда возникала угроза, что обнищавший
член общины может стать обузой для нее. Против него можно
было обратить любое обвинение; это хорошо знали деревенские
"политики" и пользовались этим, когда требовалось найти очередного "врага". Однако, большинство крестьян, обвинявших соседей в колдовстве и участвовавших в расправах над ними, искренне верили в сверхъестественную силу этих людей и магический смысл их действий.
Размышляя о жестокости русского деревенского самосуда,
Фрэнк объясняет ее явным взаимовлиянием крестьянской и "элитарной" культуры. Как известно, русские уголовные наказания
издавна отличались чрезвычайной жестокостью; они предусматривали нанесение увечий, пытки, свирепые казни. Даже уголовный кодекс, принятый в 1839 г., предусматривал телесные наказания для крестьян. Еще большее впечатление производили жестокие издевательства, наказания и расправы помещиков над крестьянами. Все это, считает Фрэнк, воспринимало крестьянское
правосудие. Впрочем, замечает он, не подлежит сомнению, что
влияние было взаимным, и помещики тоже воспринимали и использовали жестокости, совершавшиеся крестьянами.
Итак, утверждает автор статьи, самосуд в русской деревне
конца XIX и начала XX в. не был "беззаконным насилием". Это
была акция крестьянской общины, направленная на пресечение
действий, которые угрожали нарушить традиционные социальные отношения или нанести урон хозяйству деревни. Крестьянский самосуд, по его мнению, был формой защиты собственного
правосудия перед лицом усиливающей свое влияние господствующей официальной культуры. Самосуд демонстрировал общинную
автономию, сохранившуюся несмотря на вековое угнетение общины властью помещиков и усиливающуюся централизацию государственной власти. Обнаруживалось, что община все еще сохра
няет исключительное право морального контроля за своими членами и для крестьян ее власть все еще гораздо авторитетнее, чем
местная государственная власть.
Крестьянское правосудие защищало общину от действия разрушительных сил. Своей юридической практикой община отстаи
вала и воспроизводила, с одной стороны, свою картину мира, с
другой - социально-экономические, сексуальные и культурные
отношения, включая и отношения господства и эксплуатации,
которые позволяли ей существовать. Некоторые новые тенденции
официальной культуры могли быть трансформированы и становились приемлемыми для жителей деревни; но попытки силой изменить взгляд крестьян на закон, на преступление, на юстицию
не могли рассчитывать на успех. Крестьяне протестопали, отказывались выполнять требования или просто их игнорировали.
Самосуд в русской деревне, сохранившийся еще и в XX в., являл собою выражение не преодоленного еще разрыва между крестьянской культурой и культурой элитарной. Он служил одним
из средств сохранения и воспроизведения традиционных социокультурных отношений.
С .В.Оболенским