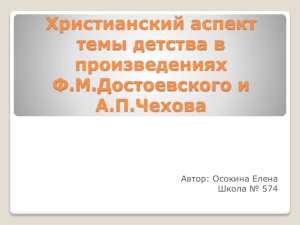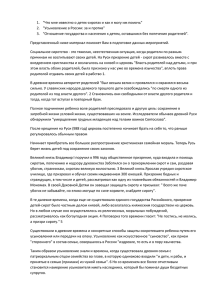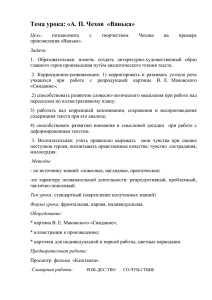Приложение - art.ioso.ru, 2009
реклама
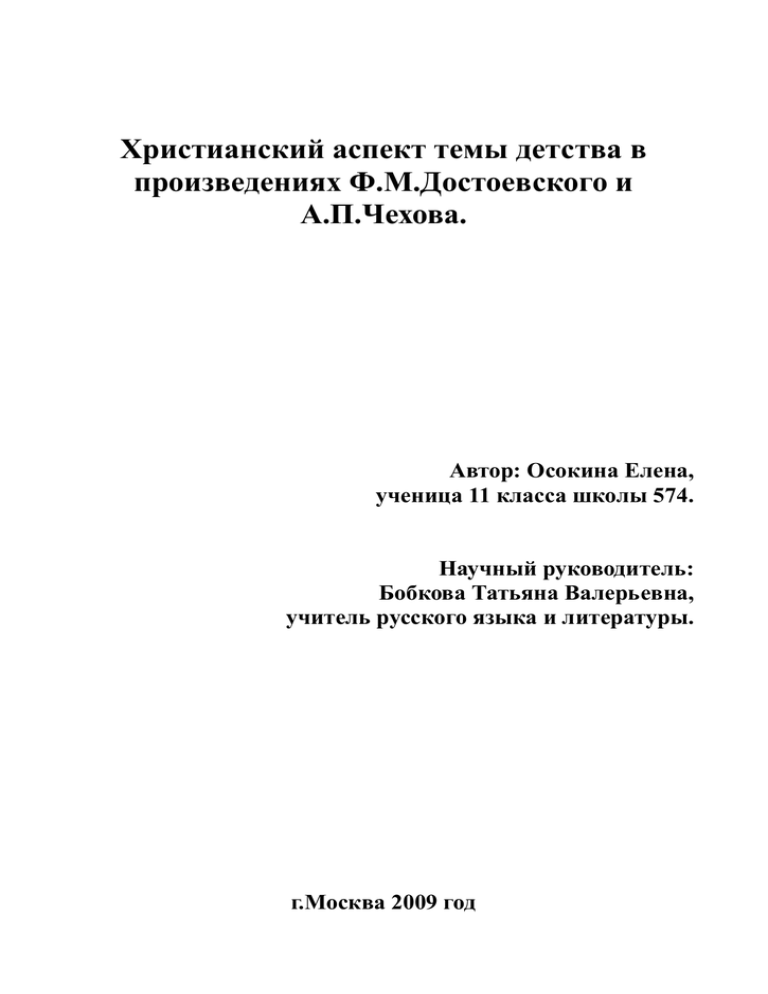
Христианский аспект темы детства в произведениях Ф.М.Достоевского и А.П.Чехова. Автор: Осокина Елена, ученица 11 класса школы 574. Научный руководитель: Бобкова Татьяна Валерьевна, учитель русского языка и литературы. г.Москва 2009 год Введение. Тема детства, беспризорности, безнадзорности и брошенности детей актуальна во все времена. С древнейших времен человеческое общество пыталось решить эту проблему. Были периоды успешного решения вопроса, но были и неудачи. Проблема актуальна, насущна, оживленные споры по поводу детей, попавших в трудную ситуацию, ведутся по сей день. Именно эту тему подняли в своих произведениях и вынесли на суд общественности Ф.М.Достоевский и А.П.Чехов. Писатели старались сделать так, чтобы читатели не просто сопереживали героям, а попытались понять суть проблемы и предприняли что-то для ее решения. Оглавление. 1.Введение. История вопроса безнадзорности и беспризорности в России. 2.Тема детства в произведениях русской литературы ХIХ века: а) анализ новеллы Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на елке»; б) анализ рассказа А.П.Чехова «Ванька»; 3.Вывод по результатам анализа литературных произведений. 4.Список используемой литературы. Социальное сиротство - это тяжелая, неестественная ситуация, когда родители по разным причинам не воспитывают своих детей. В дохристианской Руси в родовой общине славян существовала традиция заботиться о сиротах «всем миром». На Руси призрение детей - сирот развивалось вместе с внедрением христианства и возлагалось на князей и церковь. После крещения на Руси (988 год) церковь постепенно начинает брать на себя то, что раньше регулировалось обычным правом. Начинает приобретать все большее распространение христианская семейная мораль. Теперь Русь берет жизнь детей под сохранение своих законов. Великий князь Владимир I поручил в 996 году общественное призрение, куда входила и помощь сиротам, попечению и надзору духовенства. Заботился он о прокормлении сирот и сам, раздавая убогим, странникам, сиротам великую милостыню. Великий князь Ярослав учредил сиротское училище, где призревал и обучал своим иждивением 300 юношей. Призрение бедных и страждущих, в том числе и детей, рассматривал как одну из главнейших обязанностей и Владимир Мономах. В своей Духовной Детям он завещал защищать сироту и призывал: " Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе кормите, снабдите сироту". Призрение детей-сирот было частным делом князей, либо возлагалось княжеским государством на церковь. Но в любом случае оно осуществлялось из религиозных, моральных побуждений, рассматривалось как богоугодная акция. Поговорка того времени гласит: "Не постись, не молись, а призри сироту ." В Московском государстве во многом положение детей оставалось прежним. Так, родители сохраняли право распоряжаться брачной судьбой своих детей. Это право было следствием уходящего в глубь веков, "пагубного обычая женить малолетних на возрастных "девках". Оставалось право родителей отдавать детей в монастырь. Оно пришло на смену обычаю, согласно которому родители давали обет монашества от имени своих малолетних детей. Социальноэкономические перемены в жизни Московского государства посвоему повлияли и на существовавшее прежде право родителей отдавать своих детей в рабство. Теперь подобного рода право трансформировалось сначала в право заочно записывать своих детей, не достигших 15-летнего возраста, в кабальное холопство, а потом в право на отдачу детей в услужение. Но в любом случае речь шла о неограниченном праве родителей на свободу своих детей Забота об осиротевших детях претворялась в жизнь по-разному. Они нередко попадали в монастыри, где их воспитывали, кормили и одевали. Существовало в то время даже такое понятие как "монастырские детеныши" в число которых попадали и осиротевшие бедные разоренные дети боярские, у "которых отцы и матери "посечены". Крестьянские дети, "оставшись от родителей своих", поступали на воспитание или родственников или посторонних людей вместе со своим имуществом, которое "не быв приведено в известность, расхищается часто корыстолюбивыми воспитателями в свою пользу". Если у осиротевшего ребенка не было никакого имущества, он жил обыкновенно мирским подаянием. "Общество об них нисколько не заботится, предоставляя их на волю судьбы". В царствование Ивана IV в круг задач государственного правления, осуществляемого с помощью приказов, входило и призрение бедных и страждущих, куда входили и дети-сироты. В начале XVII века в трудное и "смутное" время особенно заботился о вдовах и сиротах без различия их подданства и вероисповедания Борис Годунов. Он "не щадил никаких средств и ежедневно раздавал в Москве огромные деньги бедным". Таким образом, принципиально помощь бедным считалась делом не одних только частных лиц, но и правительственной власти. В середине XVII века при царе Алексее Михайловиче получила свое дальнейшее развитие идея постепенного сосредоточения призрения в руках власти гражданской. В это время были созданы приказы, специально занимавшиеся призрением бедных и сирот. А патриарх Никон получил от царя право принимать от них прошения и делать царю по ним представления. По Указу царя Алексея Михайловича в 1650 году была перепечатана Кормчая книга, включавшая в себя все существовавшие до того времени правила православной церкви, относящиеся к сиротам. В 1682 году был подготовлен проект Указа, где из общего числа нищих выделялись нищие безродные дети. Здесь же впервые ставился вопрос об открытии для них специальных домов с целью обучения их грамоте и ремеслам, наукам, которые "зело и во всяких случаях нужны и потребны". Именно этот проект как бы завершал эпоху, когда зародилась идея государственного призрения. Теперь на место полной благотворительности исключительно ради спасения души без соотнесения проблем призрения с задачами государства, выдвигалась новая идея, в основе которой лежали "нужды государства и забота о пользе населения". Нехватка рабочих рук объясняла отношение к ребенку-сироте и как к будущему работнику. Поэтому государство отдавало беспризорных детей, как частным лицам, так и церковным учреждениям, позволяя им пользоваться бесплатным трудом своих воспитанников. Такое закабаление было наиболее примитивной формой заботы общества и государства о малолетних, оставшихся без семьи. Что же касается самих частных лиц, то они охотно брали на воспитание сироту, чтобы потом закабалить его навсегда. А оставшийся без родителей ребенок "бил челом во двор к лицу согласившемуся взять его к себе", чем обеспечивал свое пропитание. С началом XVIII века на исторической сцене "появляется личность", что не могло гармонировать с существованием неограниченной родительской власти. Прямое попечение о детях-сиротах с помощью специальных детских учреждений относится к началу XVIII века, когда Новгородский митрополит Иов построил по собственной инициативе за собственные средства в 1706 году в Холмово-Успенском монастыре "сиропитательницу" для "зазорных младенцев". А в самом Новгороде он основал еще десять таких заведений, где воспитывалось до 3-х тысяч детей. Отсюда дети поступали в устроенные Иовом школы полу духовного характера, после чего они становились, кто церковнослужителями, а кто служилыми или посадскими людьми. А Петр I своим Указом от 4 ноября 1715 года предписал устраивать в Москве и других городах госпитали "для зазорных младенцев, которых жены и девки рожают беззаконно и стыда ради отметывают в разные места, от чего иные младенцы помирают, а иные от тех же, кои рожают, и умерщвляются". И чтобы зазорных младенцев в непристойные места не отметывали, но приносили бы к вышеозначенным госпиталям и клали тайно в окно через какое закрытие, дабы приносимых лиц не было видно. Эти госпитали существовали обычно около церковных оград. В Москве они были каменными, в других городах деревянными. Правда, такие госпитали были рассчитаны на незначительную часть покинутых детей. Таким образом в то время в России, как и в Европе практиковался так называемый "тайный прием", позволявший оставаться неизвестным лицу, подкинувшему ребенка. Это давало возможность не оставлять его брошенным вовсе. Не исключал Петр I и помощи церкви, монастырей. В годы его царствования, как и в прежние времена, детей-сирот передавали в богодельни , где наряду со взрослыми содержались безродные, бездомные дети. А, например, в Москве для воспитания детей-сирот был "назначен" Новодевичий монастырь. Следовательно, в то время воспитание детей, молодых людей было напрямую связано с государственной пользой, которая включала в себя образование и просвещение. Что же касается крестьянских детей, то их всякий крестьянин "должен в великом страхе содержать, ни до какой праздности не допускать и всегда принуждать к работе, дабы он в том взял привычку и, смотря отца своего неусыпные труды, себя к тому приучать мог. При Екатерине II российское законодательство по-прежнему не давало перечня ограничений родительской власти на случай злоупотребления ею. Поэтому "самые безнравственные родители, поведение которых самым развращающим образом действует на детей, страдающих морально и физически, сохраняют всю полноту своей власти, как и родители безукоризненной нравственности и вполне чадолюбивые". В годы ее царствования имело место еще одно существенное нововведение, имеющее прямое отношение к положению детей. Если раньше, незаконнорожденные подкидыши закрепощались путем их закрепления за воспитателями, чьими крепостными они становились, то теперь они стали поступать до совершеннолетия в ведомство приказов общественных учреждений, после чего становились вольными. За владельцами закреплялись только незаконнорожденные дети крепостных матерей. Наряду с дворянской опекой для купеческих и мещанских вдов при каждом городском магистрате учреждался городовой сиротский суд. На "всякого города главу" возлагалось аналогичная обязанность уведомлять городовой сиротский суд о вдовах и осиротевших малолетних детях "всякого звания городовых жителей", "кои в том городе, где он избран, остались после мужей, или родителей, и без призрения находятся. Продолжала развиваться опека, сословность накладывала свой отпечаток на содержание требований, касающихся воспитания. Для одного сословия они были одни, для другого другие. Так, малолетнего дворянина надлежало воспитывать так, чтобы он мог "вести жизнь порядочную, сходственную с достатком, без хлопотную от заимодавцев и безмятежную от домашнего неустройства, весьма отдаленную от расточения, разоряющего роды. А для мещан и купцов предназначались несколько иные правила: "дабы мог воспитываться в знании приличного его состоянию промысла или ремесла. При всех более или менее значительных различиях в регламентации отношений по опеке всякий раз устанавливались правила, относящиеся к имущим группам населения. Не случайно, поэтому, речь всякий раз идет об опеке над имением (имуществом) и личностью ребенка. Заметное место в деятельности Екатерины II занимает создание специальных учреждений для оставшихся без семьи, брошенных детей. По проекту известного в то время "всей душой преданного делу милосердия", известного государственного деятеля И.И. Бецкого она издает 1 сентября 1763 года Манифест "Об учреждении в Москве Воспитательного Дома, с особым госпиталем для неимущих родильниц", который должен был быть построен "общим подаянием". Такому Дому предстояло стать учреждением государственным. На его постройку был объявлен сбор пожертвований, всюду были разосланы воззвания, которые надлежало зачитывать "во всех церквах". В этих же воззваниях был призыв устраивать самостоятельные приюты. Цель создания Воспитательных домов сводилась к тому, чтобы истребить злодейства, воспитывать детей с выгодой и пользой, уменьшить нищенство. Для постройки такого дома требовались "громадные денежные средства". Сама Екатерина II в разное время пожертвовала на его строительство 1 млн. рублей. Некоторые дарили Воспитательному Дому имения, дома, ценные вещи, строительные материалы и др. В пользу этого дома шли крупные штрафы, которые императрица накладывала на своих сановников. Источником необходимых расходов были также ежегодные доходы от основанного впервые в России ломбарда. Через 7 месяцев после опубликования Манифеста (21 октября 1764 года) состоялась торжественная закладка здания Московского Воспитательного дома. Его предстояло построить на берегу Москвы-реки, на месте, где находился так называемый Гранатный двор. Для строений этого Воспитательного Дома был отдан участок, простиравшийся по берегу Яузы, по улице Солянке и по протяжению стены Китай-города от Варварских ворот до берега Москвы-реки. А в марте 1770 года было разрешено открыть Воспитательный Дом в Петербурге. Первоначально он являлся отделением Московского и финансировался, как на средства от казны, так и за счет благотворительности. При Екатерине II укрепились и административно-правовые основы воспитательных домов и приютов для "осиротелых" детей. Все они, кроме Московского и Петербургского, передавались в ведение Приказов общественного призрения. Однако, несмотря на все усилия И.И. Бецкого создать так называемое "третье сословие", его идея потерпела крах. Во-первых, он не предполагал такого наплыва детей в Воспитательные Детские Дома, что прямо-таки парализовало их деятельность. Во-вторых, чрезвычайно высокой была смертность среди поступающих сюда детей. Так, в первые четыре года существования Московского Воспитательного Дома из принятых 3147 детей больше 82 % умерло. Были годы, когда умирали просто все дети. Поэтому Екатерина стала предписывать устраивать детей в семьи. Приказ неимущих сирот отдает за умеренную плату надежным добродетельным и добронравным людям для содержания и воспитания с обязательством, чтобы предоставить их во всякое время Приказу. В ст. 301 этого Указа говорилось также, что ребенок передается воспитателям "дабы научился науке или промыслу или ремеслу, и доставлен был ему способ учиться добрым гражданином". Раздача на воспитание в деревенские семьи осуществлялась за плату (2 рубля в месяц). Сначала в деревню отправляли ребенка, пока ему не исполнилось 9 месяцев, потом 5-7 лет. После этого по плану И.И. Бецкого детям предстояло вернуться в Воспитательный Дом. Позже, ради создания в его стенах необходимых условий существования воспитанников установили их численность (500 человек). Остальные дети продолжали оставаться в деревенских семьях, откуда мальчики по достижении 17 лет зачислялись в разряд казенных крестьян, им давали участок земли и необходимый инвентарь. А девочек обычно выдавали замуж. При Екатерине II имело место еще одно существенное нововведение. Если раньше, незаконнорожденные подкидыши закрепощались путем их закрепления за воспитателями, чьими крепостными они становились, то теперь они стали поступать до совершеннолетия в ведомство приказов общественных учреждений, после чего становились вольными. Заметное место занимают административноорганизационные перемены в устройстве осиротевших детей. При этом сохранявшийся и ранее принцип сословности обрел еще более четкие черты. Крестьянские же дети, оставшиеся без родителей своих, поступали на воспитание или родственников или посторонних людей вместе с наследством, которое не быв приведено в известность расхищается часто корыстолюбивыми воспитателями в свою пользу. Начало XIX века ознаменовалось войной 1812 года, оказавшей влияние на умонастроение тех, кому небезразлична была дальнейшая судьба России. Первая половина XIX века не принесла существенных изменений, нововведений в правовое регулирование семейных отношений, касающихся родителей и детей. Кроме опеки и усыновления в России, примерно с XIX века, начал вводиться патронат и патронаж, то есть "помещение беспризорных детей, больных и других лиц, нуждающихся в заботливом домашнем уходе, в частные семьи". Появляется понятие "патроната" для "падших, но которые не утеряли силу воли", который включал заботу о здоровье ребенка, начальном образовании и развитие его способности к труду как источнику самообеспечения в будущей жизни. Эти требования были не всегда реальными для выполнения в тех семьях, которые брали детей. Семье, принявшей к себе на патронат ребенка, выплачивалось разное по размерам пособие: 5 рублей (заметная по тем временам помощь) на маленького ребенка, так как он ничем по хозяйству не помогал, и гораздо меньше - на старших, так как они могли помогать по хозяйству, а значит, зарабатывать деньги. Постепенно к 14 года выплаты прекращались. Для достижения такой цели как охрана детей-сирот, попавших в приют, например, Московское благотворительное общество стремилось "приискать" воспитаннику занятия соответственно его полу, "летам", способностям и силам. Для этого он помещался в учебное или промышленное заведение, если невозможно было сразу же найти для него подходящее дело. Речь шла о его временном - на период обучения ремеслу, помещении в данном случае на учебу. Что же касается патронажа, то он издавна связывался в России с передачей воспитанника в семью для вскармливания. Постепенно все более четкими становились требования к таким семьям: содержать ребенка так, чтобы по возможности обеспечивать его здоровье, и чтобы он получил начальное образование, был приспособлен к какому-либо труду, способному служить ему источником будущей жизни. Но эти требования не всегда были реальными, поскольку чаще всего взять ребенка к себе на воспитание за вознаграждение хотели "беднейшие жители", для которых "пятирублевое подспорье" являлось заметной помощью" Тем не менее приходилось отдавать детей именно им, так как обеспеченные круги населения предпочитали усыновление. Вот почему жизнь и судьба передаваемых на патронаж детей были ужасными. Они попадали туда, где "дом разваливается, крыша прохудилась, ни двора, ни построек не видно" Таким образом в начале XIX века, как и прежде, предметом государственной заботы оставалось устройство осиротевших бездомных детей в различного рода учреждения, заведения. Но если законодательство предыдущих лет всячески способствовало децентрализации устройства этих детей в воспитательные дома, приюты и т.п., то теперь положение стало меняться, поскольку существовавшая система "тайного приноса" имела серьезные недостатки. Поэтому, с одно стороны, предпринимаются поиски путей оказания помощи нуждающимся матерям, с другой, осиротевшие дети устраиваются несколько по- другому. Так, Павел I издал Указ о выдаче пособия бедной матери, которая не могла воспитывать детей собственными средствами. Но желающих получить это пособие "явилось такое множество, что пришлось прибегнуть к сокращению расходов". Поэтому императрица Мария Федоровна, в чьем ведении находилась помощь детям-сиротам, распорядилась выдавать это пособие каждый раз с ее разрешения. Это требование оказалось настолько трудно выполнимым, что выплата пособий таким матерям вовсе прекратилась. Что касается иного устройства детей, пополняющих ряды сирот, то с 1807 года появляется так называемое "городское воспитание". Заключалось оно в предоставлении матери возможности за определенную плату воспитывать своих детей дома до достижения ими 7-летнего возраста. Примерно в это же время предпринимаются попытки уничтожения системы тайного приноса детей. Теперь главным ориентиром в определении судьбы воспитанника стала передача его в крестьянскую семью для подготовки "сельского сословия". Поэтому в 1828 году принимается закон, воспрещающий дальнейшее строительство воспитательных домов в губерниях, тем более, что смертность в них составляла 75 % и более. А в 1837 году правительственный Указ обязывает всех без изъятия младенцев, приносимых в воспитательный дом, приюты, отсылать в деревню "с воспрещением обратного их поступления в это заведение" Уходом за детьми здесь наблюдали окружные надзиратели - главным образом врачи. Но при желании мать могла за вознаграждение сама ухаживать за своим ребенком до достижения им 3-х лет, после чего всякая выплата прекращалась. Дальнейшее экономическое развитие России не могло не сказаться на проблемах, связанных с устройством детей и во второй половине X1X века. Государство стало устройство сирот перекладывать на организации, в ведении которых находились отдельные группы населения. В крепостной России попечение о детях-сиротах было распределено между отдельными владельцами и ведомствами. Они и то должны были "тщись" о своих поданных. По идее, поэтому, не могло быть детей брошенных, так как о каждом заботилось то учреждение, к которому они были приписаны. Когда, например, речь шла о детях, просящих милостыню, вопрос слушал Николаевский комитет. Он разбирал это дело "по состоянию" этих детей. На заре ХХ века в широких кругах европейского общества было принято называть грядущее столетие "веком ребенка". Но всякие иллюзии на этот счет очень скоро исчезли. Первая мировая война принесла детскому населению России физические и нравственные страдания, разрушение семей, гибель родителей, голод и нищету в огромных масштабах. Усугубил положение ребенка и октябрь 1917 года. Миллионы обездоленных сирот, согнанные с постоянного места жительства, массы беженцев с малолетними детьми, расстройство правильного обучения детей в школах, их подорванное длительными лишениями здоровье - такова неприглядная картина первых лет существования государства так называемой новой формации. Для полноты картины можно добавить такой факт как вовлечение десятка тысяч детей разного возраста в непосильный для них труд, что наполнило еще неокрепшую детскую психику нездоровыми переживаниями военных страстей и спекулятивного ажиотажа. Такое состояние общества на рубеже веков находит отражение в художественной литературе, писатели, являясь гражданами своей страны, не могут оставаться равнодушными к положению детей в России. Ф.М. Достоевский – русский писатель, чье творчество приходится на вторую треть ХIХ века. Жизненные испытания заставили его задуматься о сути православного христианства и его значении для русского человека. В его произведениях содержится глубокое осмысление всех сторон человеческой жизни, подлинная любовь к человеку и неприятие бессердечного общества, основанного на власти денег и жестоком угнетении одних людей другими. Достоевский в своих произведениях показал истинные причины нищеты, подавленности и трагедии русского человека. Прочитав рассказ Ф.М.Достоевского «Мальчик у Христа на елке», я поняла, что это глубокое произведение, которое заставляет не только читателя, но и все человечество сочувствовать, сострадать герою и пытаться что-то изменить в этом мире. Это произведение написано удивительно простым языком. Достоевского можно считать действительно великим писателем, так как глобальные жизненные проблемы он умел передать понятным для всех языком. Композиционно новелла разделена на две части. Первая («Мальчик с ручкой») является размышлением автора о детях, во множестве разбросанных по городам Руси, голодных, лишенных крова, человеческой теплоты и ласки. «Дети странный народ, они снятся и мерещатся». Это они ходят «с ручкой», то есть просят милостыню, а потом воровство превращается в страсть, а желание выбраться из затянувшего их круга толкает на путь бродяжничества. Автор замечает, что таких детей множество, «они вертятся на вашей дороге» и стали привычным явлением русской жизни. Если эти дети ничего не наберут за день, то их ждут побои. Но и копеечки, принесенные в красных окоченевших руках, не приносят им счастья. Дети вынуждены возвращаться в подвалы, где пьянствуют халатники на их копеечки. И постепенно такие дети становятся преступниками, переносящими все – голод, холод, побои. Боль и гнев, страдание и ужас заключают в себе последние строки этой части: «Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь…». И это повсеместно, и ничего не сказано о помощи этим детям со стороны государства, они остаются один на один со своей судьбой. Они никому не нужны! Автор намеренно сгущает краски, чтобы привлечь внимание читателя к столь актуальной проблеме. Это страшно! Однако «все это факты, все сказанное, жестокая правда. Вторая часть («Мальчик у Христа на елке») - само по себе законченное произведение, но оно продолжает тему детской доли в России. Эта часть состоит из оговорок, создавая призрачный мир иллюзий, не претендующий на точность и достоверность происходящего. «Но мне все мерещится, что это где – то и когда – то случилось как раз накануне Рождества». Образ мальчика во второй части, покинутого всеми ребенка, суровый упрек тем, кто не замечает положения русских детей. На протяжении всего повествования автор говорит нам о «замерших пальчиках» ребенка, не дающих ему покоя и заставляющих идти дальше на край гибели. Но даже никому не нужный ребенок остается ребенком, мечтающим хоть на миг перенестись в мир счастья, увидеть сверкающую огнями елку, множество вкусной еды. Достоевский очень удачно использует прием сопоставления, сравнивая людей и игрушки: мальчик застывает с усмешкой на устах, думая о куклах, что «они совсем как живые». Для него куклы прекраснее и лучше живых людей, потому что только они могут принести счастье несчастным, обиженным детям, которым так хочется радости, особенно в волшебную рождественскую ночь, когда совершаются чудеса и все получают подарки. М.М.Дунаев в своем труде «Православие и русская литература» пишет, что «так представить себе жизнь случайно встреченного мальчика может лишь тот, кто не напоказ несет в себе любовь к ближнему своему». В Рождество все должны быть счастливы и веселы, а в жизни все получается по – другому…Некому приютить замерзшего, умирающего ребенка, только Христос оказывается милосердным к детям, замерзшим в корзинках, «в которых их подкинули к дверям петербургских чиновников», к девочкам и мальчикам, умерших в воспитательных домах и у иссохшей груди своих матерей во время голода. Для Христа они как ангелы, и он простирает к ним руки и благословляет их и их грешных матерей. Проблема детства в этом произведении выносится на суд публики. Здесь и бедность, и неравенство, и несправедливость. Автор в этой новелле призывает нас не просто задуматься, а увидеть, что вокруг нас такие же люди, как и мы, ничуть не лучше и не хуже. Что нужно уважать людей в независимости от их финансового положения в обществе. Не случайно вторая часть завершается рассуждением об истории, сочиненной автором, «так не идущей в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя». Закончить анализ этого произведения я бы хотела словами самого Ф.М.Достоевского, которые, на мой взгляд, передают главную мысль этого рассказа. Достоевский писал, что в праздник Рождества особое внимание уделялось детям, ведь он установлен в память рождения Божественного младенца. Младенец Иисус, рожденный в пещере и положенный в кормушку для скота, воспринимался как защитник всех обездоленных, бедняков и, в первую очередь, детей. Другой аспект темы детства представлен в рассказе А.П.Чехова «Ванька». А.П.Чехов -великий русский писатель. Он жил и работал в условиях становления новой общественной формации, был тонким наблюдателем жизни, умел ненавязчиво обратить внимание читателя на актуальные вопросы своего времени, не делая назидательных выводов, но заставляя глубоко задуматься и современника, и потомка… Рассказ "Ванька" А.П. Чехова известен, кажется, всей читающей России. Написанный в 1886 году, он с начала прошлого века входит в многочисленные "Книги для чтения" и школьные учебники. Как часто происходит в таких случаях, поверхностно понятое "содержание" совершенно затемняет смысловые глубины. О чем же рассказ? Как будто он о тяжкой доле мальчика "в людях". Над ним насмехаются подмастерья, его бьют и не кормят хозяева, ему не дает спать хозяйский "ребятёнок". Одновременно рассказ как будто и о наивности самого героя, не умеющего правильно написать адрес на конверте, в сознании которого "необыкновенно юркий и подвижный старикашка... с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами" является желанным избавителем… "Дописать" за Чехова текст рассказа торопится и М.М. Дунаев, по мнению которого финал должен быть другим: "Константин Макарыч никогда не получит письма, и светлая надежда обернется тьмою… Ваньке неизбежно представится, что он никому не нужен, что его бросили и оставили в безнадежности… Дед же… ничего не сделает для внука. Ребенок переживет тяжелейшее потрясение, ощущение оставленности". Когда мы пытаемся "услышать" ту "музыку интонационноценностного контекста", которой "как бы окутано" произведение, сразу же становится ясно: рассказ о чем-то другом. Жанр рождественского рассказа совершенно преображает то внешнее "содержание", к которому и сводят обычно "смысл" чеховского произведения. Перед нами сюжет о светлом рождественском чуде. Как отмечено нами, рассказ "Ванька" впервые был опубликован в "Петербургской газете" 25 декабря – и именно в отделе "Рождественские рассказы". Уже этот контекст задает соответствующий фон восприятия текста. При кажущейся "простоте" рассказ имеет весьма сложную композицию. Письмо Ваньки Жукова несколько раз прерывается то воспоминаниями героя, то репликами повествователя, то знаменитым пейзажным описанием: "А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом...". За шутливым предположением в последней фразе мерцает представление о сотворенности Божьего мира, о скрытом присутствии Творца, о праздничности рождественского космоса, однако оно подается в чисто чеховской, несколько ироничной стилистике. Обратим внимание, как пишет письмо Ванька. "Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях". Герой принимает молитвенную позу, поэтому поздравление дедушки с Рождеством и пожелание "всего от Господа Бога" нельзя считать только лишь нейтральными речевыми клише. Так же нужно обратить внимание на очень важную деталь-это окно. Окно становится не только той границей между "чужим" и "своим", которую преодолевает маленький герой, воображая занесенную снегом родную деревню, но именно оттуда, из заоконного пространства, приходит к Ваньке страстно ожидаемый им ответный импульс. "Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на яркокрасные окна деревенской церкви..." Городское окно Ваньки, отражающее его свечу, и деревенские окна церкви, в которых виднеется рождественский свет лампадок и свечей, неявно сближаются автором. Можно сказать, что взгляд внука, устремленный в темное окно, и взгляд деда, обращенный на "яркокрасные" окна деревенской церкви, в рождественскую ночь мистически встречаются... По крайней мере, Ванька из своего московского угла несомненно видит в эту минуту те же окна церкви, на которые - тоже в эту минуту ("теперь") - "щурит глаза" из темноты его деревенский дедушка… Ближе к концу произведения в том же заоконном пространстве ("Ванька... вновь уставился на окно") появляется и рождественская елка, за которой "по сугробам" идут Ванюшка (здесь возникает именно такая форма имени героя) и дед. Вывод. Анализируя эти два произведения, я точно поняла, что они объединены одной общей темой-темой детства. В обоих произведениях события происходят под Рождество. В Рождество сбывают все самые сокровенные мечты. В произведениях «Мальчик у Христа на елке» и «Ванька» оба мальчика хотели обыкновенного человеческого счастья – жизни в семье, где они были бы кому – то нужны. Также нужно отметить, что и у А.П.Чехова и у Ф.М.Достоевского на протяжении всего повествования прослеживаются христианские мотивы. Оба мальчика, несмотря на свою несчастную судьбу и тяжелое детство, не потеряли веру в Бога. Но к сожалению, в меру своей наивности, детской неиспорченности, они не понимают всей правды жизни и того, что их заветные мечты никогда не исполнятся. Ф.М.Достоевский показывает нам тему детского сиротства, из которого нет иного выхода, как смерть ребенка. Помочь может только Христос. А у А.П.Чехова мечта ребенка обернется разочарованием. Он поймет, что никому не нужен. И ребенок переживет тяжелое потрясение. И сегодня проблема детского сиротства продолжает оставаться актуальной. Как указано в Докладе Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам «Дети улиц», «они живут по неписаным законам того общества, куда попадают, где поощряется, признается то, что чуждо человеческому обществу, где своя мораль, своя правда, свои авторитеты, наделенные подчас безграничной властью». Социальная, личностная характеристика беспризорника, бесспорная его принадлежность к группе социального риска объясняет, почему он опасен для общества не только современного, но и будущего. Дальнейшее развитие этого явления находится в прямой связи с социальной проблемой национального масштаба, которую политологами принято называть вырождением нации Таким образом, как показывает анализ истории беспризорности, призрение детей-сирот направлениях: в России государственном, развивалась в нескольких государственно-общественном, церковном и частном. Однако, несмотря на богатейший исторический опыт, в условиях кризиса 90-х годов XX в. Россия оказалась неспособной справиться с проблемой беспризорности. Безнадзорность и беспризорность детей до сих пор продолжают оставаться одними из наиболее тревожных характеристик современного российского общества. Так, по мнению А.М. Нечаевой, причины детской беспризорности и безнадзорности предопределяются в современной России такими факторами, как1: - экономический кризис; - безработица; - обнищание широких слоев населения, чье большинство живет за чертой бедности; 1 6. С. 60. Нечаева А.М. Детская беспризорность – опасное социальное явление // Государство и право, 2001. № - повсеместное ослабление семейных устоев; - утрата старшим и младшим поколениями моральных ценностей; - пьянство и алкоголизм, наркомания; - распространение среди детей и взрослых психических заболеваний. Другой причиной безнадзорности является кризис семей: рост бедности, ухудшение условий жизнедеятельности и разрушение нравственных ценностей и воспитательного потенциала семей Список литературы. 1)Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на елке» - художественное произведение, вошедшее в «Дневник писателя» 2)А.П.Чехов «Ванька» 3)4)Михаил Дунаев «Православие и русская правда»-Крутицкое патриаршее подворье,1997 г.Москва 5) Дунаев М.М. Виртуальное литературоведение // www.radrad.ru/analytic/articles/?ID=1666 6)Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Дети улицы. Растущая трагедия городов / Доклад Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. - М., 1990. С. 38 7) Нечаева А.М. Детская беспризорность – опасное социальное явление // Государство и право, 2001. № 6. С. 60.