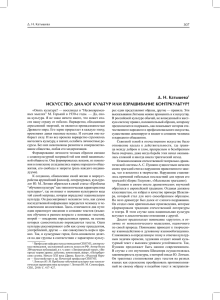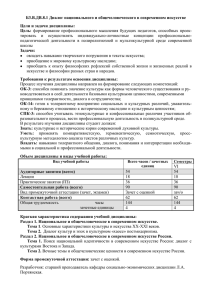Смотреть или читать: искусствоведение после постмодернизма
реклама

Смотреть или читать: искусствоведение после постмодернизма Штейнер Евгений Семенович доктор искусствоведения, Российский институт культурологии Сначала мне хочется спросить многоуважаемых коллег в зале, обратили ли вы внимание, что мне выпала честь быть третьим подряд украшенным усами докладчиком? Если мы попытаемся концептуализировать этот момент, то без культурологии здесь не обойтись. Культурология занимается, это мое рабочее определение, тем, чем чурается заниматься классическое искусствоведение. Тема же моего сообщения посвящена искусствоведению. И я подчеркиваю, в значительной степени именно -ведению, поскольку я буду говорить об изобразительном искусстве, хотя и с некоторыми обобщениями по части искусства вообще (и тогда я попытаюсь переходить на слово «искусствознание»). Так вот цель моего выступления — это поразмышлять над тем, что составляет предмет сегодняшнего искусствоведения. В основном я буду иметь в виду современное искусство. Но поскольку это искусство (а лучше я скажу — современный художественный процесс, а не искусство в классическом понимании этого термина) ставит новые проблемы, на которые искусствоведение отвечает изменениями или даже собственной мутацией, то эти перемены в нашем ремесле неизменно затрагивают и способ описания искусства классического, а не только современного. Отвечая цели нашей конференции, я начну с рассуждений о соотношении между искусствоведением, культурологией и филологией, т.е. об их предметах и методах. Возьмем, например, надпись «Это не трубка». [Slide 1. На экране появляется слайд с каллиграфически выведенной надписью: “Ceci n’est pas une pipe.”] Грубо говоря, когда ученый имеет дело с такого рода текстом, он, наверное, является филологом и должен изучать эту фразу как проходящую по ведомству филологии. То есть это языковое высказывание, и можно говорить о грамматической правильности и неправильности, можно обсуждать всякого рода иные лингвистические аспекты (я пока оставляю в стороне каллиграфию надписи, т.е. визуальность, освобожденную от семантики). Теперь возьмем изображение трубки. [Slide 2. На экране появляется слайд № 2: изображенная маслом на холсте курительная трубка]. А вот это уже проходит по ведомству искусствоведения. И здесь искусствовед может рассуждать о соответствии изображения денотату, говорить о всякого рода формальных аспектах — форме, колорите, композиции и пр., чему всех нас учили в школе. А теперь попробуем представить себе картинку, где присутствуют и надпись, и изображение. [Слайд № 3: сочетание изображения трубки из слайда №2 с помещенной под ним фразой из слайда №1]. Так вот, это проходит уже по ведомству культурологии — как концептуальный объект, и не всегда при этом даже художественный, в котором есть вербальные и визуальные системы сигнификации. В простейшем случае эти системы дополняют друг друга, а часто, как в нашем случае, порождают некий когнитивный диссонанс и тем самым провоцируют смыслы, которые ни в вербальной, ни в визуальной части сами по себе заложены не были. Как называлась данная картинка у автора — Рене Магритта? Она называлась «Коварство образов (La trahison des images)». Им была сделана целая серия на эту тему. Почему коварство? Как он сам говорил, вы не можете набить эту трубку. То есть имеется в виду достаточно очевидная вещь: образ предмета не есть сам предмет. Мишель Фуко посвятил этой картинке целое небольшое исследование, вышедшее в 1972 году. Он писал: «Подобие негласно подразумевает подтверждение. Р. Магритт подрывает это, внося разлад между ними, делает несоответствие между подобием и не подтверждающим его словесным высказыванием». И вот здесь-то, можно сказать, и подключается культурология, которая интерпретирует этот разлад посредством констекстуализации. Я этого делать сейчас не буду: все представляют себе, что можно очень долго рассуждать о провокативности художественного жеста, взрывающего привычные связи и ожидания, описывать отношения знака и денотата, говорить об иррациональности сюрреализма и т.п. или, столько же провокативно можно сказать: да, это не трубка, а, скажем, соска – подобно тому, как Том Кенти считал Большую государственную печать Англии приспособлением для колки орехов. Культурологическое или лингвистическое исследование приходит на помощь искусствоведению тогда, когда имеет место зазор между тем, что нарисовано, и тем, что имелось в виду. Более того, это не просто зазор. Ведь такой зазор есть практически в любом настоящем произведении искусства. Речь идет о случае, когда то, как нарисовано, не важно для высказывания автора. Здесь затрагивается проблема необязательности художественной, эстетической и эмфатически выразительной формы в новейшем, как правило, произведении искусства. В произведении, рассчитанном на то, чтобы служить возбудителем неких семантических рядов общекультурного характера. Возьмем следующий пример. [Слайд №4] Это работа американского концептуалиста Джозефа Косата (или, на венгерский лад, Кошута – Kosuth) под названием «Один и три стула». Дата создания — 1965 год, начало концептуализма. Инсталляция, в моем контексте чрезвычайно показательная, ведь сам автор описывал ее так: «Мне нравится эта работа потому, что она является чем-то иным, нежели просто то, что мы видим. Можно изменить ее расположение, предмет и фотографию. Тем не менее она остается все той же работой. Это для меня чрезвычайно интересно». В описании этой своей известной инсталляции, которая сейчас выставлена в Музее современного искусства в Нью-Йорке, Косат писал, что стул может быть какой угодно, только если надо заменить стул, нужно сфотографировать его и новую фотографию повесить на стенку рядом с новым стулом. По словам американского концептуалиста, подобный подход к искусству означает, что у вас может быть произведение искусства (artwork), в котором идея тем важнее, чем менее формальный вид имеют составляющие этого творения. Фундаментальным здесь является осознание того, что всякое произведение искусства имеет характер лингвистического акта, причем это не связано с конкретными элементами, использованными в его создании. То есть, иными словами, это не произведение, а некий вызов, который проблематизирует отношения между языком (словесное описание стула из словаря), картинкой (фото этого стула) и между самим предметом (собственно стул как стул). Это может быть очень интересно, это может быть провокативно, но, осмелюсь заметить, это уже не совсем искусство. Это упражнение с целью выяснения того, где пролегает граница искусства и какова природа искусства. Соответственно, мне кажется, что для описания такого рода объекта нужно уже не совсем искусствоведение. Как недавно сказал в одном интервью крупнейший русскоязычный апологет концептуализма Борис Гройс, «западный concept art тематизировал вопрос, что такое искусство, вместо того, чтобы производить и поставлять на рынок художественные ценности». Если важен концепт, чей «мессидж» составляет не то, что именно вам показывают, тогда показывать стало можно практически все, и в итоге самыми популярными художниками на западном рынке стали Дэмиэн Хёрст и Джеф Кунс [Слайды 5 и 6]. В данном случае имеет место ловкая смычка масскульта, поп-арта с концептуальным искусством. Безбрежное расширение искусства привело к тому, что сочинения о нем тяготеют к двум полюсам: или большие красочные coffee-table-книжки (сюда могут быть включены каталоги выставокблокбастеров), или совершенно зубодробительные, философические, неудобочитаемые дискурсы с обильным цитированием французских философов и непременного Вальтера Беньямина. Когда в актуальном искусстве утерян репрезентант, картина или скульптура (а он утерян, потому что мутировал в артефакты, комиксы, граффити, перфомансы, инсталляции, муляж, стеб), то в искусствоведении тем самым утерян объект. И искусствоведение превращается в «визуальные штудии» - это словосочетание (visual studies) все чаще прибавляют в название отделений и факультетов по изучению искусства на Западе. Если ранее искусствоведение с целью более тонкого и глубокого анализа «филологизировалось», т.е. привлекало контекстуальный нарратив разного рода (религиозно-философские тексты и тому подобные письменные источники), то сейчас искусствоведение «культурологизируется». А именно: совершает некоторые аналитические процессы для помещения артефакта (которым может быть и инсталляция, и блеклый, невыразительный живописный концепт, и законсервированное дерьмо в банке Пьеро Мандзони, и симулякры Такаси Мураками — самого популярного ныне художника, едва ли не затмившего Джефа Кунса со своей чередой выставок в Америке). Имея дело с такого рода текстами, искусствознание продуцирует некий поясняющий контекст, вносит такого рода объекты в какую-то более-менее произвольную таксономическую сетку, объявляя это объектом, существующим по ведомству той или иной культуры. В западном искусствоведении существует много историй искусства. Вполне официально действуют многие кафедры и институты историй (во множественном числе) искусства. Например, я имею честь принадлежать к институту, который занимается одной очень узкой, казалось бы, темой — японским искусством. Тем не менее Его официальное название: Sainsbury Institute for the Study of Japanese Arts and Cultures. То есть в одной и той же стране есть как бы много историй и много культур. Возвращаясь к Хёрсту, Кунсу и Мураками: Если взять некую произвольно выбранную таксономическую сетку, эти артефакты начинают читаться. Они читаются как некий невнятный визуальный текст, нуждающийся в словесных комментариях. Он может неплохо поддаваться прочтению, но при этом быть визуально весьма бедным. Другими словами, смотреть очень часто там не на что. В качестве примера можно привести картинки Мураками из его большущей серии под названием «Плоские» [Слайды 7 и 8]. В таком искусстве (по-русски оно почему-то называется «актуальным»), как правило, отсутствует эстетический элемент, т.е. то эмоциональное напряжение формы, которое, собственно, и делает некое высказывание произведением искусства. Это в наибольшей степени касается так называемого иронического искусства, будь то концепты или работа с визуальными медиа. В качестве примера можно привести достаточно популярную работу молодого сорокапятилетнего художника Дана Пержовски (Dan Perjovschi) из Румынии. Его выставка недавно прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Называется работа «What happened to US» [Слайд 9]. Остроумная идея или концепт: полоски американского флага, уподобленны полоскам жалюзи, куда заглядывает, разводя рукой эти полоски, любопытный робкий пришелец и смотрит, что же делается в Америке, за закрытыми жалюзи. (Дополнительный юмор вызывает двойное обыгрывание слова “US” – это и общеизвестное сокращение американского названия страны, и местоимение «мы» («нами») – т.е. «Что случилось с нами? Почему мы туда лезем?») А теперь подумаем о том, как бы аудитория отнеслась к такой картинке, если бы увидела ее в газете или каком-нибудь еженедельнике. Наверное, люди довольно хмыкнули бы и стали листать издание дальше. Другими словами, для восприятия современных объектов очень важен контекст, в который они помещены: это может быть заведомо музейная апробация качества, а может быть контекст фельетонногазетной ТВ-культуры, где, с большой долей вероятности, публика вовсе не заметит, что ей показывают произведение искусства, а не нечто иное. Далее, разумеется, имеет значение формат. Если подразумевается карикатура, то картинка должна быть махонькой, а эта вещь занимала огромную стену. Соответственно, если это нечто большое, значит важное, значит хорошее. И, конечно же, имеет значение еще, кто это изваял. В нашем случае Пержовски как художник постепенно приобретает известность, но все-таки еще не слишком популярен. А вот если бы под такого рода изделием написать «Баския» или «Сол Стайнберг» (очень популярный несмотря на то что умер десять лет назад, карикатурист из журнала «New Yorker»), то отношение к этому было бы еще более позитивное и даже восторженное, и толпа стояла бы перед этой стенкой еще дольше. Такое искусство можно назвать «фаст-артом» («быстрым искусством») по аналогии с фастфудом (Я не первый, кто это придумал. Первым был Джон Апдайк, который много писал о современном искусстве). Другими словами, это искусство, типологически изоморфное продукции Макдоналдса. Если следовать по ассоциативному ряду дальше, то за фастфудом следует понятие «джанкфуд» (даже не знаю, как перевести его на русский язык). Это выражение употребляет один из лучших, на мой взгляд, западных критиков и философов, занимающихся современным искусством, — Дональд Каспит. Он прямо говорит об «искусстве типа продукции Макдоналдса». Мне довелось месяц назад присутствовать на встрече (в Берлине, у художника Фре Илгена), где он повторил свое определение, причем несколько находившихся в комнате художников почему-то сильно обиделись. Хотя это действительно искусство для быстрого потребления. Прежде всего оно чрезвычайно популярно сейчас, потому что зритель или коллекционер перед ним не робеет, как перед старыми мастерами, а, говоря современным языком, мигом схватывает фишку и готов сосуществовать с таким фаст-арт в одном пространстве и платить за это большие цены. Я могу привести цитату из воспоминаний Владимира Сорокина, который в молодости тоже был концептуальным художником. Сорокин приводит один типичный, по его словам, разговор конца 1980-х: «Звонит Монастырский и говорит: — Вова, Рита [Маргарита Тупицына — Е.Ш.] делает выставку, надо тебе быстро сделать работу. — У меня как-то сейчас драйва нету, да и, так сказать, ради чего делать? — Как ради чего? Чтоб продать. А там буквально за неделю надо было что-то слепить. Я и говорю: — Ну как я так быстро? — Элементарно. Иди на помойку, возьми какую-нибудь деревяшку, железку. Прикрути железку к деревяшке, а на деревяшке что-нибудь напиши. — Например, «ОБОРОБО». — Во! Здорово! Напиши «ОБОРОБО». Выставишь, у тебя ее купят за 15000 долларов. Это очень характерно для периода той эйфории. Рынок». Но джанк-арт — продукт скоропортящийся, и вот сейчас в ситуации кризиса происходит очень заметное падение рынка предметов современного искусства, тогда как рынок старых мастеров стоит и даже немножко растет. Следующий момент. Фаст-арт и джанк-арт часто обслуживается фастартспециалистами — давно уже не искусствоведами. Их профессиональное наименование — куратор проекта, арт-консультант, медиа-критик или арттусовщик. Не случайно так называемое «актуальное искусство» избегает вообще слова искусство. По-русски стали говорить «арт», а не искусство, ибо в нем, как правило, отсутствует элемент искусности (в смысле métier) и элемент искуса (в смысле воздействия на эмоции, на подсознательное, на эстетические, извините за выражение, потребности). Если какой то искус и остается, то речь идет только о медийной раскрученности, или, в переводе на старый язык, славы. Соответственно искусствоведам стало нечем ведать. В такого рода материале есть много интересного для культуролога, который читает тексты и разного рода культурные коды в актуальном, пост- или постпостмодернистском текущем процессе и благодаря этому находит в современном обществе массу любопытного. Дело это большое, полезное и благородное, но сам объект анализа — уже не совсем искусство. Там может быть много всякого наворочено, но чего-то, скажем, желания любоваться или катарсической реакции, там нет. Актуальное искусство даже в своих лучших проявлениях — это индустриальным способом приготовленное супермолоко, позволю себе на последок такой образ. Молоко, в котором есть антиконсерванты, дополнительные витамины, немножко того и немножко сего для отдушки, молоко, которое не портится. Соответственно, оно нравится тем людям, коих им поили с детства. Но, как писала искусствовед и критик старого русского авангарда Лёля Кантор, у которой я этот образ с молоком позаимствовал, у людей постарше или у людей с менее инфантильными вкусами остается воспоминание о вкусе настоящего молока. О том, которое было когда-то. Просто молоко. Мне кажется, задача искусствоведения — напоминать о вкусе молока. Анализировать искусство, на которое можно и хочется смотреть, поскольку оно отвечает эстетической потребности глубинного чувствования. Вместе с тем искусствоведение нимало не должно чураться всякого рода медийных проектов. Но, читая и деконструируя указанные тексты, важно не упускать из виду, что далеко не всегда факт культуры является фактом искусства.