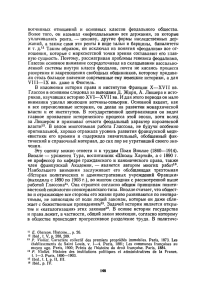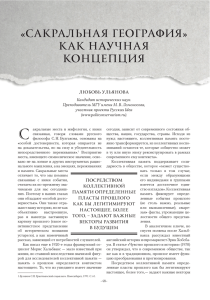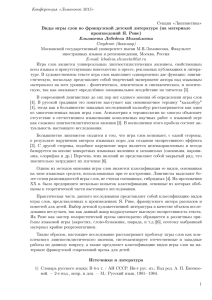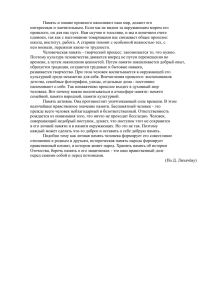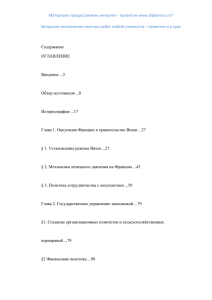Трубникова Н.В. История и память в бесконечном диалоге
реклама

УДК 930.1(44) Н.В. Трубникова История и память в бесконечном диалоге: дискуссии французских историков Поле западной историографии пересечено дебатами, которые совершенно иначе, чем несколько лет назад, обозначают сферу социальной ответственности историка, высвечивая критические рубежи современного ученого сознания и формулируя новые ориентиры профессии. Рассуждение об этом сложном, еще не приобретшем необходимую четкость императиве, который формулируется ныне в логике самого ремесла, но также неизбежно имеет этическую, или даже политическую окраску, может быть привязано к нескольким направлениям исследований, существующим во Франции. Последние двадцать лет бытия исторической науки отмечены появлением «истории памяти». Ее формирование есть следствие внутренних эволюций самой дисциплины, в первую очередь, истории ментальностей: история репрезентаций прошлого является одной из ипостасей истории репрезентаций вообще. Однако история памяти по-новому оценивает связи между историей, памятью и национальной идентичностью, она является важным ресурсом обновления исторических изысканий, найдя воплощение в одном из наиболее сильных историографических проектов современной Франции – 7-томной серии «Места памяти», редактором которой выступил Пьер Нора [1]. Еще в 1978 году Нора в своей статье для энциклопедии «Новая история» констатирует быстрый рост отдельных видов коллективной памяти, проявляющий себя в деятельности групп, которые стремятся к социальному самоутверждению и выражают озабоченность будущим через искусственное повышение ценности прошлого, которое до того момента не было пережито как таковое: «История пишется отныне под давлением коллективных видов памяти». Тема нашествия мемориальных практик во французском обществе мало помалу стало топосом исторической науки 1980-1990-х годов; «время корней», потом мода на генеалогию, год «национального достояния», мания исторических юбилеев, умножение музеев, страстное желание «сохранить все» представляются как совокупность доказательств этого нашествия памяти. Кризис «национального французского романа», созданного Лависсом, с точки зрения авторов «Мест памяти», хронологически проявился в утверждении после 1968 года «альтернативных памятей» отдельных регионов, рабочих, «устной» истории, вызывая к жизни воспоминания «безымянных», забытых или репрессированных групп, не оставивших письменных свидетельств, и формируя историю, «видимую снизу». Косвенно в этой ревизии национального сознания и формирования «момента-памяти» участвовали и Анналы, длительное время пренебрегавшие в своей программе национальными и политическими сюжетами. Важной особенностью утверждения истории памяти стало ее превращение в важнейший компонент коллективных репрезентаций группы, которые всегда зависят от нужд и чаяний настоящего. В этом смысле, любая история памяти есть история использования прошлого, в связанном с ним настоящем. Данное обстоятельство и формирует цель «Мест памяти»: поставить стихийное и пристрастное использование прошлого под контроль профессиональных историков. При широком разнообразии тем, представленных в серии, понятием-матрицей здесь является «место памяти». Проект замышлялся изначально как создание перечня мест, где воплотилась национальная память, мест вполне конкретных и вещественных, но также абстрактных и интеллектуально конструируемых, образующих совокупность символических элементов памяти сообщества. С 1984 по 1992 годы такая направленность серии постепенно менялась, проект можно стало представить уже не только как программу эмпирического исследования символических объектов, но и как принципиально иной способ писать историю, приложимый в пределе к любому историческому объекту, который Пьер Нора и Марсель Гоше называют «символической историей «во второй степени» [2,3]. Эта символическая история особым образом осмысляет природу изучаемых объектов. Для Нора, места памяти не имеют соответствий в действительности. Или скорее, они сами «являются собственными референтами, знаками, которые отсылают только к себе, знаками в чистом состоянии». Франция «Мест памяти» это, прежде всего, реальность символическая. Так, например, май 1968 года – время студенческой революции - для Нора, есть «только чисто символическая результирующая» легендарного всех революций. Уточняя свою концепцию символического, Нора поясняет: «Место памяти предполагает стыковку двух порядков реальности: реальности осязаемой и уловимой, иногда материальной, и реальности чисто символической, носительницы истории». Символическое - это не дополнительный этаж к классическим подразделениям экономики, социального и ментального, поскольку любая реальность всегда символична. Эта концепция исторического объекта выходит на историю не событий самих по себе, но на историю «постоянного использования событий и злоупотребления ими» в меняющемся настоящем, историю «во второй степени». История «момента-памяти», с точки зрения Нора, передает и новый возраст самого исторического сознания, отражая смену режима историчности, изменение связи социального со временем. Кризис национального мифа спровоцировал разрыв преемственности исторического времени, которое ранее выражало понятие прогресса. История «в первой степени» (позитивистская) отдавала себе отчет в этой преемственности. Ныне же единство прошлого, настоящего и будущего раскололось. Будущее стало непредсказуемым и неукротимым, «бесконечно открытым, и в то же время, без перспектив». Прошлое отныне нам дано как радикально другое, непроницаемое: «оно есть мир, от которого нам никогда не отделиться». Современность превратилась вдруг в «растянувшееся настоящее», и только она нагружена смыслом временнóго опыта, как если бы «единство прошлого и будущего основывалось бы на солидарности настоящего и памяти» [4]. Тем самым Нора обосновывает необходимость вовлекать историю в процесс воссоздания связности исторического времени, разорванной под воздействием шока памяти. Нора возвращается в конце «Мест памяти» к классической оппозиции между памятью – обладающей силой формировать или, напротив, деформировать идентичности, и историей, призвание которой – объективно анализировать и обобщать. Провозглашая естественность связи между памятью и идентичностью, автор предлагает представить память «в прозе истории», преодолевая кризис национального сознания. Формулировка Нора по этому поводу удивительно назидательна: от историков требуется «адаптироваться к трансформации национального чувства, которое «диктует непреложно возвращение к национальному». Собственно, именно этот момент проекта подвергается наибольшей критике: ведь отталкиваясь от утратившего силу «французского национального романа», Нора предлагает продолжить его традицию сакрализации нации, но при этом явно переоценивает степень дробности национальной памяти и игнорирует ее государственные, «республиканские» основания. Эта трансформация национального сознания усилиями истории, одновременно констатируемая и желаемая, формулируется Нора одной фразой: переход от агрессивного национализма XIX века к «национализму влюбленному», к «усилению нации без национализма». Нора связывает произошедший поворот коллективного сознания с экономическими, политическими и социальными изменениями в стране «второй французской революции»: потерей колониальных владений, началом экономического кризиса, утратой крестьянских и христианских традиций, которых во Франции придерживались дольше, чем в большинстве других стран; истощением старого «рабочего» мира и революционной идеи, двойным ослаблением голлизма и коммунизма, переходом от большой государственной и империалистической мощи к средней демократической. Симптомом формирования нового национального сознания для Нора становится переход, начиная с середины 1970-х годов, от национального к «унаследованному». Эволюция юбилеев исторических дат во Франции выявляет утверждение «мемориальной» модели управления прошлым вместо модели «исторической». Показателем подобных изменений становится и жаркая дискуссия о программах преподавания истории в средней школе, развернувшаяся во второй половине 1990-х годов[5]. В ней обсуждается ответственность структуралистской и антисобытийной «новой истории» за ослабление преподавания традиционных исторических основ: хронологии, истории великих личностей, и истории в национальном масштабе. Новые, более традиционалистские программы исторического образования стремятся привить детям чувство личной принадлежности к своей социальной группе и нации в целом. С другой стороны, тема памяти, а вместе с нею и тема профессиональной ответственности историка, приходит также в кадре «истории современности», став одним из последствий того психологического шока, какой испытало французское общества от возвращения «прошлого, которое не проходит». Память о недавнем становится все более автономной по отношению к истории, распадаясь на личностные и групповые представления об отдельных эпизодах национального прошлого, которые ставят под сомнение общую картину официальной национальной истории. Такими примерами, отражая кризис национальной идентичности, становятся страницы истории Франции, претерпевшие ранее «нивелировку» нелицеприятных исторических подробностей. Наибольшее внимание исследователей в этом отношении привлекает режим Виши. За точку отсчета в ревизии наследия Виши может быть принята книга «Франция Виши» американского историка Роберта Пэкстона [6], который показал, что правительство Петэна искало сотрудничества с Германией и развивало собственную политическую и идеологическую линию, в том числе – антисемитизма, которая отнюдь не была вызвана немецкой оккупацией. Книга произвела сильное воздействие на сообщество французских историков, и привела к переоценке преобладающей в историографии точки зрения, которая делала из Виши « послушную руку фашизма». Одновременно переоценивался весь прошлый опыт видения Оккупации, в котором традиционно на первый план выдвигались страдания нации или опыт Сопротивления. Поворотным в этом отношении стал в 1971 году фильм Марселя Офулса «Грусть и жалость», представивший Францию периода оккупации страной, переживавшей гражданскую войну. Центральное место здесь занимает вопрос об участии Виши в Холокосте, вызванный пробуждением еврейской идентичности, которая не сводится к политическим усилиям какой-либо отдельной страны и утверждает свою память о геноциде, создавая дополнительный импульс для новых исследований прошлого Виши. В 1980 году историк-антиковед Пьер Видаль-Наке критикует в журнале «Эспри» «ревизионистские» устремления прессы, в которых с начала 1970-х годов находит место настоящая компания по пересмотру реальности геноцида, учиненного нацистами против евреев и цыган, и отрицающая, в частности, существование газовых камер. Отказываясь спорить с этими фальсификаторами, - «негационистами» - он призывает историков раскрывать «анатомию лжи» и изобличать «убийц памяти» [7]. Именно данному руслу соответствует нашумевшая книга Анри Руссо «Синдром Виши», которая стала существенным этапом в утверждении истории памяти. Автор анализирует различные формы выражения и векторы коллективной памяти Виши и предлагает периодизацию этой памяти с 1944 года, с выделением четырех основных фаз; «Неоконченная скорбь» (1944-1954); «Вытеснения» (1954-1971); «Расколотое зеркало» (или «Возвращение вытесненного») (1971-1974) и « Одержимость» после 1974 года. Автор пишет о том, что трудные моменты прошлого являются зачастую объектами политического манипулирования. «Долг памяти» трансформировался в «светскую религию», стал систематическим предприятием социального самоутверждения меньшинств (сексуальных, религиозных или этнических) и обвинений в адрес историков. Эта экспансия памяти, которая касается, в частности, еврейской памяти геноцида, вынуждает Руссо написать вместе с Эриком Конаном книгу «Виши: прошлое, которое не хочет проходить» (1994), обозначая дистанцию сообщества историков по отношению к этому дрейфу памяти. Для Руссо современный «долг памяти» превратился в «воинственность ретроактивной инквизиции», архаический ритуал, который разоблачает «официальных» историков, якобы препятствующих доступу в «запрещенные» архивы из боязни себя скомпрометировать. В то же самое время, подчеркивает Руссо, во Франции 1990-х соучастие Виши в «Окончательном Решении» признано, исторически исследовано и даже преподано обществу. Такой сакрализации памяти Руссо противопоставляет критическую функцию истории, диктующую необходимость для историка держать дистанцию от политических, общественных и личностных ставок, которые скрываются позади долга памяти. В книге «Злоупотребления памяти» [8] Цзетан Тодоров с беспокойством отмечает процесс «виктимизации» различных сообществ, подвергавшихся в прошлом массовым убийствам. Обращение к памяти массовых преступлений показывает, согласно автору, стремление приобрести статус жертвы, социально и символически выгодный. В той же перспективе Жан-Мишель Шомон анализирует «конкуренцию жертв» в средах памяти: депортированные евреи против депортированных деятелей Сопротивления, евреи против цыган, гомосексуалисты против оппозиционных политиков. Дебат об уникальности «Окончательного Решения» располагается, по Шомону, в сердце этой групповой конкуренции по утверждению своей жертвы «как большей жертвы, чем другие», но которая объясняется преимущественно как битва за социальное признание. Поль Рикер предлагает выйти из данной оппозиции способом, который признает за памятью более позитивную функцию по отношению к истории. Если история проводит критическую работу по отношению к памяти, но делает это слишком услужливо, память все же позволяет историку превзойти чисто ретроспективное видение прошлого и отыскать прошлое как «настоящее, которое уже было». В трудах философа часто повторялась идея дефатализации прошлого. Именно память дает историку возможность вспомнить, что люди прошлого обладали «открытым будущим». Автор не желает, следовательно, противопоставлять верность памяти и правду истории, но помещает историка в диалектику двух этих дополняющих видений, которые взаимоусиливаются. Нет верности памяти без исторической правды и нет истории без ссылки на память, которая позволяет обнаружить «несдержанные обещания прошлого». То, что может придать цельность истории, - это сочетание императива исторической истины, этического императива, представленного верностью памяти, и императива действия, выраженного в конкретном исследовании [9]. Однако рассуждениями об идейной самостоятельности и гражданском противостоянии при режиме Виши дискуссия не исчерпывается. Множатся противоречия и полемики вокруг великих фигур Сопротивления и всей эпохи Оккупации, создавая другой «банк доказательств» взаимосвязей между историей и памятью. Именно вышеупомянутый историк Пьер Видаль-Наке отвергает как исторически несостоятельные обвинения против Жана Мулена, выдвинутые первоначально в ходе журналистского расследования, о том, что он был связан с советской разведкой. В 1997 году в дебаты, организованные газетой «Либерасьон» включились герои Сопротивления Люси и Раймон Обрак, которые также свидетельствовали по делу и пожелали напрямую опровергнуть все обвинения перед лицом историков и своих соратников. Оценивая данный инцидент, научное сообщество размежевалось. Одни рассуждали о том, что историк не должен смешивать функции исследователя и обвинителя, и что в пылу данной дискуссии ученые утратили профессиональные ориентиры. Напротив, другие историки настаивали, что подобные дебаты вполне соответствуют практике научных диалогов. Руссо, непосредственно участвовавший в споре, отвергал обвинение сопротивленцев в измене как беспочвенное, но отметил в поведении супругов Обрак момент моральной спекуляции опытом прошлого. Невозможно создавать научную историю Сопротивления, желая одновременно законсервировать его нравоучительную ценность и сохранить его как образец героической памяти, так же, как вообще нельзя писать историю « с целью отстоять ту или иную ценность, написание истории само есть ценность в себе» [10]. Эта связь между написанием истории и этическим суждением также располагается в центре международных историографических дебатов вокруг Холокоста. Во Франции живо обсуждались и освещались в прессе «битва немецких историков» [11], которая развивается в Германии в конце 1980-х и связывает воедино вопросы национальной немецкой идентичности, памяти и интерпретации «Окончательного Решения». Немецкий философ Юрген Хабермас в 1986 году оспорил репрезентацию прошлого, созданную усилиями Эрнеста Нолта, Микаэля Стермера и Андреаса Хилбругера, которые предложили пересмотреть традиционные интерпретации нацизма и покончить, наконец, с «непреходящей виновностью» Германии. Вновь созданное прошлое Германии «релятивизирует» историю нацизма, с тем, чтобы виновность немцев не являлась бы больше единственной: преступления фашистского режима, и в первую очередь, «Окончательное Решение», должны быть сопоставлены с другими чудовищными массовыми преступлениями, совершенными вне Германии, в частности, в СССР. Острие полемики было направлено на утверждения Нолта о том, что преступления коммунизма хронологически были совершены ранее, и что преступления Гитлера имели «превентивный» характер, став, до некоторой степени, «рациональным» ответом на угрозы разрушения, которыми грозили Германии СССР и евреи. Следовательно, Гулаг, «классовый геноцид», есть явления «того же порядка, что и расовый геноцид». Большинство историков расценивают такую трактовку истории нацизма как попытку банализации геноцида. Рефлексию о профессиональной ответственности историка подпитывает также импульс, пришедший из бурно прогрессирующей в последние десятилетия социологии знания. Данное русло исследований, развиваемое усилиями целой плеяды западных социологов [12], заставило историков переоценить опыт своей интеллектуальной среды, исходя из социально обусловленных механизмов, диктующих напряженные и всегда конкурентные отношения «знания», «памяти» и «власти». Целый ряд публикаций во Франции [13, 14, 15, 16] второй половины 1990-х годов посвящены поиску новых оснований «ремесла историка» и опровержению пафоса «официальных» историографий, представляющих развитие профессии как рациональное поступательное движение к торжеству Разума и Прогресса, и ретуширующих в ней моменты стихийности, политической ангажированности или обыкновенной человеческой непорядочности. Естественным объектом анализа в этой шкале исследований, где наглядно испытывается «прочность» научных убеждений и соответствие декларируемых принципов реальным поступкам, становятся ситуации личного выбора и поведение интеллектуалов перед лицом экстремальных обстоятельств. И в этом случае оккупированная Франция остается самым употребимым историческим контекстом, на фоне которого хорошо просматриваются траектории судеб многих известных людей. Франция времен немецкой оккупации действительно представляет собой хороший пример того, сколь неопределенны в действительности отношения ученого и гражданина перед лицом реальной политической ситуации. И в самом деле: должен ли настоящий ученый сохранять дистанцию по отношению к современным ему событиям, что есть необходимое условие всякого научного дискурса, или, как патриот и гражданин, он обязан активно вмешиваться в происходящее, делая то, что ему подсказывает совесть? В поисках ответов, французские историки часто апеллируют к памяти отцов-основателей знаменитого движения Анналов – Люсьена Февра и Марка Блока, отмечая разность их интеллектуального выбора перед лицом Оккупации. Одной из первых публикаций на подобную тему стала статья Нэтэли Зэмон Дэвис «Анналы», Марк Блок и Люсьен Февр во время немецкой оккупации» [17]. Речь в ней шла о сложном периоде в истории журнала, когда, делая выбор между закрытием «Анналов» и его продолжением в условиях немецкой цензуры, Люсьен Февр выбирает последнее. Он бы вынужден попросить своего друга и совладельца издания - Марка Блока полностью отказаться от своих прав, поскольку такова была единственная возможность избежать конфискации журнала по антиеврейскому законодательству. В итоге Люсьен Февр продолжил «миссию Анналов», избегая публикаций, связанных с трактовками современных событий, а Марк Блок, потерявший пост в Сорбонне, обосновался с семьей в неокуппированной зоне, вступил в ряды Сопротивления и был расстрелян гестапо в июне 1944 года. В 1990-х годах, в связи с возвращением в активное обсуждение отмеченных выше тем, упоминания о Марке Блоке во французской историографии приобретают почти эпический размах. Очень часто Марк Блок цитируется в связи с проблематикой «ремесла историка», о котором никто по-прежнему не написал лучше, но также в виду новых, политических изменений, потрясающих современную Францию. Образ Марка Блока качественно трансформируется, "в середине 1990-х годов кристаллизуется его превращение в гражданскую фигуру, поскольку он меняет регистр, покидая исторические словари, тень амфитеатров, ссылок внизу страницы ради колонок "Monde", "Nouvel Observateur", и "Dernieres Nouvelles d'Alsace" [18] и собирая воедино несколько политических озабоченностей современной Франции. Первая из них оказалась связана напрямую с проблемой франко-германского сотрудничества в частности и европейской интеграции в целом. 6 мая 1994 года две трети совета администрации только что открытого университета гуманитарных наук в Страсбурге проголосовали против присвоения университету имени Марка Блока. Никто из них не мотивировал свой отказ, но стало известно, что накануне голосования распространялись анонимные листовки антисемитского содержания [19]. Ассоциация Марка Блока обратилась в суд, университет в Страсбурге при участии студентов и преподавателей в итоге получил имя ученого, а на страницах газет развернулась дискуссия. "Маленький человек в круглых очках" раздражает спокойствие тех, - писала газета "Monde", - кто желает построить франко-германское сотрудничество на забвении". Далее последовала волна наименований в честь Блока исследовательских центров в Германии и США, улиц и школ во Франции. Эта "жестокая блокомания" проходила при минимальном участии ассоциации Марка Блока, занимающейся изучением и распространением его интеллектуального наследия, став результатом стихийно возникшего сразу в нескольких странах общественного поветрия. Затем Марк Блок стал символом политической организации, заявившей о себе в марте 1998 года, которая призвала сплотиться всех сторонников "республиканского права" перед угрозой глобализации и политического разложения, чреватых новым "странным поражением" Франции. Рассуждая о конформизме Люсьена Февра и героизме Марка Блока, современная Франция ищет модель социального поведения, достойную стать примером. "И Марк Блок, очевидно, находится на пересечении этих дорог, человек без родины, погибший как партизан, абсолютный ученый, покинувший армию критики ради критики армий, ... примиривший в себе ученого и гражданина"[20]. Однако и здесь приходится констатировать момент политической несвободы, всегда избирательной в аргументах. Можно согласиться с выводом Сергея Фокина, рассуждающего о жизни Жана-Поля Сартра в период оккупации [21], что «сопротивление» и «коллаборационизм» как тип поведения интеллектуала, встречались в реальных обстоятельствах крайне редко, выступая зачастую в последующих интерпретациях произошедшего как орудие сведения каких-то политических счетов. В этом отношении этической нормой была, скорее, стратегия поведения, выбранная Люсьеном Февром. Так какой же, суммируя вышенаписанное, видится современным французским историкfм, «идеальная» профессиональная идентичность? Судя по характеру различных по тематике дебатов, идеальный историк рубежа ХХ-ХХI веков по-прежнему ориентирован на профессиональные стандарты, заданные некогда «Апологией истории» Марка Блока. Историк должен быть толерантным и не смешивать в работе функции исследователя и прокурора, он несет ответственность за историческое сознание своей эпохи, и тем самым, за перспективы развития общества. Но в состоянии ли само сообщество историков, живущее по тем же законам, что и общество в целом, выбрать действительно верный путь, балансируя между научным призванием и долгом памяти? Примечания 1. Nora Pierre (dir.), Les lieux de mémoire, 7 vol., Paris, Gallimard. T.I, la République, 1984; t. II (3 vol.), La Nation, 1986; t. III (3 vol.), Les France, 1992. Rééd. Quarto/Gallimard, 3 vol. 1997 2. Nora Pierre, “Comment écrire l’histoire de France”, dans Les lieux de mémoire, t. III, Les France, vol. 1, “Conflits et partages”, 1992, Paris, Gallimard. P. 24 3. Gauchet Marcel, “L’élargissement de l’objet historique”, dossier “Inquiétudes et certitudes de l’histoire”, Le Débat, 1999, №103, janv.-fév. 4. Nora Pierre, “L’ére de la commemoration”, dans Les liuex de mémoire, t. III, Les France, vol. 3, “De l’archive á l’emblème”, Paris, Gallimard, 1992. P. 1009 5. Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, Les courants historiques en France. – Paris, Armand Colin, 1998. P. 266-267 6. Paxton Robert, 1973, La France de Vichy 1940-1944, Paris, Éditions du Seuil, 1973. Rééd. Points-Seuil, 1974 7. Vidal-Naquet Pierre, Les assassins de la mémoire. “Un Eichmann de papier” et autres essays sur le revisionisme, Paris, La Découverte (recueil de textees publiés entre 1980 et 1987). Rééd. Paris, Poins-Essais, 1995 8. Tzetan Todorov, Les abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995 9. Ricoeur Paul, « Histoire er mémoire, dans De Baecque Antoine et Delage Christian (dir.), De l’histoire au cinema, Bruxelles, Éditions Complexe. 10. Henry Rousso, La hantise du passé, Paris, Les edition Textuel, 1998. P. 137 11. Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, Les courants historiques en France. – Paris, Armand Colin, 1998. P. 270-271 12. Коркюф Ф., Новые социологии. – Спб, 2002. 13. См., например, Noiriel Gérard. Sur la “crise” de l’histoire. – Paris: Ed. Belin, 1996, 348 p. 14. Noiriel Gérard. Le statut de l’histoire dans Apologie pour l’histoire. //Cahiers Maec Bloch. Bulletin de l’association Maec Bloch. – 1997, № 5. 15. Passés récomposés. Champs et chantiers de l’Histoire. /Dirigé par Jean Boutier et Dominique Julia. – Paris, Ed. Autrement, 1995. 16. Prost Antoine. Douze leçons sur l'histoire. - Paris: Editions du Seuil, 1996. 17. Н.З. Дэвис, «Анналы», Марк Блок и Люсьен Февр во время немецкой оккупации». – Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы Анналов. – М., «Наука», 1993. С. 166-179. 18. Dumoulin Olivier. Marc Bloch. - Paris: Presses de la formations nationales des sciences politiques, 2000. P. 43 19. Cahiers Marc Bloch. Bulletin de l’association Marc Bloch. – 1995, n° 2. P. 42 20. Dumoulin Olivier. Marc Bloch. - Paris: Presses de la formations nationales des sciences politiques, 2000. P. 49 21. Фокин С. Экзистенциализм – это коллаборационизм? Несколько штрихов к портрету Жана-Поля Сартра в оккупации. //Новое литературное обозрение, № 55.