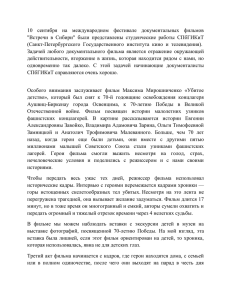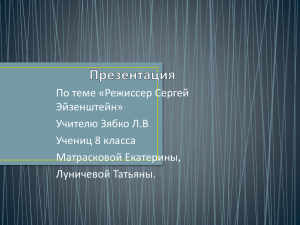Мексиканские фантазии: ( История создания и последующие приключения во времени и
реклама
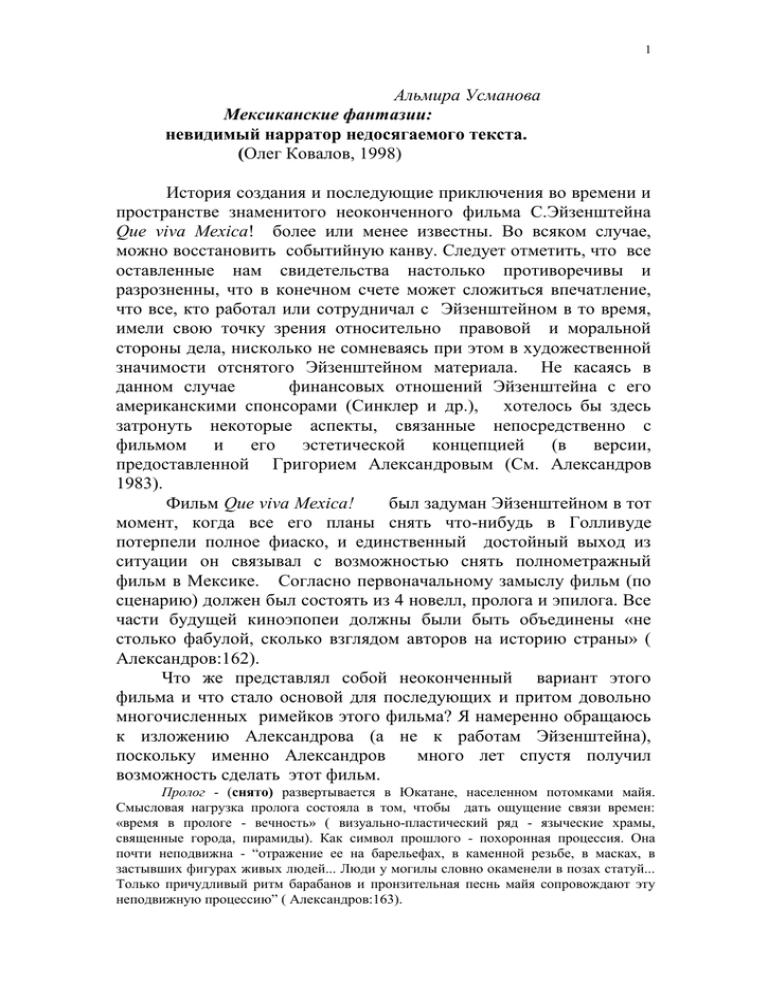
1 Альмира Усманова Мексиканские фантазии: невидимый нарратор недосягаемого текста. (Олег Ковалов, 1998) История создания и последующие приключения во времени и пространстве знаменитого неоконченного фильма С.Эйзенштейна Que viva Mexica! более или менее известны. Во всяком случае, можно восстановить событийную канву. Следует отметить, что все оставленные нам свидетельства настолько противоречивы и разрозненны, что в конечном счете может сложиться впечатление, что все, кто работал или сотрудничал с Эйзенштейном в то время, имели свою точку зрения относительно правовой и моральной стороны дела, нисколько не сомневаясь при этом в художественной значимости отснятого Эйзенштейном материала. Не касаясь в данном случае финансовых отношений Эйзенштейна с его американскими спонсорами (Синклер и др.), хотелось бы здесь затронуть некоторые аспекты, связанные непосредственно с фильмом и его эстетической концепцией (в версии, предоставленной Григорием Александровым (См. Александров 1983). Фильм Que viva Mexica! был задуман Эйзенштейном в тот момент, когда все его планы снять что-нибудь в Голливуде потерпели полное фиаско, и единственный достойный выход из ситуации он связывал с возможностью снять полнометражный фильм в Мексике. Согласно первоначальному замыслу фильм (по сценарию) должен был состоять из 4 новелл, пролога и эпилога. Все части будущей киноэпопеи должны были быть объединены «не столько фабулой, сколько взглядом авторов на историю страны» ( Александров:162). Что же представлял собой неоконченный вариант этого фильма и что стало основой для последующих и притом довольно многочисленных римейков этого фильма? Я намеренно обращаюсь к изложению Александрова (а не к работам Эйзенштейна), поскольку именно Александров много лет спустя получил возможность сделать этот фильм. Пролог - (снято) развертывается в Юкатане, населенном потомками майя. Смысловая нагрузка пролога состояла в том, чтобы дать ощущение связи времен: «время в прологе - вечность» ( визуально-пластический ряд - языческие храмы, священные города, пирамиды). Как символ прошлого - похоронная процессия. Она почти неподвижна - “отражение ее на барельефах, в каменной резьбе, в масках, в застывших фигурах живых людей... Люди у могилы словно окаменели в позах статуй... Только причудливый ритм барабанов и пронзительная песнь майя сопровождают эту неподвижную процессию” ( Александров:163). 2 Сандунга - воспоминание о Мексике дофеодальных времен. Ее герои - жители поселка, расположенного в джунглях провинции Техуантепек... Здесь не ведают, что такое время... Сонный шелест пальм” (снято). Магей - действие разворачивается в штате Идальго, на старой хасиенде Тетлапайак ( См.: Александров: 164). “У подножия огромных вулканов растет на пустынной земле крупный кактус - магей. Сок магея идет на изготовление индейского напитка - пульке. Белый, как молоко, этот хмельной напиток, дар богов, согласно легендам и поверьям, приносит забвение всех горестей, воспламеняет страсти и часто служит причиной того, что люди, не задумываясь, выхватывают револьверы из кобуры”. Пеоны поют песню “Эль-Алабадо”. Закутавшись в сарапе, держа сомбреро в руках, они выходят на кактусовые поля высасывать сок магея, разрезанного острыми ножами. За их трудом наблюдают чаррос - личная охрана помещика. Главные персонажи этой новеллы пеон Себастьян и его невеста Мария. Согласно традиции, Себастьян должен отвести свою нареченную в хасиенду, в знак уважения к хозяину. Хасиендадо - хозяин благосклонно беседует с Марией. В это время приезжает дочь старика Сара, с двоюродным братом. Пока хозяин приветствует своих гостей, забытая всеми Мария становится жертвой хмельного гостя. Обеспокоенный ее долгим отсутствием Себастьян, пытается проникнуть в дом. После неудачной попытки он призывает на помощь своих товарищей. Возникает стихийный бунт. В результате повстанцы вынуждены отступить. Их преследуют охранники во главе с родственниками хозяина. В перестрелке погибает Сара. Убиты также некоторые друзья Себастьяна. «Пули со свистом впиваются в мясистые листья, и, сок, как слезы, стекает по стволам. В поле магея, где протекала жизнь, любовь и труд пеонов, Себастьяна и двух его товарищей настигает мученическая смерть». Мария оплакивает своего возлюбленного (снято). Фиеста : время действия - до революции 1910 года. Все напоминает об эпохе испанского колониализма. «Колоннады, церковные алтари в стиле испанского колониального барокко, превращающего камень в кружево. Под стать этому и изощренность изобразительной стороны, мизансцен и всей композиции “Фиесты”. Испанская архитектура, костюмы, бой быков, романтическая любовь, ревность, коварство, легкость, с которой южане пускают в ход оружие, - все это есть в третьей новелле». (снято) Солдадера - военная жизнь после революции 1910 года. Солдадеры - солдатские жены. История Панчи, сопровождающего в военных походах вместе с другими женами своего мужа Хуана. Рождение ребенка и смерть Хуана происходят почти одновременно. (не снято) (167 - 169) Эпилог - время и место действия : современная Мексика. «Заводы, железнодорожные пути, гавани... Генералы, инженеры, летчики, шоферы, студенты, агрономы, дети» - все то, что создает облик Мексики 1930-х. Все это сменяется пляшущей смертью - черепа, скелеты. Это традиционный карнавал - Калавера (День мертвых). В этот день мексиканцы вспоминают прошлое и выказывают свое презрение к смерти. Мертвые считаются живыми, а живые мертвыми. Фильм начинается показом смерти, ... кончается же он победой жизни над смертью и над грузом прошлого. Веселый индейский парнишка осторожно снимает с лица маску смерти и улыбается ослепительной улыбкой. Это символ новой мужающей Мексики. ( Александров: 170) (снято) Таков был замысел Эйзенштейна, которому так и не суждено было осуществиться. Александров отмечает, что сценарное либретто фильма было опубликовано на Западе еще в начале 30-х гг. в журнале “Экспериментальное кино”, когда кинематографическая общественность прилагала усилия для 3 возвращения Эйзенштейну его фильма. Когда стало ясно, что снять фильм целиком не удастся, единственной целью Эйзенштейна было вернуть хотя бы то, что было уже готово. Он не раз говорил, что даже из того, что есть, может получиться хорошая монтажная версия (что, собственно, и пытались осуществить впоследствии все те, кто имел доступ к этому материалу). Следует отметить в связи с этим, что помимо мексиканского варианта сценария существует написанный Э. в 1932 году сценарий с расчетом на снятый материал - две новеллы (Сандунга и Магей) плюс фрагменты Фиесты в качестве связующего материала. К сожалению, он так и не увидел больше Que viva Mexica!, хотя продолжал размышлять об этом фильме. Примечательно, что в 1947 году (за год до смерти) Эйзенштейн написал “Послесловие” к фильму. Александров в своих воспоминаниях приводит несколько примеров того, как эксплуатировался неоконченный фильм Эйзенштейна вследствие попыток Синклера и его партнеров окупить хотя бы часть затрат из вложенных в этот проект средств. 1933 год - на “Метро-Голдвин-Мейер” Солом Лессером был смонтирован фильм “Буря над Мексикой” (на материале “Магея”) (175). Эпизоды массовых революционных сцен были использованы в “Вива вилья”. Сцены боя быков - в комедии Эдди Кантора. 1939 год - Мэри Ситон сделала фильм “Место под солнцем” на основе 6000 метров оригинального материала. 1942 год - торговая фирма “Белл и Хауэлл” выпустила “Новую мексиканскую симфонию” (шесть одночастных короткометражек) (176). Наконец, когда материал вернулся в СССР в 1970-х гг., Александров предпринял (первую и последнюю) попытку реализовать первоначальный замысел Эйзенштейна. В 1979 году его версия была представлена на 11 Международном Московском кинофестивале. Александров счел возможным «озвучить» фильм текст читал С.Бондарчук, музыка была написана Ю.Якушевым. ( Александров:179). Рискну предположить, что существовали и некоторые другие версии на основе оригинального материала, однако предметом моего анализа является самая последняя интерпретация Que viva Mexica!, а именно - Мексиканские фантазии (реж.Олег Ковалов, музыка Саввы Маренкова, 1998). Последняя попытка сделать Que viva Mexica!, «как если бы именно так» Эйзенштейн и собирался снять свой фильм, была предпринята Александровым. Если учесть, что Александров был одним из трех участников мексиканской одиссеи, а, кроме того, что 4 Эйзенштейн оставил несколько вариантов сценария, рисунки, наконец, теоретические работы, то в каком-то смысле можно согласиться, что его фильм довольно близок к тому, что могло бы получиться в свое время. После того, как его версия была канонизирована (чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить копии фильма, имеющиеся в различных западных видеотеках и магазинах - иногда на них даже не стоит имени Александрова: предполагается, что это и есть «подлинный» Эйзенштейн ), никто больше не вспоминал о возможности сделать другой фильм на основе того же материала. В этом контексте фильм Ковалова - не просто единственный в своем роде за последние 30 лет; он намеренно вызывающ, оспаривая «классический канон» (который с таким трудом и так поздно утвердился) и подтверждая «иконокластическую» репутацию режиссера. Не пытаясь анализировать авторские интенции (и потому, что текст имеет собственную интенциональность, и потому, что идея авторства здесь скомпрометирована), я все же хотела бы отметить, что сравнивать детальным образом версию Ковалова с фильмом Александрова в данном случае не имеет особого смысла - у них изначально разный статус и отличные интенции: Ковалов самим фактом своего фильма отрицает идею раз и навсегда определенного авторства, кто бы на это не претендовал - Эйзенштейн, Александров или сам Ковалов. Виртуальный статус Que viva Mexica! - совокупность отснятых кадров, не «знавших» авторского монтажа - вынуждает искать приемлемую форму материализации и последующей доступности обычному зрителю. Причем, доступности не в качестве музейного экспоната, а в качестве «still-alive» культурного текста. В этом плане теоретически допустимо любое препарирование исходного материала, если это способствует превращению неоформленной субстанции в текст ( и более прозаически - в продукт, который может быть «выставлен», продан, потреблен). Очевидно, что в любом случае о-формление этого материала предполагает определенную форму наррации. Ковалов, не избежав соблазна сделать еще один вариант Que viva Mexica!, тем не менее преодолел соблазн придать исходной субстанции видимость аутентичности, намеренно обнажая сделанность фильма и присутствие нарратора. Собственно, именно способ повествования и весьма двусмысленная позиция Нарратора в этом фильме и являются предметом моего анализа так же, как проблема де-онтологии фильмического текста. Не-фильм Эйзенштейна - своего рода «недосягаемый текст», используя терминологию Р.Беллура, но, кроме того и «открытое 5 произведение» - если прибегнуть к буквальному значению этого термина в интерпретации У.Эко. Давая определение «открытому произведению», Эко разграничивал понятия завершенности и открытости. «Открытое произведение» - это завершенная и закрытая форма, утверждающая открытый результат благодаря способности текста стимулировать различные интерпретации (Эко, 1989:4). То есть «открытость» произведения предполагает разнообразие рецепции как результат текстуальных стратегий. В то же время существуют произведения, «открытые» в более ощутимом смысле, которые полагают свободу реципиента и неограниченность интерпретаций в связи с незавершенностью и неорганизованностью самого текста (work-in-movement). Иногда - как в случае с «мобилями» А.Колдера - зрительское участие по «доработке» предполагается самим автором, в ряде же случаев (на примере Que viva Mexica! в том числе) - мы имеем дело, скорее, с историческим и культурным парадоксом, не имеющим никакого отношения к авторским намерениям, что особенно характерно для современных медиа - я имею в виду традицию использовать уже существующие тексты на правах remake, retake и другие способы завершения и закавычивания исходного текста одновременно. Парадоксальным образом (впрочем, парадоксальным лишь в модернистской парадигме), обращаясь к различным версиям Que viva Mexica!, становится очевидно, что его «открытость» носит вынужденный характер и самим автором в качестве текстуальной стратегии не предполагалась. Именно по этой причине мне представляется невозможным или, по крайней мере, не плодотворным сравнение Мексиканских фантазий Ковалова с Que viva Mexica! Александрова - это означало бы попытку сравнения одного римейка с другим, одной симуляции с другой - в отсутствие оригинального текста и, следовательно, критериев подобного сопоставления. Понятие интертекстуальности, обретя легитимность в постмодернистской критике, фактически элиминировало саму возможность дискуссии об использовании чужих текстов не на правах цитаты, а в качестве нарративного приема и иногда как порождающей основы создания произведения. Для «постмодернистской литературы и искусства [характерно] цитировать, используя иногда под различными стилистическими одеждами формы кавычек, для того, чтобы читатель сконцентрировал внимание не на содержании цитаты, а на способах, какими этот отрывок из первого текста был введен в нарративную ткань второго текста... [По словам Ренато Барилли] риск всей системы состоит в том, чтобы не провалиться, используя явные 6 кавычки таким образом, чтобы наивный читатель принял цитату за оригинальное творение, не усмотрев иронической отсылки» (См: Эко 1996). Конструкция «текст-в-тексте» стала наиболее популярной формой наррации в последние десятилетия. Можно было бы обратиться к ряду примеров и попытаться классифицировать все многообразие существующих ныне интертекстуальных жанров (подобные попытки можно встретить в текстах У.Эко, Ж.Женетта, С.Чэтмена, М.Ямпольского), но проблема состоит в том, что подобная классификация вряд ли имеет отношение к анализируемому нами здесь примеру. Отказываясь от каталогизации Мексиканских фантазий Ковалова, я имею в виду не столько новизну и ультрасовременность данного фильма (то есть как феномена, преодолевающего узкие рамки существующих типологий «закавычивания»), сколько уникальность феномена Que viva Mexica!. Но, поскольку фильм Ковалова все же вполне вписывается в более или менее определенный канон постмодернистской поэтики, то это обстоятельство, несомненно, имеет значение при анализе нарративной стратегии данного фильма и попытки сконструировать модель отношений автор-нарратор. Хотя бы в том смысле, что зрителю, имеющему дело с этим фильмом, приходится искать подсказки в самом фильме, чтобы догадаться в какой именно момент он имеет дело с кавычками... Ковалов, которого западная критика после его «Автобиографии» и ряда других фильмов окрестила «иконокластом», вполне отдавая себе отчет в том, как может быть встречен подобный фильм в столетнюю годовщину со дня рождения Эйзенштейна, то есть не будучи смущен некоторыми конъюнктурными соображениями, вместе с тем, на мой взгляд, предложил одну из лучших (если не лучшую) трактовку эйзенштейновского замысла. Несомненно, зритель может рассчитывать на подлинное визуальное наслаждение. Но с чем связано это эстетическое удовольствие? С аутентичным эйзенштейновским материалом? С повествовательной конструкцией, кодирующей авторство Ковалова? С музыкой, которая, как обычно, выступает определяющим фактором рецепции немого фильма, а в данном случае и вовсе может показаться слишком агрессивной? (Кстати, «фантазируя» по поводу возможных аллюзий, связанных с названием фильма и той ролью, которую в фильме занимает музыка, можно интерпретировать это как отсылку к истории знакомства Эйзенштейна с Диснеем, к диснеевскому фильму «Фантазия» и к обостренной музыкальной чувствительности обоих режиссеров, 7 которая так ярко проявляется в конце 30-х гг. Макроозначающее американской трагедии Эйзенштейна. Впрочем, это всего лишь спекулятивное допущение в духе участившихся в последнее время дискуссий о гиперинтерпретации.) Вероятно, все три компонента конституируют в равной степени восприятие этого фильма. Однако, если музыка (С.Маренков) и визуальный ряд (то есть композиция кадров, фильмическая фактура), наличие фабулы в центральной новелле вполне поддаются идентификации с точки зрения их автора (это Маренков (а не Альбинони, например), а вот это - Эйзенштейн...), то нарративная структура и присутствие «субъекта речи» требуют дополнительного аналитического усилия. Можно понять растерянность зрителя при попытке ответить на вопрос, а где же собственно сам Ковалов и в чем заключается его авторство? Пожалуй, ключевым моментом в интерпретации данного фильма является определение места и функций нарративной инстанции в фильме. Проблема идентификации источника повествовательной речи, возникнув первоначально в лингвистических концепциях (enonciation - Э.Бенвенист и др.), затем переместившись в область литературной критики и различных нарративных концепций (Ж.Женетт,С.Чэтмен), благодаря К.Метцу и Ж.-Л.Бодри стала одним из наиболее дискуссионных вопросов в теории кино и, наконец, послужила основой для радикальных феминистских кинотеорий. Напомню, что формалисты, определяя сюжет (в отличие от фабулы - реконструируемой реципиентом истории в хронологическом и причинно-следственном модусе) как формальную структуру повествования (способ подачи и упорядочивания повествуемых событий), в качестве одного из неотъемлемых свойств сюжета выделяли также и наличие дискурсивной инстанции в тексте: процесс превращения истории в повествовательный текст предполагает рассказчика. Важно не только, ЧТО рассказывается, но и КЕМ. По мере углубления этой проблематики становилось все более очевидным, что позиция нарратора (редко возникающая в условиях обычной вербальной коммуникации, поскольку «говорящий или физически присутствует, или подписывает свой дискурс своим именем» (Ильин 1985:152), усложняется в литературном произведении ( идентичность говорящего опосредована различными стилистическими приемами и подлежит реконструкции) и оказывается предельно проблематичной в кинематографе, где нарративная инстанция «теряет» голос, но обретает зрение, и в то же время различие между диегесисом и 8 мимесисом остается. Вопрос «Кто говорит?» не самодостаточен, ибо еще важнее отдавать себе отчет в том «Кто является субъектом видения?» (и, следовательно, от имени кого «повествует» камера). И та, и другая проблема заслуживают анализа в данном фильме. Начнем с того, насколько оригинальна композиционная структура фильма. В качестве «генеральной линии» избрана новелла Магей - поскольку это единственная новелла, которую отличает связность истории и определенная завершенность. Эйзенштейн также в значительной степени рассчитывал именно на эту цельность в случае, если бы удалось смонтировать фильм. В начале фильма Ковалова - пролог и Сандунга, конец - эпилог, но это очень условное описание. Ибо, в действительности, вместо линейного повествования мы, скорее, имеем дело с параллельной или, точнее, с шахматной конструкцией (кадры одной новеллы оказываются в монтажной фразе с кадрами из другой). Таким образом, в качестве связующего материала выступает не только Фиеста, как предполагалось Эйзенштейном и Александровым, но и другие фрагменты, в том числе кадры со съемочной группой. Думается, что Ковалов, включая в свой фильм кадры с самим Эйзенштейном и его съемочной группой, преследовал несколько целей одновременно. Самое простое объяснение присутствию Эйзенштейна в фильме - это всего лишь способ показать неизвестные широкой аудитории кадры из поездки режиссера в Мексику. Для менее наивного зрителя фильм благодаря этим недиегетическим вставкам обретает свою жанровую определенность: он может предположить, что это документальный рассказ режиссера о его путешествии в Мексику. С точки зрения нарративной стратегии фильма можно себе представить, что нарратор пытается таким образом спрятаться за спину автора, передавая ему функцию повествования как бы от первого лица. Кадр с Эйзенштейном функционирует в качестве факсимиле, удостоверяющего авторство и легитимирующего статус текста. Этот прием усиливает психологический эффект (а вот и Эйзенштейн в подлинно мексиканском антураже!) и эстетизирует повествование: вместо простого рассказа мы имеем рамочную структуру в квадрате - с «открытым рассказчиком, представленным в виде персонажа» (С.Чэтмен), который на самом деле рассказчиком не является. Наконец, последнее предположение состоит в том, что таким образом Ковалов открывает и закрывает кавычки, цитируя «недосягаемый текст». Как известно, монтаж / ритм / воздействие на зрителя для Эйзенштейна были вещи почти однопорядковые. Иногда 9 складывается впечатление, что Ковалов «заигрывает» с Эйзенштейном, имитируя его почерк: риторичность, монтаж и еще раз монтаж, плюс ритм. Каким образом добивается Ковалов столь интенсивного ощущения и прочувствования зрителем ритма? Вертикальный и горизонтальный монтаж. «Перебивка» новелл кадрами, к ним не относящимися (сцена танца - сонный шелест папоротника - каменные изваяния). Статуарность, фотографичность монументальных кадров с пирамидами, храмами в сочетании с крупными планами очень живых молодых лиц. Наконец, звуковые паузы, длительность и интенсивность которых оставляют не менее сильное впечатление, чем музыка (именно ритм мотивирует наличие пауз в звуковом сопровождении фильма). Как было замечено В.Изером, смысл пауз (если их отождествить в данном контексте с «пустотами» - Leerstellen) и их эстетическая функция заключаются в нарушении автоматизма восприятия. Ритмические перебои в восприятии, остановка в «чтении» создают зазор для осмысленного отношения к фильму/тексту, условия для смены перспектив и точки зрения реципиента (Iser: 166 - 165). В этом плане метафорический чередующийся монтаж кадров гибели повстанцев из «Магея» с кадрами корриды - не просто банальное повторение уже известного приема (что не сделал бы никогда и Эйзенштейн). Скорее, наоборот, - речь может идти о деавтоматизации приема. Очевидная аллюзия на «Стачку» - это сознательная реминисценция, отсылка нарратора к другому - уже хрестоматийному, классическому - тексту режиссера, у которого заимствуется форма (и формула). Понятие «точки зрения» и концепция фокализации первоначально возникли в литературном контексте, и лишь позднее были экспроприированы теорией кино. Точка зрения не совпадает с повествовательным голосом - проблема, с которой столкнулись теоретики, и которая в какой-то степени была разрешена Женеттом, а в качестве эмпирического подтверждения лучше всего проявляет себя на фильмическом уровне. Психоаналитическая теория кино, обсуждая проблему первичной и вторичной идентификации, придает «субъекту речи» особое значение. Первичная идентификация в кино - это идентификация с субъектом видения, с репрезентирующей инстанцией ( Ж.-Л.Бодри). Главный смысл техник «субъективации» видения состоит в том, что они дают зрителю ощущение себя как обладателя взгляда, идентификация происходит за счет того, что зритель одалживает взгляд субъекта видения в фильме и оказывается в пространстве фильма, присваивая чужие фантазмы. 10 В литературном тексте сам язык обеспечивает фокализацию посредством использования местоимений (я, он, ты) и других соответствующих грамматических форм. Для кино это лишь частный случай , касающийся употребления вербальной речи, но даже в тех случаях, когда мы слышим голос повествователя, вовсе не обязательно при этом, чтобы визуальный ряд дополнял или коррелировал с ним. Напротив, мы имеем постоянную смену точек зрения, что происходит либо посредством кадрирования и монтажа, либо посредством работы камеры. Плавная смена планов, игра взглядов персонажей внутри кадра, изменение угла съемки приводят к тому, что с непрерывным изменением точки зрения зрителя плавно трансформируется и процесс идентификации. Множественность точек зрения - множественная идентификация. Таким образом, определяющим для идентификации является способ наррации, показывания событий, выражения. Нарратор, чье присутствие (особенно в немом фильме) выдается «взглядом» камеры, - это скользящая инстанция, отождествляющая себя с различными персонажами (то, что делает и зритель - стадия вторичной идентификации). Присутствие повествователя по ходу фильма становится все более и более зримым, что ощущается прежде всего благодаря его (и, соответственно, зрителя) множественным идентификациям посредством камеры и монтажа - с торреро, с неистовым быком, с подвыпившим мексиканцем, с танцующими (в сцене «танца смерти» нарратор включается в макабрические пляски наравне с другими участниками действа) и т.д. Эффектом этих множественных отождествлений оказывается де-маскировка лиц, ре-анимация «царства театрально застывших поз», «красоты неподвижного скульптурного мира вещей » ( См.: В.Подорога, 1994: 98 - 101). Итак, нарратор - в самом общем смысле, это лицо, рассказывающее историю. Современные нарративные теории, анализируя место и функции повествователя, полагают, что его позиция также является и маркером «классичности», реализма или новаторского характера произведения. Так, классический реалистический роман XIX века предполагал всезнающего - либо индивидуального, либо анонимного рассказчика (так же, как классический, например, голливудский, кинематограф предполагает всевидящего и вездесущего нарратора, анонимного настолько, что зритель его забывает). Степень анонимности или индивидуальности может быть различной, но невозможно представить себе текст, где фигура нарратора отсутствует (См. Ильин: 151). Имперсональное 11 повествование («нулевая степень индивидуальности») - это маска текста, но не его онтологическая реальность. В Мексиканских фантазиях фигуру нарратора трудно не заметить - она обретает почти реальные физиологические границы. Однако индивидуализация его осложнена рядом обстоятельств. Речь повествователя и подразумеваемая речь автора, исходя из внетекстуальных референций (Эйзенштейн и Ковалов - не одно и то же физическое лицо), неизбежно должны быть разграничены. Но, в случае, если сам автор выбирает нарративную маску, то, следовательно, ирония или любой другой способ обозначить свое отношение к повествуемому, определяется реципиентом как авторская ирония и, следовательно, авторская точка зрения. В Мексиканских фантазиях ощутима, прежде всего, ироническая точка зрения нарратора - по отношению к самому способу повествования, своему статусу в тексте и к оригинальному тексту («хихикающие» стрелочки-указатели и надписи, намеренно имитирующие корявый почерк). Любопытно, что все титры включены в пространство кадра, и все же они остаются самостоятельным элементом наррации: как и прежде (в эпоху немого кино) надпись обнаруживает стоящего за картиной рассказчика. Титры в классическом понимании в данном фильме отсутствуют, однако то, что может быть названо «титрами», заслуживает внимания. Функция тех немногих надписей в кадре, которые здесь есть, вполне понятна: они не столько структурируют повествование, сколько напоминают об эйзенштейновской идее объединить четыре новеллы в одном фильме; они информативны, давая зрителю представление об экзотизмах мексиканской культуры и о лексике, используемой Эйзенштейном в его сценарии. Но как можно было бы определить их фильмический статус? Ю.Цивьян, анализируя эволюцию титров в немом кинематографе, приходит к выводу о том, что уже к середине 1910х гг. надписи утвердились как элемент киноязыка, но это произошло в результате их «выталкивания из системы репрезентации»: надпись требовала временной приостановки изобразительного ряда, особой декоративной рамки, наконец, - «безвременности черного фона» (См.Цивьян: 287). Надписи Ковалова с точки зрения этой эволюции - возвращение к архаическим временам, когда надписи появлялись внутри кадра, но есть одно очень существенное различие: титры Ковалова лишены той примитивной мотивировки, которой наделялись и продолжают обладать титры в виде этикеток, телеграмм, вывесок, указателей, которые «тактично вводились в 12 кадр как элемент обстановки» (См. Цивьян: 288). (Очень трудно представить себе реально существующий в мексиканских прериях указатель с надписью «Магей»...). И более того - здесь титры живут своей собственной жизнью внутри кадра, выделяясь особой подвижностью, которую подчеркивает интенсивный белый цвет. В этом смысле титры Ковалова - так же преднамеренны и эстетичны, как самостоятельные титры немого кино, хотя и включены в пространство кадра. Кроме того, самим фактом отрицания конвенционального использования титров они приближают фильм к традиции интеллектуального кино (Эйзенштейна в том числе). Любопытно, что зрителю подобное обращение с титрами, скорее всего, не кажется странным - во-первых, уже вводные титры задают необходимый тон и придают некоторую естественность последующим вторжениям текста в кадр, во-вторых, для зрителя существует интертекстуальная мотивировка в виде несуществующего оригинального фильма Que viva Mexica!, которая оправдывает любые комментарии в любой форме. Для всего раннего советского кино - для Эйзенштейна, Эрмлера, Кулешова - вопрос о титрах, по мнению Цивьяна, был важным политическим вопросом: они должны были давать представление о том, кто является нарратором - «Кто говорит?», что, безусловно, выдает ангажированность нарратора. Не случайно, классический голливудский кинематограф избегал надписейремарок (expository titles), предпочитая надписи-реплики, в то время как Советские кинорежиссеры 20-х избегали таких форм грубого реализма, создавая ощущение саморефлексивного характера наррации (self-conscious narration) (Bordwell: 237). Ковалов, намеренно запутывающий вопрос об идентификации нарратора (что, в данном случае, никак не характеризует его идеологические и политические предпочтения, оставаясь театральным жестом), тем не менее «одушевляет» свои титры - причем не с целью их натурализации (функция, которую выполнял неровный почерк, которым были написаны письма в классическом кино), а с тем, чтобы обозначить сам факт того, что у речи есть субъект. Его нарратор не стремится к эффекту объективности, к роли всезнающего комментатора; но точно также - именно благодаря титрам - время от времени он позволяет себе покидать пространство диегесиса - что не происходит в случае, когда надпись в кадре строго мотивирована. Итак, нарратор существует, но где он? Не менее занимательный вопрос: кому же принадлежит эротизирующий взгляд? Возможно, Эйзенштейну. Но, 13 насыщенность этого взгляда определяется, скорее, концентрацией и определенной последовательностью кадров, вошедших в окончательный монтажный вариант - и тогда это позиция Ковалова, намеренно подчеркивающим эротическую ауру фильмов Эйзенштейна (в меньшей степени, чем это ощущается в «Октябре»). В этом смысле нарратор здесь индивидуализируется, обретая некоторую психологическую реальность и онтологический статус появляясь в тексте на правах повествующего персонажа. Возможно, в истории мирового кино это почти единичный случай, когда неоконченный фильм (не-фильм вообще) всемирно известного режиссера не стал чем-то сакральным - в качестве неоконченного шедевра, а, напротив, послужил поводом для многочисленных попыток завершить этот грандиозный замысел - в независимости от того, что подумал бы по этому поводу автор (который «умер» и в буквальном и в метафорическом постструктуралистском значении). Существование текста в культуре на правах незавершенного произведения, вероятно, вполне легитимно в отношении классических искусств, но вряд ли возможно в случае кинематографа, который, по известным причинам, отторгает понятие авторства и уникальности. Тем не менее, в данном случае проблема возникает именно с авторством стиль Эйзенштейна, несмотря на всю его оригинальность, все же доступен имитации. Вопрос лишь в том, претендует ли имитация на оригинал, или же она подчеркивает свою вторичность и это оказывается своего рода достоинством подобного текста. БИБЛИОГРАФИЯ: АЛЕКСАНДРОВ Г. В. Эпоха и кино – 2–е изд., доп. – М.: Изд-во политической литературы, 1983. – 336 с. ИЛЬИН И.П. « Между структурой и читателем (Теоретические аспекты коммуникативного изучения литературы)» // Художественная рецепция и герменевтика (под ред. Ю.Б.Борева) - М.: Наука, 1985. - сс.134 - 168. ПОДОРОГА В. «Сергей Эйзенштейн и кинематограф насилия. Лицо и взгляд. Правила раскроя» // Искусство кино, 1994, № 6, с.90 - 102. ЦИВЬЯН Ю. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России (1896 - 1930). - Рига: Зинатне, 1991. ЭКО У. «Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна» // Философия эпохи постмодерна (под ред. А.Усмановой) - Минск, 1996. BORDWELL D. Narration in the Fiction Film. - Routledge,1995. ECO U. The Open Work. - Harvard University Press, 1989. ISER W. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. - Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1978.