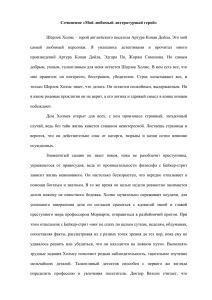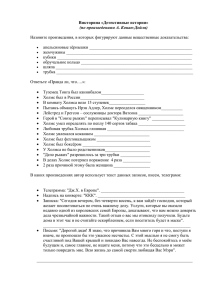Мария Конникова Выдающийся ум: мыслить как Шерлок Холмс Аннотация
реклама

Мария Конникова Выдающийся ум: мыслить как Шерлок Холмс Аннотация Можно ли научиться мыслить так же четко и рационально, как Шерлок Холмс, или его безупречная логика и кристальная ясность ума – лишь выдумка писателя? Да, убеждена Мария Конникова, известный американский психолог и журналист. Рассматривая эпизоды из книг Конан Дойла в свете современной нейробиологии и психологии, она шаг за шагом, непринужденно и увлекательно раскрывает ментальные стратегии, которые приводят к четкому мышлению и глубокому пониманию явлений и фактов. В книге описано, как, по примеру великого сыщика, при желании и определенной тренировке мы можем обострить свое восприятие, развить логику и творческий потенциал. Мария Конникова Выдающийся ум: мыслить как Шерлок Холмс Забавно, но книга Марии Конниковой, увлекательная и местами провокационная, и правда заставляет задуматься о том, как мы думаем. Book Review Это на редкость полезная книга, основанная на достижениях современной психологии и полная примеров из современной жизни. Она поможет вам найти общий язык с вашим внутренним Холмсом и провести с ним вместе не один час в уютном кресле у камина, наблюдая и делая выводы. Boston Globe Новая книга Марии Конниковой отнюдь не «элементарна»: это актуальное и глубокомысленное исследование человеческого разума, дополненное примерами из жизни и профессиональной деятельности Шерлока Холмса. Сам Холмс мог бы гордиться, если бы стал автором такого замечательного труда! Publishers Weekly Яркая, талантливая новая книга Марии Конниковой – не что иное, как учебник по пробуждению сознания, руководство по избавлению от подсознательных предубеждений, от привычки отвлекаться, от неразберихи наших повседневных мыслей. Даже те читатели, которые не считают Холмса своим кумиром, обнаружат, что книга стимулирует, увлекает и самое главное – приносит пользу. The Independent Посвящается Джефу Выбор объектов внимания – возможность уделять внимание одним и пренебрегать другими – занимает во внутренних проявлениях жизни такое же место, как выбор действий – во внешних. И в том и в другом случае человек несет ответственность за свой выбор и вынужден мириться с его последствиями. Как говорил Ортега-и-Гассет, «скажи мне, чему ты уделяешь внимание, и я скажу тебе, кто ты». 2 У. Х. Оден Вступление Когда я была маленькой, перед сном папа обычно читал нам рассказы о Шерлоке Холмсе. Мой брат, пользуясь случаем, немедленно засыпал в своем углу дивана, но все мы, остальные, ловили каждое слово. Помню большое кожаное кресло, в котором сидел папа, одной рукой держа книгу перед собой, помню, как пляшущее в камине пламя отражалось в стеклах его очков в черной оправе. Помню, как он то повышал, то понижал голос, нагнетая напряжение перед каждым поворотом сюжета, и вот наконец – долгожданная разгадка, когда все вдруг обретало смысл, а я качала головой, совсем как доктор Ватсон, и думала: «Ну конечно! Как же все просто теперь, когда он все объяснил!» Помню запах трубки, которую папа так часто курил, – как сладкий дым грубоватой табачной смеси оседает в складках кожаного кресла, помню ночные очертания за шторами и застекленной дверью. Трубка у папы была, разумеется, чуть-чуть изогнутая – точь-в-точь как у Холмса. Помню и финальный звук захлопнутой книги, когда страницы вновь соединялись под малиновыми крышками переплета, а папа объявлял: «На сегодня все». И мы расходились: просить, умолять и строить жалобные гримасы было бесполезно – наверх и в постель. И еще одна деталь врезалась мне тогда в память – так глубоко, что сидела в ней, не давая мне покоя, даже спустя много лет, когда остальные истории поблекли, слились с размытым фоном и приключения Холмса и его преданного биографа забылись все до единого. Эта деталь – ступеньки. Ступеньки дома 221В на Бейкер-стрит. Сколько их было? Холмс спросил об этом Ватсона в «Скандале в Богемии», и этот его вопрос навсегда засел у меня в голове. Холмс и Ватсон рядом в креслах, сыщик объясняет доктору, чем отличается умение просто смотреть от умения замечать. Ватсон озадачен. А потом все вдруг становится совершенно ясно. «– Когда я слушаю ваши рассуждения, – заметил Ватсон, – все кажется мне до смешного простым – настолько, что я и сам догадался бы без труда, но в каждом отдельном случае я пребываю в растерянности до тех пор, пока вы не объясните ход своих мыслей. Тем не менее я убежден, что мой глаз зоркостью не уступает вашему. – Вот именно, – ответил Холмс, закуривая папиросу и откидываясь на спинку кресла. – Вы видите, но не замечаете. Разница очевидна. К примеру, вы часто видите ступеньки, ведущие из прихожей в эту комнату. – Да, часто. – Сколько раз вы уже видели их? – Несколько сотен. – И сколько же там ступенек? – Ступенек?.. Не знаю. – Именно! Вы не заметили. Хотя видели их. О том и речь. А мне известно, что ступенек там семнадцать, потому что я и видел их, и замечал». Меня потряс этот диалог, услышанный однажды вечером при свете камина, когда в воздухе витал трубочный дым. Я судорожно попыталась вспомнить, сколько ступенек в нашем доме (я понятия не имела), сколько их ведет к нашей входной двери (опять нет ответа), а сколько – вниз, в цокольный этаж (десять? Двадцать? Я не сумела назвать даже приблизительную 3 цифру). Еще долго потом я старалась считать ступеньки на всех лестницах, какие мне попадались, и запоминать полученные результаты – на случай, если кто-нибудь потребует у меня отчета. Холмс гордился бы мной. Разумеется, я почти сразу забывала каждое число, которое так прилежно старалась запомнить, – лишь много позднее я поняла: всецело сосредоточившись на запоминании, я упускала из виду истинную суть проблемы. Мои усилия с самого начала были напрасными. В то время я не понимала, что у Холмса имелось передо мной значительное преимущество. Большую часть жизни он совершенствовал свой метод вдумчивого взаимодействия с окружающим миром. А ступеньки в доме на Бейкер-стрит – всего лишь способ продемонстрировать навык, которым он привык пользоваться естественно, не задумываясь. Одно из проявлений процесса, привычно и почти неосознанно протекающего в его вечно деятельном уме. Если угодно, фокус, не имеющий практической цели – и вместе с тем исполненный глубочайшего смысла, стоит только задуматься о том, благодаря чему он стал возможным. Фокус, который вдохновил меня написать о нем целую книгу. Идея вдумчивости[1]1 Словами «вдумчивость» или «вдумчивый подход» здесь и далее переводится термин mindfulness, в русскоязычной литературе он переводится по-разному, в том числе словами «осознанность» и «психическая вовлеченность». – Прим. пер. [Закрыть] отнюдь не нова. Еще в конце XIX в. отец современной психологии Уильям Джеймс писал, что «способность сознательно сосредоточивать рассеивающееся внимание, делая это вновь и вновь, – первооснова суждения, характера и воли… Лучшее образование – такое, которое развивает эту способность». Сама по себе упомянутая способность – квинтэссенция вдумчивости. А образование, предложенное Джеймсом, – обучение вдумчивому подходу к жизни и мышлению. В 70-х гг. ХХ в. Эллен Лангер продемонстрировала, что вдумчивость способна не только менять к лучшему «суждения, характер и волю». Практикуя вдумчивость, пожилые люди даже чувствуют себя моложе и действуют соответственно, этот подход улучшает основные показатели их жизнедеятельности, например артериальное давление, а также когнитивную функцию. Исследования последних лет показали: размышления-медитации (упражнения на полное управление вниманием, составляющее основу вдумчивости), при выполнении их всего пятнадцать минут в день, меняют показатели активности лобных долей мозга в сторону, более характерную для позитивного эмоционального состояния и установки на результат, иными словами, даже непродолжительное созерцание природы может сделать нас более проницательными, творческими и продуктивными. Кроме того, теперь мы уже с большой определенностью можем утверждать: наш мозг не создан для многозадачности, полностью исключающей вдумчивость. Когда мы вынуждены выполнять много дел одновременно, мы не только хуже справляемся со всеми этими делами: у нас ухудшается память, ощутимо страдает общее самочувствие. Но для Шерлока Холмса вдумчивое присутствие – всего лишь первый шаг. Оно предполагает гораздо более значительную, утилитарную и благодарную цель. Холмс рекомендует то же, что предписывал Уильям Джеймс: учиться развивать наши способности к вдумчивому мышлению и применять его на практике, чтобы добиваться большего, мыслить лучше, чаще принимать оптимальные решения. Иными словами, речь идет о том, чтобы усовершенствовать нашу способность принимать решения и строить умозаключения, начиная с ее фундамента, с тех кирпичиков, из которых состоит наш разум. 4 Противопоставляя умение видеть умению замечать, Холмс на самом деле объясняет Ватсону, что ни в коем случае не следует принимать бездумность за вдумчивость, путать пассивный подход с активной вовлеченностью. Наше зрение работает автоматически: этот поток сенсорной информации не требует никаких усилий с нашей стороны, нам остается разве что держать глаза открытыми. И мы видим, не задумываясь, вбираем бесчисленные элементы окружающего мира, не удостаивая увиденное необходимой обработки мозгом. Порой мы даже не отдаем себе отчета в том, что оказывается у нас прямо перед глазами. Чтобы что-нибудь заметить, надо сосредоточить внимание. Для этого нужно от пассивного впитывания информации перейти к ее активному восприятию. То есть осознанно в него включиться. Это относится не только к зрению, но и ко всем чувствам, ко всей входящей информации и к каждой мысли. Мы слишком часто относимся к собственному разуму на удивление бездумно. Мы плывем по течению, не подозревая, сколь многое упускаем в собственном мыслительном процессе, и даже не догадываемся, насколько бы выиграли, уделив некоторое время тому, чтобы понять его и осмыслить. Как Ватсон, мы шагаем по одной и той же лестнице десятки, сотни, тысячи раз, по несколько раз на дню, но не пытаемся запомнить даже простейших особенностей этой лестницы (я не удивилась бы, спроси Холмс не про количество ступенек, а про их цвет и обнаружь, что даже эта подробность осталась не замеченной Ватсоном). Дело не в том, что мы неспособны к запоминанию: просто мы сами предпочитаем не делать этого. Вспомните детство. Если бы я попросила вас рассказать об улице, на которой вы выросли, вполне вероятно, вы припомнили бы массу деталей: цвет домов, причуды соседей. Запахи в разное время года. Как выглядела улица в разное время суток. Места, где вы играли и где проходили. И где остерегались ходить. Ручаюсь, рассказ затянулся бы на целые часы. В детстве мы на редкость восприимчивы. Мы впитываем и обрабатываем информацию с быстротой, о которой в дальнейшем не можем и мечтать. Новые виды, новые звуки и запахи, новые люди, эмоции, впечатления: мы познаем наш мир и его возможности. Все вокруг новое, все интересное, все возбуждает любопытство. Вот как раз в силу этой новизны всего, что нас окружает, мы чутки и настороженны, мы сосредоточенны и ничего не упускаем. Более того, благодаря мотивированности и вовлеченности (двум качествам, к которым мы еще не раз вернемся) мы не просто воспринимаем мир полнее, чем будем это делать позже, но и запасаем информацию впрок. Кто знает, что и когда может пригодиться? По мере взросления наша пресыщенность растет в геометрической прогрессии. Там мы уже были, это мы уже проходили, этому незачем уделять внимание, и разве это мне хоть когданибудь понадобится? Не успев опомниться, мы утрачиваем присущую нам от природы внимательность, увлеченность и любознательность и подчиняемся привычке к пассивности и бездумности. И даже когда нам хочется чем-нибудь увлечься, выясняется, что в этой роскоши, такой доступной в детстве, нам уже отказано. Остались в прошлом дни, когда нашей главной работой было учиться, впитывать, взаимодействовать; теперь у нас другие, более актуальные (как нам кажется) обязанности, наш ум должен обслуживать другие потребности. И по мере того как запрос на наше внимание растет – что не может не вызывать тревоги в условиях цифровой эпохи, когда от мозга требуется решать множество параллельных задач двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, – реально внимание у нас снижается. При этом мы постепенно утрачиваем способность обдумывать собственные мыслительные привычки или вообще замечать их и все чаще позволяем нашему разуму диктовать нам суждения и решения вместо того, чтобы поступать прямо противоположным образом. В самом этом явлении нет ничего плохого – мы еще не раз упомянем о необходимости автоматизации некоторых поначалу трудных и когнитивно затратных процессов, – однако оно опасно приближает нас к бездумности. Грань между сноровкой и 5 бездумной машинальностью тонка, и тут надо быть предельно внимательным, чтобы ее нечаянно не пересечь. У вас наверняка возникали ситуации, когда требуется отказаться от движения по накатанной колее, и вдруг оказывается, что вы забыли, как это делается. Допустим, по пути домой вам надо заехать в аптеку. Об этом предстоящем деле вы помнили весь день. Вы репетировали мысленно, представляя себе, где надо повернуть еще раз, чтобы подъехать куда нужно, лишь немного отклонившись от привычного пути. И вот вы обнаруживаете, что стоите возле дома, даже не вспомнив о том, что собирались заехать куда-то еще. Вы забыли сделать дополнительный поворот, проехали мимо, и ни малейшей мысли о нем не мелькнуло у вас в голове. Вмешалась бездумность, порожденная привычкой, рутина пересилила ту часть мозга, которая знала, что у вас намечено еще одно дело. Это происходит постоянно. Мы настолько встраиваемся в колею, что проводим в бездумном оцепенении по полдня. (Вы еще думаете о работе? Беспокоитесь из-за электронного письма? Заранее планируете ужин? Забудьте!) Эта автоматическая забывчивость, эта власть рутины, эта легкость, с которой мы готовы отвлечься, – еще пустяк, хоть и заметный (поскольку нам дано осознать, что мы забыли что-то сделать), эта мелочь – лишь малая часть куда более масштабного явления. Описанное выше происходит чаще, чем нам кажется: мы крайне редко осознаем собственную бездумность. Сколько мыслей возникает у нас и рассеивается прежде, чем мы успеваем уловить их? Сколько идей и озарений ускользает от нас, потому что мы забываем уделить им внимание? Сколько решений мы принимаем, не осознавая, как и почему их приняли, движимые некими внутренними настройками «по умолчанию» – настройками, о существовании которых или смутно догадываемся, или вообще не подозреваем? Как часто у нас случаются дни, когда мы вдруг спохватываемся и гадаем, что натворили и как дошли до жизни такой? Задача этой книги – помочь вам. На примере принципов Холмса в ней разбираются и объясняются те шаги, которые вам необходимо предпринять, чтобы выработать привычку вдумчивого контакта с самим собой и окружающим миром. Чтобы и вы могли между делом небрежно упомянуть точное количество ступенек на лестнице, к изумлению менее внимательного собеседника. Итак, растопите камин, уютно устройтесь на диване и приготовьтесь вновь принять участие в приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона на кишащих преступниками улицах Лондона – и в самых потаенных закоулках человеческого разума. Часть 1 ПОНЯТЬ САМОГО СЕБЯ Глава 1 НАУЧНЫЙ МЕТОД МЫШЛЕНИЯ На фермах в Грейт-Уайерли со скотом творилось что-то ужасное. Овцы, коровы, лошади одна за другой падали замертво среди ночи. Всякий раз причиной смерти становилась длинная неглубокая рана на брюхе, от которой животное медленно и мучительно истекало кровью. Кому могло прийти в голову причинять такую боль беззащитным существам? В полиции решили, что ответ известен: Джорджу Эдалджи, сыну местного викария, индийцу-полукровке. В 1903 г. двадцатисемилетний Эдалджи был приговорен к семи годам каторжных работ за одно из шестнадцати увечий, нанесенных пони, труп которого нашли в карьере неподалеку от дома викария. Клятвенные заверения викария, что в момент преступления его сын спал, не повлияли на приговор. Как и то, что убийства продолжались уже после заключения Джорджа под стражу. И то, что доказательства строились в основном на анонимных письмах, авторство которых приписали Джорджу, – письмах, указывающих на него как на убийцу. Полиция во главе с начальником полиции графства Стаффордшир, 6 старшим констеблем капитаном Джорджем Энсоном, была убеждена, что преступник найден. Спустя три года Эдалджи освободили. В Министерство внутренних дел Великобритании было направлено два прошения, заявляющих о невиновности Эдалджи: одно подписали десять тысяч человек, второе – триста юристов, и авторы обоих посланий ссылались на отсутствие доказательств в этом деле. Однако на этом история не закончилась. Эдалджи вышел на свободу, но его имя по-прежнему оставалось запятнанным. До ареста он был присяжным поверенным. Возобновить юридическую практику после освобождения он не имел права. В 1906 г. Эдалджи повезло: его делом заинтересовался Артур Конан Дойл. В том же году зимой Конан Дойл договорился о встрече с Эдалджи в «Гранд-отеле» на Чаринг-Кросс. Если у Конан Дойла и оставались сомнения в невиновности Эдалджи, то они развеялись еще в вестибюле отеля. Как позднее писал Конан Дойл, «…он пришел в отель, как было условлено, а я задержался, и он коротал время, читая газету. Издалека узнав его по смуглому лицу, я остановился и некоторое время наблюдал за ним. Он держал газету слишком близко к глазам, вдобавок наискось, что указывало не только на сильную близорукость, но и выраженный астигматизм. Сама мысль о том, чтобы такой человек ночами рыскал по полям и нападал на скот, стараясь не попасться полиции, выглядела смехотворно… Таким образом, уже в этом единственном физическом изъяне заключалась моральная достоверность его невиновности». Но, несмотря на собственную убежденность, Конан Дойл знал, что этого недостаточно и привлечь к данному случаю внимание Министерства внутренних дел будет гораздо сложнее. И он отправился в Грейт-Уайерли, чтобы заняться сбором относящихся к делу улик. Он расспрашивал местных жителей, обследовал места преступлений, изучал улики и обстоятельства. Он столкнулся с нарастающей враждебностью капитана Энсона. Побывал в школе, где учился Джордж. Поднял давние сведения об анонимных письмах и розыгрышах, объектом которых становилась та же семья. Разыскал эксперта-графолога, ранее объявившего, что почерк Эдалджи совпадает с тем, которым были написаны анонимные послания. И наконец представил собранные материалы в Министерство внутренних дел. Окровавленные лезвия? На самом деле старые и ржавые, – во всяком случае, ими невозможно нанести раны того типа, от которых пострадали животные. Глина на одежде Эдалджи? По составу иная, нежели на том поле, где был обнаружен пони. Эксперт-графолог? Ему уже случалось приходить к ошибочным выводам, в итоге обвинительные приговоры выносились невиновным. И конечно, проблема со зрением: как мог человек, страдающий сильным астигматизмом и вдобавок миопией, ориентироваться ночью в полях, где были убиты животные? Весной 1907 г. с Эдалджи наконец были сняты обвинения в жестоком убийстве животных. Конан Дойл так и не добился полной победы, на которую рассчитывал, – Джорджу ничем не компенсировали время, проведенное под арестом и в тюрьме, – тем не менее это был успех. Эдалджи возобновил юридическую практику. Как подытожил Конан Дойл, следственная комиссия обнаружила, что «полицейские вновь приступили к расследованию и проводили его с целью поиска не виновного, а улик против Эдалджи, в виновности коего они были убеждены с самого начала». В августе того же года в Англии появился первый апелляционный суд, задачей которого стал контроль в случае нарушений при свершении правосудия. Дело Эдалджи принято считать одним из основных поводов создания таких судов. 7 Случившееся произвело на друзей Конан Дойла неизгладимое впечатление, но лучше всех свои впечатления выразил писатель Джордж Мередит. «Я не стану упоминать имя, которое вам наверняка осточертело, – сказал Мередит Конан Дойлу, – однако создатель образа блистательного частного сыщика лично доказал, что и сам он кое на что способен». Пусть Шерлок Холмс – плод воображения, однако его педантичный подход к мышлению совершенно реален. При надлежащем применении его метод способен сойти со страниц книги и дать ощутимые позитивные результаты, причем далеко не только в расследовании преступлений. Достаточно произнести имя Шерлока Холмса, как в памяти всплывает множество картинок. Трубка. Охотничий картуз с наушниками. Плащ. Скрипка. Ястребиный профиль. Возможно, лицо Уильяма Джиллета, Бэзила Рэтбоуна, Джереми Бретта или других знаменитостей, когда-либо воплощавших образ Холмса, например Бенедикта Камбербэтча и Роберта Даунимладшего[2]2 Для российского читателя образ гениального сыщика раз и навсегда связан с обликом Василия Ливанова. – Прим. ред. [Закрыть]. Какие бы картины ни возникли перед вашим мысленным взором, предположу, что к слову «психолог» они не имеют отношения. Тем не менее самое время произнести именно его. Холмс был непревзойденным детективом – это несомненно. Но его понимание особенностей человеческого мышления превосходит его самые значительные подвиги на поприще блюстителя закона. Шерлок Холмс предлагает больше, чем просто способ раскрытия преступлений. Его подход применим далеко не только на улицах туманного Лондона. Он выходит за пределы и науки, и следственных действий и может служить образцом для мышления и даже для существования, столь же эффективным в наши дни, как и во времена Конан Дойла. Готова поспорить, что в этом и заключается секрет неослабевающей, поразительной и повсеместной притягательности образа Холмса. Создавая его, Конан Дойл был невысокого мнения о своем персонаже. Вряд ли он руководствовался намерением представить образец мышления, принятия решений, искусства формулировать и решать задачи. Однако именно такой образец получился у него. По сути дела, Конан Дойл создал идеального выразителя революционных идей в науке и способе мышления – революции, развернувшейся в предшествующие десятилетия и продолжавшейся на заре нового века. В 1887 г. появился Холмс – сыщик нового типа, невиданный прежде мыслитель, образец беспрецедентного применения силы разума. Сегодня Холмс служит эталоном мышления более эффективного, чем то, которое мы воспринимаем как само собой разумеющееся. Шерлок Холмс был во многих отношениях провидцем. Его объяснения, методика, весь подход к процессу мышления предвосхитили развитие психологии и нейробиологии на сто лет вперед и актуальны уже более восьмидесяти лет после смерти его создателя. Но почемуто образ мышления Холмса поневоле выглядит как чистый продукт его времени и места в истории. Если научный метод продемонстрировал свои достоинства во всевозможной научной и прочей деятельности – от теории эволюции до рентгенографии, от общей теории относительности до открытия патогенных микроорганизмов и анестезии, от бихевиоризма до психоанализа, – тогда почему бы ему не проявляться в принципах самого мышления? По мнению самого Артура Конан Дойла, Шерлоку Холмсу изначально было суждено стать олицетворением научного подхода, идеалом, к которому следует стремиться, даже если воспроизвести его в точности не удастся никогда (в конце концов, для чего еще существуют 8 идеалы, если не для того, чтобы оставаться недосягаемыми?). Само имя Холмса сразу же указывает на то, что в намерения автора не входило создание незатейливого образа сыщика в духе былых времен: скорее всего, Конан Дойл выбрал своему герою имя с умыслом, как дань уважения одному из кумиров своего детства, врачу и философу Оливеру Уэнделлу Холмсустаршему, известному как своими работами, так и практическими достижениями. Прообразом же личности знаменитого сыщика послужил другой наставник Конан Дойла, доктор Джозеф Белл – хирург, прославившийся своей наблюдательностью. Поговаривали, что доктору Беллу достаточно одного взгляда, чтобы определить, что пациент – недавно демобилизовавшийся сержант Хайлендского полка, только что отслуживший на Барбадосе, и будто бы доктор Белл регулярно проверяет проницательность своих студентов, пользуясь методами, включающими эксперименты над собой с применением разных токсических веществ, – вещи, знакомые всем, кто внимательно читал рассказы о Холмсе. Как писал доктору Беллу Конан Дойл, «вокруг ядра, состоящего из дедукции, логических выводов и наблюдательности, которые, насколько я слышал, вы практикуете, я попытался создать образ человека, который зашел в перечисленном так далеко, как только возможно, а порой и еще дальше…» Именно это – дедукция, логика и наблюдательность – подводит нас к самой сути образа Холмса, к тому, чем он отличается от всех прочих сыщиков, появившихся до и, если уж на то пошло, после него: этот сыщик поднял искусство расследования до уровня точной науки. С квинтэссенцией подхода, присущего Шерлоку Холмсу, мы знакомимся в повести «Этюд в багровых тонах», в которой сыщик впервые предстает перед читателем. Вскоре выясняется, что для Холмса каждое дело – не просто дело, каким оно представляется полицейским Скотленд-Ярда (преступление, ряд фактов, несколько фигурантов, обобщение информации – все это с целью передать преступника в руки правосудия), а что-то одновременно и большее, и меньшее. Большее – поскольку при этом дело приобретает более широкое и общее значение, как предмет масштабных изучений и размышлений, становясь, если хотите, научной задачей. Ее очертания неизбежно просматриваются в предыдущих задачах и, несомненно, повторятся в будущих, общие принципы применимы и к другим, на первый взгляд никак не связанным моментам. Меньшее – поскольку дело лишается сопутствующих ему эмоциональных и гипотетических составляющих – элементов, замутняющих ясность мысли, – и становится настолько объективным, насколько только может быть реальность вне науки. Результат: преступление есть предмет строго научного исследования, подходить к которому надлежит, руководствуясь научными методологическими принципами. А человеческий разум – их слуга. Что такое «научный метод мышления»? Когда речь заходит о научном методе, мы обычно представляем себе ученогоэкспериментатора в лаборатории – возможно, с пробиркой в руках и в белом халате, – придерживающегося примерно такой последовательности действий: сделать некие наблюдения, относящиеся к какому-либо явлению; выдвинуть гипотезу, объясняющую эти наблюдения; разработать эксперимент с целью проверки этой гипотезы; провести эксперимент; посмотреть, соответствуют ли результаты ожиданиям; при необходимости доработать гипотезу; вымыть, прополоскать и повторить. Вроде бы довольно просто. Но как предпринять что-нибудь посложнее? Можно ли натренировать разум, чтобы он всякий раз автоматически действовал подобным образом? Холмс рекомендует нам начинать с азов. Как он говорит при нашей первой встрече с ним, «прежде чем обратиться к моральным и интеллектуальным сторонам дела, которые представляют собою наибольшие трудности, пусть исследователь начнет с решения более простых задач». Научный метод основывается на прозаичнейшем из действий – наблюдении. Еще до того как задаться вопросами, определяющими ход расследования или научного эксперимента, или же чтобы принять вроде бы простое решение – приглашать одного из 9 друзей на ужин или нет, – необходимо подготовить фундамент, провести предварительную работу. Недаром Холмс называет основания своих исследований «элементарными». Ибо они действительно таковы, это азы устройства и принципов работы всего на свете. Далеко не каждый ученый осознает, что это за азы, – настолько прочно они укоренены в его образе мышления. Когда физик придумывает новый эксперимент или химик решает исследовать свойства только что полученного соединения, он не всегда отдает себе отчет в том, что его конкретный вопрос, его подход, его гипотеза, сами его представления о том, что он делает, были бы невозможны без имеющихся в его распоряжении элементарных знаний, накапливающихся годами. Более того, этому ученому будет непросто объяснить вам, откуда именно он почерпнул саму идею исследований и почему изначально решил, что они имеют смысл. После Второй мировой войны физика Ричарда Фейнмана пригласили принять участие в работе комиссии штата по учебным программам и выбрать учебники естественных наук для старшеклассников Калифорнии. К ужасу Фейнмана, представленные тексты могли скорее запутать учеников, нежели просветить их. Каждый последующий учебник оказывался хуже предыдущего. В конце концов ему попалось многообещающее начало: ряд иллюстраций, изображающих заводную игрушку, автомобиль и мальчика на велосипеде. И под каждой подпись: «Чем приведен в движение этот предмет?» Наконец-то, думал Фейнман, перед ним объяснение азов науки, начинающееся с основ механики (игрушка), химии (автомобиль) и биологии (мальчик). Увы, его радость была недолгой. Там, где он рассчитывал наконец найти объяснение и подлинное понимание, он увидел слова: «Этот предмет приведен в движение энергией». Но что это такое? Почему энергия приводит предметы в движение? Каким образом она это делает? Эти вопросы не то что не получили ответа, но и не были поставлены. Как выразился Фейнман, «это ничего не значит… это всего лишь слово!» И он продолжал рассуждать: «Что следовало бы сделать, так это рассмотреть заводную игрушку, увидеть, что у нее внутри пружины, узнать о пружинах и колесах, а насчет энергии и думать забыть. И только потом, когда дети поймут, как на самом деле работает игрушка, можно обсудить с ними более общие принципы энергии». Фейнман – один из немногих, кто не воспринимал свои базовые знания как должное, зато всегда помнил о «кирпичиках» – об элементах, лежащих в основе каждой задачи и каждого принципа. Именно это имеет в виду Холмс, объясняя нам, что начинать надо с азов, с таких обыденных вопросов, что мы не удостаиваем их внимания. Как можно выдвигать гипотезы и разрабатывать поддающиеся проверке теории, если не знаешь заранее, что и как надо наблюдать, если не понимаешь фундаментальную природу задачи, о которой идет речь, не раскладываешь ее на основные составляющие? (Простота обманчива – в этом мы убедимся в двух следующих главах.) Научный метод начинается с обширной базы знаний, с понимания фактов и общих очертаний задачи, которую предстоит решить. В повести «Этюд в багровых тонах» такой задачей для Холмса становится тайна убийства в заброшенном доме в Лористон-Гарденс. В вашем случае речь может идти о решении – сменить профессию или не делать этого. Какой бы ни была специфика проблемы, необходимо дать ей определение, мысленно сформулировать ее как можно конкретнее, а затем восполнить пробелы в ней благодаря опыту прошлого и наблюдениям, сделанным в настоящем. (Как напоминает Холмс инспекторам Лестрейду и Грегсону, не заметившим сходства расследуемого убийства с совершенным ранее: «Ничто не ново под луной. Все уже бывало прежде».) Только потом можно перейти к этапу разработки гипотезы. В этот момент сыщик призывает на помощь свое воображение и намечает возможные линии расследования в зависимости от хода событий, не цепляясь за самые очевидные объяснения (к примеру, в «Этюде в багровых тонах» надпись «Rache» на стене не обязательно означает недописанное имя «Рэчел» – оно 10 вполне может оказаться немецким словом «месть»), – а вы пытаетесь предугадать вероятные сценарии вследствие смены вами работы. При этом в обоих случаях гипотезы выдвигаются не наобум: все сценарии и объяснения опираются на базовые знания и наблюдения. Лишь после этого можно переходить к проверке гипотезы. Что она подразумевает? На этом этапе Холмс рассматривает все возможные линии расследования, отбрасывая их одну за другой, пока не останется одна, пусть даже самая невероятная, которая и окажется истинной. А вам предстоит перебрать один за другим сценарии смены работы и попытаться пройти по цепочке возможных последствий до их логического завершения. Как мы убедимся далее, такая задача вполне осуществима. Но на этом дело не заканчивается. Меняются времена, меняются обстоятельства. Исходную базу знаний требуется постоянно обновлять. Поскольку наше окружение меняется, не следует забывать о пересмотре и повторной проверке гипотез. Едва мы перестанем быть внимательными, самые революционные идеи рискуют оказаться неадекватными. А вдумчивость может превратиться в бездумность, как только мы прекратим действовать, сомневаться, постоянно прикладывать усилия. Такова в общих чертах суть научного метода: понять и сформулировать задачу; провести наблюдения; выдвинуть гипотезу (или сформировать представление); провести эксперимент и сделать выводы; повторить. Следовать по стопам Шерлока Холмса – значит применять тот же подход не только к внешним уликам, но и к каждой своей мысли, а потом, наоборот, применить тот же метод к каждой мысли каждого другого человека, имеющего отношение к данной задаче, и скрупулезно продвигаться вперед тем же способом, шаг за шагом. Когда Холмс впервые излагает теоретические принципы своего подхода, он сводит их к единственной основной мысли – «как много может узнать человек, систематически и подробно наблюдая все, что происходит перед его глазами». Это «все» включает еще и каждую мысль: в мире Холмса ни одна мысль не воспринимается как данность. Как отмечает он сам, «по одной капле воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видал ни того, ни другого и никогда о них не слыхал». Иными словами, с учетом имеющихся у нас базовых знаний мы можем пользоваться наблюдениями, чтобы осмыслять, казалось бы, бессмысленные факты. Ибо что это за ученый, если он лишен воображения и способности строить гипотезы о новом, неизвестном, на данный момент не поддающемся проверке? Такова самая основа научного метода. Холмс, однако, идет дальше. Он применяет тот же принцип к людям: любому последователю Холмса предлагается, «взглянув на первого встречного, научиться сразу определять его прошлое и его профессию. Поначалу это может показаться ребячеством, но такие упражнения обостряют наблюдательность и учат, как смотреть и на что смотреть». Каждое наблюдение, каждое упражнение, каждое простое умозаключение, сделанное на основе простого факта, развивает нашу способность осуществлять все более сложные операции. Так закладывается фундамент для новых навыков мышления, когда наблюдательность становится второй натурой. Именно к этому Холмс приучил себя и теперь приучает нас. Не здесь ли причина такой притягательности для нас этого сыщика? Он не просто раскрывает самые загадочные преступления, но и применяет подход, который при ближайшем рассмотрении оказывается… да, прямо-таки элементарным. Основанным на науке, на специальных приемах и тех навыках мышления, которым можно научиться, развить в себе и применять на практике. 11 В теории все это звучит заманчиво. Но вам-то с чего начать? Это же какая морока – всегда мыслить научно, быть начеку, опровергать, наблюдать, строить гипотезы, делать выводы и попутно всю прочую промежуточную работу. Что ж, это и так, и не так. С одной стороны, большинству людей в здесь предстоит проделать длинный путь. Как мы убедимся, наш разум не создан для того, чтобы по умолчанию действовать подобно разуму Холмса. С другой стороны, новым мыслительным навыкам нетрудно научиться. Наш мозг с поразительной легкостью усваивает новые способы мышления, наши нейронные связи отличаются удивительной пластичностью даже в преклонном возрасте. Рассматривая на последующих страницах ход мысли Холмса, мы поймем, как применять его методику в нашей повседневной жизни, как оперативно и вдумчиво подходить к каждому выбору, к каждой проблеме и ситуации – с тем вниманием, которого они заслуживают. Поначалу этот подход покажется неестественным. Но время и практика помогут сделать его для нас таким же привычным, как и для Холмса. Ловушки для нетренированного мозга Одна из характерных особенностей мышления Холмса – и научного мышления как такового – это скептицизм и пытливое отношение к миру. Ничто не берется на веру, как аксиома. Все подвергается тщательному анализу и только после этого принимается – либо не принимается, смотря по обстоятельствам. Увы, нашему мозгу, привыкшему к пассивности, такой подход претит. Чтобы начать мыслить подобно Шерлоку Холмсу, сперва придется преодолеть нечто вроде естественного сопротивления, пронизывающего все наше мировосприятие. В настоящее время большинство психологов сходятся во мнении, что наш мозг действует на так называемой двухсистемной основе. Одна из этих систем – быстрая, интуитивная, реактивная, нечто вроде состояния постоянной бдительности мозга, готовности бороться или бежать. Она почти не требует осознания или мыслительного усилия и функционирует как своего рода автопилот. Вторая система действует медленнее: взвешенно, тщательно, логично, но вместе с тем гораздо более затратно в когнитивном отношении. Она предпочитает ждать так долго, как только получится, и ничего не предпринимать до тех пор, пока вмешательство не станет абсолютно необходимым. Ввиду ментальных затрат на работу этой спокойной, взвешенной системы чаще мы предпочитаем ей первую – импульсивную, рефлекторную, в итоге естественное для нас состояние наблюдателя приобретает характеристики этой системы: автоматизм, интуитивность (не всегда оправданную), реактивность, поспешность суждений. При этом, разумеется, мы продолжаем двигаться и действовать. Только когда что-нибудь понастоящему завладевает нашим вниманием, вынуждает нас притормозить, становится для нас встряской, мы начинаем осознавать, переходим в более вдумчивый, рефлексивный, хладнокровный режим. Этим системам я дам свои названия: «система Ватсона» и «система Холмса». Которая из них как называется, догадаться несложно. Систему Ватсона можно представить себе как наше наивное «я», управляемое привычками ленивого мышления – теми самыми, что даются нам наиболее естественно при движении по так называемому пути наименьшего сопротивления и закрепляются на протяжении всей жизни. А система Холмса – это наше амбициозное «я», то, которое мы обретем, когда научимся применять его метод в повседневной жизни и навсегда вырвемся из рутинной системы Ватсона. Привыкнув мыслить шаблонно, наш разум заранее настроен на принятие любой поступающей информации. Сначала мы ей верим и лишь потом ставим ее под вопрос. Иначе говоря, изначально наш мозг воспринимает мир как ряд тестов с вариантами ответов «верно» и «неверно», и ответом по умолчанию неизменно является «верно». Если пребывание в 12 режиме «верно» не требует никаких усилий, то для перехода в режим «неверно» нужны бдительность, время и энергия. Психолог Дэниел Гилберт описывает этот процесс так: чтобы нашему мозгу обработать некую информацию, нам необходимо в нее поверить – хотя бы на долю секунды. Допустим, я попрошу вас подумать о розовых слонах. Вы наверняка знаете, что розовых слонов не бывает. Но, читая предыдущее предложение, вы на мгновение представляете себе розового слона. Чтобы осознать, что его не существует, вам пришлось на секунду поверить, что такой слон есть. Понимание и вера происходят одновременно, в течение мгновения. Бенедикт Спиноза первым осознал эту необходимость принятия ради постижения, а Уильям Джеймс за сотню лет до Гилберта объяснил тот же принцип следующим образом: «Вера во все суждения, будь то атрибутивные или экзистенциальные, предполагается самим фактом их формулирования». Только после такого принятия на веру мы предпринимаем усилия, чтобы усомниться, – и, как отмечает Гилберт, этот этап далек от автоматизма. В случае с розовыми слонами процесс опровержения прост. Он почти не отнимает сил и времени, тем не менее мозгу понадобится больше стараний на его обработку, чем в том случае, если бы я упомянула о серых слонах, поскольку противоречащая фактам информация требует дополнительного этапа подтверждения и опровержения, в отличие от истинной информации. Но в случае с розовым слоном слишком уж все явно. Чем сложнее понятие или идея или чем менее очевидно, верны они или неверны («В штате Мэн нет ядовитых змей». Верно или нет? Вперед! Но проверка факта возможна и в этом случае. А как насчет вот такого: «Смертная казнь – не столь суровый приговор, как пожизненное заключение». Что скажете теперь?), тем больше усилий требуется для их анализа. Вдобавок достаточно самой малости, чтобы этот процесс прервался или вообще не начался. Если мы решаем, что утверждение звучит достаточно правдоподобно («само собой, в Мэне нет ядовитых змей, а что?»), тем больше вероятность, что мы автоматически примем его на веру. Аналогично, если мы заняты, находимся в состоянии стресса, отвлекаемся или наши ментальные ресурсы исчерпаны по другой причине, мы можем и впредь считать какое-либо утверждение верным, даже не удосуживаясь проверить его, – при столкновении со множественными задачами наши интеллектуальные способности оказываются попросту слишком ограниченны, чтобы справиться со всеми задачами сразу, в результате процесс проверки информации страдает одним из первых. Когда это происходит, у нас остаются нескорректированные представления – которые мы позднее будем вспоминать как верные, хотя на самом деле они неверны. (Есть ли в штате Мэн ядовитые змеи? Да, на самом деле есть. Но если вам зададут тот же вопрос через год, еще неизвестно, как вы ответите на него, особенно если прочитали этот абзац в состоянии усталости или постоянно отвлекаясь.) Более того, не все в мире настолько однозначно, не все делится на черное и белое – или, если уж на то пошло, на розовое и серое, как наши слоны. Далеко не все то, что наша интуиция называет черным или белым, в действительности является таковым. Ошибиться ничего не стоит. В сущности, мы мало того что верим всему, что слышим, по крайней мере в первый миг; даже когда нас заранее предупредят, что нам предстоит услышать неверное утверждение, мы, скорее всего, воспримем его как верное. К примеру, в случае такого явления, как фундаментальная ошибка атрибуции (далее мы поговорим о нем подробно), мы исходим из того, что человек действительно верит в то, что говорит, и придерживаемся этого допущения, даже когда нам подробно растолкуют, что дело обстоит иначе; вероятнее всего, мы будем по-прежнему судить о говорящем в свете своего изначального допущения. Вернемся к предыдущему абзацу: как вы думаете, я действительно верю в то, что написала о смертной казни? У вас нет оснований для ответа, я же не высказывала вам своего мнения, тем не менее есть вероятность, что вы уже ответили на этот вопрос, восприняв мои слова как мое мнение. Гораздо больше тревоги внушает еще одно обстоятельство: даже когда мы слышим какое-либо отрицательное утверждение, например «Джо не связан с мафией», 13 вполне возможно, в конце концов мы запомним его неправильно, без элемента отрицания, и поверим, что Джо на самом деле связан с мафией, и даже если не поверим, то скорее всего у нас сформируется негативное мнение о Джо. А оказавшись в роли присяжных, мы даже будем склонны порекомендовать суду удлинить срок этому Джо. Мы слишком склонны одобрять и верить чересчур легко, что зачастую имеет весьма серьезные последствия как для нас, так и для окружающих. Секрет Холмса в том, чтобы каждую мысль, каждый опыт и каждое впечатление воспринимать так, словно речь идет о розовом слоне. Иначе говоря, начинать со здоровой дозы скепсиса взамен легковерия, столь естественного для нашего мозга. Ничего нельзя принимать за то, чем оно выглядит. Относитесь ко всему вокруг как к абсурду вроде животного, не существующего в природе. Начать следовать этому совету непросто, особенно немедленно, – ведь мы фактически требуем от мозга, чтобы он перешел из естественного для него состояния покоя в режим постоянной физической активности и тратил ценную энергию даже в тех случаях, в которых прежде зевал, соглашался и переходил к следующему пункту. Тем не менее это вполне возможно, особенно с помощью Шерлока Холмса. Ибо он как никто другой способен служить надежным компаньоном, постоянным образцом, демонстрирующим, как выполнить задачу, которая на первый взгляд кажется подвигом Геракла. Наблюдая Холмса в действии, мы успешнее сможем следить за работой собственного разума. «Как он ухитрился угадать, что я приехал из Афганистана?» – спрашивает Ватсон у Стэмфорда, который познакомил его с Холмсом. В ответ Стэмфорд загадочно улыбается. «Это главная его особенность, – объясняет он Ватсону. – Многие дорого бы дали, чтобы узнать, как он все угадывает». Этот ответ лишь распаляет любопытство Ватсона. Такое любопытство можно удовлетворить только в ходе длительного и пристального наблюдения, какое он и предпринимает. Для Шерлока Холмса мир по умолчанию – это мир розовых слонов. Иначе говоря, в таком мире каждый элемент входящей информации исследуется с тем же тщанием и здоровой долей скептицизма, как сообщение о самом нелепом из животных. К концу этой книги, задавшись простым вопросом «что предпринял бы и подумал в этой ситуации Шерлок Холмс?», вы обнаружите, что и ваш мир начинает приобретать сходство с его миром. Что мысли, существования которых вы прежде никогда не сознавали, можно остановить и подвергнуть сомнению прежде, чем впустить их внутрь вашего сознания. Что эти мысли, если их осознанно профильтровать, уже не смогут влиять на ваше поведение подспудно, втайне от вас. Подобно мышце, о существовании которой вы не подозревали, – той, что вдруг начинает ныть, потом развивается и крепнет по мере того, как вы все чаще пользуетесь ею, выполняя новые последовательности упражнений, – в ходе практики ваш разум ощутит, что постоянные наблюдения и непрестанный критический анализ даются вам все легче. (На самом деле, как вы убедитесь далее, речь и вправду идет о подобии мышцы.) Привычка станет второй натурой, как для Шерлока Холмса. Вы начнете предугадывать, строить логические выводы, размышление станет для вас привычным, естественным делом, и окажется, что вам уже незачем прилагать к этому особые мыслительные усилия. Ни минуты не сомневайтесь в том, что эта цель достижима. Пусть Холмс – вымышленный персонаж, но Джозеф Белл действительно существовал. Как и Конан Дойл (и его метод принес пользу не только Джорджу Эдалджи: сэр Артур приложил старания, чтобы снять обвинения с заключенного в тюрьму по ошибке Оскара Слейтера). 14 Возможно, Шерлок Холмс завладевает нашим воображением потому, что показывает: можно без особых усилий мыслить таким образом, который среднего человека способен довести до изнеможения. Благодаря Холмсу самые жесткие требования к научному мышлению выглядят осуществимыми. Недаром Ватсон, выслушав объяснения Холмса, касающиеся его метода, неизменно восклицает, что все изложенное ясно как день. Но в отличие от Ватсона мы можем научиться видеть эту ясность заранее, а не постфактум. Вдумчивость и мотивация Эта задача не из легких. Как напоминает нам Холмс, «искусство делать выводы и анализировать, как и все другие искусства, постигается долгим и прилежным трудом, но жизнь слишком коротка, и поэтому ни один смертный не может достичь полного совершенства в этой области». И это не просто красивые слова. В сущности, все сводится к единственной простой формуле: чтобы перейти от мышления по системе Ватсона к мышлению по системе Холмса, требуется вдумчивость плюс мотивация. (И вдобавок обширная практика.) Вдумчивость – то есть постоянное присутствие разума, внимательность и пребывание в настоящем, столь необходимые для подлинного, деятельного наблюдения за миром. Мотивация – то есть активная вовлеченность и страсть. В событиях, которые определенно ничем не примечательны – например, когда мы забываем, куда положили ключи, или теряем очки, только чтобы обнаружить их у себя на макушке, – виновата система Ватсона: мы действуем как на автопилоте и не отдаем себе отчета в совершаемых действиях. Вот почему мы зачастую забываем, чем занимались, когда нас прерывают, и застываем посреди кухни, удивляясь, зачем вообще сюда забрели. Система Холмса предлагает нечто вроде возвращения тем же путем, требующего напряжения памяти, чтобы отключить автопилот и вместо этого вспомнить, где и зачем мы занимались тем, чем занимались. Наша мотивированность и вдумчивость непостоянны, и в большинстве случаев это неважно. Мы действуем бездумно, экономя ресурсы для более важных дел, чем запоминание места, где лежат ключи. Но для отключения режима автопилота нам необходима мотивация, чтобы мыслить вдумчивым образом в данную конкретную минуту, прилагать усилия к тому, что происходит у нас в голове, вместо того чтобы безвольно плыть по течению. Для того чтобы мыслить подобно Шерлоку Холмсу, мы должны активно хотеть мыслить подобно ему. По сути дела, мотивация настолько важна, что исследователи часто сетуют на трудности получения объективных показателей результативности по когнитивным задачам для участников постарше и помоложе. Почему? Участники постарше зачастую гораздо более мотивированы на демонстрацию высоких результатов. Они более старательны и увлечены, более серьезны, сосредоточены на конкретной задаче, вовлечены в процесс. Для них эти действия много значат, так как свидетельствуют об интеллектуальных способностях участников, и те стремятся доказать, что с возрастом не утратили былую хватку. Для участников помоложе дело обстоит иначе. Сопоставимой мотивации у них нет. Так как же тогда точно оценивать результаты этих двух групп? Вопрос остается открытым и продолжает терзать исследователей старения и когнитивной функции. Но важен он не только в этой сфере. Мотивированные участники всегда превосходят остальных. Студенты, у которых есть мотивация, демонстрируют более высокие результаты даже в тех случаях, когда проверяются вещи вроде бы неизменные, например в тесте на коэффициент интеллекта (IQ), где они показывают в среднем на 0,064 балла выше с учетом стандартной погрешности. Мало того, мотивация обусловливает более высокую академическую успеваемость, определяет меньшее количество судимостей и более высокие результаты в работе. Дети, демонстрирующие «яростное стремление» (этот термин введен Эллен Уиннер для описания внутренней мотивации овладеть навыками в какой-либо сфере), гораздо чаще добиваются успехов в любой области, от искусства до науки. Если у нас есть 15 мотивация выучить какой-либо язык, скорее всего, наши старания увенчаются успехом. В сущности, когда мы осваиваем что-либо новое, процесс идет успешнее, если у нас есть мотивация. Даже наша память знает, мотивированы мы или нет: мы лучше запоминаем, если мы мотивированы в тот момент, когда формируется воспоминание. Это явление называется мотивированным закреплением. И наконец, третий и последний элемент: практика, практика и еще раз практика. Вдумчивую мотивацию необходимо дополнить тысячами часов безжалостных, интенсивных тренировок. Без них никак не обойтись. Вспомним феномен экспертного знания, или компетентности: эксперты во всех сферах, от шахмат до криминалистики, прекрасно помнят все, что относится к выбранной ими сфере деятельности. Познания Холмса в области преступлений всегда в его распоряжении. Шахматист зачастую держит в голове сотни партий со всеми ходами – в виде, пригодном для моментального доступа. Психолог К. Андерс Эрикссон утверждает, что эксперты иначе воспринимают мир в сфере своей компетенции: они видят то, чего не замечает новичок, им достаточно одного взгляда, чтобы выявить закономерности, отнюдь не очевидные неопытному глазу, они смотрят на детали как на часть целого и сразу понимают, какие из них важны, а какие несущественны. Система Холмса никому не дается просто так, даже самому Холмсу. Можно с уверенностью утверждать, что он в своем созданном Конан Дойлом мире с рождения, как и все мы, руководствовался системой Ватсона. Просто он в какой-то момент остановился. И научил систему Ватсона действовать по правилам системы Холмса, поставив вдумчивую рефлексию на место бездумного рефлекса. Система Ватсона по большей части является для нас врожденной. Но, осознав ее власть, мы убеждаемся – система контролирует ситуацию уже не так часто, как прежде. Как отмечает Холмс, он взял себе за правило пользоваться своей системой Холмса ежедневно, каждую минуту. Таким образом он приучал своего «внутреннего Ватсона», склонного к поспешным суждениям, поступать как подобает «внешнему Холмсу». Одной только силой привычки и воли он приучил себя направлять моментальные суждения в фарватер рефлексирующей, анализирующей мысли. Благодаря такой базе Холмсу понадобились считаные секунды, чтобы сделать первые наблюдения, касающиеся характера Ватсона. Вот почему Холмс называет это умение интуицией. Безошибочная интуиция, интуиция, которой обладает Холмс, неизбежно опирается на тренировку, на долгие ее часы. Эксперт не всегда осознает, откуда что берется, но берется все из навыка – видимого или нет. Заслуга Холмса в том, что он разъяснил суть процесса, объяснил, как горячее может стать холодным, а машинальное – осознанным. Это и есть знания, которые Эрикссон назвал экспертными: способности, порожденные интенсивной и обширной практикой, а не какой-либо внутренней одаренностью. То есть Холмс не родился частным сыщиком, лучшим из всех частных сыщиков. А практиковал вдумчивый подход к миру и со временем отточил свое искусство, довел его до уровня, который и был представлен нам. Когда первое совместное расследование близится к завершению, доктор Ватсон делает комплимент товарищу и его удивительным достижениям: «Благодаря вам раскрытие преступлений находится на грани точной науки». И вправду высокая похвала. Но в следующих главах вам предстоит научиться действовать точно так же в отношении каждой мысли с момента ее появления – как делал Артур Конан Дойл, собирая доказательства в защиту Джорджа Эдалджи, и Джозеф Белл, проводя диагностику пациентов. Шерлок Холмс достиг зрелости в период младенчества психологии. По сравнению с Холмсом мы гораздо лучше вооружены знаниями. Так давайте научимся находить им достойное применение. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ 16 «Как он ухитрился угадать…» – повесть «Этюд в багровых тонах», гл. 1 «Мистер Шерлок Холмс». «Прежде чем обратиться к моральным и интеллектуальным сторонам…», «Взглянув на первого встречного, научиться…», «Искусство делать выводы и анализировать…» – повесть «Этюд в багровых тонах», гл. 2 «Искусство делать выводы». Глава 2 «МОЗГОВОЙ ЧЕРДАК»: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ТАМ ХРАНИТСЯ? Один из самых ярких фактов, касающихся Шерлока Холмса, – полное отсутствие у него представлений о теории Коперника. «На кой черт она [Солнечная система] мне? – восклицает он, обращаясь к Ватсону в “Этюде в багровых тонах”. – Ну хорошо, пусть, как вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. А если бы я узнал, что мы вращаемся вокруг Луны, много бы это помогло мне или моей работе?» И что же теперь, когда упомянутый факт ему известен? «Я постараюсь как можно скорее все это забыть», – обещает Холмс. Забавен подобный акцент на контрасте между почти сверхчеловеческим интеллектом сыщика и его неспособностью усвоить факт столь элементарный, доступный даже ребенку. Полное незнание устройства Солнечной системы – серьезный минус для человека, которого мы избрали на роль образца владения научным мышлением, не так ли? Даже авторы сериала ВВС «Шерлок» не удержались и отвели этому эпизоду заметное место в одной из серий. Однако в данном заявлении Холмса есть как минимум два момента. Прежде всего, оно, строго говоря, не соответствует действительности. Тому свидетельство – неоднократные ссылки Холмса на астрономию в последующих историях: так, в «Обряде дома Месгрейвов» (The Musgrave Ritual) он говорит о «поправках к личному уравнению наблюдателя, как выражаются астрономы»[3]3 В большинстве существующих русских переводов этого отрывка упоминаний об астрономах нет. – Прим. пер. [Закрыть]; в «Случае с переводчиком» (The Greek Interpreter) – о «наклонности эклиптики»; в «Чертежах Брюса-Партингтона» (The Bruce-Partington Plans) – о «планете, покидающей свою орбиту». В конечном итоге Холмс пользуется почти всеми знаниями, обладание которыми отрицает на ранних стадиях своей дружбы с доктором Ватсоном. (И во вполне каноничном сериале ВВС мы тоже видим в конце концов триумф науки: оказывается, Холмс все-таки знает астрономию, и эти знания спасают положение – и жизнь мальчика.) Собственно говоря, можно утверждать, что Холмс преувеличивает свое невежество именно для того, чтобы привлечь наше внимание ко второму и, по-моему, гораздо более важному моменту. Мнимый отказ Холмса держать в памяти устройство Солнечной системы – лишь иллюстрация к представлению знаменитого сыщика о человеческом разуме, центральном для методики Холмса – и для нашей, коль скоро мы хотим ее перенять. Как объясняет Холмс Ватсону вскоре после разговора о теории Коперника, «мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить, как хотите». Когда я впервые услышала выражение «мозговой чердак» (brain attic) – еще во времена камина и потрепанного малинового переплета, – мне, семилетней, представилась чернобелая обложка книги Шела Силверстайна, стоявшей на самом видном месте у меня на книжной полке: на этой обложке перекошенное лицо с кривой улыбкой продолжалось в области лба морщинистым треугольным фронтоном, увенчанным крышей с дымовой трубой и окном с приоткрытыми ставнями. Из-за них на мир смотрело крохотное личико. Неужели об этом и говорил Холмс? О тесной комнатке со скошенным потолком и незнакомом 17 существе со смешной мордашкой, только и ждущем, чтобы потянуть за шнурок и выключить или включить свет? Как выяснилось, я была не так уж далека от истины. С точки зрения Шерлока Холмса, «мозговой чердак» – на удивление конкретное физическое пространство. Может, там есть и дымоход. А может, и нет. Но как бы ни выглядело это пространство в вашей голове, оно специально предназначено для хранения самых разнообразных предметов. И там действительно есть шнурок, за который можно потянуть, чтобы включить свет или выключить его по желанию. Как объясняет Холмс Ватсону, «дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть, или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак». Сравнение, как выяснилось, поразительно точное. Как показали позднейшие исследования процессов формирования памяти, удержания и извлечения воспоминаний, ее аналогия с чердаком неизменно продуктивна. В последующих главах мы проследим роль «мозгового чердака» в процессе мышления от самого начала до кульминации, узнаем, как его устройство и содержимое функционирует на каждом этапе и каким образом можно систематически его совершенствовать. Грубо говоря, «мозговой чердак» можно разделить на два компонента: структуру и содержимое. Структура «чердака» – то, как действует наш ум, как он получает информацию, как обрабатывает ее, как сортирует и хранит на будущее и как выбирает, стоит ли объединить ее с компонентами, которые уже хранятся в пространстве «чердака». В отличие от реального чердака, структура мозгового не является заданной раз и навсегда. Он может расширяться, хотя и не до бесконечности, или сжиматься – в зависимости от того, как мы пользуемся им (другими словами, наша память и обработка информации могут становиться более или менее эффективными). Может измениться режим извлечения информации из «чердака» («как мне получить отправленную на хранение информацию?»), может измениться система хранения («как мне складировать полученную информацию – куда она попадет? Как будет обозначена? Как объединена с остальным содержимым?»). В конечном итоге информация останется ограничена определенными рамками – опять-таки все «чердаки» разные, и рамки у каждого свои, – но в этих пределах она может приобретать самую разную конфигурацию в зависимости от того, какого подхода мы привыкли придерживаться. С другой стороны, содержимое «чердака» – это все то, что мы усвоили в мире и пережили в жизни. Наши воспоминания. Наше прошлое. Основа наших знаний, информация, к которой мы обращаемся всякий раз, столкнувшись с трудностями. Точно так же, как содержимое физического чердака со временем может меняться, так и наш «мозговой чердак» пополняется содержимым или теряет его на протяжении всей нашей жизни. Когда начинается наш мыслительный процесс, «меблировка» памяти в сочетании со структурой наших привычек и внешних обстоятельств определяет, какой предмет будет извлечен из хранилища в конкретный момент. Предположения о содержимом «чердака» человека на основании его внешнего облика становятся для Шерлока наиболее надежным способом определить, кто перед ним и на что он способен. Как мы уже убедились, большая часть поступающей в наш мозг информации не поддается нашему контролю: точно так же, как нам приходится вообразить себе розового слона, чтобы понять, что такого нет в природе, мы поневоле знакомимся, пусть даже самым поверхностным образом, с устройством Солнечной системы или трудами Карлейля, если Ватсон решит упомянуть их в разговоре с нами. Однако мы можем научиться управлять многими аспектами структуры нашего «чердака», выбрасывать мусор, попавший туда по 18 ошибке (подобно тому как Холмс обещает забыть теорию Коперника при первой же возможности), выбирать то, что нам нравится, и задвигать подальше то, что нам не по душе, и учиться осознавать очертания нашего конкретного «чердака», чтобы потом не страдать от их негативного влияния. Пусть нам никогда не достичь таких высот, как умение угадывать самые сокровенные мысли человека по его внешнему виду, но, изучив план и функции собственного «мозгового чердака», мы сделаем первый шаг к максимально эффективному использованию его особенностей – иначе говоря, узнаем, как оптимизировать процесс своего мышления, чтобы к каждому решению или действию подходить с позиций нашего наилучшего, наиболее осознанного «я». Структура и содержимое нашего «чердака» сложились не потому, что мы обязаны мыслить именно так, а не иначе, а потому, что со временем и в процессе повторений (зачастую незаметная для нас, но тем не менее практика) мы научились так думать. На каком-то уровне мы решили, что вдумчивое внимание не стоит усилий. И предпочли эффективность глубине. Значит, мы сможем научиться мыслить и совсем другим образом, даже если процесс окажется столь же долгим. Базовая структура, вероятно, останется неизменной, зато мы можем научиться изменять ее внутренние связи и компоненты и в процессе этих изменений по сути дела перестроить «чердак», так сказать, перемонтировать свои нейронные связи по мере приобретения новых мыслительных навыков. Как при всяком серьезном ремонте, некоторые значительные переделки могут занять довольно много времени. Нельзя просто взять и перестроить весь «чердак» за один день. Но ряд небольших изменений, скорее всего, проявится уже в первые дни и даже часы. И это произойдет независимо от возраста вашего «чердака» и времени, прошедшего с тех пор, как там в последний раз проводилась генеральная уборка. Иначе говоря, наш мозг способен быстро усвоить новые навыки и продолжает делать это на протяжении всей нашей жизни, а не только в молодости. Что касается содержимого «чердака», некоторым его компонентам суждено остаться там навсегда, однако в будущем мы сможем более придирчиво подходить к отбору и научиться обустраивать «чердак» так, чтобы иметь быстрый доступ к некоторым, самым ценным для нас компонентам, а другие, менее значимые или вообще не используемые, задвинуть в дальние углы. Даже если наш «чердак» не изменится до неузнаваемости, его сходство с «чердаком» Холмса окажется гораздо заметнее. Меблировка памяти В тот же день, когда Ватсон впервые узнаёт от своего нового друга о его теории дедукции – как одна капля воды позволяет сделать вывод о существовании Ниагарского водопада и так далее, – доктор получает наглядное доказательство силы дедуктивного метода, помогающего раскрыть загадочное убийство. Беседу Ватсона и Холмса о статье последнего прерывает появление посыльного с письмом из Скотленд-Ярда. Инспектор Тобиас Грегсон желает узнать мнение Холмса об одном запутанном деле. Некий человек был найден мертвым – «и никаких следов грабежа, никаких признаков насильственной смерти. На полу есть кровяные пятна, но на трупе ран не оказалось». Грегсон продолжает: «Мы не можем понять, как он очутился в пустом доме, и вообще это дело – сплошная головоломка». Недолго думая, Холмс отправляется в Лористон-Гарденс в сопровождении Ватсона. Действительно ли это дело – единственное в своем роде? Грегсон и его коллега, инспектор Лестрейд, уверены в этом. «Такого мне еще не встречалось, а ведь я человек бывалый», – заявляет Лестрейд. Нет ни зацепок, ни улик. Зато есть предположение у Холмса. «Это кровь кого-то другого – вероятно, убийцы, если тут было убийство, – сообщает он двум полицейским. – Это мне напоминает обстоятельства смерти Ван Янсена в Утрехте, в тридцать четвертом году. Помните это дело, Грегсон?» Грегсон признается, что не помнит. 19 «Прочтите, право, стоит прочесть, – советует Холмс. – Да, ничто не ново под луной. Все уже бывало прежде». Почему Холмс помнит дело Ван Янсена, а Грегсон – нет? Предположительно оба они однажды ознакомились с обстоятельствами этого дела (все-таки, чтобы занять свой пост, Грегсон наверняка прошел интенсивную подготовку), однако один сохранил воспоминания о деле, а из головы второго они выветрились полностью. Этот эпизод имеет непосредственное отношение к природе «мозгового чердака». «Чердак», управляемый по умолчанию системой Ватсона, захламлен и в целом устроен бестолково. Возможно, когда-то Грегсон был в курсе обстоятельств дела Ван Янсена, но у него отсутствовала необходимая мотивация и сосредоточенность на конкретных действиях, чтобы сохранить эту историю в памяти. И вообще, с какой стати ему держать в памяти давние преступления? А Холмс принял сознательное, мотивированное решение запоминать расследования прошлого: неизвестно, когда они могут пригодиться. У него на «чердаке» знания не теряются и не пропадают. Он намеренно придал значение мелким деталям, чего не сделал Грегсон. И это решение, в свою очередь, повлияло на то, как, что и когда Холмс вспоминает. Наша память – в сущности, отправная точка, определяющая то, как мы думаем, как формируются наши предпочтения, как мы принимаем решения. Именно содержимое «мозгового чердака» отличает один разум от другого, притом что структура обоих «чердаков» в целом идентична. Рассуждая о подборе подходящей «обстановки» для «чердака», Холмс подразумевает необходимость тщательно отбирать жизненный опыт, впечатления и воспоминания, которые мы намерены хранить еще долгое время. (Холмсу следовало бы знать: он вообще не появился бы на свет в том виде, в каком мы его знаем, если бы Артур Конан Дойл не извлек из памяти впечатления от знакомства с доктором Джозефом Беллом, чтобы создать своего персонажа – знаменитого сыщика.) Холмс имеет в виду, что инспектору полиции полезно помнить уже закрытые дела, даже вроде бы ничем не примечательные: ведь эти знания для следователя – в каком-то смысле базовые. На заре психологии бытовало мнение, будто память заполнена так называемыми энграммами – следами воспоминаний, сосредоточенными в определенных областях мозга. Для того чтобы установить местонахождение одной такой энграммы – воспоминания о замешательстве, – психофизиолог Карл Лешли обучил крыс проходить по лабиринту. Затем он удалял отдельные участки мозговой ткани крыс и снова запускал их в лабиринт. Хотя у крыс снижалась двигательная функция, некоторые хромали или ползли по всем закоулкам и развилкам лабиринта, как в трансе, тем не менее они никогда не забывали, куда двигаться, в итоге Лешли сделал вывод, что данные воспоминания хранятся отнюдь не в каком-то одном месте. Скорее, воспоминания распределены по объединенной нейронной сети, вид которой мог бы показаться Холмсу знакомым. Сегодня принято различать кратковременную и долговременную память, и, несмотря на то что точные механизмы действия обеих остаются лишь теорией, сравнение с «чердаком», хотя и весьма специфическим, похоже, не так далеко от истины. Когда мы видим что-либо, увиденное сначала зашифровывается в мозге, а затем отправляется на хранение в гиппокамп – можно считать его точкой у входа на «чердак», местом, куда мы помещаем все, прежде чем поймем, понадобится эта информация нам в дальнейшем или нет. Далее информация, которую либо вы сами считаете важной, либо ваш разум каким-то образом определяет, что она достойна хранения, основываясь на прошлом опыте и ваших прежних указаниях (то есть ориентируясь на то, что вы обычно считаете важным), будет перемещена в особый ящик на «чердаке», в конкретную папку, в определенную часть коры головного мозга – и внесена в основное хранилище, расположенное на «чердаке», в вашу долговременную память. Этот 20 процесс называется консолидацией, или закреплением. Когда вам требуется извлечь из памяти некое конкретное воспоминание, ваш разум обращается к соответствующей папке и извлекает его. Иногда при этом он достает и соседнюю папку, активируя содержимое целого ящика или всего лежащего поблизости, – это ассоциативная активация. Иногда папка ускользает, и к тому времени, как нам удается извлечь ее на свет, ее содержимое успевает измениться с тех пор, как мы его туда поместили, а мы сами об этом изменении даже не подозреваем. Так или иначе, мы заглядываем в папку и добавляем в нее то, что считаем нужным. А потом возвращаем изменившуюся папку на прежнее место. Эти этапы процесса называются извлечением (или воспроизведением) и повторным закреплением соответственно. Детали в данном случае не так важны, как картина в целом. Что-то отправляется на хранение, что-то отбрасывается и никогда не попадает в главное помещение «чердака». То, что хранится на нем, организовано в соответствии с той или иной ассоциативной системой – ваш мозг решает, где место данному конкретному воспоминанию, но если вы считаете, что в дальнейшем сможете извлекать из памяти точную копию того, что заложили в нее на хранение, то напрасно. Содержимое смещается, меняется, реорганизуется при каждом встряхивании коробки, в которой оно хранится. Положите в нее любимую книгу своего детства, и если не проявите осторожности, то в следующий раз, достав ее из коробки, увидите, что от воды пострадала именно та иллюстрация, на которую вам так хотелось взглянуть. Бросьте туда несколько альбомов с фотографиями, и снимки могут перемешаться так, что воспоминания о разных поездках перепутаются друг с другом. Почаще перебирайте то, что положили на хранение, не давайте ему пылиться. Пусть лежит сверху, чистое и готовое к вашим следующим прикосновениям (хотя кто знает, что может случиться с этим воспоминанием во время очередного путешествия наружу из коробки). А если не будете прикасаться к воспоминанию, оно постепенно станет опускаться в глубину – хотя может оказаться вытесненным на поверхность каким-нибудь внезапным течением поблизости. Забудьте о чем-либо надолго, и к тому времени, как хватитесь пропажи и начнете искать ее, она может оказаться вне досягаемости – несомненно, все на том же месте, но уже на самом дне ящика, задвинутого в самый темный угол, где вы вряд ли когда-нибудь отыщете ее. Для того чтобы знания находились в активе, надо осознать, что хранилище у нас на «чердаке» пополняется новыми предметами при каждой возможности. Обычно мы этого не замечаем, если только наше внимание не привлечет какой-нибудь их неожиданный аспект, но это не значит, что новые «единицы хранения» не поступают на наш «чердак». Они проскальзывают туда, когда мы забываем об осторожности и пассивно впитываем информацию, не прилагая сознательных усилий, чтобы управлять своим вниманием (об этом мы поговорим далее), – особенно когда нечто естественным образом привлекает нас своей интересной для всех тематикой, необычным обликом, эмоциональной окрашенностью, неожиданностью или новизной. Получается, ничего не стоит позволить неотфильтрованному миру ворваться к нам на «чердак», заполнить его первой попавшейся информацией, тем, что естественным образом привлекло наше внимание, так как заинтересовало нас или показалось актуальным. Во включающемся по умолчанию режиме системы Ватсона мы не «выбираем», какие именно воспоминания отправить на хранение. Они вроде как сохраняются сами – или, смотря по обстоятельствам, не сохраняются. Вам когда-либо случалось напоминать другу о том дне, когда вы с ним заказали вместо обеда мороженое, а потом весь день бродили по центру города и глазели на гуляющих горожан у реки, – только чтобы обнаружить, что друг ничего подобного не помнит? «Это наверняка был кто-то другой, – уверяет он. – Не я. Да я вообще не ем мороженого!» Но вы-то знаете, что с вами был именно он. И наоборот, оказавшись в роли друга в этой истории, вы никак не можете понять, о каких событиях и моментах идет 21 речь, потому что у вас не осталось ровным счетом никаких воспоминаний о них. А друг ваш свято уверен, что все было именно так, как он рассказывает. Однако Холмс предостерегает: такая стратегия опасна. Вы опомниться не успеете, как ваш разум заполнится таким количеством бесполезного хлама, что даже ценная информация окажется погребенной глубоко под ним, в итоге недосягаемой, – с таким же успехом ее вообще могло бы не быть в памяти. Важно иметь в виду: мы знаем только то, что можем вспомнить в нужный момент. Другими словами, никакой объем знаний не спасет нас, если мы не в состоянии вспомнить их, когда они нам понадобятся. Познания современного Холмса в астрономии не имеют значения, если он не вспомнит время прохождения астероида, который фигурирует на картине в решающий момент. Мальчик погибнет, а Бенедикт Камбербэтч не оправдает наших ожиданий. Неважно, что Грегсон когда-то знал о деле Ван Янсена и всех его утрехтских приключениях. Если он не в состоянии вспомнить их в Лористон-Гарденс, эти знания для него бесполезны. Как бы мы ни пытались вспомнить что-нибудь, нам это не удастся, если поверх необходимых нам воспоминаний громоздится гора других. За наше внимание будут соперничать прочие, конкурирующие воспоминания. При попытке припомнить, что я знаю о конкретном астероиде, я вспомню вечер, когда увидела падающую звезду, или как была одета моя учительница астрономии, когда впервые рассказала нам о кометах. Все зависит от того, насколько хорошо организован мой «чердак» – как я с самого начала кодирую воспоминания, по каким сигналам запускаю процесс их извлечения, насколько методичен и упорядочен мой мыслительный процесс от начальной точки до конечной. Возможно, я и храню что-то у себя на «чердаке», но правильно ли я делаю это и обеспечен ли мне своевременный доступ в хранилище – совсем другой вопрос. Он куда сложнее, чем взять и вытащить понадобившийся конкретный предмет оттуда, куда вы его когда-то положили. Однако подобного можно избежать. Хлам, конечно, неизбежно проберется на «чердак». Невозможно сохранять безупречную бдительность, какую демонстрирует Холмс. (Далее мы узнаем, что и он не настолько педантичен. И что бесполезный хлам может при удачном стечении обстоятельств оказаться драгоценной находкой с блошиного рынка.) Тем не менее нам вполне по силам строже контролировать воспоминания, которым предстоит кодирование в памяти. Если бы Ватсон – или же Грегсон – захотел взять на вооружение метод Холмса, ему не помешало бы осознать мотивированный характер кодирования: мы запоминаем больше, если мы заинтересованы и мотивированы. По всей вероятности, Ватсон хорошо помнил, как обучался медицине, а также мельчайшие подробности своих романтических похождений. И то и другое было актуально для него и завладевало его вниманием. Иными словами, у Ватсона имелась мотивация для запоминания. Психолог Карим Кассам называет это явление «эффектом “Скутера” Либби»: во время судебного процесса в 2007 г. советник президента Льюис «Скутер» Либби утверждал, что не припоминает, как разгласил имя одного из агентов ЦРУ в разговоре с кем-то из журналистов. Присяжные не поверили ему. Как можно не помнить такую важную подробность? Очень просто. В то время она вовсе не была такой важной, как выглядит в ретроспективе, а мотивация максимально значима именно в тот момент, когда мы закладываем воспоминания на «чердак», а не потом. Так называемая мотивация вспомнить (МВ) наиболее важна в момент кодирования, и никакая МВ в момент извлечения не будет эффективной, если изначально информацию не сохранили так, как полагается. Звучит невероятно, но Либби вполне мог говорить правду. Мы можем воспользоваться МВ, сознательно активизируя те же процессы, когда они нам необходимы. Когда мы действительно хотим запомнить что-либо, то можем подчеркнуть, 22 как важно уделить этому моменту внимание, сказать себе: «Вот это мне надо запомнить», и по возможности закрепить усвоенное как можно быстрее – например, рассказав о случившемся кому-то другому или самому себе, если больше некому (как правило, повторение способствует закреплению). Манипулирование информацией, игры с ней, проговаривание ее, возрождение этой информации в рассказах и жестах – гораздо более эффективный способ оптимально устроить ее на «чердаке», чем ее многократное обдумывание. Как показало исследование, студенты, объяснявшие материал по математике после того, как прочитали его один раз, проходили последующий тест успешнее, чем те, кто просто повторил этот материал несколько раз. И это еще не все: чем больше у нас сигналовподсказок, тем выше вероятность успешного извлечения воспоминаний. Если бы Грегсон с самого начала сосредоточился на всех деталях утрехтского дела сразу после того, как впервые узнал о нем, – на зрительных образах, запахах, звуках, на всем, что было в тот день в газете, – если бы ему довелось поломать голову над разными вариантами разгадки этого дела, в следующий раз он наверняка вспомнил бы его. Аналогично, если бы Грегсон увязал это дело с имеющейся у него базой знаний – иными словами, если бы вместо того, чтобы помещать на свой «чердак» новый ящик коробку или папку, он нашел бы для этого дела место в уже существующей коробке с подобными делами, например в которых на месте преступления фигурировали кровавые пятна, а на телах жертв кровь отсутствовала, или с убийствами, совершенными в 1834 г. и т. п., – эта ассоциация впоследствии помогла бы незамедлительно дать ответ на вопрос Холмса. Сгодилось бы все, что отличало эту информацию, придавало ей более личный характер, связывало с другой и, что особенно важно, делало запоминающейся. Холмс запоминает детали, имеющие значение для него, а не те, которые для него несущественны. Можно считать, что в любой конкретный момент вы знаете все, что знаете. Но на самом деле вы знаете лишь то, что можете вспомнить. Так чем же объясняется наша способность или неспособность вспомнить что-либо в конкретный момент времени? Или, иначе говоря, как структура нашего «чердака» активизирует его содержимое? Цвет предубеждения: структура «чердака» по умолчанию Осень 1888 года, Шерлок Холмс скучает. Вот уже несколько месяцев ему не попадалось хоть сколько-нибудь стоящего дела. И сыщик, к ужасу доктора Ватсона, находит утешение в семипроцентном кокаине. По словам Холмса, кокаин стимулирует умственную деятельность и проясняет сознание, что необходимо в отсутствие другой пищи для размышлений. «Но подумайте, какую цену вы за это платите! – пытается вразумить своего соседа Ватсон. – Я допускаю, что мозг ваш начинает интенсивно работать, но это губительный процесс, ведущий к перерождению нервных клеток и в конце концов к слабоумию. Вы ведь очень хорошо знаете, какая потом наступает реакция. Нет, Холмс, право же, игра не стоит свеч!»[4]4 Здесь и далее цитаты из «Знака четырех» приведены в переводе М. Литвиновой. – Прим. пер. [Закрыть] Холмса эти слова не убеждают. «Дайте мне сложнейшую проблему, неразрешимую задачу, запутаннейший случай – и я забуду про искусственные стимуляторы, – говорит он. – Я ненавижу унылое, однообразное течение жизни». И даже самые убедительные медицинские аргументы доктора Ватсона бессильны (по крайней мере, в тот момент). К счастью, в том конкретном случае дальнейшие убеждения и не требуются. В дверь громко стучат, входит хозяйка дома, миссис Хадсон, и сообщает: молодая девушка, некая мисс Мэри Морстен, спрашивает Шерлока Холмса. Ватсон так описывает появление Мэри: 23 «Мисс Морстен вошла в комнату легким, уверенным шагом, держась спокойно и непринужденно. Это была совсем молодая девушка, блондинка, хрупкая, изящная, одетая с безупречным вкусом и в безупречно чистых перчатках. Но в ее одежде была заметна та скромность, если не простота, которая наводит на мысль о стесненных обстоятельствах. На ней было платье из темно-серой шерсти, без всякой отделки, и маленькая шляпка того же серого тона, которую слегка оживляло белое перышко сбоку. Лицо ее было бледно, а черты не отличались правильностью, но зато выражение этого лица было милое и располагающее, а большие синие глаза светились одухотворенностью и добротой. На своем веку я встречал женщин трех континентов, но никогда не доводилось мне видеть лица, которое так ясно свидетельствовало бы о благородстве и отзывчивости души. Когда мисс Морстен садилась на стул, который Холмс предложил ей, я заметил, что руки и губы ее дрожат, видимо, от сильного внутреннего волнения». Кто эта девушка? Что ей могло понадобиться от сыщика? Эти вопросы служат отправной точкой «Знака четырех» – повествования, которое увлечет Холмса и Ватсона в Индию и на Андаманские острова, к низкорослым дикарям и человеку на деревянной ноге. Но всему этому предшествует разговор о самой гостье: кто она, по какому делу пришла, куда поведет дальше. На нескольких страницах мы читаем описание первой встречи Мэри, Холмса и Ватсона и видим, насколько по-разному мужчины воспринимают гостью. Но прежде вернемся назад, к тому, что происходит на нашем «мозговом чердаке», когда мы впервые оказываемся в новой ситуации или, как в «Знаке четырех», встречаемся с новым человеком. Как активизируется содержимое «чердака», о котором мы недавно говорили? Прежде всего, нашим мышлением управляет структура нашего «чердака»: свойственные ему режимы мышления и функционирования, то, как со временем мы учимся смотреть на мир и оценивать его, предпочтения и опыт, формирующие наше интуитивное, непосредственное восприятие реальности. Хотя мы только что убедились, что воспоминания и впечатления, хранящиеся на «чердаке», у каждого свои и разительно отличаются от чужих, в целом их активизация и извлечение происходят по удивительно сходной модели, придающей нашему мыслительному процессу характерную предсказуемость. Если эта модель на что и указывает, то лишь на одно: у нашего разума нет более излюбленного занятия, чем спешить с выводами. Представьте себе, что вы на вечеринке. Вы стоите в окружении друзей и знакомых, весело болтаете с бокалом в руке и мельком замечаете незнакомца, явно намеревающегося вступить в разговор. К тому времени, как он откроет рот, и даже до того, как он окажется на периферии группы, у вас, несомненно, уже сформируется ряд предварительных впечатлений, образующих вполне законченное, хотя и потенциально неточное представление о том, что за человек этот незнакомец. Как одет Джо Неизвестный? На нем бейсболка? Вы любите (терпеть не можете) бейсбол. Наверное, это отличный парень (зануда). Как он ходит и держится? Как выглядит? О, начинает лысеть? Фу, неудачник. Он что, правда думал, что ему место среди таких же молодых и классных, как вы? На кого он похож? Скорее всего, вы попробуете оценить, что общего у этого человека с вами или чем он отличается от вас – та же половая принадлежность? расовая? социальное происхождение? финансовые возможности? И даже предварительно попытаетесь наделить его особенностями характера – стеснительный? общительный? нервный? самонадеянный? – на основании одной только внешности и манеры вести себя. А может, Джо Неизвестный – на самом деле Джейн Неизвестная, и у ее крашеных волос тот же голубоватый оттенок, в какой покрасилась ваша лучшая подруга детства перед тем, как вы навсегда рассорились; вам всегда казалось, что этот цвет волос был первым предвестником неминуемой ссоры, и теперь вдруг эти воспоминания теснятся у вас в голове и придают определенный характер вашему восприятию ни в чем не повинной незнакомки Джейн. И больше вы ничего не замечаете. 24 Когда Джо или Джейн заговорят, ваши наблюдения пополнятся новыми деталями, некоторые выстроятся в ином порядке, другие усилятся, третьи будут решительно зачеркнуты. Однако ваше первое впечатление, сложившееся в ту же секунду, когда Джо или Джейн направились в вашу сторону, вряд ли изменится. Но на чем основано это впечатление? Можно ли назвать это основание существенным? Ведь бывшую подругу, к примеру, вы вспомнили только потому, что обратили внимание на оттенок волос. Когда мы видим Джо или Джейн, каждый вопрос, которым мы задаемся, каждая деталь, отфильтрованная нашим мозгом и, если так можно выразиться, вплывающая в окошко «чердака», приводит наш разум в действие, активизируя конкретные ассоциации. А эти ассоциации побуждают нас формировать мнение о человеке, с которым мы не то что никогда не говорили – даже не виделись. Возможно, вы считаете себя выше подобной предубежденности, но задумайтесь о следующем. IAT, имплицитный ассоциативный тест, измеряет расстояние между вашим осознанным отношением – в котором вы отдаете себе отчет, и неосознанным отношением, образующим невидимый каркас вашего «чердака» и находящимся вне области вашей непосредственной осведомленности. С помощью этого теста можно оценить неявную предубежденность по отношению к любым группам (хотя чаще всего проводится тестирование на расовые предрассудки), определяя разницу во времени ассоциативной реакции на положительные и отрицательные характеристики и изображения представителей группы. В некоторых случаях типичные позитивные характеристики были представлены одной и той же клавишей: к примеру, «европеоидный американец» и «хороший» ассоциировались, допустим, с клавишей I, а «афроамериканец» и «плохой» – с клавишей Е. В других случаях их представляли разные клавиши: к примеру, клавиша I – «афроамериканец» и «хороший», а «европеоидный американец» перемещался к клавише Е и слову «плохой». Быстрота категоризации в каждом из этих случаев определяет неявную, имплицитную предубежденность. Возьмем расовый пример: если участник быстрее справлялся с категоризацией, когда «европеоидный американец» и «хороший» были объединены одной клавишей, как и в случае, когда общую клавишу получал «афроамериканец» и «плохой», этот результат толковали как имплицитные расовые предрассудки[5]5 В интернете можно самостоятельно пройти тест IAT на сайте Имплицитного проекта Гарвардского университета, implicit.harvard.edu. [Закрыть]. Надежность этих результатов подкреплена их широкой воспроизводимостью: даже у людей, чьи показатели стереотипного отношения были весьма низки по их собственной оценке (к примеру, на четырехбалльной шкале от «строго женского» до «строго мужского» при ответе на вопрос «с каким полом у вас четко ассоциируется карьера – с женским или мужским?»), разница во времени реакции при проведении теста IAT свидетельствовала совсем о другом. В ходе исследования связанных с расовыми характеристиками суждений при проведении теста IAT около 68 % из более чем 2,5 млн участников показали результаты, соответствующие предубежденности. Когда речь зашла о возрасте (то есть о предпочтении молодых пожилым), доля предубежденных участников составила 80 %. Когда об инвалидах – тех, кто предубежденно относился к людям с ограниченными возможностями, насчитывалось 76 %. Натуралов предпочли гомосексуалам 69 % участников, худых людей толстым – 69 %. Этот список можно продолжать. В свою очередь, эти предубеждения влияют на то, как мы принимаем решения. Наше изначальное видение мира предопределяет наши выводы, оценки и выбор, который мы делаем в каждый конкретный момент времени. 25 Это не значит, что мы действуем заведомо предубежденно; мы вполне способны сопротивляться примитивным импульсам нашего мозга. Однако это означает, что предубеждения заложены на самом фундаментальном уровне. Можете сколько угодно уверять, что к вам это не относится, но скорее всего, вы ошибаетесь. Вряд ли кто-то полностью застрахован от предрассудков. Наш мозг запрограммирован так, чтобы стремительно выносить суждения, он оснащен объездами и спрямляющими путями, которые упрощают задачу получения и оценки огромных объемов входящей информации, ежесекундно поступающей к нам извне. Это совершенно естественный процесс. Если бы нам пришлось задумываться над каждой мелочью, мы погрязли бы в них. Мы бы застряли на одном месте. И ни за что не сумели бы продвинуться дальше первого оценочного суждения. В сущности, мы вообще не смогли бы выносить суждения. Наш мир слишком быстро стал бы чересчур сложным. Как выразился Уильям Джеймс, «если бы мы запоминали все, в большинстве случаев нам приходилось бы так же тяжко, как если бы мы ничего не помнили». Наше восприятие мира и представления о нем очень консервативны, наши предубеждения на редкость прилипчивы. Но консервативность и прилипчивость не означают неизменности и непреложности. Оказывается, даже показатели IAT можно изменить к лучшему с помощью воздействия на испытуемого и определенных интеллектуальных упражнений, влияющих на те самые предубеждения, наличие которых тестируется. К примеру, если показать участнику эксперимента снимки веселых афроамериканцев на пикнике, а потом провести IAT на расовые предрассудки, уровень выявленной предубежденности значительно снизится. И Холмс, и Ватсон способны моментально высказывать суждения, но кратчайшие пути их мысли разительно отличаются. Если Ватсон – олицетворение «разума по умолчанию», схемы, внутри которой соединения и подключения находятся в обычном, большей частью пассивном состоянии, то Холмс демонстрирует нам, как можно перемонтировать эту схему так, чтобы обойти моментальные реакции, препятствующие более объективным и обстоятельным суждениям о том, что нас окружает. К примеру, представим себе, что тест IAT проходят врачи. Сначала каждому из них показывают фотографию пятидесятилетнего мужчины. На одних снимках он белый, на других – чернокожий. Затем врачей просят представить себе, что изображенный на снимке человек – пациент с симптомами инфаркта. Как бы они лечили его? Дав ответ, врачи проходили затем тест IAT на расовые предрассудки. В одном отношении результаты теста оказались типичными. Большинство врачей продемонстрировало некоторую степень предубежденности. А потом обнаружилась примечательная подробность: предубежденность, выявленная по результатам теста, не обязательно выливалась в предубежденность при лечении гипотетического пациента. В среднем врачи могли ответить, что прописали бы необходимое лечение как чернокожему, так и белому пациенту, и, как это ни странно, врачи, которые производили впечатление более предубежденных, в действительности одинаково относились к представителям обеих групп чаще, чем их менее предубежденные коллеги. Действия нашего мозга на уровне инстинктов и наши действия – не одно и то же. Но означает ли это, что предубежденность рассеялась, что мозг не спешит с выводами на основании имплицитных ассоциаций, возникающих на самом базовом уровне когнитивной деятельности? Вряд ли. Зато означает, что правильная мотивация способна противодействовать такой предубежденности и снизить ее уровень в реальном поведении. Поспешность, с которой наш мозг делает выводы, – не тот режим, в котором нам предопределено действовать. В конечном итоге, кому еще контролировать наше поведение, если не нам самим, – достаточно только захотеть. 26 Когда вы заметили Джо Неизвестного на вечеринке, произошло то же самое, что происходит даже с теми людьми, которые не уступят в наблюдательности Шерлоку Холмсу. Но подобно врачам, со временем привыкшим принимать во внимание некоторые симптомы, а остальные отметать как не имеющие отношения к делу, Холмс научился фильтровать инстинктивные действия мозга, различать среди них те, которые стоит (или не стоит) учитывать, оценивая незнакомого человека. Что дает Холмсу такую возможность? Чтобы изучить этот процесс в действии, предлагаю еще раз обратиться к эпизоду в «Знаке четырех», когда перед нами впервые предстает таинственная посетительница Мэри Морстен. Одинаково ли воспринимают Мэри оба мужчины? Вовсе нет. Ватсон прежде всего обращает внимание на внешность дамы. И отмечает, что она очаровательна. Это к делу не относится, возражает Холмс. «Самое главное – не допускать, чтобы личные качества человека влияли на ваши выводы, – объясняет он. – Клиент для меня – некоторое данное, один из компонентов проблемы. Эмоции враждебны чистому мышлению. Поверьте, самая очаровательная женщина, какую я когда-либо видел, была повешена за убийство своих троих детей. Она отравила их, чтобы получить деньги по страховому полису. А самую отталкивающую наружность среди моих знакомых имел один филантроп, истративший почти четверть миллиона на лондонских бедняков». Однако Ватсон не согласен. «Но на сей раз…» – перебивает он. Холмс качает головой. «Я никогда не делаю исключений. Исключения опровергают правило». Довод Холмса ясен. Не то чтобы человек не испытывает эмоций или же способен абстрагироваться от впечатлений, которые образуются в уме почти автоматически. (В дальнейшем он говорит о мисс Морстен: «Должен сказать, что она очаровательная девушка» – высшая из возможных похвала в устах Холмса.) Однако эти впечатления не должны становиться препятствием для объективных умозаключений. («Но любовь – вещь эмоциональная, и, будучи таковой, она противоположна чистому и холодному разуму. А разум я, как известно, ставлю превыше всего», – добавляет Холмс сразу после того, как признает очарование Мэри.) Можно согласиться с тем, что некое впечатление у вас сложилось, а затем сознательно отодвинуть его в сторону. Можно согласиться, что Джейн напоминает вашу заклятую школьную подругу, и забыть об этом. Подобный эмоциональный багаж значит не так много, как можно подумать. И делать из этого правила исключения не следует никогда. Их нет. Но как же трудно применять любой из этих принципов – не принимать во внимание эмоции, никогда не делать исключений, как бы вам этого ни хотелось, – в реальной жизни! Ватсону очень хочется верить только в лучшее в женщине, пленившей его, а все ее недостатки объяснять неблагоприятными обстоятельствами. Невоспитанный разум Ватсона упорно нарушает все правила умозаключений и восприятий, сформулированные Холмсом: сначала сделано исключение, затем дана воля эмоциям, и полностью утрачена холодная беспристрастность, о необходимости которой твердит Холмс. С самого начала Ватсон склонен быть хорошего мнения о гостье. Уже в расслабленном, довольном настроении он ведет характерную шутливую беседу с соседом-сыщиком. И, к худу или к добру, влияние этого настроения сказывается на его суждениях. Это явление называется эвристическим аффектом: мы мыслим так, как мы чувствуем себя. В радостном и расслабленном состоянии мы воспринимаем мир более покладисто и менее настороженно. Ватсон чувствовал расположенность к гостье еще до того, как узнал о ее приходе. И что же происходит после ее прибытия? То же, что и на вечеринке. Когда мы видим незнакомого человека, наш разум активизируется в соответствии с предсказуемой схемой, 27 заранее определенной нашим прошлым опытом, нынешними целями, в том числе и мотивацией, и состоянием в данный момент. Когда мисс Мэри Морстен входит в дом 221В по Бейкер-стрит, Ватсон видит «молодую блондинку, хрупкую, изящную, одетую с безупречным вкусом и в безупречно чистых перчатках. Но в ее одежде была заметна та скромность, если не простота, которая наводит на мысль о стесненных обстоятельствах». Этот образ сразу же вызывает у Ватсона воспоминания о других знакомых ему юных хрупких блондинках – заметьте, не о кокетках, а о бесхитростных, простых, непритязательных девушках, которые не кичатся своей красотой, а облагораживают ее темно-серым платьем «без всякой отделки». И выражение лица Мэри стало для него «милым и располагающим, а большие синие глаза светились одухотворенностью и добротой». Ватсон завершает свой вступительный гимн словами: «На своем веку я встречал женщин трех континентов, но никогда не доводилось мне видеть лица, которое так ясно свидетельствовало бы о благородстве и отзывчивости души». С места в карьер добряк-доктор переходит от цвета волос, лица и покроя платья к простирающемуся гораздо дальше суждению о характере. Внешний вид Мэри предполагает простоту; возможно, так и есть. Но делает ли он ее милой? Располагающей? Одухотворенной? Утонченной и чувствительной? У Ватсона нет никаких оснований выносить любое из перечисленных суждений. Мэри еще не успела сказать ни слова в его присутствии. Она только вошла в комнату. А в игру уже вступило множество предвзятых выводов, соперничающих друг с другом в стремлении создать завершенное представление о незнакомке. В какой-то момент Ватсон обращается к своему предположительно немалому опыту, к обширным хранилищам своего «чердака» под грифом «Женщины, которых я встречал», чтобы дополнить деталями образ новой знакомой. Даже если он действительно был знаком с женщинами трех континентов, у нас нет причин полагать, что его оценки в этом случае верны – если, конечно, нам не сообщат, что в прошлом Ватсону всегда удавалось успешно оценить характер женщины по первому впечатлению. Но почему-то я в этом сомневаюсь. Ватсон очень кстати забывает, сколько времени ему понадобилось, чтобы как следует узнать своих прежних знакомых – если допустить, что он вообще успевал с ними познакомиться. (Отметим также, что Ватсон – холостяк, только что вернувшийся с войны, раненый и в целом одинокий, не имеющий друзей. Каким, скорее всего, окажется хроническое мотивационное состояние такого человека? А теперь представим себе, что он женат, любимец всего города и вдобавок преуспевает. Как он, в соответствии с этими обстоятельствами, оценит Мэри теперь?) Эта широко распространенная и явная склонность известна как эвристика доступности: в любой конкретный момент времени мы пользуемся тем, что доступно разуму. Чем проще процесс извлечения воспоминаний, тем увереннее и точнее мы применяем их. В ходе одной из классических демонстраций действия этого эффекта участники, читая упоминающиеся в неком тексте незнакомые имена, впоследствии расценивали эти имена как знаменитые – просто потому, что с легкостью могли припомнить их, – и в дальнейшем у них прибавлялось уверенности в верности своих суждений. Для испытуемых ощущение собственной осведомленности само по себе стало достаточным подкреплением такой уверенности. Они даже не задумались о том, что причина подобной легкости кроется в доступности информации, с которой они недавно уже сталкивались. Эксперименты вновь и вновь демонстрируют: когда что-либо в окружающей обстановке, будь то образ, человек или слово, выступает в качестве «затравки», у человека улучшается доступ к смежным областям – другими словами, эти области становятся более доступными, – и он с большей вероятностью воспользуется ими, давая уверенные ответы независимо от их точности. Облик Мэри спровоцировал в памяти Ватсона лавину ассоциаций, которые, в свою 28 очередь, создали мысленный образ Мэри, состоящий из тех ассоциаций, которые ей довелось активизировать, но не обязательно соответствующих «настоящей Мэри». Чем больше Мэри соответствует вызванным образам (эвристика представительности), тем отчетливее окажется впечатление и тем увереннее будет Ватсон в своей объективности. Забудем все прочее, что известно или не известно Ватсону. Дополнительная информация не приветствуется. Вот вопрос, которым вряд ли задался наш галантный доктор: сколько из встреченных им женщин действительно оказывались сразу и утонченными, и восприимчивыми, и одухотворенными, и добрыми, и милыми, и располагающими? Насколько типично подобное сочетание свойств, если рассматривать население планеты в целом? Рискну предположить, что оно встречается довольно редко, даже если мы примем во внимание светлые волосы и синие глаза, несомненные признаки праведности и прочего. Сколько всего женщин припоминает Ватсон при виде Мэри? Одну? Двух? Сотню? Какова общая численность этой выборки? Опять-таки могу поручиться, что не очень велика, вдобавок отбор производился заведомо предвзято. Хотя мы не знаем, какие именно ассоциации активизировались в голове доктора при первой встрече с мисс Морстен, но наверняка самые недавние (эффект новизны), самые яркие (наиболее броские и запоминающиеся; а как же синеглазые блондинки, оказавшиеся скучными, унылыми и ничем не примечательными? Вряд ли доктор на этот раз вспомнил их вообще), наиболее привычные (те, к которым его разум обращался чаще, чем к остальным, – опять-таки вряд ли самые репрезентативные из данной выборки). И все перечисленное с самого начала повлияло на отношение к Мэри. Теперь понадобится землетрясение, а может, и еще более значительная встряска, чтобы Ватсон изменил первоначальную оценку. Непреклонность Ватсона выглядит особенно явно из-за физической природы изначального триггера: лицо – вероятно, самый мощный сигнал для человека из всех возможных, оно наиболее императивно диктует нам и ассоциации, и поступки. Для того чтобы убедиться в силе воздействия лица, посмотрим на эти снимки и ответим на два вопроса. 1. Какое из этих лиц привлекательнее? 2. Кто из этих людей авторитетнее? 29 Если бы я продемонстрировала вам эти снимки как краткую вспышку за одну десятую долю секунды, ваше мнение о них, скорее всего, совпало бы с суждениями сотен других людей, которым я показывала эти два снимка таким же способом. Но мало того: снимки выбраны отнюдь не произвольно. Это фотографии двух политических соперников, кандидатов на выборах 2004 г. в сенат США от штата Висконсин. А ваша оценка авторитетности (как показателя силы и надежности) с довольно высокой степенью указывает на победителя выборов (это человек на левом снимке; ваша оценка авторитетности ведь совпала с этим результатом?). Примерно в 70 % случаев уровень авторитетности, определенный по результатам секундного просмотра, предсказывает реальные итоги политической борьбы. Такая предсказуемость отмечена для выборов повсюду – от США до Англии, от Финляндии до Мексики, от Германии до Австралии. По очертаниям подбородка и улыбке наш мозг определяет, кто будет успешнее действовать в наших интересах. (И вот вам результат: Уоррен Хардинг – президент с самым волевым подбородком в истории!) Мы запрограммированы поступать именно так, как не следовало бы: спешить с выводами на основании почти неуловимого, подсознательного сигнала, в котором мы даже не отдаем себе отчет, а последствия для нас порой оказываются гораздо более серьезными, чем для Ватсона с его чрезмерным доверием к клиентке с симпатичным личиком. У неподготовленного Ватсона уже нет шансов включить ту честную и хладнокровную рассудительность, которая у Холмса словно бы в крови. Как мимолетное впечатление, касающееся авторитетности, способно стать решающим для голосования на политических выборах – так и ошеломляюще позитивная оценка Мэри, сделанная Ватсоном, закладывает фундамент для дальнейших действий, закрепляющих первое впечатление. В дальнейшем на суждения доктора будет оказывать заметное влияние эффект первичности – постоянное воздействие первого впечатления. Ватсон, чьи глаза застилает розовый туман, с большей вероятностью окажется жертвой галоэффекта (когда какой-либо элемент, в данном случае физическая внешность, производит впечатление позитивного, скорее всего, мы будем воспринимать как позитивные и другие элементы, а все, что не укладывается в эту схему сразу же, будет подсознательно опровергаться с помощью логики). Кроме того, Ватсон окажется предрасположен к классической ошибке атрибуции: все негативное, касающееся Мэри, будет восприниматься как следствие внешних обстоятельств – стресса, усилий, неудач, чего угодно, а все позитивное – как ее собственные свойства. Ей поставят в заслугу все, что в ней есть хорошего, а во всем плохом окажется виноватым окружение. А как же стечение обстоятельств? Для доктора в данном случае это несущественно. А то, что нам, как правило, редко удается верно спрогнозировать будущие события или человеческие поступки? На суждения Ватсона и это знание никак не влияет. Ведь в отличие от Холмса доктор даже не задумывается о подобных вещах и не пытается оценить собственную компетентность. При этом Ватсон, скорее всего, совершенно не подозревает, какой эквилибристикой занимается его разум, чтобы составить связное представление о Мэри, создать из разрозненных фрагментов информации осмысленный и интуитивно привлекательный сюжет. И, как в самоисполняющемся пророчестве, влекущем искаженные последствия, поведение Ватсона может побудить Мэри действовать так, чтобы подтвердить составленное им первое впечатление о ней. Если он поведет себя по отношению к Мэри так, словно она прекрасный ангел, та скорее всего ответит ему ангельской улыбкой. Если вы полагаете, что правильно поняли увиденное, то в конце концов и правда получите то, чего ожидали. И все это время будете пребывать в блаженном неведении, убежденные, что действовали исключительно разумно и объективно. Это великолепная иллюзия истинности, избавиться от нее чрезвычайно трудно даже в тех обстоятельствах, сама логика которых ее вроде бы опровергает. (К примеру, кадровикам свойственно принимать решение, касающееся 30 кандидата, уже в первые несколько минут собеседования, а иногда и быстрее, сразу же после знакомства. И даже если в дальнейшем поведение кандидата нарисует иной образ, маловероятно, что кадровик изменит мнение, сколь бы убедительными ни оказались новые обстоятельства.) Представьте себе, что вам необходимо решить, подходит ли конкретный сотрудник (назовем ее Эми) для пополнения команды. Теперь я немного расскажу вам об Эми. Прежде всего, она умна и трудолюбива… На этом пока остановимся. Есть вероятность, что вы уже думаете: «Да-да, прекрасно, работать с таким человеком – одно удовольствие, ум и трудолюбие – как раз то, что я хотел бы видеть у коллег». А если я продолжу рассказ словами «завистлива и упряма»? Совсем другое дело, верно? Но ваше первоначальное убеждение окажется на удивление сильным. Скорее всего, вы отмахнетесь от последних двух характеристик, а двум первым придадите больше веса, чем следовало бы, и все из-за того, что усвоили их чуть раньше. Поменяйте местами части фразы – и получите противоположный результат: никакой ум и трудолюбие не спасут человека, которого вы изначально увидели завистливым и упрямым. Или задумайтесь над следующими двумя вариантами характеристики человека: «умный, умелый, трудолюбивый, душевный, решительный, практичный, осмотрительный»; «умный, умелый, трудолюбивый, неприветливый, решительный, практичный, осмотрительный». Вы наверняка заметили, что эти два списка различаются лишь словами «душевный» и «неприветливый». Тем не менее в ходе эксперимента, когда участникам давали сперва прослушать один из двух списков, а потом просили выбрать две черты, наиболее точно характеризующие человека (в списке из восемнадцати пар участникам предстояло выбрать одну черту для каждой пары), окончательное впечатление после прослушивания обоих списков разительно отличалось от первоначального. Испытуемые с большей вероятностью находили одного человека великодушным, а второго – наоборот. Вы скажете, великодушие – неотъемлемая составляющая душевности. Почему же нельзя сделать именно такое суждение? Предположим, что в данном случае так оно и есть. Однако участники заходили еще дальше: они упорно оценивали одного человека более позитивно, чем второго, на основании черт, не имеющих никакого отношения к душевности. Они не только считали одного из них более общительным и популярным (что вполне логично), но и с большей вероятностью приписывали ему такие свойства, как мудрость, жизнерадостность, добродушие, чувство юмора, гуманизм, привлекательную внешность, альтруизм и богатое воображение. Вот что значит одно-единственное слово: оно может придать тот или иной оттенок восприятию человека, даже если все прочие пункты описания останутся неизменными. Это первое впечатление сохранится, как у Ватсона, плененного волосами, глазами и нарядом мисс Морстен и продолжающего в том же духе оценивать ее человеческие качества и возможность или невозможность тех или иных поступков. Нам нравится последовательность и не нравится ошибаться. Поэтому наше первоначальное впечатление оказывает на нас преувеличенное воздействие вне зависимости от того, подтвердится оно или нет. А что же Холмс? Как только Мэри уходит, Ватсон восклицает: «Какая очаровательная девушка!» Холмс отвечает коротко: «Очаровательная? Я не заметил». А потом предостерегает: вынося суждение о ком-либо, нельзя допускать, чтобы на это суждение повлияли личные качества данного человека. 31 Действительно ли Холмс в буквальном смысле слова чего-то не заметил? Совсем напротив. От его внимания не ускользнула ни одна из физических деталей, увиденных Ватсоном, и скорее всего немало других. Чего не сделал Холмс, в отличие от доктора, так это вывода, будто гостья чрезвычайно очаровательна. В этом заявлении Ватсон перешел от объективных наблюдений к субъективному мнению, наполняя физические факты эмоциональными свойствами. Именно об этом и предупреждает Холмс. Возможно, Холмс даже признаёт объективный характер ее привлекательности (хотя, если помните, даже Ватсон вначале отмечает, что лицо Мэри «было бледно, а черты не отличались правильностью»), тем не менее отметает это наблюдение как не относящееся к делу почти сразу же, как только у него возникает подобная мысль. Холмса и Ватсона отличает не только содержимое «чердаков» – один из которых обставлен мебелью, собранной сыщиком, называющим себя одиночкой, любящим музыку вообще и оперу в частности, курящим трубку, занимающимся стрельбой в закрытых помещениях и интересующимся запутанными и малоизвестными трудами по химии и архитектурой Ренессанса; другой «чердак» принадлежит военному врачу, который считает себя донжуаном, любит сытно пообедать и приятно провести вечерок, – но и то, как изначально их разум расставлял эту мебель. Холмс знает недостатки своего «чердака» как свои пять пальцев или струны своей скрипки. Ему известно: сосредоточившись на чем-либо приятном, он потеряет бдительность. Он знает: стоит позволить себе растрогаться при виде несущественной физической подробности – и рискуешь утратить объективность остальных наблюдений. Он понимает, что если слишком поспешит с выводом, то упустит множество опровергающих свидетельств и уделит чрезмерное внимание подкрепляющим. И знает, насколько сильным будет стремление действовать в соответствии с первым сделанным умозаключением. Поэтому он старается как можно придирчивей отбирать элементы, изначально допускаемые на «чердак». Иначе говоря, для той «мебели», которая уже имеется на «чердаке», а также для потенциальной, той, что стремится преодолеть барьер гиппокампа и попасть на длительное хранение. Ибо не следует забывать: любое впечатление, любое явление мира, на которое мы обращаем внимание, – это будущее воспоминание, готовое к формированию, новый предмет меблировки, новое изображение, добавленное в папку, новый элемент, который предстоит вместить нашему и без того забитому «чердаку». Мы не можем запретить нашему разуму формировать первичные суждения. Нам не под силу контролировать каждый сохраненный компонент информации. Зато мы можем подробнее разузнать о фильтрах, обычно стоящих на входе к нам на «чердак», и прибегать к мотивации, чтобы уделять больше внимания тому, что соответствует нашим целям, и не придавать особого значения всему тому, что к ним не относится. Холмс вовсе не арифмометр, как называет его уязвленный Ватсон, обнаружив, что Холмс вовсе не разделяет его восторженное отношение к Мэри. (Однажды Холмс тоже восторженно отзывается о женщине – об Ирен Адлер. Но лишь после того, как она победит его в поединке умов и докажет, что со столь опасным противником, каков бы ни был его пол, Холмс еще не сталкивался.) Холмс просто понимает, что перед ним части единого целого, они могут быть обусловлены как характером, так и обстоятельствами, независимо от их вектора, вдобавок помнит, сколь драгоценно место на «чердаке», следовательно, надо как следует задумываться о том, что мы добавляем в коробки, уже отправленные туда на хранение. Вернемся к Джо или Джейн Неизвестным. Насколько иначе могла бы пройти эта встреча, если бы мы руководствовались подходом Холмса? Мы замечаем бейсболку Джо или крашеные волосы Джейн, в голове всплывают положительные или отрицательные ассоциации. Мы понимаем, что хотим или, наоборот, не хотим тратить время на знакомство 32 с этим человеком… но еще до того, как Неизвестный открывает рот, мы делаем паузу и абстрагируемся от самого себя. Или, скорее, углубляемся в себя. И понимаем, что наши суждения откуда-то взялись, как бывает всегда, и бросаем еще один взгляд на человека, который направляется к вам. Если оценивать незнакомца объективно, дает ли что-нибудь в его облике основание для неожиданно сложившегося у вас впечатления? Может быть, Джо неприятно усмехается? Или Джейн по пути к вам кого-то оттолкнула с дороги? Нет? Значит, ваша неприязнь исходит из другого источника. Возможно, задумавшись всего на секунду, вы поймете, что все дело в бейсболке или крашеных волосах. А может, и нет. В любом случае, вы признаете, во-первых, что уже предрасположены с симпатией или с неприязнью отнестись к незнакомому вам человеку, и, во-вторых, что вам необходимо скорректировать свое впечатление. Кто знает, может, оно и окажется верным. По крайней мере, во второй раз оно будет основано на объективных фактах и возникнет уже после того, как вы дадите Джо или Джейн шанс заговорить. И тогда, в разговоре, сможете заняться наблюдениями: замечать детали внешности, манеры, особенности речи. Все это изобилие свидетельств вы сможете обработать, прекрасно притом сознавая, что на каком-то уровне или в какой-то момент времени уже решили придавать больше значения тем или иным подробностям, следовательно, сможете попытаться оценить их заново. Возможно, у Джейн нет ничего общего с вашей подругой. А с Джо вас хоть и не связывает любовь к бейсболу, но с таким человеком вы не прочь познакомиться поближе. Или же вы с самого начала были правы. Конечный результат не так важен, как возможность осознать, что ни одно суждение, каким бы позитивным или негативным, убедительным или явно никчемным оно ни было, не возникает на совершенно пустом месте. К тому времени, как мы осознаём собственное суждение, оно успевает пройти ряд фильтров в процессе взаимодействия содержимого нашего «мозгового чердака» и его окружения. Мы не можем сознательно запретить себе формировать подобные суждения, но можем научиться понимать свой «чердак», его особенности, склонности и предпочтения и приложить старания, чтобы отправная точка всегда оказывалась более объективной независимо от того, идет ли речь о человеке, ситуации или выборе. Внешнее окружение: власть случайности В случаях с Мэри Морстен, а также с Джо или Джейн Неизвестными элементы физической внешности активизируют в нас предубеждения, и эти элементы представляют собой неотъемлемую часть ситуации. Но иногда наши предубеждения приводятся в действие факторами, никак не связанными с тем, чем мы заняты, – мелкими, но коварными. Несмотря на то что они остаются вне пределов нашего осознания (а зачастую именно по этой причине) и не имеют ровным счетом никакого отношения к тому, чем мы заняты, именно эти элементы легко могут повлиять на наше суждение самым решительным образом. Обстановка воздействует на нас на каждом шагу. В рассказе «Медные буки» Ватсон и Холмс едут в поезде. Ватсон смотрит в окно на уплывающие вдаль дома Олдершота. «– До чего приятно на них смотреть! – воскликнул я с энтузиазмом человека, вырвавшегося из туманов Бейкер-стрит. Но Холмс мрачно покачал головой. – Знаете, Уотсон, – сказал он, – беда такого мышления, как у меня, в том, что я воспринимаю окружающее очень субъективно. Вот вы смотрите на эти рассеянные вдоль дороги дома и восхищаетесь их красотой. А я, когда вижу их, думаю только о том, как они уединенны и как безнаказанно здесь можно совершить преступление»вЂЉ[6]6 Здесь и далее цитаты из «Медных буков» приведены в переводе Н. Емельяниковой. – Прим. пер. 33 [Закрыть]. Холмс и Ватсон смотрят на одни и те же дома, но видят их совершенно по-разному. Даже если Ватсону удастся приобрести навыки наблюдательности, свойственные Холмсу, это первоначальное впечатление все равно никуда не денется. Дело не только в том, что доктор отличается от своего проницательного друга привычками и воспоминаниями, – внимание Ватсона зацепляют совсем другие детали внешнего окружения и соответственно запускают его мысли по иным путям. Задолго до того, как Ватсон начал восторгаться вслух красотой домов, мимо которых проезжает, это окружение побудило его к определенным мыслям, заставило замечать подробности особого рода. Пока он сидел в вагоне молча, от него не ускользали детали пейзажа; стоял «прекрасный весенний день, бледно-голубое небо было испещрено маленькими кудрявыми облаками, которые плыли с запада на восток». Солнце светит ярко, «в воздухе царит веселье и бодрость». И вдруг среди яркой весенней листвы Ватсон замечает дома. Разве удивительно, что Ватсон видит свой мир купающимся в розовом отблеске счастья? Прелесть непосредственного окружения настраивает его мысли на позитивный лад. Однако этот настрой, как выясняется, совершенно не нужен для формирования суждений. Дома не изменятся, даже если Ватсона охватит грусть и подавленность, только его восприятие этих домов, скорее всего, станет другим (они наверняка станут выглядеть одинокими и мрачными). В данном конкретном случае неважно, как Ватсон воспринимает дома – как жизнерадостный образ или наоборот. А если, допустим, он формирует это суждение прежде, чем подойти к одному такому дому, попросить разрешения воспользоваться телефоном, провести осмотр или расследовать преступление? Тут безопасность этих домов внезапно приобретает немалое значение. Захочется ли вам подойти к такому дому в одиночку и постучаться в дверь, если есть вероятность, что его обитатели враждебны и способны безнаказанно совершить преступление? Лучше бы ваше мнение об этом доме было адекватным, а не навеянным единственно влиянием солнечного дня. Не только содержимое нашего «чердака» умеет исподволь воздействовать на наши суждения; следует помнить, что на них влияет и окружающий мир. Отсутствие некоего элемента на нашем «чердаке» не значит, что данный элемент не начнет атаковать фильтры нашего «чердака» снаружи. «Объективного» окружения не существует. Есть только наше восприятие этого окружения, а это восприятие зависит отчасти от привычных способов мышления (настроение Ватсона), отчасти от непосредственных обстоятельств (солнечный день). Но нам трудно осознать степень влияния, которое фильтры нашего «чердака» оказывают на нашу интерпретацию окружающего мира. Не только неподготовленный Ватсон способен поддаться искушению чудесного весеннего дня, и едва ли его можно винить в такой реакции. Погода – на редкость действенная «подводка», она регулярно оказывает на нас влияние, даже если мы об этом не подозреваем. Например, в солнечные дни люди чаще утверждают, что они счастливы, и в целом больше довольны жизнью, чем в ненастье. Однако сами люди не подозревают об этой связи: они искренне верят в то, что реализовались как личности, когда видят в голубом небе солнце, совсем как Ватсон, глядящий в окно вагона. Этот эффект не исчерпывается самоощущением, он влияет на принятие важных решений. В дождливые дни абитуриенты, выбирающие колледж, более мотивированы учиться, чем в солнечные, и при увеличении облачного покрова в день визита в колледж вероятность подачи документов именно в этот колледж для конкретного студента возрастает на 9 %. Когда погода портится, финансовые трейдеры с большей вероятностью принимают решения, позволяющие избегать риска; но, как только выглядывает солнце, частота рискованных 34 решений возрастает. Погода – не просто нарядные декорации. Она непосредственно влияет на то, что мы видим, на чем сосредоточиваемся, как оцениваем мир. Но хотим ли мы выбирать колледж, оценивать общий уровень своего счастья (интересно, в какие дни замышляется больше разводов и разрывов отношений – в дождливые или в солнечные?) или принимать решения в бизнесе в зависимости от состояния атмосферы? С другой стороны, Холмс не замечает, какая за окном погода, – на протяжении всей поездки он поглощен своей газетой. Точнее, он не совсем равнодушен к погоде, просто сознает, как важно уметь сосредоточивать внимание, и решает игнорировать ясный денек – точно так же, как игнорирует очарование Мэри, утверждая, что «не заметил» его. Конечно, он все видит. Вопрос в другом: реагирует ли на увиденное, уделяет ли ему внимание и тем самым разрешает ли измениться содержимому своего «чердака». Кто знает, как повлияло бы на Холмса солнце, если бы он не думал об очередном деле и позволил мыслям бесцельно блуждать! Так или иначе, он полностью сосредоточивается на совершенно иных деталях и другом контексте. В отличие от Ватсона, Холмс встревожен и озабочен, что вполне понятно. Ведь он отправился в путь по просьбе женщины, признавшейся, что она в отчаянном положении и не знает, что ей делать. Он погружен в мрачные раздумья. Всецело поглощен загадкой, которую ему предстоит разгадать. Что же удивительного в том, что даже дома напоминают ему о ситуации, завладевшей его помыслами? Они – не настолько случайная, как погода для Ватсона, но тем не менее явная внешняя подводка. Вы можете возразить (вполне резонно): неужели Ватсон не находился под воздействием той же телеграммы от встревоженной клиентки? На самом деле находился. Но мыслями был далек от предстоящей задачи. В этом заключается особенность подсказок: на разных людей они действуют по-разному. Вспомним, как ранее мы рассуждали о структуре нашего «мозгового чердака», об изначальных предубеждениях и способах мышления. Этим изначальным внутренним конструкциям необходимо взаимодействие со внешней средой, чтобы путем незаметного, неосознанного влияния подчинить себе наш мыслительный процесс; именно они в большой степени обусловливают, что именно мы замечаем и как в дальнейшем замеченный элемент встраивается в работу мысли. Представим, что я даю вам списки из пяти слов и прошу составить из слов каждого списка предложения длиной в четыре слова. Списки могут показаться безобидными, однако среди них запрятаны так называемые стимулы-мишени – слова «одинокий», «опекать», «Флорида», «беспомощный», «вязание» и «доверчивый». Ничего не напоминает? Если собрать вместе все эти слова, возможно, они напомнят вам о старости. Но если распределить их по тридцати спискам из пяти слов, эффект будет гораздо менее заметен – настолько, что ни один участник этого эксперимента, увидевший предложения (около шестидесяти, результат двух отдельных исследований с участием тридцати человек в каждом), не догадается, что между словами есть тематическая связь. Однако отсутствие осознания еще не означает отсутствие влияния. Если вы похожи на сотни людей, на которых проверялся этот тест с тех пор, как им впервые воспользовались в 1996 г., произойдет несколько событий. Вы начнете ходить медленнее, чем прежде, и, возможно, даже немного сгорбитесь (и то и другое – следствия идеомоторного эффекта (эффекта Карпентера) под действием подсказки или ее влияния на реальные физические действия). Вы продемонстрируете ухудшение результатов в ряде тестов на когнитивные способности. Замедлится темп, в котором вы будете отвечать на некоторые вопросы. Может быть, вы даже почувствуете себя постаревшим и усталым. Почему? Вы подверглись воздействию «эффекта Флориды»: ряд стереотипов, связанных со старостью, незаметно для вашего сознания активизировал некоторые центры и представления в вашем мозге, а они, в свою очередь, побудили вас определенным образом 35 мыслить и вести себя. Это и есть эффект «подводки» – внешней активизации внутренних структур сознания в чистом виде. В психологии для него существует термин «прайминг». Однако то, какие центры будут затронуты и каким образом распространится такая «подводка», зависит от вашего «мозгового чердака» и его особенностей. К примеру, если вы принадлежите к культуре, в которой высоко ценится мудрость пожилых людей, скорее всего, ваша походка слегка замедлится, а вот скорость выполнения когнитивных тестов слегка вырастет. Если же к старости вы относитесь резко негативно, то можете столкнуться с физическими эффектами, прямо противоположными тем, которые демонстрируют другие: например, будете ходить быстрее и держаться прямее, доказывая, что вы не похожи на мишень для манипуляций с помощью «подводок». В этом и суть: прайминг существует не в вакууме. Его влияние бывает разным. И хотя реакция на него у людей разная, люди так или иначе на него реагируют. Вот почему одна и та же телеграмма может означать разные вещи для Ватсона и для Холмса. У Холмса она запускает ожидаемый ход мысли, соответствующий его складу ума, изначально настроенного на раскрытие преступлений. Для Ватсона телеграмма почти не имеет значения: ее вскоре вытесняют небесная лазурь и птичий щебет. Но стоит ли удивляться этому? Думаю, в целом можно допустить, что для Ватсона мир представляется более спокойным местом, чем для Холмса. Ватсон зачастую выражает неподдельное изумление, услышав подозрения Холмса, и ужасается его нелестным и мрачным выводам. Там, где Холмс легко различает дурные намерения, Ватсон видит только милое и отзывчивое личико. Когда Холмс пускает в ход свои энциклопедические познания о преступлениях былых времен и сразу же применяет их к настоящему времени, Ватсон, не располагающий такими сведениями, вынужден полагаться лишь на то, что ему известно, – медицину, опыт войны и то, что он узнал за время краткого соседства с опытным сыщиком. Добавим также склонность Холмса погружаться в свои мысли, когда он расследует дело и пытается совместить его подробности, его умение полностью отгораживаться от внешних отвлекающих моментов, не относящихся к предмету его размышлений, и склонность Ватсона замечать красоту весеннего дня и живописность пологих холмов, и мы увидим два «чердака», настолько разных по структуре и содержимому, что они, вероятнее всего, будут совершенно по-разному фильтровать любую поступающую извне информацию. Не следует упускать из виду и изначальный склад ума. Любая ситуация – это сочетание изначальных и сиюминутных целей и мотиваций; можно сказать, что речь идет как о структуре, так и о текущем состоянии нашего «чердака». «Подводка», будь то солнечный день, тревожная телеграмма или список слов, способна активизировать наше мышление и придать мыслям определенное направление, но что и как она активизирует, зависит от изначального содержимого «чердака» и от того, как хозяин привык пользоваться его структурой. Но не все так страшно: внешний активатор перестает быть таковым, как только мы осознаём факт его существования. Так, в исследованиях связи погоды и настроения эффект пропадал, если поначалу участников недвусмысленно побуждали обратить внимание на дождливый день. Когда их спрашивали сначала о погоде, а потом – насколько они счастливы, погода уже не отражалась на результатах. Если в исследованиях влияния окружающей среды на эмоции приводилась причина состояния участника, не относящаяся к эмоциональной сфере, влияние внешнего активатора также снижалось. К примеру, в классическом исследовании эмоций человек, получивший инъекцию адреналина, а затем вступивший в общение с тем, кто демонстрирует сильные эмоции (неважно, позитивные или негативные), с большей вероятностью воспроизводит эти эмоции, «зеркалит» их. Но если заранее предупредить участника, что сделанная ему инъекция вызовет физическое возбуждение, степень «отзеркаливания» снизится. На самом деле исследования такого явления, как прайминг, или 36 внешняя активация, печально известны своей трудностью: достаточно обратить хоть какоето внимание на механизм такой активации, как его влияние снижается до нулевого уровня. Когда мы осознаем причину своих поступков, она перестает оказывать на нас влияние: нам приходится согласиться с тем, что источник активизации эмоций и мыслей – нечто внешнее, в итоге мы уже не считаем, что импульс исходит из нашего разума, является результатом нашей воли. Как самим активизировать наш пассивный мозг? Так как же Холмсу удается не подпасть под влияние сиюминутных суждений своего «чердака», вынесенных еще до того, как их предмету будет уделено внимание? Каким образом он умудряется оградить себя от внешнего воздействия, которое в любой конкретный момент времени испытывает его разум? Секрет заключается в осознании и непосредственном присутствии. Вместо того чтобы пассивно впитывать информацию, подобно губке – что-то в ней задерживается, что-то входит в одну пору и сочится из другой, причем сама губка никак не участвует в происходящем, – Холмс активно наблюдает – этот процесс мы вскоре рассмотрим подробно. Такой активный процесс Холмс сделал настройкой для мозга, выбираемой по умолчанию. На самом базовом уровне он осознаёт – как теперь делаем мы, – каким образом начинается мыслительный процесс и почему так важно уделять ему пристальное внимание с самого начала. Если я буду останавливать вас и объяснять причины возникновения у вас тех или иных впечатлений, возможно, сами впечатления не изменятся («все равно же я прав!»), но по крайней мере вы поймете, откуда они взялись. И постепенно начнете спохватываться еще до того, как сформируются суждения, и в этом случае вероятность, что вы прислушаетесь к мудрому голосу разума, значительно возрастет. Холмс не принимает на веру ничего, ни единого впечатления. Он не позволяет первой же попавшейся на глаза детали диктовать ему, что попадет или не попадет в его «мозговой чердак» и каким образом будет или не будет активизировано остальное содержимое этого «чердака». Холмс постоянно сохраняет активность и бдительность, чтобы какой-нибудь случайный стимул не пробрался в безупречно упорядоченное пространство его разума. И хотя постоянное внимание может оказаться изнурительным, в некоторых ситуациях такие усилия оправданны, и со временем их потребуется все меньше и меньше. В сущности, достаточно только задать себе несколько вопросов, обращаться к которым для Холмса – в порядке вещей. Есть ли в данном конкретном предмете что-либо избыточное, влияющее на мои суждения в отдельно взятый момент времени? (Ответ на этот вопрос почти всегда будет утвердительным.) Если да, как можно соответственно обстоятельствам отрегулировать свое восприятие? Что повлияло на мое первое впечатление, а это первое впечатление, в свою очередь, – на остальные? Это не значит, что Холмс неуязвим для влияния случайных внешних активаторов: просто он слишком хорошо сознает их могущество. Поэтому, когда Ватсон высказывает скоропалительное суждение о женщине или коттедже, Холмс немедленно корректирует его впечатление возражением «да, но…». Смысл действий Холмса прост: ни в коем случае не следует забывать, что первое впечатление – всего лишь первое, значит, стоит задуматься над тем, что его вызвало и что это может означать для вашей задачи в целом. Некоторые процессы нашему мозгу даются естественно, независимо от того, хотим мы этого или нет. И тут уж ничего не поделаешь. Зато мы можем принимать изначальное суждение на веру либо, наоборот, подробно и углубленно исследовать его. Вдобавок не следует забывать об эффективном сочетании вдумчивости и мотивации. Другими словами, взгляните скептически на себя и свой разум. Ведите активное наблюдение, выйдите за рамки пассивности, которая является нашим состоянием по умолчанию. Судим ли мы о человеке по его реальному поведению, воспринятому 37 действительно объективно (вы замечали со стороны Мэри соответствующие поступки, прежде чем называть ее «ангелом»?), или просто на основании субъективного впечатления (но ведь она выглядела так мило!)? Во время учебы в колледже я помогала руководить работой глобальной модели ООН. Каждый год мы отправлялись в новый город и предлагали студентам университетов принять участие в создании модели. Мне досталась роль главы комиссии: я готовила темы для обсуждения, проводила дебаты, а в конце конференции награждала тех студентов, которых считала особо отличившимися. Довольно просто и незамысловато. До тех пор, пока дело не касалось наград. В первый же год я заметила, что студенты Оксфорда и Кембриджа разъезжаются по домам, увозя непропорционально много наград за ораторские выступления. Неужели они действительно демонстрировали выдающиеся результаты или же происходило нечто иное? Я заподозрила неладное. Ведь в работе принимали участие представители лучших университетов мира, и хотя Оксфорд и Кембридж – на самом деле незаурядные учебные заведения, вряд ли они неизменно и последовательно отбирают самых лучших своих представителей. Так что же происходит? Неужели мои товарищи, отвечающие за распределение наград, небеспристрастны? На следующий год я решила проверить свое предположение. Я пыталась следить за собственной реакцией на речь каждого студента, отмечала свои впечатления, приводимые доводы, обоснованность позиций и убедительность, с которой их отстаивали. И заметила то, что не на шутку встревожило меня: на мой слух, выступления студентов Оксфорда и Кембриджа звучали элегантнее. Если бы двух студентов поставили рядом и попросили произнести одни и те же слова, мне больше понравилось бы выступление того, кто говорил с британским акцентом. Нелепость, но этот акцент явно успел активизировать в моем мозге некий стереотип, который затем определил суждение в целом, так что к концу конференции, когда настало время раздать призы, я уже не сомневалась в том, что британские делегаты – лучшие из лучших. Это осознание оказалось не из приятных. Моим следующим шагом стало активное сопротивление. Я попыталась сосредоточиться исключительно на содержании выступлений: что именно говорит каждый студент и как он это говорит? Дополняет ли его выступление дискуссию? Подняты ли в нем те вопросы, которые было необходимо поднять? Или же оратор просто по-другому формулирует чужие наблюдения, не внося в них хоть сколько-нибудь существенного собственного вклада? Я покривила бы душой, утверждая, что этот процесс дался мне легко. Несмотря на все старания, я неизменно попадалась в ловушку интонаций и акцента, ритмичной гармонии фраз, а не их содержания. И тут выяснилось самое страшное: я по-прежнему ощущала стремление отдать приз за лучшее выступление делегатке из Оксфорда. Я обнаружила, что убеждаю себя, будто она и вправду выступила лучше всех. И разве я не перегну палку в другую сторону, если откажусь признать это и, в сущности, накажу делегатку только за то, что она британка? Проблема не во мне. Мои награды достанутся тем, кто их заслужил, даже если достойный окажется представителем Оксфорда. На самом деле предубеждены другие. Вот только моя оксфордская делегатка вовсе не была самой лучшей. Просмотрев свои скрупулезно сделанные записи, я обнаружила, что несколько студентов неизменно превосходили ее. Мои записи и мои впечатления полностью противоречили друг другу. В конце концов я доверилась записям, но внутренняя борьба продолжалась во мне до последней минуты. И даже потом я не могла избавиться от настойчивого чувства, будто бы ограбила девушку из Оксфорда. 38 Наше непосредственное восприятие остается очень мощным даже в тех случаях, когда оно совершенно ошибочно. Поэтому, когда вас захватит некое глубокое и сильное впечатление (чудесный человек, прекрасный дом, достойное стремление, талантливый оратор), важно задать себе вопрос: на какой фундамент оно опирается? Можно ли доверять этой так называемой интуиции или же это разум пытается обвести вас вокруг пальца? Объективная проверка с помощью внешних средств, например таких, как мои записи, сделанные во время работы комиссии, полезна, но не всегда возможна. Иногда просто необходимо осознать: несмотря на то что мы уверены в полном отсутствии предубежденности с нашей стороны и постороннего влияния на наши суждения и выбор, есть вероятность, что наши поступки отнюдь не рациональны и не объективны. В осознании, что зачастую лучше не доверять собственным суждениям, кроется секрет совершенствования своих умозаключений до такой степени, чтобы им стало можно доверять. Мало того, если мы мотивированы на адекватное восприятие, то полученное первое впечатление окажется закодировано у нас в мозгу таким образом, что в дальнейшем вряд ли выйдет из-под контроля. Однако помимо осознания понадобится еще и постоянная практика. Безошибочность интуиции – не что иное, как результат практики, когда навык приходит на смену грамотной эвристике. Мы не рождаемся невнимательными и не обречены действовать в соответствии со своими несовершенными мыслительными привычками. Мы становимся такими в результате неоднократных внешних воздействий и практики, а также из-за отсутствия того самого вдумчивого внимания, которое Холмс старается уделять каждой своей мысли. Возможно, мы не осознаём, что вынуждаем наш мозг работать определенным образом, но тем не менее это делаем. Что и плохо, и хорошо: ведь если нам удалось чему-то научить свой мозг, значит, мы можем и отучить его, и переучить. Любая привычка – всего лишь привычка, которую можно заменить другой. Со временем навык способен изменить эвристику. Как выразился Герберт Саймон, один из основателей теории принятия решений, «интуиция – не больше и не меньше чем распознавание». За плечами у Холмса тысячи часов практики. Его привычки сформировались благодаря бесчисленным возможностям, возникающим 24 часа в сутки, 365 дней в году, каждый год с раннего детства. Поэтому в его присутствии легко растеряться – но, если уж на то пошло, гораздо полезнее просто вдохновиться. Что под силу Холмсу, под силу и нам. Главное – не спешить. Привычки развиваются на протяжении настолько продолжительного периода, что формируют сам склад нашего ума, следовательно, изменить их непросто. Имейте в виду: это всего лишь первый шаг. Внимание и осведомленность Холмса позволяют ему избежать множества ошибок, преследующих Ватсона, инспекторов, клиентов Холмса и его противников. Но каким образом он переходит от осознания к действиям? Этот процесс начинается с наблюдения: как только мы понимаем, как функционирует наш «мозговой чердак» и где берет исток наш мыслительный процесс, у нас появляется шанс направить внимание на вещи значимые и отвлечься от незначительных. Именно к этой задаче осознанного наблюдения мы обратимся далее. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ «На кой черт она мне?», «Мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак» – повесть «Этюд в багровых тонах», гл. 2 «Искусство делать выводы». «Дайте мне сложнейшую проблему, неразрешимую задачу…» – повесть «Знак четырех», гл. 1 «Суть дедуктивного метода Холмса». «Мисс Морстен вошла в комнату…», «Самое главное – не допускать, чтобы личные качества человека влияли на ваши выводы» – «Знак четырех», гл. 2 «Мы знакомимся с делом». «До чего приятно на них смотреть!» – рассказ «Медные буки». 39 Часть 2 ОТ НАБЛЮДЕНИЙ К ВООБРАЖЕНИЮ Глава 3 ЗАПОЛНЕНИЕ «ЧЕРДАКА»: СИЛА НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТИ Наступил воскресный вечер, и папа вновь устроил нам литературные чтения. Неделей раньше, когда после нескольких месяцев изнурительного путешествия по книжным страницам, мы наконец закончили «Графа Монте-Кристо», планка была установлена понастоящему высоко. И вот теперь, вдали от замков, крепостей и сокровищ Франции, я столкнулась лицом к лицу с человеком, который мог, увидев кого-либо впервые, с непоколебимой уверенностью объявить новому знакомому: «Я вижу, вы жили в Афганистане». Меня мгновенно охватило то же чувство, какое наверняка испытал Ватсон, когда с изумлением спросил: «Как вы догадались?» И действительно, как? Мне было совершенно ясно, что дело не только в наблюдательности и умении замечать детали. Или все-таки в ней? Гадая, каким образом Холмс мог узнать о его военной службе, Ватсон приходит к выводу, что сыщику кто-то рассказал об этом заранее. Ведь немыслимо же – безошибочно определить такое… с первого взгляда. «Ничего подобного, – отвечает Холмс. – Это вполне возможно». И продолжает: «Я сразу догадался, что вы приехали из Афганистана. Благодаря давней привычке цепь умозаключений возникает у меня так быстро, что я пришел к выводу, даже не замечая промежуточных посылок. Однако они были, эти посылки. Ход моих мыслей был таков: “Этот человек по типу – врач, но выправка у него военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков – лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястья у него гораздо белее. Лицо изможденное – очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку – держит ее неподвижно и немножко неестественно. Где же под тропиками военный врач – англичанин мог натерпеться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане”. Весь ход мыслей не занял и секунды. И вот я сказал, что вы приехали из Афганистана, а вы удивились». Безусловно, отправной точкой служит самое обычное наблюдение. Холмс смотрит на Ватсона и разом охватывает подробности его физического облика, поведения, манеры держаться. И на основании увиденного он составляет представление о человеке в целом – точно так же, как делал реально существовавший Джозеф Белл в присутствии изумленного Артура Конан Дойла. Но мало того. Наблюдение с большой буквы – а Холмс именно так преподносит это слово, когда рассказывает новому товарищу его краткую биографию, сведения о которой получены благодаря единственному взгляду, – подразумевает нечто гораздо большее, чем просто наблюдение (с маленькой буквы). Это не просто пассивный процесс, попадания в наше поле зрения тех или иных объектов. Речь идет о понимании, что и как следует наблюдать, и соответствующем управлении своим вниманием. На каких деталях следует его сфокусировать? Какими можно пренебречь? Как зафиксировать выбранные подробности «крупным планом»? Иными словами, как оптимально использовать потенциал своего «мозгового чердака»? Если вы запомнили прежние предостережения Холмса, то наверняка поняли, что не следует заваливать «чердак» всяким хламом: в нем надлежит по возможности поддерживать порядок. Все, на что мы решаем обратить внимание, потенциально может стать «меблировкой» нашего «чердака»; мало того, появление нового предмета «мебели» потенциально означает изменение всего чердачного интерьера, которое, в свою очередь, окажет влияние на любые будущие изменения «меблировки». Значит, выбирать надо максимально точно. 40 Точно – значит, крайне придирчиво. То есть надо не просто смотреть, а смотреть тщательно и вдумчиво. Смотреть и отчетливо осознавать: все, что вы замечаете, а также то, как именно вы это замечаете, закладывает основу всех ваших предстоящих умозаключений. Это умение видеть картину в целом, отмечать детали, имеющие значение, понимание деталей в контексте, в более широком смысле. Почему Холмс отмечал подробности внешнего облика Ватсона и почему его реально существовавший прообраз Белл считал необходимым наблюдать за поведением новых пациентов? («Видите, джентльмены, – объяснял врач своим студентам, – этот человек вежлив и воспитан, но шляпы не снял. В армии это не принято, однако он усвоил бы манеры, принятые у штатских, если бы вышел в отставку достаточно давно. В облике этого человека чувствуется властность, – продолжал Белл, – к тому же он явно шотландец. Что же касается Барбадоса, он страдает слоновой болезнью, элефантиазом, распространенным в Вест-Индии, а не в Великобритании, а в настоящее время именно Барбадос является местом дислокации шотландских полков». Как Белл определял, каким из многочисленных деталей внешнего облика пациента следует уделить внимание? Это умение достигается исключительно многодневной и многолетней практикой. Доктор Белл повидал так много пациентов, выслушал столько историй, поставил столько диагнозов, что в какой-то момент умение строить правильные догадки стало для него естественным, как и для Холмса. Молодой и неопытный Белл едва ли был способен на подобную проницательность.) Объяснениям Холмса предшествует разговор о статье «Книга жизни», написанной сыщиком для утренней газеты: к этой статье я уже обращалась ранее, говоря про то, как вывод о существовании Атлантического океана или Ниагары можно сделать по единственной капле воды. Начав с воды, Холмс рассматривает тот же принцип применительно к общению людей. «Прежде чем обратиться к моральным и интеллектуальным сторонам дела, которые представляют собою наибольшие трудности, пусть исследователь начнет с решения более простых задач. Пусть он, взглянув на первого встречного, научится сразу определять его прошлое и его профессию. Поначалу это может показаться ребячеством, но такие упражнения обостряют наблюдательность и учат, как смотреть и на что смотреть. По ногтям человека, по его рукавам, обуви и сгибу брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки – по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. И можно не сомневаться, что все это, вместе взятое, подскажет сведущему наблюдателю верные выводы». Вновь вернемся к тому моменту, когда Холмс определил, что Ватсон прибыл из Афганистана. Перечисляя подробности, позволившие ему установить, где именно служил Ватсон, Холмс упоминает, в частности, наличие загара в Лондоне – особенность, явно не характерную для местного климата, следовательно, приобретенную где-то в других краях, – как свидетельство пребывания в тропическом климате. Однако Холмс отмечает осунувшееся лицо Ватсона. Он явно не отдыхал и вдобавок отчего-то нездоров. А его поза? Одну руку он держит неестественно, скованно, а такая скованность может быть результатом ранения. Тропики, болезненность, ранение: сложите их вместе, как фрагменты большой картины, и вуаля – Афганистан. Каждое наблюдение рассматривается в контексте и совместно с другими, не просто как обособленный фрагмент, а как часть единого целого. Холмс не просто наблюдает. Наблюдая, он задается правильными вопросами о том, что видит, и эти вопросы позволяют ему соотнести увиденные детали между собой, вывести существование океана из единственной капли воды. Ему незачем знать об Афганистане как таковом, чтобы понять, что Ватсон вернулся с войны; он мог и не знать, о какой стране идет речь, и ограничиться замечанием вроде «вы, я вижу, недавно с фронта». Звучит, конечно, не так впечатляюще, но в целом смысл реплики остается тем же. 41 Далее: общее наименование профессии – «врач» – предшествует уточнению «военный врач», то есть сначала выделяется класс, затем подкласс и ни в коем случае не наоборот. Догадка же, что Ватсон «врач», – довольно рутинная для человека, который на протяжении всей жизни сталкивается с удивительным и незаурядным. Но рутинная – еще не значит ошибочная. Если вы читали другие объяснения Холмса, то наверняка заметили, что в своих догадках о профессиях он предпочитает не устремляться в эмпиреи – если на то нет особой необходимости, – а исходит из вполне житейских соображений, прочно опирающихся на результаты наблюдений и фактов, а не на конфиденциальную информацию или гипотезу. Безусловно, врач – гораздо более распространенная профессия, чем, допустим, сыщик, и Холмс ни на минуту не забывает об этом. Каждое наблюдение необходимо включать в уже существующую базу знаний. В сущности, если бы Холмс встретил самого себя, то ни в коем случае не стал бы высказывать догадки о собственной профессии. Ведь он сам говорит, что он – единственный «сыщик-консультант» в мире. Так называемая базовая частота, с которой какое-либо явление встречается среди населения в целом, тоже имеет значение, если уметь правильно ставить вопросы. Итак, перед нами Ватсон, врач из Афганистана. Как говорит сам добрый доктор, догадаться обо всем этом довольно просто, если видеть, какие компоненты привели к такому заключению. Но как нам научиться самим приходить к подобным выводам? Ответ можно свести к единственному слову: внимание. Внимание – так ли уж это элементарно? При первой же встрече с Ватсоном Холмс незамедлительно и точно излагает ряд фактов биографии будущего соседа. А что можно сказать о впечатлениях самого Ватсона? Сначала мы узнаём, что он почти не уделяет внимания больничному зданию, куда направляется на первую встречу с Холмсом. Ватсон объясняет читателям, что «здесь все знакомо», поэтому ему «не нужно указывать дорогу». В лаборатории он видит самого Холмса. Первое впечатление Ватсона – потрясение, вызванное невероятной физической силой нового знакомого. Холмс пожимает ему руку «с силой, которую я [Ватсон] никак не мог в нем заподозрить». Второе – удивление при виде интереса Холмса к химическим опытам, результаты которых он демонстрирует посетителям. Третье – это первое подлинное наблюдение Ватсона, касающееся физического облика Холмса: «Я увидел, что пальцы его покрыты такими же кусочками пластыря и пятнами от едких кислот». Первое из двух перечисленных – не наблюдения, а скорее, предварительные впечатления, более близкие к безотчетным, подсознательным суждениям о Джо Неизвестном или Мэри Морстен в предыдущей главе. (Почему бы Холмсу не быть сильным? Похоже, Ватсон поторопился представить его в образе студента-медика, следовательно, человека, который не ассоциируется с большой физической силой. Почему бы Холмсу не воодушевиться в связи с химическими опытами? Ватсон опять-таки приписал новому знакомому собственные взгляды на то, что интересно, а что нет.) Третье наблюдение сделано в духе замечаний самого Холмса о Ватсоне, тех самых замечаний, которые привели к заключению о службе в Афганистане, вот только Ватсон делает его потому, что Холмс сам привлекает его внимание к своим рукам, заклеивая ранку пластырем и высказываясь по этому поводу. «Приходится быть осторожным, – объясняет он, – я часть вожусь со всякими ядовитыми веществами». Как выясняется, единственное настоящее наблюдение Ватсон делает по чужой указке. Откуда эта невнимательность, эта поверхностная и в высшей степени субъективная оценка? Ватсон сам отвечает нам, перечисляя свои недостатки Холмсу – ведь потенциальным соседям по квартире следует знать самые серьезные минусы друг друга. «Я невероятно ленив», – говорит Ватсон. В этих трех словах выражена вся суть проблемы. Как выясняется, 42 Ватсон не одинок. Тот же изъян досаждает большинству людей – по крайней мере, когда требуется проявлять внимательность. В 1540 г. Ханс Ладеншпельдер, гравер по меди, закончил работу над гравюрой, которой предстояло стать одной из семи работ одного цикла. На гравюре женская фигура опиралась локтем на колонну, закрыв глаза и подпирая голову левой ладонью. Из-за ее правого плеча выглядывал осел. Подпись гласила: «Апатия». Цикл назывался «Семь смертных грехов». «Апатия» – дословно «равнодушие». Безразличие. Праздность ума, которую Оксфордский словарь определяет как «духовную или умственную леность». Вот что бенедиктинцы называли «полуденным демоном» – дух летаргии, соблазнивший многих монахов-фанатиков проводить в праздности часы, которые следовало бы посвятить духовному труду. Именно его сегодня считают то синдромом дефицита внимания, то неумением сосредоточиться, то гипогликемией, то дают ему другие ярлыки, которые мы предпочитаем навешивать на эту изнурительную неспособность сконцентрироваться на том, что необходимо сделать. Как бы мы ни воспринимали это явление – как грех, искушение, привычную праздность ума или заболевание, – оно вызывает один и тот же вопрос: почему сосредоточить внимание настолько трудно? В этом необязательно виноваты мы сами. Десятилетиями изучая работу мозга, нейробиолог Маркус Райхл установил, что наш разум запрограммирован на рассеянность. Таково его естественное состояние. Всякий раз, когда наши мысли оказываются в подвешенном состоянии между несколькими конкретными, определенными, целенаправленными видами деятельности, мозг возвращается в так называемое базовое состояние покоя, но пусть это слово вас не смущает: на самом деле покой мозгу неведом. Вместо этого он испытывает состояние тонизирующей активности в так называемой СФРРМ – сети фоновой работы мозга, которую образуют медиальная поясная и медиальная префронтальная кора. Эта активность указывает на то, что мозг постоянно собирает информацию из внешнего мира и наших внутренних состояний и, мало того, ищет в этой информации признаки чего-либо достойного его внимания. Такое состояние готовности полезно с эволюционной точки зрения, так как оно позволяет нам выявлять потенциальных хищников, мыслить абстрактно и строить планы на будущее, и вместе с тем оно означает, что наш разум создан для «мысленных блужданий». Это и есть его состояние покоя. Все большее требует сознательных усилий воли. Нынешний акцент на многозадачности вполне вписывается в рамки наших естественных склонностей, нередко весьма раздражающим образом. Каждый новый ввод информации, каждое новое требование, которое мы предъявляем к своему вниманию, сродни потенциальному хищнику: «О-о! – восклицает мозг. – Лучше я уделю внимание вот этому». А потом появляется еще что-нибудь. Стимулировать блуждания наших мыслей мы можем до бесконечности. И каков итог? Мы обращаем внимание на все сразу и ни на что конкретно. Наш разум запрограммирован произвольно рыскать, а не переключаться с одного вида деятельности на другой со скоростью, которой требует современная жизнь. Изначально нам полагалось быть постоянно готовыми действовать, а не заниматься множеством дел сразу или даже в стремительной последовательности, выполняя их одно за другим. Посмотрим еще раз, как Ватсон проявляет внимание – или, скорее, невнимание – во время первой встречи с Холмсом. Не то чтобы он ничего не замечал: он видит «бесчисленные бутыли и пузырьки. Всюду стояли низкие широкие столы, густо уставленные ретортами, пробирками и бунзеновскими горелками с трепещущими язычками синего пламени». Все это подробности, но не имеющие отношения к непосредственной задаче – выбору будущего соседа по квартире. 43 Внимание – ограниченный ресурс. Уделять внимание чему-либо одному неизбежно приходится за счет чего-то другого. Разглядывая лабораторное оборудование, мы не даем себе возможности заметить нечто важное в облике человека, находящегося в той же комнате. Мы не в состоянии уделять внимание сразу множеству вещей и рассчитывать, что сможем функционировать на том же уровне, как если бы сосредоточились на чем-то одном. Две задачи просто не могут одновременно находиться в фокусе, на первом плане. Одна неизбежно окажется четкой и ясной, а другая или другие – больше похожими на несущественные помехи, которые надо устранить. Или, еще хуже, в фокус не попадет ни одна из задач: все они будут выглядеть как помехи, хоть и более четкие, но все-таки помехи. Представим то же самое следующим образом. Я приведу ряд предложений. Для каждого предложения вы должны выполнить две задачи: во-первых, указать, правдоподобно оно выглядит или нет, пометив предложение буквами П или Н, и, во-вторых, запомнить последнее слово каждого предложения – по окончании этой работы вам понадобится воспроизвести последние слова в порядке их запоминания. На обработку каждого предложения можно тратить не более пяти секунд, за это время предстоит прочесть предложение, решить, правдоподобно оно или нет, и запомнить последнее слово. (Можете настроить таймер так, чтобы он подавал сигналы каждые пять секунд, найти подобный таймер в сети или определить время на глазок.) Возвращаться к предложению, работа с которым уже закончена, нечестно. Представьте себе, что каждое предложение исчезает сразу после того, как вы прочитали его. Готовы? Она боялась, что будет слишком жарко, поэтому взяла с собой новую шаль. Она вела машину по ухабистой дороге, откуда открывался вид на море. Пристройку к дому мы сделаем в виде деревянной утки. Рабочие поняли, что он недоволен, когда увидели его улыбку. Планировка здесь настолько запутанная, что трудно отыскать нужное помещение. Девочка посмотрела на свои игрушки и стала играть с куклой. А теперь, пожалуйста, запишите последнее слово каждого предложения в том порядке, в каком прочитали их. Напоминаю: жульничать и подглядывать нельзя. Закончили? Вы только что выполнили задание на проверку правильности и на запоминание. И как вы с ним справлялись? Наверное, поначалу успешно, но задание оказалось более сложным, чем вы думали. Жесткий лимит времени способен осложнить задачу, так как для подтверждения правильности требуется не только прочитать каждое предложение, но и понять его смысл: вместо того чтобы сосредоточиться на последнем слове, вам пришлось разбираться со смыслом предложения в целом. Чем больше предложений и чем они запутаннее, тем сложнее определить, правдоподобны они или нет. Чем меньше времени дано на одно предложение, тем меньше вероятность, что вы сумеете запомнить слова в правильном порядке, особенно если вам некогда повторять и заучивать его. Независимо от того, сколько слов вы сумели запомнить, я могу сообщить вам кое-что. Вопервых, если бы я показывала вам каждое предложение на экране компьютера, да еще в те моменты, когда вам особенно трудно (например, при значительном усложнении предложений или уже в конце списка), например когда надо закладывать в память одновременно больше завершающих слов, скорее всего, вы не заметили бы никаких других букв или изображений, присутствующих в то же время на экране: они оказались бы прямо у вас перед глазами, но при этом ваш мозг был бы настолько поглощен чтением, обработкой и запоминанием слов в определенном порядке, что вы не увидели бы больше ничего. Ваш мозг 44 имеет полное право игнорировать лишнюю информацию: активно обращая на нее внимание, вы бы слишком сильно отвлеклись от поставленной задачи, особенно в разгар ее выполнения. Вспомним полицейского из «Этюда в багровых тонах»: он упустил преступника потому, что был слишком занят наблюдением за происходящим в доме. На вопрос Холмса, не было ли кого-нибудь на улице, констебль Рэнс отвечает: «Да, в общем, можно сказать, никого». А между тем преступник находился прямо перед ним. Только полицейский не знал, как надо смотреть на него. Вместо подозреваемого он видел пьяного и не заметил никаких несоответствий или совпадений, которые могли бы стать подсказкой, – настолько занят он был, сосредоточившись на «серьезном» деле, осмотре места преступления. Это явление часто называют «слепотой внимания», когда сосредоточенность на одном элементе некой сцены приводит к тому, что другие элементы словно исчезают; мне больше нравится называть это «внимательной невнимательностью». Это понятие первым ввел Ульрик Найссер, отец когнитивной психологии. Глядя в окно в сумерках, Найссер заметил, что он видит либо мир за окном, либо отражение комнаты в стекле. Но активно уделить внимание и той и другой картине ему не удавалось. Приходилось пренебречь либо сумерками, либо отражением. Он назвал это явление «избирательным восприятием зрительных образов». Позднее, уже в лаборатории, Найссер сделал наблюдение: люди, смотревшие два наложенных видеоматериала, в которых демонстрировались определенные виды деятельности (например, в одном видеоролике люди играли в карты, в другом – в баскетбол), с легкостью следили за тем, что происходит в одном из них, но совершенно упускали из виду неожиданные события, происходившие в другом. Если, к примеру, они следили за игрой в баскетбол, то не замечали, как игроки в карты вдруг бросали игру, поднимались и пожимали друг другу руки. Все это напоминало избирательное восприятие речи, феномен, открытый в 50-х гг. ХХ в. (слушая разговор одним ухом, люди совершенно не замечали того, что говорили им на другое ухо), только в гораздо более широких масштабах, так как имело отношение не к одному органу чувств, а к нескольким. С тех пор как это явление было открыто, его действие неоднократно демонстрировали, в том числе с такими яркими визуальными образами, как люди в костюмах горилл, клоуны на моноциклах и даже олень на дороге (реальный случай: люди смотрели прямо на него, но не заметили). Страшно, правда? Еще бы! Оказывается, мы способны упускать из виду целые участки поля зрения, даже не осознавая этого. Холмс предупреждает Ватсона о том, что можно видеть, но не замечать. Он мог бы добавить: порой нам недостает даже способности видеть. Нам даже необязательно активно заниматься задачами, требующими мобилизации когнитивных ресурсов, чтобы мир проходил перед нашими глазами незамеченным, а мы не осознавали, что именно упускаем. К примеру, когда мы в плохом настроении, мы в буквальном смысле слова видим меньше, чем когда мы жизнерадостны. Зрительная кора нашего головного мозга на самом деле получает из окружающего мира меньше информации. Можно взглянуть на один и тот же пейзаж дважды – один раз днем, когда все складывается успешно, и второй раз в неудачный день, – и мы заметим меньше, наш мозг получит меньше информации в день, который выдался неудачным. Мы не в состоянии осознать то, чему не уделяем внимания. Исключений из этого правила не бывает. Да, осознание может потребовать всего лишь минимального, но все же внимания. Ничто не происходит само собой. Нельзя осознать то, что попросту не заметил. Вернемся ненадолго к заданию с подтверждением правильности предложений. Вы не только упустите из виду пресловутые сумерки, слишком старательно сосредоточившись на 45 отражении в окне: чем напряженнее работа вашей мысли, тем больше расширяются зрачки. Пожалуй, я смогла бы оценить степень ваших умственных усилий – а также загруженность памяти, легкость выполнения задания, скорость ваших расчетов и даже нейронную активность голубого пятна (locus coerulus – это единственный в мозге источник нейромедиатора норадреналина; также названная зона имеет непосредственное отношение к извлечению информации из памяти, к различным синдромам тревожности и избирательному вниманию) – и заодно определила бы, справитесь вы или сдадитесь, и для этого мне было бы достаточно увидеть размеры ваших зрачков. Но есть и обнадеживающее обстоятельство: становится предельно ясным значение и эффективность тренировки, практики в чистом виде. Если заниматься оценкой правдоподобности предложений регулярно – а некоторые так и делают, – то зрачки постепенно перестанут расширяться так заметно, процесс обращения к памяти будет все легче и – чудо из чудес! – вы начнете замечать буквы, изображения и т. п., которые раньше упускали из виду. Вероятно, вы даже зададитесь вопросом: как я мог раньше этого не видеть? То, что прежде давалось с трудом, станет более естественным, привычным, потребует меньших усилий – словом, упростится. То, что прежде было исключительной прерогативой системы Холмса, незаметно проникнет и в систему Ватсона. И для этого понадобится лишь чуть-чуть практики, немного тренировки, чтобы сформировалась привычка. Наш мозг быстро обучается, если мы сами этого хотим. Весь фокус – в воспроизводимости одного и того же процесса, в том, чтобы позволить мозгу изучать, усваивать и без усилий выполнять то, что когда-то получалось с таким трудом, чтобы лишить отвлеченного характера такую когнитивную задачу, как подтверждение правильности предложений, сведя ее к самым простым действиям, которые мы выполняем постоянно, даже не задумываясь и не уделяя им внимания, – к тому, чтобы просто смотреть и думать. Даниэль Канеман упорно настаивает, что Система 1, наша система Ватсона, труднообучаема. Ей нравится то, что нравится, она доверяет тому, чему доверяет, и точка. Что же он предлагает? Заставить Систему 2, систему Холмса, взяться за работу, принудительно исключив из уравнения Систему 1. Например, пользоваться при собеседовании памяткой с перечнем качеств претендента на рабочее место – вместо того чтобы полагаться на свое впечатление, поскольку впечатление, как мы помним, формируется в первые пять минут знакомства, а то и быстрее. Составьте себе план-вопросник и сверяйтесь с ним при решении проблем, будь то диагноз пациента, поиск неисправности в автомобиле, творческий кризис или другие сложности, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной жизни, но не пытайтесь полагаться на так называемую интуицию. Памятки, формулы, структурированные процедуры – вот ваше спасение, по крайней мере согласно Канеману. А какое решение предлагает Холмс? Навык, навык и еще раз навык. И мотивацию. Станьте своего рода экспертом в решениях или наблюдениях того типа, в которых собираетесь достичь высот. Хотите угадывать род занятий незнакомых людей, понимать ход их умозаключений, догадываться о мыслях и чувствах по тому, как держатся эти люди? Прекрасно. Но ничем не хуже и иные навыки, не относящиеся к сфере деятельности сыщика: например, умение определить по виду качество пищевого продукта или наиболее выигрышный ход в шахматах, по единственному жесту угадать намерения противника в бейсболе, покере, на деловом совещании. Если прежде научиться точной избирательности ради достижения именно тех целей, которые вы ставите перед собой, вы сможете снизить ущерб, наносимый системой Ватсона, заблаговременно научить ее не вредить вам. Главное – это правильная тренировка избирательности – то есть осознанного присутствия – в сочетании с желанием и мотивированностью усовершенствовать свой мыслительный процесс. 46 Никто и не говорит, что это просто. Если уж на то пошло, свободного внимания у человека нет: его надо откуда-то взять. И всякий раз, когда мы предъявляем дополнительные требования к нашим ресурсам внимания – например, слушаем музыку и одновременно идем, за работой проверяем электронную почту, следим сразу за пятью новостными каналами, – мы ограничиваем собственное восприятие каждой из этих областей информации, а также свою способность взаимодействовать с ней глубоко, вдумчиво и продуктивно. Мало того, мы изнуряем самих себя. Внимание не просто ограничено: это исчерпаемый ресурс. Мы можем истощать его только до определенной степени, а потом нам понадобится подзарядка. Психолог Рой Баумайстер в рассуждениях о самоконтроле пользуется сравнением с мышцей, уместным и в тех случаях, когда речь идет о внимании: как и мышца, наша способность к самоконтролю рассчитана на определенную нагрузку, и при слишком интенсивном использовании ей грозит переутомление. Нашей мышце необходимо подкрепиться – физически подкрепиться с помощью глюкозы и периода отдыха; Баумайстер имеет в виду не энергию в переносном смысле, хотя правильный психологический настрой не повредит, чтобы оставаться на пике формы. Иначе результаты неизбежно снизятся. Да, от нагрузки мышца увеличивается в размерах (можно улучшить свой самоконтроль и внимание и применять их в течение все более длительных периодов, выполняя всё более сложные задачи), но и этот рост ограничен. Если вы не применяете анаболики – «спортивный» аналог риталина или аддерала для сверхчеловеческого внимания, то вскоре достигнете своего потолка, и даже возможности стероидов не беспредельны. А если не тренировать мышцу? Вскоре ее размеры станут прежними, какими они были до начала тренировок. Как улучшить наше врожденное внимание Представим себе, что Шерлок Холмс и доктор Ватсон приезжают в Нью-Йорк (ничего невероятного в этом нет: их создатель хорошо помнил время, которое провел в этом городе) и решают подняться на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. На смотровой площадке к ним пристает странный незнакомец, предлагая пари: кто из них первым заметит летящий самолет? Можно пользоваться любым телескопом или подзорной трубой – незнакомец даже выкладывает перед каждым столбик монет для их оплаты – и смотреть в любую сторону. Выигрывает тот, кто первым заметит самолет. Какой подход к этой задаче выберет каждый из посетителей? На первый взгляд, задача может показаться примитивной: самолет – довольно большая «птичка», Эмпайр-стейт-билдинг – весьма высокое здание, со смотровой площадки открывается обзор на 360 градусов. Но если хочешь выиграть пари, мало просто стоять неподвижно и смотреть вверх или вдаль. А если самолет появится с другой стороны? Если с того места, где стоишь, его не видно? А вдруг окажешься спиной к нему? Что, если выяснится, что ты заметил бы самолет первым еще издалека, если бы скормил свои четвертаки подзорной трубе – вместо того чтобы стоять столбом, полагаясь только на собственное зрение? Когда хочешь победить, таких «если» можно перечислить немало, но этими «если» станет проще управлять, воспринимая их лишь как варианты стратегических решений. Сначала представим себе, как подошел бы к этой задаче Ватсон. Насколько нам известно, Ватсон – энергичный человек, он быстро двигается и действует. Вместе с тем – не прочь сразиться с Холмсом и не раз пытался доказать, что в сыщика способен сыграть и он; разгромить Холмса на его собственном поле – заветная мечта доктора. Могу поручиться, Ватсон предпринял бы следующие действия. Он не стал бы тратить на размышления ни единой минуты («Время не ждет! Лучше поспешить!»). Он попытался бы охватить как можно больший угол обзора («Самолет может появиться откуда угодно! Не хватало еще остаться в дураках и заметить его последним!»), поэтому, скорее всего, набросал бы монет во все телескопы, какие только попались ему на глаза, а потом бегал от одного к другому, во 47 время перебежек не забывая окидывать взглядом горизонт. Возможно, он несколько раз даже поднял бы ложную тревогу («Там самолет!.. А, нет, птица») в своем желании хоть чтонибудь заметить, из-за которого любую точку принимал бы за самолет. Бегая туда-сюда и обращая внимание на каждую птицу, он бы вскоре устал. «Кошмар, – подумал бы он, – я уже выбился из сил». И главное, ради чего? Какого-то дурацкого самолета! Сжалимся над Ватсоном, будем надеяться, что он вскоре заметит самый настоящий самолет. А что же Холмс? Полагаю, он сначала сориентировался бы, наскоро прикинул, в какой стороне находятся аэропорты, следовательно, узнал наиболее вероятное направление движения самолетов. Возможно, он даже принял бы во внимание такие факторы, как сравнительную вероятность увидеть взлетающий или заходящий на посадку самолет в конкретное время суток, а также предполагаемые пути приближения или удаления, в зависимости от предыдущих соображений. Затем Холмс расположился бы так, чтобы держать в фокусе зону наиболее вероятного появления самолета, возможно, бросил бы монетку в ближайший телескоп на всякий случай и бегло осмотрелся, убеждаясь, что ничего не упустил. Он не принимал бы птиц за самолеты и успевал сообразить, что пробегающую тень отбрасывает низко висящее облако. Он не стал бы спешить, он присмотрелся бы и даже прислушался, проверяя, не доносится ли до него характерный шум, помогающий определить, с какой стороны появится реактивный лайнер. Возможно, он даже принюхался бы и попытался понять, не доносит ли переменившийся ветер запах керосина. И все это время Холмс потирал бы свои такие нам знакомые диннопалые ладони и думал: «Скоро, скоро он появится. И я точно знаю, с какой стороны его ждать». Кто бы выиграл пари? Разумеется, здесь присутствует элемент случайности, поэтому повезти может любому из участников спора. Но если бы та же игра повторялась несколько раз, я не сомневаюсь: верх в конце концов одержал бы Холмс. На первый взгляд кажется, что он действует слишком медленно, не так решительно, как Ватсон, и значительно уступает ему по охвату, но в конце концов стратегия Холмса оказалась бы более успешной. Наш мозг отнюдь не глуп. Мы действуем на редкость эффективно и результативно заметную часть времени, несмотря на все наши когнитивные искажения, и то же самое относится к нашему «ватсоновскому» типу внимания, поскольку и оно существует не без причины. Мы замечаем не все, потому что в противном случае, обращая внимание на каждый звук, запах, образ, тактильное ощущение, мы сошли бы с ума (и действительно, отсутствие способности фильтровать информацию – признак многих психических расстройств). В сущности, Ватсон прав: поиски самолета – пожалуй, не самое эффективное использование времени. На самом деле проблема заключается не столько в отсутствии внимания, сколько в недостатке вдумчивости и направленности. В обычных условиях наш мозг сам выбирает, на чем сосредоточиться, – без каких-либо осознанных предварительных размышлений с нашей стороны. Чему нам следует научиться, так это объяснять мозгу, что и как фильтровать, вместо того чтобы позволять ему лениться и решать за нас, зачастую выбирая путь наименьшего вероятного сопротивления. Шерлок Холмс, стоящий на крыше Эмпайр-стейт-билдинг и высматривающий самолеты, служит иллюстрацией четырех компонентов, которые почти наверняка помогут нам достичь нашей цели. Эти компоненты – избирательность, объективность, целостность восприятия и вовлеченность. 1. Проявляем избирательность Представим себе следующую сцену: некий человек по дороге на работу проходит мимо булочной. Из дверей на улицу выплывает сладкий аромат корицы. Прохожий медлит. Он колеблется. Смотрит в окно: какой аппетитный вид! Теплые сдобные булочки. Розовые 48 пончики, подернутые сахарной глазурью. Прохожий заходит в булочную и покупает булочку с корицей. «А диету я продолжу завтра, – говорит он себе. – Живем только один раз. И потом, сегодняшний день – исключение. На улице холод собачий, а у меня через час решающее совещание». А теперь перемотаем пленку назад и снова включим воспроизведение. Некий человек проходит мимо булочной по пути на работу. Он чувствует аромат корицы. «Если вдуматься, корицу я не очень-то люблю, – говорит он. – Я предпочитаю мускатный орех, а им здесь не пахнет». Он медлит, он колеблется. Смотрит в окно. Эта жирная, приторно-сладкая глазурь наверняка уже вызвала бесчисленное множество сердечных приступов и закупорила еще больше артерий. Булки буквально пропитаны маслом, хотя, скорее всего, это маргарин, а всем известно, что булки с маргарином качественными не бывает. Подгоревшие пончики комом лежат в желудке, вынуждая нас гадать, зачем вообще ими травиться. «Так я и думал, – говорит прохожий. – Здесь для меня нет ничего подходящего». И он идет дальше, чтобы не опоздать на утреннее совещание. «Может, перед началом еще успею перехватить кофе», – думает он. Что изменилось, когда первый сценарий превратился во второй? На первый взгляд – ничего. Сенсорная информация осталась прежней. Вот только в мышлении нашего гипотетического прохожего произошел сдвиг, и этот сдвиг в буквальном смысле слова повлиял на его восприятие действительности. Изменился способ обработки информации, выбор объектов, которым уделено внимание, а также взаимодействие внешнего мира с мышлением. В этом нет ничего невозможного. Наше зрение отличается высокой степенью избирательности, сетчатка обычно улавливает примерно 10 млрд бит зрительной информации в секунду, но лишь 10 тыс. бит достигает первого слоя зрительной коры головного мозга, вдобавок только 10 % синапсов этой области предназначено для входящей зрительной информации. Или выразимся иначе: на наш мозг непрерывно и одновременно обрушивается примерно 11 млн единиц информации, то есть объектов в нашем окружении, которые мы воспринимаем с помощью органов чувств. Из этого количества мы способны осознанно обработать всего лишь 40 единиц. Это означает, что мы «видим» очень немногое из того, что нас окружает, и что процесс, который мы считаем объективным зрительным восприятием, было бы уместнее называть избирательной фильтрацией. Наше душевное состояние, настроение, мысли в любой конкретный момент, наша мотивация и цели могут сделать наш мозг гораздо разборчивей и строже. В этом заключается суть «эффекта вечеринки», благодаря которому мы слышим, как кто-то произносит наше имя, даже сквозь шум и гул голосов. Или нашей склонности замечать именно то, о чем мы думаем или недавно узнали в любой конкретный момент: беременные женщины замечают других беременных повсюду; люди запоминают сны, которые потом якобы сбываются (и забывают все прочие); число 11 попадается повсюду после трагедии 11 сентября. На самом деле в окружении ничто не меняется: беременных женщин, вещих снов или определенных цифр не становится больше, меняется только наше состояние. Вот почему мы так легко поддаемся влиянию совпадений: мы забываем все случаи, когда мы ошибались или ничто не происходило, и помним только моменты совпадений, поскольку именно им мы с самого начала уделяли внимание. Как цинично заметил один гуру с Уолл-стрит, хочешь прослыть пророком – всегда делай парные предсказания с противоположным смыслом. Люди запомнят те из них, которые сбылись, и моментально забудут несбывшиеся. Наш разум устроен именно таким образом не без причины. Постоянная работа в соответствии с системой Холмса изнурительна, вдобавок не очень-то продуктивна. Поэтому мы склонны не пропускать в наши фильтры так много информации извне: с точки зрения мозга, это не что иное, как помехи. Если мы попытаемся впитать ее всю, то долго не продержимся. Помните, что сказал Холмс о «мозговом чердаке»? Его вместимость 49 ограниченна. Относитесь к нему бережно, используйте разумно. Иными словами, проявляйте внимание избирательно. На первый взгляд, этот призыв звучит нелогично: мы же пытаемся проявлять больше, а не меньше внимания, – разве не так? Все верно, но между количеством и качеством имеется существенное различие. Мы хотим научиться проявлять внимание лучше, развить в себе наблюдательность, но об этом нечего и мечтать, если бездумно обращать внимание на все подряд. Подобные попытки заранее обречены на провал. Что нам необходимо, так это вдумчиво распределять свое внимание. С этой избирательности начинается определенный склад ума. Холмсу это известно лучше, чем кому бы то ни было. Да, он способен замечать незначительные подробности внешности и поведения Ватсона и обстановки комнаты – вплоть до самых мелких. Но с той же вероятностью он может не замечать погоду за окном или тот факт, что Ватсону хватило времени покинуть дом, а потом вернуться. Довольно часто Ватсон, сообщая, что за окном бушует буря, слышит в ответ от Холмса, что тот не заметил ничего подобного. А в сериале «Шерлок» можно увидеть, как Холмс обращается к стене спустя долгое время после того, как Ватсон отошел или даже вообще покинул помещение. Так или иначе, ответ на вопрос, чего вы, собственно, хотите добиться, поможет вам значительно продвинуться по пути к максимальному использованию ограниченных ресурсов внимания. Он поможет вам направить мысли по определенному руслу, если можно так выразиться, подведет вас к целям и мыслям, которые действительно важны, а остальные отодвинет на задний план. Что замечает ваш мозг – приятный запах или жирное пятно на салфетке? На чем он сосредоточивается – на загаре Ватсона или на погоде за окном? Да, Холмс не строит теорий, пока не получит информацию. Но у него наготове точный план наступления: он определяет цели и необходимые элементы для их достижения. Так, в «Собаке Баскервилей», когда доктор Мортимер входит в гостиную, Холмс уже знает, зачем тот пришел. Его последние слова, обращенные к Ватсону перед приходом гостя, – «что понадобилось человеку науки, доктору Джеймсу Мортимеру, от сыщика Шерлока Холмса?»[7]7 Здесь и далее цитаты из «Собаки Баскервилей» приведены в переводе Н. Волжиной. – Прим. пер. [Закрыть] Холмс еще не знаком с человеком, о котором идет речь, но уже знает цель своих дальнейших наблюдений. Он определился с ситуацией еще до того, как она сложилась (и вдобавок сумел подробно исследовать трость доктора Мортимера). К моменту прихода Мортимера Холмс успевает настроиться на выяснение цели его визита, расспросы о подробностях потенциального расследования, о задействованных лицах и обстоятельствах. Он узнает историю легенды Баскервилей, дома Баскервилей, семейства Баскервилей. Расспрашивает о соседях, о жителях поместья Баскервиль, о самом докторе, так как он имеет отношение к тому же семейству. Холмс даже посылает за картой тех мест, чтобы составить полное представление о них, вплоть до компонентов, которые могли быть упущены в беседе. Абсолютное внимание к каждому элементу, имеющему отношение к изначальной цели Холмса – решить проблему доктора Джеймса Мортимера. Что касается остального мира, то в промежутке между визитом доктора и вечером тот перестает существовать. Как говорит Холмс Ватсону в конце дня, «мое тело оставалось здесь, в кресле, и, как это ни грустно, успело выпить за день два больших кофейника и выкурить невероятное количество табака. Как только вы ушли, я послал к Стэмфорду за 50 картой дартмурских болот, и мой дух блуждал по ним весь день. Льщу себя надеждой, что теперь я освоился с этими местами как следует». Дух Холмса побывал в Девоншире. Что делало в это время его тело, он не в курсе. В этой шутке есть доля правды. Вполне возможно, он действительно не осознавал, что пьет или курит, не заметил, что Ватсону пришлось сразу же открыть все окна, поскольку в комнате было сильно накурено. Даже экспедиция Ватсона в большой мир – часть замысла Холмса: он недвусмысленным образом просит соседа покинуть квартиру и не отвлекать его неуместными разговорами. «Замечать все»? Вовсе нет, несмотря на распространенное представление о сверхъестественных способностях сыщика. Главное – замечать все, что имеет отношение к расследованию. В этом суть. (Как говорит Холмс в рассказе «Серебряный» (Silver Blaze), когда находит улику, пропущенную инспектором, «я заметил ее только потому, что искал». Если бы у сыщика не было причин для таких поисков, он бы ничего не заметил, и это не имело бы значения – по крайней мере, для него.) Холмс не тратит свое время на что попало. Он распределяет свое внимание стратегически. Так и мы должны выбрать себе цель, чтобы знать, что искать и куда смотреть. Естественным образом мы поступаем так в ситуациях, когда наш мозг без подсказок знает, что важнее всего. Помните вечеринку из второй главы – ту, где у девушки – крашенные в голубой цвет пряди волос, а имя одного из мужчин мы так и не удосужились запомнить? Итак, представьте: вы беседуете с группой гостей на той самой вечеринке. Оглядитесь – сколько еще в комнате таких же групп, как ваша? И повсюду беседуют люди. Говорят, говорят, говорят. Если вдуматься, эта болтовня нон-стоп утомительна. Поэтому вы игнорируете ее. Она превращается в фоновый шум. Наш мозг знает, как воспринимать окружение и отключаться от наибольшей его части в зависимости от наших целей и потребностей (а именно – дорсальная и вентральная зоны теменной и фронтальной коры головного мозга участвуют в целенаправленном (теменная) и обусловленном раздражителями (фронтальная) контроле внимания). На вечеринке этот контроль означает сосредоточенность на разговоре, который ведете вы, и восприятие всех прочих разговоров, в том числе звучащих с той же громкостью, как бессмысленную болтовню. Внезапно в фокусе оказывается один из разговоров. Он перестает быть просто болтовней. Вы отчетливо слышите каждое слово. Поворачиваете голову, разом включаете внимание. Что произошло? Кто-то произнес ваше имя или слово, созвучное вашему имени. Этого сигнала хватило, чтобы ваш мозг оживился и сосредоточился. Вот нечто имеющее отношение к вам: внимание! Возникает классический эффект вечеринки: одно упоминание вашего имени – и вся нервная система активизировалась разом. И вам даже не понадобилось ничего предпринимать. Но у большинства объектов нет предусмотрительно приложенных сигнальных флажков, на которые мы обращаем внимания, зная их важность. Мы вынуждены приучать свой разум оживляться так, словно мы только что услышали свое имя, но в отсутствие этого очевидного раздражителя. Выражаясь словами Холмса, нам необходимо знать, что мы ищем, чтобы заметить это что-то. В случае с прохожим, идущим мимо булочной, все довольно просто. Конкретная цель: не есть выпечки. Конкретные элементы, на которых следует сосредоточиться: сами лакомства (найдите изъяны в их внешнем виде), запахи (почему бы не сосредоточиться на запахе выхлопных газов, а не на запахе выпечки? Или на аромате кофе?), общее окружение (думайте о предстоящем совещании, о свадьбе и смокинге вместо того, чтобы зацикливаться на раздражителях, находящихся непосредственно перед вами). Я не говорю, что это просто, но, по крайней мере, ясно, какая структурированная обработка информации для этого понадобится. 51 А как быть с принятием решений, устранением проблем в рабочей обстановке и с другими, еще менее определенными целями? С ними ситуация обстоит таким же образом. Когда психолог Питер Голлвитцер пытался понять, как помочь людям ставить перед собой цели и совершать целенаправленные поступки с максимальной эффективностью, выяснилось, что есть нечто, способствующее сосредоточенности и результативности: 1) мышление с опережением, то есть восприятие ситуации как всего лишь одного момента внутри куда большее масштабных временных рамок, момента, который достаточно пройти, и наступит лучшее будущее; 2) конкретизация, постановка конкретных целей, как можно более точное определение конечного пункта и оптимальное распределение ресурсов внимания; 3) выявление возможных непредвиденных обстоятельств (если… то…) или продумывание ситуации с целью заранее понять, что следует предпринять в тех или иных обстоятельствах (например, если я замечу, что мои мысли блуждают, то закрою глаза, досчитаю до десяти и снова сосредоточусь); 4) ведение подробных записей вместо того, чтобы держать все в голове, – таким образом можно довести до максимума свой потенциал и заранее знать, что ничего не понадобится восстанавливать с нуля; и 5) размышления о последствиях, о том, что будет в случае неудачи, а также о позитивных результатах, к примеру о наградах, в случае успеха. Избирательность, вдумчивая, осмысленная, разумная избирательность, – ключевой первый шаг к овладению искусством проявлять внимание и оптимально использовать свои ограниченные ресурсы. Начните с малого и достижимого, начните с сосредоточенности. Для того чтобы придать системе Ватсона сходство с системой Холмса, могут понадобиться годы, и даже в этом случае сходство останется неполным, но благодаря вдумчивой сосредоточенности к этой цели можно приблизиться. Помогите системе Ватсона, наделите ее хотя бы некоторыми инструментами системы Холмса. Своими силами система Ватсона не справится. Единственное предупреждение: можно ставить перед собой цели, чтобы фильтровать информацию, поступающую из внешнего мира, но не стоит пользоваться этими целями как шорами. Ваши цели, ваши приоритеты, ваш ответ на вопрос «чего я хочу добиться» должны быть достаточно гибкими, чтобы приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Если меняется доступная информация, так же следует поступать и вам. Не бойтесь отклониться от намеченного плана ради более значительной цели. В этом отчасти и заключается процесс наблюдения. Разрешите своему внутреннему Холмсу показать вашему внутреннему Ватсону, куда смотреть. И не уподобляйтесь инспектору Алеку Макдоналду, или Маку, как зовет его Холмс. Прислушивайтесь ко всем предложениям Холмса, будь то изменение маршрута или прогулка в тот момент, когда вам не до нее. 2. Проявляйте объективность В рассказе «Случай в интернате» (The Adventure of the Priory School) из закрытой школы пропадает высокопоставленный ученик. Кроме того, исчезает преподаватель немецкого языка. Как такое могло случиться в столь известной и престижной школе – «несомненно, самом лучшем и самом привилегированном учебном заведении в Англии»?[8]8 Здесь и далее цитаты из рассказа «Случай в интернате» приведены в переводе Н. Волжиной. – Прим. пер. [Закрыть] Доктор Торникрофт Хакстейбл, основатель и директор школы, в крайнем замешательстве. К тому времени, как он добирается с севера Англии до Лондона, чтобы обратиться к мистеру Холмсу, беспокойство лишает его последних сил: директор 52 растягивается «во весь свой могучий рост» на медвежьей шкуре перед камином в доме номер 221В по Бейкер-стрит. Бесследно исчез не один человек, а сразу двое, притом один из них – ученик школы, сын герцога Холдернесса, бывшего министра и одного из самых богатых людей в Англии. Хакстейбл уверяет Холмса, что преподаватель немецкого Хайдеггер наверняка как-то причастен к исчезновению ученика. Велосипеда преподавателя нет на прежнем месте, в сарае, в комнате остались следы поспешных сборов. Похититель? Сообщник похитителя? Хакстейбл не знает точно, но уверен, что преподавателя есть за что винить. Двойное исчезновение совсем не похоже на случайное совпадение. Полиция сразу же узнала о случившемся, и, когда молодого человека и мальчика увидели вместе в раннем поезде на ближайшей станции, полицейские, казалось бы, с честью выполнили свой долг. Расследование завершилось надлежащим образом. Но, к огорчению Хакстейбла, вскоре стало ясно, что замеченная пара никак не причастна к исчезновению. И вот через три дня после описанных таинственных событий директор явился с просьбой к мистеру Холмсу. Нет, не слишком рано, считает сыщик, пожалуй, даже поздновато. Драгоценное время уже потеряно. Удастся ли найти беглецов, прежде чем разразится трагедия? Что придает ситуации такой драматизм? Ответ на этот вопрос – не просто констатация ряда фактов (пропавший мальчик, пропавший преподаватель, пропавший велосипед и т. п.) или даже перечисление сопутствующих подробностей (состояние комнаты мальчика, состояние комнаты преподавателя, одежда, окна, плющ за окнами и т. п.). Подразумевается также понимание одного очень характерного момента: ситуация в самом широком смысле слова – ментальном, физическом, даже включая такую, строго говоря, не относящуюся к ситуации деталь, как пустая комната, – по своей сути динамична. И самим фактом приобщения к ней мы вызываем сдвиг, ситуация меняется, перестает быть такой, как была до нас. Это принцип неопределенности Гейзенберга в действии: сам факт наблюдения вызывает изменения наблюдаемого объекта. Даже пустая комната перестает быть пустой, как только мы входим в нее. Невозможно и дальше действовать так, будто ничто не изменилось. На первый взгляд это утверждение кажется само собой разумеющимся, но на практике осознать его гораздо труднее. Возьмем, к примеру, такое сравнительно изученное явление, как «эффект белого халата». Допустим, у вас возникли какие-то боли или кашель, с которыми вы хотели бы обратиться к врачу. Или вы просто слишком долго откладывали очередной визит к нему. Вздохнув, вы беретесь за телефон и записываетесь на прием. На следующий день вы отправляетесь к врачу. Потом сидите возле кабинета в ожидании. Наконец вас вызывают. И вы заходите в кабинет. Логично будет предположить, что вы входите туда, уже зная, что идете обследоваться по той причине, о которой сообщили, когда записывались на прием, верно? А вот и нет. Исследования неоднократно подтверждали: многим людям достаточно самого факта нахождения во врачебном кабинете врача и присутствия самого врача (отсюда и название «эффект белого халата»), чтобы их жизненные показатели значительно изменились. Меняются пульс, давление, даже реакции и работа системы кровообращения, – только потому, что мы видим врача. Возможно, мы даже не ощущаем особого беспокойства или стресса. Но показатели и результаты обследования все-таки меняются. Ситуация изменилась из-за присутствия и наблюдения. 53 Вспомним отношение доктора Хакстейбла к событиям, которыми сопровождалось исчезновение: есть беглец (мальчик), сообщник (преподаватель) и велосипед, похищенный с целью бегства или обмана. Не больше и не меньше. То, что директор интерната сообщает Холмсу, – факт (по крайней мере, сам директор в это верит). Но так ли это? В своей теории, согласно которой мы верим тому, что видим, психолог Дэниел Гилберт развивает следующую мысль: мы верим в то, что хотим видеть, и в то, что наш «мозговой чердак» решает видеть, эта вера записывается у нас в мозге вместо фактов, и мы считаем, что перед нами объективный факт, тогда как на самом деле то увиденное, что нам помнится, – всего лишь наше ограниченное восприятие в тот момент времени. Мы забываем отделить фактическую ситуацию от нашей субъективной интерпретации этой ситуации. (Достаточно только взглянуть на неточности в свидетельских показаниях экспертов, чтобы понять, насколько скверно мы оцениваем и запоминаем.) Поскольку директор интерната сразу заподозрил похищение, он заметил лишь те детали, которые подкрепляли эту мысль, и сообщил о них, но не удосужился понять происходящее в целом. Однако сам директор не отдает себе отчета в том, как именно он действует. С его точки зрения, он сохраняет полную объективность. Как сказал философ Фрэнсис Бэкон, «как только человеческий разум приходит к некоему мнению (либо сам составляет его, либо получает извне), он приводит все остальное в соответствие с этим мнением и находит ему подтверждение». Достигнуть истинной объективности невозможно, даже научная объективность Холмса несовершенна, но нам необходимо понимать, как мы сбиваемся с пути в попытке приблизиться к целостному представлению о любой конкретной ситуации. Заблаговременный выбор целей поможет правильно распределить и направить такой ценный ресурс, как внимание. Стремление подогнать объективные факты под то, что вы хотите или ожидаете увидеть, не должно быть оправданием для повторной интерпретации этих фактов. Наблюдения и умозаключения – два отдельных, обособленных этапа, в сущности, им даже незачем следовать друг за другом. Вспомним о пребывании Ватсона в Афганистане. В своих наблюдениях Холмс придерживается объективных, осязаемых фактов. Поначалу никакой экстраполяции не происходит, она начинается лишь позднее. Вдобавок Холмс всегда задается вопросом о том, как увязать друг с другом факты. Понимание ситуации во всей ее полноте требует нескольких шагов, но первый и самый главный из них – осознать, что наблюдения и умозаключения не одно и то же. Это важно, чтобы сохранять максимально возможную объективность. Моя мама была довольно молодой – по современным меркам невероятно юной, а по меркам России 70-х гг. ХХ в. находилась в среднем возрасте, – когда родила мою старшую сестру. Моя сестра была довольно молодой, когда родила мою племянницу. Невозможно перечислить, сколько раз люди – от совершенно незнакомых до матерей одноклассников и официантов в ресторанах – думали, что видят одно, и действовали соответственно, тогда как на самом деле видели нечто совершенно иное. Мою маму принимали за сестру моей сестры. В те же времена маму обычно принимали за мать моей племянницы. Конечно, это простительная ошибка стороннего наблюдателя, и тем не менее ошибка, которая во многих случаях оказывала влияние на поведение, последующие суждения и реакции. Речь не просто о смешении поколений, но также о применении современных американских ценностей к поведению женщин Советской России, то есть совершенно другого мира. С американской точки зрения мама – малолетняя мать, мать-подросток. В России она вышла замуж и даже родила далеко не первой среди подруг. Просто так было принято в те времена. Мы думаем, мы выносим суждение и больше мысленно не возвращаемся к нему. Очень редко, описывая человека, предмет, панораму, ситуацию, разговор, мы воспринимаем названное как не значимую для нас, объективную сущность. И так же редко мы учитываем этот факт, поскольку, разумеется, он крайне редко имеет значение. Лишь некоторым умам 54 удается приучить себя отделять объективный факт от непосредственной, подсознательной и машинальной субъективной интерпретации, следующей за ним. Очутившись где-либо, Холмс первым делом пытается понять, что произошло. Кто к чему прикасался, что откуда взялось, чего не должно быть на этом месте, а что должно быть, но его здесь нет. Он сохраняет способность к предельной объективности даже в чрезвычайных обстоятельствах. Он помнит о своей цели, но пользуется ею лишь как фильтром, а не как источником информации. В отличие от него, Ватсон не настолько осмотрителен. Вернемся к пропавшему мальчику и преподавателю немецкого языка. В отличие от доктора Хакстейбла Холмс понимает, что сама интерпретация директора придает ситуации определенную окраску. И предполагает, что так называемые факты могут оказаться не тем, чем кажутся, чего не делает доктор Хакстейбл. В своих поисках директор интерната сильно ограничен одной решающей деталью: как и все прочие, он ищет беглеца и сообщника. А если герр Хайдеггер тут ни при чем? Если его мнимое бегство – на самом деле нечто совершенно другое? Отец пропавшего мальчика предполагает, что преподаватель мог помочь ученику сбежать к матери во Францию. Директор – что преподаватель доставил ученика в другое место. Полиция – что оба сбежали на поезде. И никто, кроме Холмса, не понимает, что это всего лишь гипотезы. Искать следует не сбежавшего преподавателя, куда бы он ни направлялся, а некоего преподавателя (без уточнений) и мальчика, причем не обязательно в одном и том же месте. Все истолковывают пропажу взрослого человека как знак, что он причастен к исчезновению ученика, например, как сообщник или инициатор. И никто не дает себе труд задуматься о том, что единственная имеющаяся улика указывает лишь на собственно факт исчезновения. Точнее, никто, кроме Шерлока Холмса. Он понимает, что ищет пропавшего мальчика. И вместе с тем ищет пропавшего преподавателя. Вот и все. Он не препятствует появлению дополнительных фактов в любой момент. Придерживаясь этого беспристрастного подхода, он случайно замечает факт, оставшийся совершенно не замеченным директором интерната и полицией: преподаватель вовсе не сбежал вместе с учеником, а найден мертвым неподалеку: «высокий бородатый человек в очках с разбитым правым стеклом. Причиной его смерти был сокрушительный удар, раскроивший ему череп». Для того чтобы обнаружить труп, Холмсу не требуются новые улики, он просто знает, как воспринимать происходящее в объективном свете, без предвзятости и предварительных теорий. В разговоре с Ватсоном он перечисляет шаги, которые привели его к находке: «Восстановим картину побега до конца. Немец погибает в пяти милях от школы – и погибает, заметьте, не от пули, которую мог бы пустить в него и ребенок, а от безжалостного удара по голове, нанесенного рукой сильного человека. Значит, у мальчика был спутник, и удалялись они так быстро, что хороший велосипедист настиг их лишь на пятой миле. При осмотре места, где разыгралась трагедия, мы обнаружили отпечатки коровьих копыт – и только. Я сделал более широкий круг, шагов на пятьдесят, и не увидел ни одной тропинки. Второй велосипедист не имел никакого отношения к убийству, а человеческих следов там не было. – Холмс! – воскликнул я. – Это невероятно! – Браво! – сказал он. – Вывод исчерпывающий. В моем изложении события выглядят невероятно – следовательно, я допустил ошибку. Но вы все время были со мной и все видели сами. Где же я ошибаюсь?» Ватсон не знает. Он предлагает сдаться. «Я теряюсь, Холмс», – признается он. 55 «Полно, полно, – упрекает Холмс, – мы разгадывали и более трудные загадки. Материала для размышлений у нас достаточно, надо только с умом использовать его». В этом кратком разговоре Холмс показывает, что все теории директора интерната вводят в заблуждение. Участников событий было по меньшей мере трое, а не двое. Преподаватель немецкого пытался спасти мальчика, а не навредить ему и не бежать вместе с ним (наиболее вероятный сценарий, учитывая, что теперь преподаватель мертв, а также тот факт, что он ориентировался по следам чьих-то шин и пытался догнать мальчика; ясно, что он не мог быть ни похитителем, ни его сообщником). Велосипед был средством погони, а не украденной по каким-то зловещим мотивам собственностью. Мало того, имелся и другой велосипед, который помог бежать мальчику и его неизвестному спутнику или спутникам. Холмс не сделал ничего особенного, просто позволил уликам говорить за себя. И следовал по цепочке рассуждений, не позволяя себе искажать факты так, чтобы подогнать их к ситуации. Короче говоря, он вел себя хладнокровно, демонстрируя возможности системы Холмса, в то время как умозаключения Хакстейбла наглядно свидетельствовали о работе порывистой, рефлекторной, спешащей с выводами системы Ватсона. Для того чтобы наблюдать, необходимо научиться отделять ситуацию от ее интерпретации, а себя самого – от того, что вы видите. Система Ватсона стремится в мир субъективного, гипотетического, дедуктивного. В наиболее осмысленный мир с точки зрения этой системы. Системе Холмса свойственна способность вовремя притормозить. Полезное упражнение – изложение ситуации с самого начала либо вслух, либо в письменном виде, как будто обращаешься к незнакомому человеку, не посвященному в подробности: точно так Холмс излагает свои предположения Ватсону. Когда Холмс заявляет таким способом о своих наблюдениях, на поверхность всплывают ранее не замеченные пробелы и противоречия. Это упражнение чем-то похоже на чтение своих сочинений вслух с целью выявления грамматических, логических или стилистических ошибок. Точно так же, как ваши наблюдения настолько тесно переплетены с вашими мыслями и впечатлениями, что вам трудно, если вообще возможно, отделить объективную реальность от ее субъективной реализации в голове: при работе над сочинением, книгой, статьей и т. п. ваше знакомство с собственным текстом становится настолько тесным, что вы наверняка пропустите ошибки и станете воспринимать смысл написанного так, как считаете нужным, а не каким он является на самом деле. Произнесение текста вслух заставит вас сбавить темп и заметить ошибки, которые стали невидимыми для глаз. Ваш слух уловит их, даже если для зрения они останутся незамеченными. И хотя такое вдумчивое и внимательное чтение вслух может показаться напрасной тратой времени, при нем почти всегда удается выявить ошибку или другой изъян, который в противном случае ускользнул бы от внимания. Легко поддаться логике обобщений Ватсона и уверенности Хакстейбла. Но приучите себя всякий раз, когда поймете, что сразу после наблюдения вынесли суждение, – и даже если не сделали этого или если суждение выглядит совершенно логичным, – останавливаться и повторять: «в том виде, в котором я изложил ситуацию, она невозможна, значит, я где-то допустил ошибку». А затем вернитесь к самому началу и действуйте уже не так, как в первый раз. Например, рассуждайте не про себя, а вслух. Не в уме, а в письменном виде. Этот способ избавит вас от множества ошибок в восприятии. 3. Стремитесь к целостности восприятия Вернемся к «Собаке Баскервилей». В первых главах Генри Баскервиль, наследник поместья Баскервилей, сообщает, что у него пропал башмак. И не один. На следующий день после исчезновения пропавший башмак как по волшебству возвращается, а сэр Генри вдобавок обнаруживает, что бесследно исчез башмак из другой пары. С точки зрения Генри, это досадное событие, и только. Для Шерлока Холмса – ключевой элемент в расследовании, дающем обильную пищу для всевозможных паранормальных и мистических гипотез. То, что 56 другие считают всего лишь курьезом, Холмс воспринимает как один из ключевых моментов дела: «собака», с которой они имеют дело, – существо из плоти и крови, а не призрак. Животное, которое прежде всего полагается на свое обоняние. Как позднее объясняет Холмс Ватсону, благодаря подмене одного украденного башмака другим он «сделал очень важный вывод. Мне стало ясно, что мы имеем дело с настоящей собакой, ибо только этим можно было объяснить старания Стэплтона получить старый башмак». Но это еще не все. Помимо исчезнувшего башмака, есть еще одно недвусмысленное предостережение. Встречаясь с Холмсом в Лондоне, Генри получает анонимные письма, призывающие его держаться подальше от Баскервиль-холла. Опять-таки только Холмс замечает в этих письмах нечто большее, чем видно остальным. Для Холмса они становятся второй частью разгадки этого дела. Как он объясняет Ватсону, «вы, вероятно, помните, что, разглядывая письмо, присланное сэру Генри, я заинтересовался, есть ли на нем водяные знаки. Я поднес листок к глазам и уловил легкий запах – от него пахло духами “Белый жасмин”. Есть семьдесят пять сортов духов, которые опытный сыщик должен уметь отличать один от другого. Я на собственном опыте убедился, что успешное расследование преступлений не раз зависело именно от этого. Если пахнет жасмином, значит, автор письма – женщина, а к тому времени Стэплтоны уже начинали интересовать меня. Итак, я понял, что собака существует на самом деле, и догадался, кто преступник, еще до своей поездки в Девоншир». Уже во второй раз мы имеем дело с запахом. Холмс не только читает письмо и рассматривает его, но и нюхает. Именно запах, а не текст и не общий вид становится для него подсказкой, помогающей выявить возможного преступника. Если бы не запах, две основные улики прошли бы незамеченными, какими остались для всех, кроме сыщика. Я не предлагаю вам срочно учиться распознавать по запаху семьдесят пять видов духов. Но и пренебрегать обонянием не следует, как и всеми другими чувствами, потому что они-то никогда не пренебрегают нами. Представьте себе, что вы приобретаете автомобиль. Вы отправляетесь к дилеру и рассматриваете сияющие образцы на стоянке. Как вы решаете, какая модель вам подходит? Если я задам этот вопрос прямо сейчас, вы, скорее всего, приметесь объяснять, как учитываете множество факторов – от стоимости до безопасности, от внешнего вида до комфортабельности, от пробега до расхода топлива. А потом выбираете автомобиль, максимально соответствующий вашим критериям. Но в действительности дело обстоит гораздо сложнее. Представьте себе, что за время вашего пребывания на стоянке у дилера мимо проходит какой-то человек с кружкой дымящегося горячего шоколада. Возможно, самого прохожего вы даже не запомните, но аромат шоколада воскресит воспоминания о вашем дедушке: он часто готовил вам горячий шоколад, когда вы проводили время вместе. Таков был ваш маленький ритуал. Не успев опомниться, вы покидаете стоянку на машине, похожей на ту, которую водил ваш дедушка, и очень кстати забываете (или даже не вспоминаете) о том, что ее безопасность оставляет желать лучшего. Скорее всего, вы даже не понимаете, почему сделали именно такой выбор. В сущности, вы не допустили ошибки, но избирательная память побудила вас совершить выбор, о котором позднее вы пожалеете. А теперь представим себе другую ситуацию. На этот раз в ней фигурирует навязчивый запах бензина: напротив стоянки находится автозаправка. И вы вспоминаете, как мама твердила вам, что с бензином следует обращаться осторожно, что он может загореться, и тогда можно серьезно пострадать. И вы сосредоточиваетесь на вопросах безопасности. Скорее всего, вы покинете стоянку на машине, совсем не похожей на дедушкину. Опять-таки не зная почему. 57 До сих пор мы вели речь о внимании как зрительном феномене. В большинстве случаев это утверждение справедливо. Но этим особенности внимания не исчерпываются. Помните, как во время гипотетической экскурсии на крышу Эмпайр-стейт-билдинга наш гипотетический Холмс прислушивался и принюхивался к самолетам, как бы странно это ни выглядело? Внимание – это работа органов всех чувств: зрения, обоняния, слуха, вкуса, осязания. Это сбор максимально возможного количества информации всеми доступными нам способами. Это умение не оставлять без внимания ничего – точнее, ничего из относящегося к поставленным целям. И наконец, умение осознавать, что все наши чувства воздействуют на нас, даже если мы этого не осознаём. Для того чтобы быть по-настоящему наблюдательными и внимательными, мы должны проявлять целостность восприятия, ничего не упускать, а также сознавать, что наше внимание может переключаться незаметно для нас, под влиянием ощущений, которые мы считаем неуловимыми. Так и с этим жасмином: Холмс намеренно понюхал письмо. И понял, что к письму имеет отношение женщина, причем конкретная женщина. Если бы письмо взял Ватсон, можно было бы с уверенностью утверждать, что он не сделал бы ничего подобного. Но его нос вполне мог уловить запах жасмина, даже если бы Ватсон этого не осознал. И что дальше? Улавливая какой-либо запах, мы запоминаем его. Исследования показали, что воспоминания, ассоциирующиеся с запахом, – наиболее яркие, мощные, эмоциональные из всех наших воспоминаний. То, что мы ощущаем как запах, влияет на то, что мы запоминаем, как потом чувствуем себя, к каким мыслям склоняемся в результате. Вместе с тем обоняние часто называют неуловимым чувством: мы регулярно ощущаем какие-либо запахи, не отдавая себе в этом отчет. Попадая в наш нос, запах достигает обонятельной луковицы, а затем – нашего гиппокампа, миндалевидного тела (центра обработки эмоций) и обонятельной коры головного мозга (которая не только имеет дело с запахами, но и участвует в выполнении сложных задач, связанных с запоминанием, обучением и принятием решений), провоцируя множество мыслей, чувств и воспоминаний, но в большинстве случаев мы не замечаем ни этих воспоминаний, ни запаха. А если бы Ватсону с его опытом общения с жительницами разных континентов довелось встречаться с любительницей жасминовых духов? Предположим, что эти отношения складывались успешно. Тогда Ватсон вдруг заметил бы, что его зрение приобрело особую четкость (вспомним, что хорошее настроение равносильно увеличению поля зрения), и вместе с тем не заметил бы некоторые детали, так как все происходящее воспринимал бы как окутанное розовой дымкой. Возможно, в письме нет ничего зловещего. Возможно, опасность, угрожающая сэру Генри, преувеличена. Пожалуй, лучше было бы пойти выпить и познакомиться с какими-нибудь милыми дамами – ведь дамы милы, не так ли? Так идем же! Ну а если бы упомянутые выше отношения оказались кратковременными, бурными, скандальными? Включилось бы «туннельное зрение» (плохое настроение – поле зрения ограничено), в итоге от внимания ускользнула бы большая часть элементов письма. «Но какая разница? Почему я опять должен работать? Я устал, меня переполняют впечатления, я давно заслужил отдых. Зачем вообще Генри досаждает нам этой чепухой? Пес-призрак, так я и поверил! Нет уж, с меня хватит». Стремясь к целостности восприятия, никогда не забываем: все наши чувства постоянно в игре. Мы не даем им управлять нашими эмоциями и решениями. Вместо этого мы не забываем заручиться их активной поддержкой, как поступает Холмс в случае с башмаком и письмом, и учимся искусству контроля. В любом из описанных выше вариантов развития событий все действия с того момента, как доктор Ватсон уловит аромат жасмина, он будет совершать под влиянием этого запаха. И 58 если точное направление этого влияния неизвестно, одно можно утверждать наверняка: Ватсон не только не проявит целостности восприятия, но и система, носящая его имя, сделает его внимание еще более субъективным, в том числе в силу ее подсознательного характера. Может показаться, что я утрирую, но уверяю вас, сенсорное воздействие, особенно обонятельное, обладает огромной мощностью. И если мы понятия не имеем об этом воздействии, как зачастую и бывает, оно тем не менее угрожает вытеснить старательно культивируемые нами цели и объективность, к которой мы стремимся. Возможно, запах тут – самый дерзкий, но далеко не единственный виновник. При встрече с человеком мы, скорее всего, испытываем активизацию ряда ассоциирующихся с ним стереотипов, хотя и не осознаём этого. Если мы касаемся чего-либо теплого или холодного, наше настроение тоже может стать соответственно «теплым» или «холодным», а когда до нас дотрагиваются, желая подбодрить, мы вдруг обнаруживаем в себе рост готовности идти на риск или уверенность, которой раньше не чувствовали. Держа в руках что-нибудь тяжелое, мы обычно придаем больше веса суждениям о ком-либо или о чем-либо, и высказываем эти суждения более серьезно. Все перечисленное само по себе не имеет отношения к наблюдательности и внимательности, однако может сбить нас с тщательно выбранного пути, так что мы ничего даже не заметим. А это действительно опасно. Нам незачем, подобно Холмсу, учиться различать сотни запахов по единственному дуновению, чтобы поставить органы чувств нам на службу и дать нашему сознанию возможность представить нам более полную картину происходящего, чем имелась прежде. Надушенная записка? В сущности, нам незачем знать, что это за аромат: он и без того может стать красноречивой уликой. Если вы вообще не уловили аромата, то полностью упустили улику из виду, причем ваша объективность оказалась подорвана, а вы и не подозреваете, что произошло. Пропавший башмак? Второй пропавший башмак? Возможно, все дело не во внешнем виде, а в качестве башмака, ведь старый и стоптанный исчез навсегда. Нам незачем многое знать, чтобы понять, что здесь мы имеем еще одну сенсорную улику, которая опятьтаки может быть упущена, если мы забудем о других своих органах чувств. В обоих случаях неумение пользоваться всеми чувствами равносильно неспособности замечать весь потенциал ситуации, неправильному распределению внимания, а также окрашенности этого неоптимально распределенного внимания подсознательными сигналами. Когда мы активно задействуем наши органы чувств, то понимаем, что мир многомерен. Происходящее мы постигаем с помощью глаз, носа, ушей, кожи. Каждый из этих органов чувств сразу же сообщает нам что-то. А если не сообщает, то и таким образом мы кое-что узнаём: некое свойство отсутствует. Выясняется, что чему-то недостает запаха, или звука, или еще чего-нибудь. Другими словами, осознанное использование всех органов чувств позволяет высветить не только имеющуюся часть общей картины, но и ту ее часть, о которой зачастую забывают: чего здесь нет, что отсутствует из того, чему следовало тут быть? Ведь отсутствие говорит нам порой не меньше, чем наличие. Вспомним дело Серебряного, пропавшего жеребца, следов которого не мог найти никто. Когда Холмсу представился случай изучить место загадочного исчезновения, инспектор Грегори, так и не сумевший отыскать то, что практически невозможно не заметить, а именно лошадь, спрашивает: «Есть еще какие-то моменты, на которые вы посоветовали бы мне обратить внимание?» Разумеется, отвечает Холмс: «На странное поведение собаки в ночь преступления». Инспектор возражает: «Но собака никак себя не вела!» И Холмс завершает разговор кульминационной фразой: «Это-то и странно». Для Холмса отсутствие лая – поворотный момент дела: собака наверняка знала нежданного гостя. Иначе она подняла бы шум. 59 Нам такую подробность, как отсутствие лая, слишком легко забыть. Зачастую мы даже не отметаем отсутствующие детали осознанно: о них вообще речи не идет с самого начала, особенно если дело касается отсутствия звука – ведь слуховые наблюдения даются нам не так естественно, как зрительные. Но нередко подобные недостающие элементы оказываются не менее значимыми, важными и способными оказать заметное влияние на ход наших мыслей, чем те, что наличествуют. Нам незачем обращаться к детективным расследованиям, чтобы понять, какую роль играет отсутствующая информация в наших мыслительных процессах. К примеру, вы решили купить мобильный телефон. Я покажу вам два возможных варианта принятия такого решения, а вам надо определить, какой из них вы бы предпочли. Вы уже приняли решение? Прежде чем читать дальше, сделайте пометку о том, какой телефон выбрали – А или В. А теперь – еще одно описание тех же телефонов. Информация в нем не изменилась, только слегка пополнилась. Какой телефон вы приобрели бы теперь? Снова запишите свой ответ. А я представлю вам третий вариант описания, опять-таки с одним новым элементом. 60 А какой из двух телефонов вы выберете теперь? Есть вероятность, что где-то между предоставлением второго и третьего списка данных вы переключили внимание с телефона В на телефон А. Однако сами эти телефоны ничуть не изменились. Изменился только состав известной вам информации о них. Это упущение по невнимательности. Нам не удается заметить то, чего мы не воспринимаем с самого начала, мы упускаем возможность задать дополнительные вопросы или принять во внимание недостающие детали, когда принимаем решение. Часть информации всегда легко доступна, зато другая часть безмолвна и останется таковой, если мы не расшевелим ее своими активными действиями. Здесь я воспользовалась только визуальной информацией. Когда же мы переходим от двух измерений к трем, от списка к реальности, то в игру вступают все наши органы чувств, и эта игра становится честной. Соответственно растет и потенциальное пренебрежение упущенным – как и потенциальная возможность подробнее разузнать о ситуации, если мы активно примем участие в ней, включаясь в нее по максимуму и будем стремиться к целостности восприятия. А теперь вернемся к пресловутой собаке. Она могла либо залаять, либо нет. Она не залаяла. Этот факт можно воспринять по примеру инспектора, который считал, что собака никак себя не вела. А можно – по примеру Холмса, то есть решить, что собака предпочла не лаять. Результат двух цепочек рассуждений одинаков: собака молчит. Но выводы диаметрально противоположны: пассивное ничегонеделание или активное действие. Отсутствие выбора – тоже выбор. Причем весьма красноречивый. Каждое бездействие указывает на параллельное действие; каждое отсутствие выбора – на параллельный выбор; каждое отсутствие – на наличие. Возьмем хорошо известный эффект умолчания: сплошь и рядом мы придерживаемся вариантов по умолчанию и не тратим силы на перемены, даже если другие варианты нам более выгодны. Мы предпочитаем не перечислять средства в пенсионный фонд (даже если наш работодатель нам это компенсирует), коль скоро перечисление не предусмотрено по умолчанию. Мы не становимся донорами органов, если по умолчанию не считаемся донорами. Этот список можно продолжать. Ничего не делать попросту легче. Но это не означает, что мы действительно ничего не делаем. Делаем. В некотором смысле мы сами предпочитаем бездействие. Уделять внимание означает уделять его всему, активно участвовать в событиях, пользоваться всеми нашими органами чувств, воспринимать все, что происходит вокруг нас, в том числе и то, что не появляется в тех случаях, когда ему следовало бы появиться. Это предполагает 61 постановку вопросов и получение ответов. (Прежде чем купить автомобиль или мобильный телефон, следует задаться вопросом: какие характеристики для меня особенно важны? А затем постараться уделить внимание именно этим характеристикам, а не чему-либо совершенно иному.) Мы должны осознать: наш мир – трехмерный и мультисенсорный, и, нравится нам или нет, но мы находимся под влиянием нашего окружения, так что максимум, на что мы способны, – контролировать это влияние, уделяя внимание всему, что нас окружает. Возможно, мы все равно не сумеем охватить всю ситуацию или сделаем выбор, который при дальнейшем рассмотрении все-таки окажется неверным. Но причиной в этом случае окажется не наше бездействие. Наше дело – наблюдать в меру сил и ничего не принимать на веру без достаточных оснований, – в частности, сознавать: если информация отсутствует, это не значит, что ее нет. 4. Проявляйте вовлеченность Даже Шерлок Холмс порой ошибается. Но чаще всего эти ошибки – следствия неверной оценки: личности, как в случае с Ирен Адлер; способности коня не выдать своего местоположения в «Серебряном»; способности человека оставаться самим собой в «Человеке с рассеченной губой» (The Man with the Twisted Lip). Крайне редко встречаются более фундаментальные ошибки, вызванные недостатком вовлеченности. Насколько мне известно, единственный случай, когда великий сыщик пренебрег последним элементом наблюдательности, активным интересом и вовлеченностью в то, чем он занимался, едва не стоил жизни его подозреваемому. Упомянутый инцидент происходит ближе к концу «Приключений клерка» (The StockBroker’s Clerk). В этом рассказе клерку, о котором идет речь в заголовке, мистеру Холлу Пикрофту, некий Артур Пиннер предложил место коммерческого директора во ФранкоМидлендской компании скобяных изделий. Пикрофт, никогда не слышавший о такой компании, намеревался на следующей неделе приступить к работе в одном респектабельном банкирском доме, но предложенное жалование оказалось слишком щедрым, чтобы упустить подобный случай. И Пикрофт соглашается взяться за работу на следующий день. Однако он настораживается, обнаружив, что его новый работодатель, брат мистера Пиннера, Гарри, поразительно похож на Артура. Более того, выясняется, что на новом рабочем месте Пикрофта нет ни одного сотрудника, кроме него, и на здании нет даже таблички с названием фирмы. В довершение всего Пикрофту поручают заниматься странным для клерка делом – переписывать сведения из толстого телефонного справочника. Когда же неделю спустя Пикрофт замечает у Гарри точно такой же золотой зуб, как у Артура, он, не выдержав такого множества странностей, обращается к Шерлоку Холмсу. Холмс и Ватсон сопровождают Холла Пикрофта в Мидлендс, в контору его работодателя. Холмсу кажется, будто бы он понимает, что происходит, он решает навестить подозрительного человека под предлогом поисков работы, а потом поговорить с ним напрямик, по своему обыкновению. Все детали на местах. Сыщику ясны все аспекты ситуации. Это дело не из тех, где восполнить значительные пробелы может только сам злоумышленник. Холмс знает, чего ему ждать. Осталось только разоблачить преступника. Но, когда вся троица входит в контору, мистер Пиннер ведет себя совсем не так, как ожидалось. Вот что говорит Ватсон: «За единственным столом с развернутой газетой в руках сидел человек, только что виденный нами на улице. Он поднял голову, и я увидел лицо, искаженное таким страданием, вернее, даже не страданием, а безысходным отчаянием, как бывает, когда с человеком стряслась непоправимая беда. Лоб его блестел от испарины, щеки приняли мертвенно-бледный оттенок, напоминающий брюхо вспоротой рыбы, остекленевший взгляд был взглядом сумасшедшего. Он уставился на своего клерка, точно видел его впервые, и по лицу Пикрофта я понял, что таким он видит хозяина в первый раз»[9]9 62 Здесь и далее цитаты из «Приключений клерка» приведены в переводе Н. Колпакова. – Прим. пер. [Закрыть]. А затем происходит нечто еще более неожиданное, угрожая расстроить все планы Холмса. Мистер Пиннер пытается покончить с собой. Холмс в растерянности. Этого он не предвидел. До того момента дело было «ясное. Не ясно одно: почему, увидев нас, один из мошенников тотчас ушел в другую комнату и повесился», – говорит Холмс. Ответ находится довольно скоро. Приведенный в чувство добрым доктором Ватсоном, мистер Пиннер сам дает его, восклицая: «Газета!» Пиннер как раз читал газету, точнее, нечто особенное в этой газете, то, что полностью вывело его из душевного равновесия, когда вошел Холмс и его спутники. Холмс реагирует на этот возглас неожиданно бурно. «Газета! Ну конечно! – кричит Холмс в приступе несвойственного ему обычно возбуждения. – Какой же я идиот! Я все хотел связать самоубийство с нашим визитом и совсем забыл про газету». Едва упомянули газету, как Холмс сразу понял, в чем дело и почему она оказала именно такой эффект. Но почему сам он не обратил внимания на газету сразу же, совершил ошибку, которая даже Ватсона заставила бы стыдливо потупиться? Каким образом система Холмса превратилась… в систему Ватсона? Все просто. Холмс сам признаётся: он утратил интерес к делу. В его представлении дело уже было раскрыто, вплоть до последней подробности – визита в контору, о котором он столько думал, что начал рассматривать его как нечто отдельное. А таких ошибок Холмс обычно не допускает. Холмсу лучше прочих известно, как важна вовлеченность для того, чтобы правильно наблюдать и делать выводы. Сознание должно активно участвовать в происходящем. Иначе оно станет вялым и пропустит решающую подробность, из-за чего едва не погибнет объект наблюдения. Мотивация имеет значение. Стоит только утратить мотивацию, и результативность снизится независимо от того, насколько хорошо вы будете действовать дальше. Даже если вы успешно выполнили все, что следовало, вплоть до нынешнего момента, – как только мотивация и вовлеченность снизятся, вас ждет фиаско. Когда мы вовлечены в то, чем занимаемся, происходит много всякого. Скажем, мы дольше проявляем упорство в решении сложных задач и с большей вероятностью их решаем. Мы испытываем состояние, которое психолог Тори Хиггинс называет «потоком», – состояние деятельного присутствия разума. Это состояние не только позволяет нам извлекать больше пользы из любого занятия, но и помогает почувствовать себя лучше и счастливее: мы получаем реальное, измеримое удовольствие от самой силы собственной активной вовлеченности и внимания к деятельности, даже такой скучной, как, скажем, сортировка писем. Если у нас есть причины заниматься ею, основания, мотивирующие нашу вовлеченность, то мы справимся с задачей лучше и в результате окажемся в большей степени довольны. Этот принцип справедлив даже в тех случаях, когда приходится затрачивать значительные умственные усилия – например, при разгадывании трудных головоломок. Несмотря на напряжение, мы все равно испытываем удовольствие, удовлетворение, ощущаем себя, так сказать, более состоявшимися. Мало того, вовлеченности и потоку свойственно порождать своего рода «полосу везения»: мы все более мотивированы и вдохновлены, следовательно, с большей вероятностью демонстрируем продуктивность и создаем что-либо ценное. Мы даже в меньшей степени подвержены совершению большинства фундаментальных ошибок наблюдения (таких как 63 ошибочное восприятие внешности человека как фактической характеристики его личности), которые угрожают расстроить даже самые продуманные планы целеустремленного наблюдателя холмсовского типа. Другими словами, вовлеченность стимулирует систему Холмса. Как будто бы система Холмса поднимается на ступеньку вверх, смотрит через плечо системы Ватсона, ободряюще кладет на это плечо ладонь и говорит прямо перед тем, как перейти к действию: «Погоди минутку. Думаю, сначала надо как следует присмотреться и только потом действовать». Для того чтобы понять, что я подразумеваю под словом «действовать», вернемся ненадолго к Холмсу, а именно – к его реакции на излишне поверхностные (и незаинтересованные) суждения о клиенте сыщика в рассказе «Подрядчик из Норвуда» (The Adventure of the Norwood Builder). В этом рассказе доктор демонстрирует типичный для ватсоновской системы подход к наблюдениям: делает выводы слишком быстро, на основании первых впечатлений, и не вносит в них поправки в связи с выяснившимися специфическими обстоятельствами. Хотя в данном конкретном случае суждение относится к человеку – и применительно к людям это явление носит конкретное название, уже знакомое нам, – «фундаментальная ошибка атрибуции», – пример может трактоваться гораздо шире. После того как Холмс перечисляет трудные моменты дела и подчеркивает важность незамедлительных действий, Ватсон замечает: «Ведь для суда важно, какое впечатление производит человек, правда?» Холмс советует ему не спешить. «На впечатление, милый Ватсон, полагаться опасно. Помните Берта Стивенса, этого кровавого убийцу, который рассчитывал, что мы спасем его? А ведь на вид был безобиден, как ученик воскресной школы»[10]10 Здесь и далее цитаты из рассказа «Подрядчик из Норвуда» приведены в переводе Ю. Жуковой. – Прим. пер. Ватсону приходится признать этот факт. Нередко люди оказываются совсем не теми, за кого их принимают поначалу. Восприятие человека – наглядная иллюстрация того, как «работает» вовлеченность. Далее мы увидим, что это применимо не только к людям, просто случай с оценкой человека позволяет наглядно представить себе это гораздо более масштабное явление. Процесс восприятия другого человека обманчиво прямолинеен. Сначала мы классифицируем его, относя к той или иной категории. Что делает этот индивид? Как он себя ведет? Как он выглядит? Ватсон в данном случае вспоминает первое появление Джона Гектора Макфарлейна в доме 221В. Он сразу узнает (благодаря подсказке Холмса), что их гость – адвокат и масон, и если в Лондоне XIX в. существовали респектабельные сферы деятельности, то в первую очередь эти две. Затем Ватсон отмечает ряд подробностей: «Лет ему было около двадцати семи, светло-русые волосы, славное лицо с мягкими, будто смазанными чертами, ни усов, ни бороды, испуганные голубые глаза, слабый детский рот; судя по костюму и манерам – джентльмен, из кармана летнего пальто торчит пачка документов, подсказавших Холмсу его профессию». (А теперь представим себе, что точно такому же процессу подвергается предмет, место и так далее. Возьмем что-нибудь простое, например яблоко. Опишите его: как оно выглядит? Где находится? Делает ли оно что-нибудь? Действием может считаться даже пребывание в вазе.) Покончив с классификацией объекта, мы даем ему характеристику. Теперь, когда нам известно, чем занимается данный человек и как выглядит, надо понять, что это может означать. Есть ли какие-нибудь основополагающие черты или характеристики, которые 64 обусловили мое первоначальное впечатление или наблюдения? Именно так действует Ватсон, говоря Холмсу: «Ведь для суда важно, какое впечатление производит человек, правда?» Он принял во внимание прежние наблюдения, какую бы нагрузку они ни несли – славный, слабый, по манерам джентльмен, судя по бумагам в кармане – адвокат, – и решил, что, вместе взятые, они подразумевают благонадежность. Цельный, прямой характер, в котором не усомнится ни один судья. (Думаете, яблоко невозможно охарактеризовать? А например, сделать вывод о его пользе для здоровья как о внутренне присущем свойстве, поскольку яблоко – фрукт, а фрукты, в соответствии с вашими ранее сделанными наблюдениями, имеют значительную пищевую ценность?) И наконец, мы корректируем сделанный вывод: есть ли в нем что-нибудь, что могло вызвать действия, не соответствующие моей первоначальной оценке (на этапе характеристики)? Надо ли мне скорректировать свои первоначальные впечатления в ту или иную сторону, усилить некоторые элементы и отбросить другие? Звучит довольно просто: берем вывод Ватсона о благонадежности или ваш вывод о пользе для здоровья и смотрим, не нуждаются ли они в дополнительной проверке. Но тут возникает серьезная проблема: если две первые части процесса выполняются почти автоматически, к последней это относится в наименьшей степени, а иногда и не относится вообще. В деле Джона Макфарлейна не Ватсон корректирует собственное впечатление. Он принимает его за чистую монету и уже готов действовать дальше. Вместо этого неизменно вовлеченный в процесс Холмс указывает, что на впечатления «полагаться опасно». Макфарлейн и может, и не может рассчитывать, что его внешность смягчит любой суд. Все зависит от суда и от других обстоятельств дела. Сама по себе внешность может быть обманчивой. Действительно, можно ли судить о благонадежности Макфарлейна, просто взглянув на него? И вернемся к яблоку: действительно ли можно узнать, что оно полезно для здоровья, осмотрев его снаружи? А если это конкретное яблоко не только не выращено экологически чистыми методами, но и привезено из сада, о котором известно, что в нем применяются запрещенные пестициды, вдобавок яблоко никто не удосужился бережно хранить и как следует вымыть? Внешность может быть обманчивой даже в этом случае. Поскольку в голове у вас уже сложился образ яблока, вы наверняка сочтете излишними дальнейшие рассуждения, зря отнимающие время. Почему же мы так часто терпим фиаско на заключительной стадии восприятия? Ответом служит предмет нашего обсуждения: вовлеченность. Восприятие бывает двух видов, пассивное и активное, но скорее всего, вы ошибаетесь, определяя, где какое. В данном случае система Ватсона активна, система Холмса пассивна. В состоянии пассивного восприятия мы просто наблюдаем. Я имею в виду, что мы больше ничем не занимаемся. Иными словами, мы отключаем многозадачность. Холмс как пассивный наблюдатель всецело сосредоточивается на объекте наблюдений, в данном случае – на Джоне Гекторе Макфарлейне. Он слушает, по своей привычке закрыв глаза и соединив ладони. Определение «пассивный» способно ввести в заблуждение, ведь в таком сосредоточенном восприятии нет никакой пассивности. Пассивным является отношение Холмса к остальному миру. Сыщик не отвлекается ни на какие другие задачи. В роли пассивных наблюдателей мы не делаем больше ничего, мы сосредоточены исключительно на наблюдениях. Пожалуй, лучше было бы назвать это состояние вовлеченной пассивностью – воплощением вовлеченности и при этом сосредоточенности только на одном предмете – или человеке, смотря по обстоятельствам. Но чаще всего мы лишены преимущества простого наблюдения (и даже когда оно предоставлено нам, мы редко им пользуемся). Находясь в обществе, как это бывает в большинстве случаев, мы не можем просто абстрагироваться и наблюдать. Вместо этого мы фактически пребываем в состоянии многозадачности, пытаемся лавировать в запутанных 65 ситуациях социального взаимодействия и в то же время делать атрибутивные суждения, будь то о людях, предметах или обстановке. Активное восприятие не подразумевает активности как присутствия в настоящем и вовлеченности. Активное восприятие означает, что человек в процессе восприятия в буквальном смысле слова активен: он одновременно справляется с множеством действий. Активное восприятие – это система Ватсона, пытающаяся охватить все разом, всюду успеть и ничего не упустить. Это Ватсон, который не только разглядывает посетителя, но и беспокоится о резком звонке, о газете, о времени обеда, о чувствах Холмса, и все это одновременно. Пожалуй, такую деятельность лучше было бы назвать «невовлеченной»: в этом состоянии мы лишь выглядим активными и продуктивными, но в действительности ничего не делаем как следует, только разбрасываемся и без того скудными ресурсами внимания. Что отличает Холмса от Ватсона, пассивного наблюдателя от активного, вовлеченную пассивность от невовлеченной активности? Ключевое слово, которым я пользуюсь в обоих случаях: вовлеченность. Поток. Мотивация. Заинтересованность. Назовите как хотите, но именно это побуждает Холмса сосредоточиться исключительно на посетителе, завладевает им и не позволяет мыслям начать блуждать, уклонившись от предмета наблюдения. В ряде классических исследователей группа ученых из Гарварда поставила перед собой цель продемонстрировать, что при активном восприятии люди классифицируют и характеризуют воспринятое на почти подсознательном уровне, машинально и почти не задумываясь, а потом им не удается воспользоваться последним этапом коррекции (даже если у них есть вся необходимая для этого информация), в итоге у них остается впечатление, составленное без учета всех элементов взаимодействия. Подобно Ватсону, они помнят только, что суду понравилась бы внешность конкретного человека, и, в отличие от Холмса, не принимают во внимание факторы, доказывающие, что внешность обманчива, а также обстоятельства, при которых суд не обратит внимания даже на самую благонадежную внешность, ибо она лишь вводит в заблуждение (в то время как дополнительные свидетельства оказываются настолько весомы, что любые отсылки к субъективным аспектам выглядят неуместными). В первом исследовании ученые проверяли, способны ли «когнитивно занятые» люди (или же многозадачные, как все мы, когда нам приходится манипулировать многочисленными элементами ситуации) скорректировать первоначальное впечатление, внести в него необходимые поправки. Группе участников эксперимента было предложено посмотреть семь видеороликов, в которых женщина беседует с незнакомцем. Видеоролики не были озвучены, якобы во избежание вмешательства в частную жизнь показанных в них людей, зато были снабжены субтитрами, на основании которых участники эксперимента могли сделать вывод о теме беседы. В пяти из семи видеороликов женщина выглядела встревоженно, в двух остальных сохраняла спокойствие. Все участники смотрели одинаковые материалы, различались лишь два элемента: субтитры и задача, поставленная перед участниками. В одном случае все пять «тревожных» роликов сочетались с темами, внушающими тревогу, например с половой жизнью, а в другом все семь роликов сочетались с нейтральными темами, например путешествиями по всему миру (иными словами, пять роликов с тревожным поведением выглядели несообразно расслабляющему предмету разговора). Одной половине участников эксперимента объяснили, что им предстоит оценить женщину из видеоролика по некоторым личностным качествам, а другой половине предложили не только оценить ее качества, но и вспомнить семь тем разговора в порядке их появления. Результаты не стали для ученых неожиданностью, но пошатнули распространенные представления о том, как мы воспринимаем окружающих. Если участники эксперимента, от которых требовалось сосредоточиться только на соответствии поведения женщины ситуации, нашли героиню роликов более встревоженной при нейтральных темах разговора и 66 менее встревоженной, когда разговор заходил о предметах, действительно внушающих тревогу, то участники, от которых требовалось вспомнить темы разговора, были совершенно не в состоянии принять эти самые темы во внимание, высказывая суждения о беспокойстве женщины. В распоряжении участников эксперимента имелась вся информация, необходимая им, чтобы сделать выводы, но им и в голову не пришло воспользоваться ею. Поэтому, хотя они и знали, что данная ситуация теоретически встревожила бы любого, на практике они просто решили, что женщине в целом свойственна тревожность. Более того, по прогнозам этих участников эксперимента, женщина должна впредь проявлять беспокойство – независимо от того, насколько к этому располагает ситуация. Чем лучше они помнили темы разговоров, тем менее удачными оказывались их прогнозы. Другими словами, чем больше была загруженность их мозга, тем меньше они могли скорректировать первое впечатление после того, как оно сформировалось. Это и хорошо, и плохо. Начнем с плохого. В большинстве ситуаций, при большинстве обстоятельств мы – активные наблюдатели, следовательно, вероятнее всего допустим ошибку, подсознательно и машинально классифицируя, характеризуя и не умея откорректировать первое впечатление. В итоге мы руководствуемся внешним впечатлением, забываем о нюансах, забываем, как легко человек в любой момент может оказаться под влиянием множества сил, как внутренних, так и внешних. Вдобавок этот принцип действует независимо от того, выводите вы, подобно большинству жителей Запада, характерные свойства из мимолетных состояний или, как большинство жителей Востока, делаете вывод о состояниях на основании уже известных характерных свойств: в любом случае, произвести корректировку вам не удастся. Но есть и хорошие новости. Исследования одно за другим демонстрируют, что мотивированным людям коррекция дается более естественно – и корректно, если так можно выразиться, – чем тем, кому недостает мотивации. Другими словами, нам требуется не только осознать, что мы склонны делать суждения «на автопилоте» и не умеем корректировать их в дальнейшем, но и активно захотеть быть более точными в своих суждениях. В одном из исследований психолог Дуглас Крулл создал те же начальные условия, как и в гарвардском исследовании тревожности, но поставил перед участниками эксперимента дополнительную цель: попросил их оценить степень тревожности, вызванной вопросами на собеседовании. Те участники, которые оценивали эту ситуацию, гораздо реже решали, что женщине просто свойственна тревожность, хотя и были заняты когнитивной задачей по воспроизведению информации. Или рассмотрим еще одну распространенную установку: политическая оценка, скорее навязанная субъекту, чем осознанно им выбранная. Возьмем смертную казнь (поскольку мы уже упоминали ее ранее, вдобавок она соотносится с криминальным миром Холмса; кроме того, она часто фигурирует в условиях экспериментов). Возможно, вы придерживаетесь одного из трех распространенных взглядов на смертную казнь: вы за казнь, вы против, или же вам все равно, вы на самом деле затрудняетесь с ответом или никогда не задумывались об этом. Если бы я предложила вам краткую статью с доводами в поддержку смертной казни, как бы вы отреагировали на нее? Ответ таков: смотря по обстоятельствам. Если вы мало информированы о смертной казни и не имеете устойчивых взглядов на этот счет, если вы не заинтересованны и отвлечены, то скорее всего вы примете предложенную статью за чистую монету. Если у вас нет причин сомневаться в источнике статьи, если она выглядит достаточно логичной, то, по всей вероятности, вы позволите ей убедить вас. Классифицировать и категоризировать вам понадобится, а вот потребность в коррекции едва ли возникнет. Коррекция требует усилий, а у вас нет личных причин прилагать их. Сопоставьте эту реакцию с другой – в том случае, если вы убежденный противник или сторонник смертной казни. И в том и в другом случае 67 ваше внимание будет привлечено уже самой темой статьи. Вы прочтете ее гораздо внимательнее и не пожалеете усилий, необходимых для коррекции. Сама коррекция будет различаться в зависимости от того, «за» вы или «против» (в сущности, вы можете даже переборщить с коррекцией, если вы против доводов статьи, слишком сильно противоречащих вашим убеждениям), но, так или иначе, ваша вовлеченность будет гораздо активнее, вы приложите умственные усилия, необходимые для того, чтобы поставить под сомнение свое первоначальное впечатление. Потому что для вас важно как следует во всем разобраться. (Политический вопрос я выбрала намеренно, чтобы показать, дело не обязательно имеет отношение к оценке человека, – но только вдумайтесь, какой значительной будет разница в восприятии в случаях, когда вы впервые встречаетесь с кем-либо или когда вам предстоит проводить собеседование или давать оценку знакомому человеку. В каком случае вы с большей вероятностью будете осмотрительнее в своих впечатлениях, чтобы не ошибиться? В каком случае потратите больше усилий на корректировку и пересмотр?) Когда мы ощущаем выраженную личную вовлеченность во что-либо, нам не жаль лишних усилий. Если вы вовлечены в сам процесс, если настроены на внимательность, наблюдательность и бдительность, то с гораздо большей вероятностью будете требовать от себя точности суждений. Разумеется, начало процесса необходимо осознать, но эта цель уже достигнута. А если вы поняли, что вовлеченность необходима, но не настроены на нее? Психолог Арье Круглански всю свою профессиональную жизнь изучает феномен, известный как потребность в завершенности – стремление разума прийти к неким определенным представлениям в каком-либо вопросе. Изучая проявления этой потребности у разных людей, Круглански продемонстрировал, что мы можем сами манипулировать ею, чтобы становиться более внимательными и вовлеченными, а заодно и обеспечивать завершение стадии корректировки своих выводов. Этой цели можно достичь несколькими способами. Наиболее эффективным оказывается имеющееся у нас чувство ответственности за наши суждения: в этом случае мы гораздо дольше рассматриваем вопрос со всех сторон, оцениваем возможности, прежде чем принять решение, не жалеем сил и времени на корректировку первоначальных впечатлений, лишний раз убеждаемся, что они точны. Наш разум не «закрывает» поиски (или, как это называет Круглански, не «замораживает» их), пока мы не удостоверимся, что сделали все возможное. Далеко не всегда рядом оказывается автор эксперимента, способный призвать нас к ответу, но мы и сами можем справиться с его ролью, если будем относиться к каждому важному суждению или наблюдению как к испытанию. Насколько я точен? Насколько хорошо я выполнил задачу? Способен ли я повысить свою внимательность по сравнению с предыдущим разом? Такие испытания не только способствуют нашей вовлеченности в наблюдение и делают его более увлекательным, но и снижают вероятность поспешных выводов и необдуманных суждений. Активный наблюдатель стеснен в действиях, потому что на него сваливается сразу слишком много задач. А если он участвует в социально-психологическом эксперименте и вынужден запоминать семь тем подряд, цепочку цифр, еще какую-нибудь последовательность из тех, какие психологи обычно применяют с целью создания когнитивной занятости, то этот наблюдатель в принципе обречен. Почему? Потому что эксперимент поставлен таким образом, чтобы принудительно препятствовать вовлеченности. Нельзя полностью вовлечься в ситуацию (если вы не наделены фотографической памятью или не владеете мнемоническим «методом мест»), когда судорожно пытаешься запомнить бессвязные сведения (и даже если эти сведения связные: суть в том, что ресурсы внимания получают другую направленность). 68 Но тут следует заметить: наша жизнь – не социально-психологический эксперимент. Нам и не требуется быть активными наблюдателями. Никто не просит нас вспомнить точный порядок предметов разговора или выступить с речью, к которой мы не готовы. Никто не принуждает нас ограничивать нашу вовлеченность: мы делаем это по собственному почину. Либо ввиду потери интереса, как у Холмса в деле мистера Пикрофта, либо по той причине, что мы слишком поглощены будущим судебным процессом и потому не в состоянии сосредоточиться на участнике сиюминутных событий, подобно Ватсону. Мы сами отвлекаемся от человека или ситуации в силу своего личного выбора. С таким же успехом мы можем этого не делать. Когда же нам хочется увлечься, поверьте, мы на это способны. И тогда мы не только допускаем меньше ошибок в восприятии, но и демонстрируем свою принадлежность к сосредоточенным и наблюдательным людям, какими даже не мечтали стать. Даже дети с диагностированным синдромом дефицита внимания и гиперактивности обнаруживают, что способны сосредоточиться на том, что захватывает их, активизирует их разум и способствует вовлеченности. Например, во время видеоигр. Видеоигры неизменно выявляют ресурсы внимания у людей, которые и не подозревали, что обладают ими. Более того, устойчивое внимание определенного вида и вновь обретенная способность замечать детали, возникающие при такой вовлеченности, могут быть перенесены и на другие сферы, за пределы экрана. Специалисты по когнитивной нейробиологии Дафна Бавелье и С. Шон Грин, к примеру, неоднократно убеждались: так называемые видеоигры-боевики, характеризующиеся высокой скоростью, высокой нагрузкой на восприятие и двигательной нагрузкой, непредсказуемостью и потребностью в периферийной обработке, способствуют усилению зрительного внимания, улучшают зрение, повышают скорость обработки информации, способствуют большему контролю внимания, когнитивному и социальному контролю, а также развивают ряд других способностей в столь разнообразных сферах, как управление беспилотными летательными аппаратами и лапароскопическая хирургия. Мозг действительно может меняться и учится сохранять внимание в течение более продолжительных периодов времени, и все потому, что в моменты вовлеченности внимание действительно важно. Мы начали главу с блуждания мыслей, им же и закончим ее. Это блуждание – бич для вовлеченности. Неважно, чем вызвано это блуждание – недостатком стимуляции (как у бенедиктинцев, о которых мы упоминали в начале главы), многозадачностью (в сущности, почти всей современной жизнью) или условиями эксперимента: оно не может сосуществовать с вовлеченностью. И, следовательно, не может сочетаться со вдумчивым вниманием, тем самым, которое необходимо нам для наблюдения. Тем не менее мы постоянно предпочитаем отвлекаться. Мы не вынимаем из ушей наушники, когда ходим, бегаем, ездим в подземке. Проверяем телефоны, когда ужинаем с друзьями и родными. Думаем о следующем совещании, присутствуя на текущем. Короче, мы занимаем ум самостоятельно придуманными заданиями на запоминание и отвлекающими «цепочками чисел». Все дэнам гилбертам мира не под силу принудить нас к этому. Кстати, сам Дэн Гилберт наблюдал за группой из 2200 взрослых в обычные дни с помощью специальных приложений iPhone, которые просили пользователей сообщить, как они себя чувствуют, чем занимаются, думают ли о чем-либо, кроме деятельности, которой заняты в настоящий момент. И знаете, что он обнаружил? Люди не только думают о чем-то постороннем так же часто, как о своем непосредственном занятии (точнее, 46,9 % времени), но даже само это занятие, похоже, не имеет значения: мысли блуждают с равной частотой и во время увлекательной, интересной деятельности, и при скучной, монотонной работе. Наблюдательный, внимательный ум – это ум, присутствующий в настоящем. В такой голове мысли не блуждают. Этот ум активно вовлечен в свое нынешнее занятие, каким бы оно ни 69 было. Именно он помогает системе Холмса одержать верх, не позволить системе Ватсона развивать суматошную деятельность в попытке охватить всё и вся. Одна моя знакомая преподавательница психологии ежедневно отключает на два часа электронную почту и интернет, чтобы сосредоточиться только на написании текстов. Думаю, такая самодисциплина и отстраненность могут многому научить. Безусловно, мне хотелось бы применять такой подход чаще, чем удается обычно. Задумаемся о результатах одного недавнего эксперимента: некий нейробиолог предпринял небольшую экспедицию, желая продемонстрировать, что может произойти, если люди на три дня пребывания в условиях дикой природы полностью откажутся от современных средств связи: в результате высвободилась творческая энергия, мысли приобрели ясность, произошла своего рода «перезагрузка» мозга. Далеко не все мы можем позволить себе провести три дня на природе, но, возможно, нам доступны хотя бы несколько часов, когда мы можем сделать осознанный выбор и сосредоточиться. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ «Я увидел, что пальцы его покрыты…», «Я вижу, вы жили в Афганистане…» – повесть «Этюд в багровых тонах», гл. 1 «Мистер Шерлок Холмс». «Я сразу догадался, что вы приехали из Афганистана…», «Прежде чем обратиться к моральным и интеллектуальным сторонам дела, которые представляют собою наибольшие трудности…» – «Этюд в багровых тонах», гл. 2 «Искусство делать выводы». «Что понадобилось человеку науки, доктору Джеймсу Мортимеру, от сыщика Шерлока Холмса?» – повесть «Собака Баскервилей», гл. 1 «Мистер Шерлок Холмс». «Мое тело оставалось здесь, в кресле…» – «Собака Баскервилей», гл. 3 «Задача». «Восстановим картину побега…» – рассказ «Случай в интернате». «Вы, вероятно, помните, что, разглядывая письмо, присланное сэру Генри…» – «Собака Баскервилей», гл. 15 «Взгляд назад». «Есть еще какие-то моменты, на которые вы посоветовали бы мне обратить внимание?» – рассказ «Серебряный». «За единственным столом с развернутой газетой в руках сидел человек, только что виденный нами на улице…» – рассказ «Приключения клерка». «Ведь для суда важно, какое впечатление производит человек, правда?» – рассказ «Подрядчик из Норвуда». Глава 4 ИЗУЧЕНИЕ «ЧЕРДАКА»: В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ВООБРАЖЕНИЯ Молодой адвокат Джон Гектор Макфарлейн просыпается однажды утром и узнаёт, что вся его жизнь перевернулась: в одночасье он стал единственным и самым вероятным подозреваемым в убийстве местного подрядчика. Едва Макфарлейн успевает встретиться с Шерлоком Холмсом и рассказать свою историю, как оказывается в Скотленд-Ярде – настолько весомыми выглядят улики против него. Как объясняет Макфарлейн Холмсу, с убитым, неким Джонасом Олдейкром, он познакомился лишь накануне днем. Этот человек явился в контору Макфарлейна и попросил оформить его завещание, по которому, к изумлению адвоката, вся собственность подрядчика доставалась ему, Макфарлейну. Олдейкр объяснил, что у него нет родных, но когда-то он дружил с родителями Макфарлейна. В память об этой дружбе он и выбрал в наследники 70 адвоката, но убедил его ничего не говорить об этом родителям, «пока дело не кончено», – наследство должно стать сюрпризом. Подрядчик пообещал тем же вечером угостить адвоката ужином, а затем вместе с ним просмотреть ряд важных документов, имеющих отношение к завещанию. Макфарлейн согласился. Вечер прошел по намеченному плану. А на следующее утро газеты сообщили о смерти Олдейкра и сожжении его трупа в штабеле досок за домом подрядчика. Наиболее вероятным подозреваемым был назван молодой Джон Гектор Макфарлейн, который не только готовился принять наследство от умершего, но и забыл на месте преступления свою окровавленную трость. Сразу же после этого разговора Макфарлейна берет под стражу инспектор Лестрейд, а Холмс остается наедине со странной историей. И хотя арест выглядит вполне оправданным – наследство, трость, поздний визит указывают на виновность Макфарлейна, – Холмс никак не может отделаться от ощущения, что концы не сходятся с концами. «Я знаю, игра нечистая, – говорит Холмс Ватсону. – Я чувствую это нутром». Однако на этот раз чутье Холмса противоречит веским доказательствам. С точки зрения Скотленд-Ярда, дело настолько ясное, насколько это вообще возможно, и уже решенное. Остается лишь внести последние штрихи в полицейский отчет. Когда Холмс заявляет, что в этом деле еще не все ясно, инспектор Лестрейд не соглашается с ним. «Не ясно? Но ведь яснее и быть не может», – восклицает он. «– Молодой человек неожиданно узнаёт, что в случае смерти некоего пожилого джентльмена он наследует состояние. И что он делает? Не говоря никому ни слова, он под каким-то предлогом отправляется в тот же вечер к своему клиенту, дожидается, пока экономка – единственный, кроме хозяина, обитатель дома – заснет, и, оставшись со своим благодетелем вдвоем, убивает его, сжигает труп в штабеле досок, а сам отправляется в местную гостиницу». И даже это еще не все: «Следы крови на полу и на рукоятке его трости почти незаметны. Возможно, он считает, что убил Олдейкра без кровопролития, и решает уничтожить труп, чтобы замести следы, которые, вероятно, с неизбежностью указывали на него. Это очевидно». Но эти доводы Холмса не убеждают. Он говорит инспектору: «В том-то и дело, милый Лестрейд, что уж слишком очевидно. Среди ваших замечательных качеств нет одного – воображения, но все-таки попробуйте на одну минуту представить себя на месте этого молодого человека и скажите: совершили бы вы убийство вечером того дня, когда узнали о завещании? Неужели вам не пришло бы в голову, что соседство этих двух событий опасно, что еще опаснее слуги, которые знают о вашем присутствии в доме. Ведь дверь-то ему открывала экономка! И наконец, затратить столько усилий, чтобы уничтожить труп, и оставить в комнате трость, чтобы все знали, кто преступник! Согласитесь, Лестрейд, это маловероятно». Но Лестрейд только пожимает плечами. При чем тут воображение? Наблюдательность и дедукция – да, вокруг них строится вся работа сыщика. Но воображение? Ведь это всего лишь жалкое прибежище тех, кто избрал профессию, не требующую напряженной работы ума и научного подхода, – всех этих так называемых творческих натур, растяп, безнадежно далеких от Скотленд-Ярда. Лестрейд не понимает, как он ошибается и насколько ключевую роль воображение играет в работе не только преуспевающего инспектора или сыщика, но и любого человека, считающего себя мыслителем. Если бы Лестрейд прислушивался к Холмсу не только в тех 71 случаях, когда ему требовались подсказки, чтобы установить личность преступника или изменить направление расследования, возможно, ему реже понадобилось бы обращаться за помощью к Холмсу в будущем. Ибо если воображение отсутствует как таковое еще до того, как в действие вступит дедукция, все наблюдения и сведения, изложенные в предыдущих главах, почти не имеют ценности. Воображение – важный следующий шаг в процессе мышления. Оно пользуется, как кубиками, всеми собранными наблюдениями и создает из них прочный фундамент для дальнейших умозаключений, будь то в связи с событиями, случившимися в роковой вечер в Норвуде, когда погиб Джонас Олдейкр, или в связи с поисками решения докучливой проблемы, не дающей вам покоя ни дома, ни на работе. И если вы считаете, что этап воображения можно пропустить как слишком незначительный и ненаучный, то вскоре обнаружите, что потратили слишком много сил, только чтобы прийти к выводу, который, несмотря на всю свою ясность и очевидность для вас, на самом деле бесконечно далек от истины. Что такое воображение и в чем его ценность? Почему Холмс в разговоре с Лестрейдом упоминает именно это свойство и какое место воображение занимает среди строго научных методов самого Холмса? Лестрейд не первый презрительно морщится при мысли о том, что воображение играет существенную роль в старых добрых научных построениях, а Холмс не первый утверждает, что именно так и обстоит дело. Один из величайших мыслителей науки ХХ в., лауреат Нобелевской премии физик Ричард Фейнман часто удивлялся, видя, что качество, которое он считал главным в мышлении и науке, совсем не ценится людьми. «Удивительно, но люди не верят, что в науке есть место воображению», – однажды сказал он в присутствии слушателей. Подобные взгляды не только заведомо ошибочны: «Речь идет о чрезвычайно примечательной разновидности воображения, отличающейся от артистического. Особенно сложно пытаться вообразить себе то, чего никогда не видел, но так, чтобы это нечто вплоть до мельчайших подробностей согласовывалось с уже виденным и вместе с тем отличалось от мыслей; более того, это нечто должно быть вполне определенным, а не туманным. Это понастоящему трудно». Не стоит и пытаться найти более точную оценку и определение роли воображения в научном мышлении. Воображение берет то, что собрано наблюдениями и впечатлениями, и преобразует эти материалы в нечто совершенно новое. Таким образом оно готовит почву для дедукции, перебора воображаемых альтернатив с целью решить: какой из вариантов, рожденных воображением, наилучшим образом объясняет все факты. В воображении мы создаем нечто гипотетическое, то, что может или не может существовать в действительности и вместе с тем уже возникло у вас в голове. Таким образом, плоды воображения «отличны от мыслей». Это не повторная констатация фактов и не примитив вроде линии между точкой А и точкой В, которую можно провести не задумываясь. Это наш собственный синтез и творение. Представьте себе воображение как своего рода необходимое ментальное пространство на вашем «чердаке», где вы свободно можете работать с различным содержимым «чердака», но не обязаны придерживаться какой-либо системы организации или хранения, где можете устраивать перестановки, комбинировать, наводить беспорядок по собственному желанию, не боясь нарушить порядок или чистоту в главном помещении «чердака». Это пространство необходимо потому, что без него «чердаку» недостает функциональности: хранилище бесполезно, если под завязку забито коробками. Как в него войти? Куда отодвигать коробки, чтобы найти среди них нужную? Как понять, какие коробки есть в 72 вашем распоряжении и где их искать? Для всего перечисленного требуется свободное место. Нужен свет. Необходим доступ к содержимому «чердака», возможность войти в него, осмотреться и понять, что к чему. В этом пространстве есть свобода. Туда можно временно поместить все собранные наблюдения. Они еще не рассортированы и не убраны на постоянное хранение. Можно разложить их, рассмотреть, помудрить над ними. Какие закономерности удастся выявить? Может быть, стоило бы добавить что-нибудь из постоянного хранилища, с «чердака», чтобы получилась совсем иная картина, тем не менее имеющая смысл? Задержавшись на этом свободном пространстве, мы изучаем собранные материалы. Откладываем в сторону некоторые элементы, пробуем различные комбинации, смотрим, какие из них удачны, а какие нет, какие выглядят правомерными, а какие явно ошибочны. В итоге мы создаем то, что уже не похоже на факты или наблюдения, повлекшие за собой это создание. Да, именно в них оно уходит корнями, но тем не менее оно самостоятельно и уже существует в гипотетическом состоянии нашего разума, хотя вполне может оказаться и нереальным, и ошибочным. Однако нельзя сказать, будто этот результат взялся из ничего. Он опирается на действительность. Он берет начало в наблюдениях, собранных до настоящего момента, «вплоть до мельчайших подробностей, согласующихся с уже видимым». Другими словами, результат творения органически вырастает из материала, собранного вами на «чердак» в процессе наблюдения, и из того, что там уже имелось прежде, из базовых знаний и представлений о мире. Фейнман говорит о «воображении в тесной смирительной рубашке». С его точки зрения, этой смирительной рубашкой являются законы физики. Точка зрения Холмса почти такая же: это базовые знания и наблюдения, приобретенные до настоящего времени. Но ни в коем случае не вольный полет мысли: нельзя воспринимать воображение в данном контексте как аналог творческой фантазии беллетриста или художника. Таким оно быть не может. Во-первых, по той простой причине, что оно опирается на построенную вами фактическую реальность, а во-вторых, потому что оно должно быть «вполне определенным, а не туманным». Плоды вашего воображения должны быть конкретными. Детально проработанными. В действительности их не существует, однако теоретически они должны иметь возможность выскочить из вашей головы прямо в мир, нуждаясь при этом разве что в незначительных поправках. По Фейнману, они скованы смирительной рубашкой, по Холмсу – ограничены и определены вашим уникальным «мозговым чердаком». Плоды вашего воображения должны пользоваться этим «чердаком» как основой и играть по его правилам, а в число этих правил входят и наблюдения, которые вы так усердно собирали. «Игра заключается в том, – продолжает Фейнман, – чтобы попытаться понять, что нам известно и что возможно. Она требует обратного анализа, проверок, позволяющих увидеть, что вписывается в общую картину, что допустимо согласно уже имеющимся сведениям». В этом тезисе назван последний элемент определения. Да, воображение может покоиться на фундаменте реальных, весомых знаний, конкретных особенностей и специфики вашего «чердака». И вместе с тем оно служит более важной цели: обеспечивает подготовку для дедукции, независимо от того, идет ли речь о научной истине, раскрытии убийства или решении житейских проблем, далеких и от науки, и от криминалистики. Во всех этих случаях приходится иметь дело с определенными рамками. Но вместе с тем в этом процессе есть свобода. Есть радость. Иными словами, игра. Это самая увлекательная часть любого серьезного проекта. Недаром Холмс произносит знаменитую реплику «игра началась!» в первых строках рассказа «Убийство в Эбби-Грэйндж» (The Adventure of the Abbey Grange). Этой простой фразой переданы не только его увлеченность и волнение, но и подход к искусству сыска и к мышлению в целом: сколь бы сложна ни была задача, в ней неизменно присутствует элемент игры. Он необходим. Без него ни один серьезный проект не имеет шансов. 73 Нам свойственно считать, что творческие способности либо есть, либо нет: или человек мыслит творчески, или ему это недоступно. Но невозможно представить себе что-нибудь более далекое от истины. Творчеству можно научиться. Как внимание и самоконтроль, оно – подобие очередной мышцы, которую можно натренировать и укрепить с помощью упражнений, сосредоточенности и мотивации. Собственно, исследования показали, что творчество – изменчивая материя и что тренировка помогает людям стать более творческими: когда мы верим, что благодаря практике воображение развивается, у нас в самом деле улучшаются результаты действий, в которых требуется проявлять воображение. (Тут опять-таки ощущается настоятельная потребность в мотивации.) Очень важно верить, что вы можете стать по-настоящему творческим человеком и освоить основные компоненты творчества – это позволит вам усовершенствовать способность к мышлению вообще и научиться принимать решения и действовать подобно Холмсу, а не Ватсону (или Лестрейду). Далее мы поговорим об умственном пространстве, об этапе синтеза, о комбинировании и озарениях. Поговорим об обманчивой очевидности места действия, позволившей раскрыть дело норвудского подрядчика, ибо Холмс его действительно хотел раскрыть. Мы убедимся, что уверенность Лестрейда в том, что дело ясное, окажется и ошибочной, и недолгой. Учимся преодолевать неуверенность воображения Представим себе следующую ситуацию. Вас приводят в комнату, где стоит стол. На столе – три предмета: коробочка с кнопками, книжечка со спичками и свечка. Вам дают единственное задание: прикрепить свечку к стене. Во времени вы не ограничены. Как вы будете действовать? Если вы похожи на более чем 75 % участников этого исследования, ныне признанного классическим и проведенного гештальтпсихологом Карлом Дункером, вы, скорее всего, испробуете один из двух способов. Вы попытаетесь прикнопить свечку к стене и сразу поймете, что это невозможно. Или попробуете зажечь свечку и прикрепить ее к стене расплавленным воском, не притрагиваясь к коробочке с кнопками (ведь ей вообще могли отвести роль отвлекающего фактора!). Но и во втором случае вы потерпите фиаско. Воск недостаточно прочен, чтобы выдержать свечку, ваша конструкция сразу разрушится. Что теперь? Для того чтобы найти эффективное решение, понадобится воображение. Никто не замечает его сразу. Некоторым людям достаточно подумать минуту-две. Другие видят решение только после нескольких неудачных попыток. Третьи вообще не могут справиться с задачей без посторонней помощи. Вот и ответ: высыпьте кнопки из коробочки, прикнопьте коробочку к стене и зажгите свечку. Размягчите основание свечки спичкой, чтобы воск начал капать в коробочку, и поставьте в эту коробочку свечку, поместив ее в лужицу воска. Готово. Теперь осталось только выбежать из комнаты раньше, чем свеча догорит и коробочка вспыхнет. Вуаля. Почему так много людей не замечают альтернативное решение? Они забывают, что между наблюдением и умозаключением находится еще один важный момент умственной деятельности. Они избирают путь деятельной системы Ватсона – действие, действие и еще раз действие, – недооценивая насущную потребность в его полной противоположности: спокойном минутном размышлении. И естественно, сразу же хватаются за самые простые или наиболее очевидные решения. Большинство людей в такой ситуации не видит, что очевидная вещь, коробочка кнопок, может означать менее очевидную – коробочку и кнопки. Это явление известно как функциональная закрепленность (фиксированность). Нам свойственно воспринимать предметы так, как они представлены нам, как выполняющие специфическую функцию, уже присвоенную им. Коробочка и кнопки воспринимаются как одно целое – коробочка кнопок. Коробочка содержит кнопки, и другой функции у нее нет. 74 Для того чтобы преодолеть эту установку и разложить предмет на две составляющие, понять, что коробочка и кнопки – две разные вещи, требуется скачок воображения (Дункер, выходец из школы гештальт-терапии, изучал именно этот вопрос – о свойственном нам стремлении видеть целое, пренебрегая составляющими.) И действительно, в экспериментах, проведенных по следам первоначального исследования Дункера, процент людей, решивших задачу, резко возрастал, стоило только предложить им предметы для решения по отдельности – коробочку и лежащие рядом кнопки. То же самое происходило и в случае простой лингвистической уловки: если перед решением задачи со свечкой участникам предлагали список слов, разделенных союзом «и» или предлогом «с» (например, не «коробочка кнопок», а «коробочка с кнопками» или «коробочка и кнопки»), то вероятность нахождения решения задачи возрастала. И даже когда слова были просто подчеркнуты по отдельности, как пять пунктов списка (свечка, коробочка кнопок и книжечка спичек), участники все равно с большей вероятностью находили решение. Но в своем изначальном виде задача требовала подумать, абстрагироваться от очевидного без какой-либо помощи извне. Это не так просто, как изучить все результаты наблюдений и перейти к действиям или пытаться вывести наиболее вероятный сценарий, соответствующий целям. Участники эксперимента, сумевшие решить эту задачу, знали, как важно не действовать, понимали, как полезно дать разуму возможность впитать ситуацию и спокойно обдумать ее. Короче, эти люди сознавали, что между наблюдением и умозаключением находится решающий и незаменимый этап воображения. Легко считать Шерлока Холмса бесстрастной и холодной мыслящей машиной, олицетворением расчета и логики. Но образ Холмса как логического автомата безнадежно далек от истины. Напротив, то, что делает Холмса недосягаемым для других сыщиков, инспекторов и гражданских лиц, – это как раз его готовность увлечься неочевидным, охватить умом гипотетическое, домысливать и строить догадки, то есть способностью к творческому мышлению и воображению. Тогда почему же мы склонны упускать из виду эту мягкую, почти артистическую сторону натуры и всецело сосредоточиваемся на математической, почти компьютерной логике сыщика? Просто потому, что она кажется проще и надежнее. Такой подход глубоко укоренился в нашей психике. Мы учимся ему с раннего детства. Как сказал Альберт Эйнштейн, «интуитивное мышление – священный дар, а рациональное – преданный слуга. Мы создали общество, в котором ценят слугу, но забыли о даре». Мы живем в обществе, которое чтит компьютерную модель, боготворит Холмса-сверхчеловека, способного управляться с бесчисленным множеством данных, с поразительной точностью анализировать их и выдавать решение. Это общество скоро на расправу с таким численно не измеряемым свойством, как воображение. Но постойте, скажете вы, это же явное передергивание. Ведь мы процветаем благодаря идеям новаторства и творчества. Мы живем в эпоху предпринимателей, людей с идеями, Стива Джобса и девиза «думай неординарно». Вообще-то и да, и нет. То есть номинально мы ценим творческие способности, но в глубине души до безумия боимся воображения. Как правило, мы недолюбливаем неопределенность. Она внушает нам беспокойство. Мир определенности – гораздо более дружественное место. И мы прилагаем все старания, чтобы свести любую неопределенность на нет, зачастую совершая привычный и практичный выбор, оберегающий статус-кво. Как говорил Гамлет, «Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться»[11]11 Перевод Б. Пастернака. 75 [Закрыть]. Этим все и сказано. Ведь творчество требует необычности и новизны. Воображение – это прежде всего новые возможности, непредвиденные обстоятельства, противоречия фактам, новые комбинации прежних элементов. Все не изведано и не опробовано. А если не опробовано, значит, относится к неопределенностям. Они пугают, даже если мы не осознаём, как сильно они пугают лично нас. Вдобавок велика вероятность конфуза (ведь никто не дает гарантий успеха). Как вы думаете, почему инспекторы у Конан Дойла так не любят отступать от стандартных процедур, делать хоть что-нибудь, что грозит поставить под сомнение ход расследованию или хотя бы на миг затянуть его? Их пугает воображение Холмса. Рассмотрим распространенный парадокс: организации, учреждения и отдельные лица, принимающие решения, зачастую отвергают творческие идеи, даже если открыто признают, что креативность для них – важная, иногда центральная цель. Почему? Новые исследования позволили предположить, что мы придерживаемся подсознательного предубеждения против творческих идей – во многом так же, как в случаях расизма и фобий. Помните имплицитный ассоциативный тест (ИАТ) из второй главы? В ряде исследований Дженнифер Мюллер и ее коллеги решили видоизменить этот тест, использовать его для выявления того, что никогда не фигурировало в подобном тестировании: креативности. Участники эксперимента должны были работать с парами слов, относящихся к категориям «хороших» и «плохих», как при обычном ИАТ, но на этот раз слова указывали на свойства либо практические («функциональность», «конструктивность», «польза»), либо креативные («инновация», «изобретательный», «оригинальный»). Результаты показали, что даже те участники, которые изначально поместили креативность на довольно высокое место в списке позитивных качеств, в условиях неопределенности продемонстрировали неявную предубежденность против нее по сравнению с практичностью. Более того, они оценили идею, признанную ими креативной в ходе предварительного тестирования (например, кроссовки, изготовленные с применением нанотехнологий, позволяющих регулировать толщину ткани, охлаждать стопу и уменьшать образование мозолей), как менее креативную, чем ее более определенные аналоги. Значит, участники не только были внутренне предубеждены, но и продемонстрировали неспособность увидеть креативность как таковую, даже непосредственно с ней столкнувшись. Да, этот эффект проявлялся только в условиях неопределенности, но разве не она характеризует большинство видов окружения, в котором принимаются решения? И конечно, то же самое можно сказать о работе сыщика. А также о работе в корпорациях. В науке. В бизнесе. Практически в любой сфере. Великие мыслители преодолевали этот барьер, эту боязнь пустоты. У Эйнштейна случались неудачи. Как и у Авраама Линкольна, который, наряду с немногими другими, ушел на войну в чине капитана, а вернулся рядовым, вдобавок дважды был объявлен банкротом еще до того, как занял президентский пост. Нечто подобное произошло и с Уолтом Диснеем, которого уволили из газеты за «недостаток фантазии» (если и существуют парадоксы креативности, то здесь он перед нами в чистом виде). И с Томасом Эдисоном, который изобрел более тысячи неудачных образцов лампочек, прежде чем сумел сделать работающую. И с Шерлоком Холмсом (Ирен Адлер – нет возражений? Человек с рассеченной губой? Что насчет желтого лица, о котором мы еще поговорим подробно?). Всех упомянутых отличает не умение избегать неудач, а отсутствие страха перед неудачами, открытость – этот отличительный признак творческого ума. Возможно, в тот или иной период жизни эти люди придерживались тех же антикреативных предубеждений, как и большинство остальных, но неким способом сумели подавить их в себе. Шерлок Холмс 76 обладает одним свойством, которого недостает компьютеру: именно оно делает его тем, кто он есть, и подрывает образ сыщика как преимущественно логика. Это свойство – воображение. Кому из нас не случалось отмахиваться от проблемы только потому, что для нее сразу же не находилось очевидного решения? Кому никогда не доводилось принять неверное решение или повернуть не в ту сторону лишь потому, что мы не удосужились остановиться и задуматься: не слишком ли очевидным выглядит то очевидное и ясное, которое мы видим? Кто не следовал схеме, далекой от идеала, только потому, что так делалось всегда, и, хотя, возможно, существовали более удачные варианты, разница между ними и проверенными и испытанными была слишком велика? Как уже было сказано, знакомое зло предпочтительнее. Боязнь неопределенности держит нас в узде в те моменты, когда нам лучше бы присоединиться к Холмсу в его воображаемых блужданиях и мысленно проиграть сценарии, возможно, существующие (по крайней мере, временно) только в нашей голове. Так, Эйнштейн руководствовался не чем иным, как наитием, когда выдвинул великую общую теорию относительности. В 1929 г. Джордж Сильвестр Вирек спросил Эйнштейна, результатом чего стали его открытия – наития или вдохновения, Эйнштейн ответил: «Я в достаточной мере художник, чтобы свободно обращаться к своему воображению, которому придаю больше значения, чем знаниям. Знания ограниченны. Воображение охватывает весь мир». В отсутствие воображения великий ученый был бы вынужден довольствоваться определенностью линейного и удобопонятного. Мало того, у многих задач вообще нет очевидного ответа, к которому можно было бы обратиться. В деле норвудского подрядчика Лестрейд получает готовый сюжет и подозреваемого. А если бы их не было? Если бы линейное повествование отсутствовало как таковое и к ответу могли привести только окольные и гипотетические блуждания разума? (Одно из таких дел – «Долина страха» (The Valley of Fear), в котором и погибший – не тот, за кого его приняли, да и дом, где произошло убийство, тоже оказывается не тот. Отсутствие воображения в этом случае равносильно отсутствию решения.) А если рассматривать мир, далекий от сыщиков, инспекторов и подрядчиков, что, если перед нами нет ни явного пути к карьерному росту, ни заманчивых романтических перспектив, ни выбора, который сделает нас счастливыми? Что, если ответ требует изысканий и неких творческих самокопаний? Мало кто променяет знакомое зло на незнакомое, но еще меньше найдется тех, кто променяет первое на полное отсутствие чего бы то ни было. Без воображения нам никогда не достичь вершин мысли, на которые мы способны взойти; в лучшем случае мы обречены с успехом выдавать детали и факты, однако нам сложно находить этим фактам такое применение, чтобы оно значительно улучшило наши умозаключения и принятие решений. Наш «чердак» заполнен аккуратно уложенными коробками, папками и другими материалами. А мы не знаем, с чего начать перебирать их. Нам приходится перелистывать кипы бумаг вновь и вновь, не зная, найдем мы верный подход или нет. А если нужный элемент содержится не в этой папке, а в двух-трех разных? Тогда без везения нам не обойтись. Вернемся на минуту к делу норвудского подрядчика. Почему Лестрейд, которому недостает воображения, не может приблизиться к разгадке тайны, зато отправляет за решетку невиновного? Что дает в данном случае воображение и чего не хватает простому анализу? Инспектор и сыщик имеют в своем распоряжение одинаковую информацию. У Холмса нет никаких тайных знаний, позволяющих ему видеть то, чего не замечает Лестрейд, – по крайней мере, таких знаний, которые Лестрейд не мог бы с легкостью применить тем же способом. Но эти двое не только предпочитают пользоваться разными элементами общих знаний: они интерпретируют то, что им известно, в совершенно разном свете. Лестрейд 77 придерживается прямолинейного подхода, а Холмс – более оригинального, возможность которого инспектор даже не предполагает. Холмс и Лестрейд приступают к расследованию в один и тот же момент, когда Джон Гектор Макфарлейн дает подробные показания в присутствии обоих. В сущности, у Лестрейда есть даже некое преимущество. Он уже побывал на месте преступления, а Холмс слышит о нем в первый раз. Тем не менее их пути сразу же расходятся. Когда Лестрейд, перед тем как арестовать Макфарлейна и увести его, спрашивает, нет ли у Холмса других вопросов, тот отвечает: «Пока я не побывал в Блэкхите, нет». В Блэкхите? Но убийство совершено в Норвуде. «В Норвуде, хотели вы сказать», – поправляет сыщика Лестрейд. «Ну да, именно это я и хотел сказать», – отвечает Холмс и отправляется, само собой, в Блэкхит, к родителям несчастного мистера Макфарлейна. «Почему не в Норвуд?» – удивляется Ватсон точно так же, как удивлялся ранее Лестрейд. «Потому что, – отвечает Холмс, – перед нами два в высшей степени странных эпизода, следующих немедленно один за другим. Полиция делает ошибку, сконцентрировав все внимание на втором эпизоде, по той причине, что он имеет вид преступления». Как мы вскоре убедимся, это первое очко не в пользу чрезмерно лобового подхода Лестрейда. Холмс разочарован поездкой. «Как я ни старался, – сообщает он Ватсону после возвращения, – ничего не мог найти в пользу нашей гипотезы. В конце концов я махнул рукой и поехал в Норвуд». Но, как мы вскоре увидим, Холмс не потерял времени даром, и сам он придерживается того же мнения. Невозможно заранее угадать, чем обернутся простейшие с виду события, если целиком использовать потенциал пространства, отведенного на «чердаке» для игр воображения. Нельзя предвидеть, какой фрагмент информации превратит беспорядочную мешанину разрозненных деталей головоломки в связную и осмысленную картину. Впрочем, в деле, о котором идет речь, ничто не указывает на вероятность успешного раскрытия. Как говорит Холмс Ватсону, «если нам не поможет случай, “Норвудское дело” не займет своего места в хронике наших успехов, которая, как я предвижу, рано или поздно обрушится на голову безропотного читателя». А потом появляется на редкость удачный шанс – с той стороны, откуда его совсем не ждали. Лестрейд называет его «неоспоримым доказательством вины Макфарлейна». Холмс поражен, но лишь до тех пор, пока он не узнаёт, что новое доказательство – отпечаток окровавленного пальца Макфарлейна на стене передней. То, что Лестрейд считает явным доказательством вины, для Холмса становится олицетворением невиновности Макфарлейна. Более того, отпечаток подтверждает подозрение Холмса, которое прежде было всего лишь навязчивым ощущением, тем, что сам Холмс «чувствует нутром»: на самом деле никакого убийства не было. Джонас Олдейкр жив и здоров. Как такое возможно? Как один и тот же фрагмент информации может служить, с точки зрения инспектора, приговором, а с точки зрения Холмса – оправданием того же самого человека, вдобавок бросающим тень сомнения на характер преступления в целом? Все объясняется воображением. Давайте пройдем по этому пути шаг за шагом. Сначала мы видим первоначальную реакцию Холмса на обстоятельства: он не спешит на место предполагаемого преступления, а знакомится с самим делом со всех возможных сторон, хотя такое знакомство может оказаться бесполезным. То же самое относится и к поездке в Блэкхит, к родителям, которые знали Джонаса Олдейкра в молодости, а тот, в свою очередь, знал Макфарлейнов. Это решение не блещет оригинальностью, но предполагает менее предвзятый и линейный 78 подход, нежели избранный Лестрейдом: перво-напрево – на место преступления, и точка. В каком-то смысле Лестрейд с самого начала отмахивается от всех альтернативных вариантов. Зачем трудиться, искать, если все, что тебе понадобится, уже собрано в одном месте? В значительной мере воображение – это установление неочевидных связей между элементами, поначалу кажущимися обособленными. Когда я была маленькой, родители однажды подарили мне необычную игрушку: деревянную палочку с отверстием в середине и кольцом в основании. Через отверстие была продета крепкая бечевка с деревянным шариком на каждом конце. Суть игры заключалась в том, чтобы снять кольцо с палочки. Поначалу задача выглядела пустяковой, пока я не сообразила, что бечевка с шариками не дает снять кольцо самым логичным способом, через верх палочки. Я применила силу. Потом еще раз. Попробовала действовать быстро – а вдруг фокус удастся? Я пыталась каким-нибудь способом снять шарики с бечевки. Продеть шарики через кольцо, через которое их явно не продевали. Ничего не получалось. Даже самые перспективные решения оказывались ошибочными. Для того чтобы снять кольцо, следовало двигаться настолько окольным путем, что мне понадобились многочасовые попытки – в общей сложности целые дни, – чтобы наконец достичь цели. Потому что для нее требовалось, так сказать, прекратить попытки снять кольцо. Я всегда начинала с кольца, думая, что это правильный подход. Разве не в этом суть игры? Решение нашлось лишь после того, как я оставила кольцо в покое и абстрагировалась от него, чтобы изучить картину в целом и рассмотреть все ее возможности. Мне тоже пришлось, фигурально выражаясь, сначала съездить в Блэкхит, чтобы понять, что произошло в Норвуде. В отличие от Лестрейда, у меня имелись четкие ориентиры: я не могла пропустить тот момент, когда загадка будет решена правильно. Стимуляция со стороны Холмса мне не требовалась. Я знала, что ошибаюсь, потому что сразу поняла бы, когда я права. Но далеко не все задачи отличаются такой четкостью. Не во всех есть упрямое кольцо, дающее всего два ответа: верный и неверный. Зато есть мешанина вводящих в заблуждение поворотов и ошибочных решений. В отсутствие напоминаний со стороны Холмса невольно подмывает и впредь теребить все то же кольцо и считать, что оно снимется, если удастся продвинуть его повыше по палочке. Итак, Холмс едет в Блэкхит. Но на этом его готовность включиться в творческий процесс расследования не заканчивается. Для того чтобы подступиться к делу норвудского подрядчика так, как делает сыщик, и добиться тех же результатов, необходимо начать с непредвзятой точки зрения. Нельзя приравнивать самый очевидный ход событий к единственно возможному. В противном случае мы рискуем вообще не задуматься о множестве иных версий, среди которых может скрываться истинный ответ. Отказавшись от них, мы, вероятнее всего, падем жертвой злополучной предубежденности, лишь подкрепляющей наши представления, – как она действует, мы с вами уже рассмотрели в предыдущих главах. В нашем примере Холмс не просто убежден, что Макфарлейн, скорее всего, невиновен: сыщик принимает во внимание и рассматривает ряд гипотетических сценариев, существующих только у него в голове, в итоге все доказательства, в том числе и главное, смерть подрядчика, оказываются не тем, чем выглядят. Для того чтобы понять истинный ход событий, Холмсу приходится сначала вообразить себе возможность такого хода. Не сделав этого, он был бы вынужден вслед за Лестрейдом повторить: «Вы что же, считаете, что Макфарлейн вышел среди ночи из тюрьмы специально для того, чтобы оставить еще одну улику против себя?» – и продолжить явно риторическим заявлением: «Я смотрю на вещи здраво, мистер Холмс, мне важны факты. Есть у меня факты – я делаю выводы». Подобная демонстративная уверенность Лестрейда выглядит так неуместно именно потому, что он здравомыслящий человек, который переходит прямиком от улик к умозаключениям. Он забывает о критическом промежуточном этапе, который дает нам время поразмыслить, 79 оценить другие варианты, задуматься о том, что могло произойти, пройтись по гипотетическим цепочкам мысленно – вместо того чтобы пользоваться только тем, что находится перед глазами. (Однако ни в коем случае не следует недооценивать значение предыдущего этапа, этапа наблюдений и заполнения пространства фрагментами информации, пригодными для дальнейшего использования. Холмс приходит к выводу насчет отпечатка пальца только потому, что знает: этот отпечаток он бы ни за что не проглядел. «Вчера, когда я осматривал прихожую, отпечатка здесь не было», – объясняет он Ватсону. Он полагается на свою наблюдательность, внимание, правильность устройства своего «чердака» и на его содержимое. Лестрейду, которому недостает такой подготовки и который подчиняется системе Ватсона, такая уверенность незнакома.) Таким образом, отсутствие воображения может привести к ошибочным действиям (аресту невиновного или подозрениям в его адрес) и недостатку надлежащих действий (поисков истинного виновника). Если стремиться только к самому очевидному решению, правильное может вообще никогда не найтись. Разум без воображения сродни ватсоновской системе, взявшей управление на себя. Он пытается разобраться в происходящем, что нам и требуется, но действует слишком поспешно и порывисто. Оценить и увидеть картину в целом невозможно (даже в тех случаях, когда решение оказывается весьма прозаическим), если не отступить от нее на шаг и не предоставить слово воображению. Рассмотрим обратный пример – поведение Лестрейда. В рассказе «В Сиреневой сторожке» (The Adventure of Wisteria Lodge) Холмс делает редкий комплимент инспектору Бэйнсу: «Вы далеко пойдете в своей профессии. У вас есть чутье и интуиция». Чем же отличались действия Бэйнса от действий его коллег из Скотленд-Ярда, если он заслужил такую похвалу? Бэйнс оценивает человеческую натуру вместо того, чтобы игнорировать ее, арестовывает не того человека, чтобы усыпить бдительность настоящего преступника. (Правда, доказательства против арестованного довольно весомы, их более чем достаточно для ареста, и Лестрейд считает, что под стражу взят именно преступник. В сущности, Холмс поначалу принимает совершенный Бэйнсом арест за грубый просчет в духе Лестрейда.) В этой прозорливости заключается одно из главных преимуществ подхода, неразрывно связанного с воображением: выход за рамки простой логики при интерпретации фактов и создание гипотетических альтернатив при помощи ее же. Лестрейду никогда не приходит в голову настолько усложнять процесс. Чего ради тратить усилия на арест одного человека, если закон предписывает арестовать совсем другого? Инспектор, лишенный воображения, способен мыслить исключительно прямолинейно. В 1968 г. прыжки в высоту были популярным видом спорта. Разбегаешься, прыгаешь и преодолеваешь планку одним из нескольких способов. Поначалу спортсмены прыгали преимущественно «ножницами», а к шестидесятым годам получили распространение перешагивание, перекат и перекидной стиль с движением через планку лицом вниз. Но каким бы стилем ни прыгал спортсмен, одно оставалось неизменным: совершая прыжок, он был обращен лицом вперед. Только представьте себе прыжок вперед спиной. Это же нелепость. Но Дик Фосбери считал иначе. Прыжки спиной вперед представлялись ему естественными. Во время учебы в старших классах он развивал этот новый стиль и к моменту поступления в колледж прыгал выше, чем прежде. Фосбери не знал точно, почему прыгает именно так, но, подумав, объяснял, что ему помогло вдохновение, исходящее с Востока, от Конфуция и Лаоцзы. Дику Фосбери не было дела до того, как прыгают остальные. Он просто прыгал через планку и ощущал происходящее. Над ним подшучивали и смеялись. Фосбери и вправду выглядел нелепо (как и его источники вдохновения. Отвечая на вопросы корреспондента журнала Sports Illustrated, он сказал о своем подходе следующее: «О прыжках в высоту я 80 вообще не думаю. Это позитивное мышление. Я просто помогаю свершиться тому, что происходит»). Разумеется, никто не ожидал, что он войдет в олимпийскую сборную США, а тем более победит на Олимпиаде. Однако он выиграл, установил американский и олимпийский рекорды и покорил планку на высоте 2,24 м (всего на 3,8 см ниже мирового рекорда). Благодаря своему небывалому стилю, получившему название «фосбери-флоп», Фосбери достиг того, о чем и не мечтали более консервативные спортсмены: он совершил настоящую революцию в отдельно взятом виде спорта. Даже после его победы многие считали, что он останется одиночкой, на виду у всего мира прыгающим через планку своим особенным, присущим только ему способом. Но с 1978 г. все мировые рекорды устанавливались исключительно спортсменами, прыгающими «фосбери-флопом», а в 1980 г. тринадцать из шестнадцати олимпийских финалистов прыгали через планку спиной вперед. «Фосберифлоп» до сих пор остается господствующим стилем в прыжках в высоту. По сравнению с ним предшествующие стили выглядят устаревшими и неуклюжими. Почему никто не додумался найти им замену пораньше? Разумеется, в ретроспективе любое подобное решение кажется интуитивно понятным. Но то, что сейчас выглядит абсолютно ясным, потребовало изобретательности и не имело прецедентов на момент появления. Никому не приходило в голову, что можно прыгать спиной вперед. Мысль об этом казалась абсурдной. А сам Фосбери? Он ведь не был даже одаренным прыгуном. Как говорит его тренер Берни Вагнер, «у меня есть метатель диска, который способен прыгнуть выше Дика». Все дело в подходе. В сущности, рекорд Фосбери выглядит бледно по сравнению с нынешним, 2,45 м, установленным Хавьером Сотомайором: достижение Фосбери не вошло даже в первую двадцатку. Но благодаря ему этот вид спорта в самом деле преобразился. Воображение позволяет нам увидеть неочевидное – что убитый в действительности жив, что прыгать спиной вперед – перспективно, пусть взгляд при этом и не обращен в перспективу, или что коробочка кнопок может быть просто пустой коробочкой. Воображение помогает нам понять, что есть что и чем могло бы быть, даже в отсутствие весомых доказательств. Когда все детали прямо перед нами, как мы расставим их? Откуда узнаем, какие из них важнее прочих? Да, простая логика помогает проделать часть этого пути, но в одиночку ей не справиться, как не справиться и без свободного пространства. В своем сопротивлении креативности мы, в сущности, лестрейды. Но все не так плохо: если что, наш внутренний Холмс всегда рядом. Наша неявная предубежденность может быть прочной, но все-таки способна меняться, и ей вовсе незачем влиять на наше мышление в такой значительной степени, как сейчас. Взгляните на этот рисунок. Попробуйте соединить эти точки тремя линиями, не отрывая карандаш от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды. Кроме того, закончить рисовать надо в той точке, с которой начали. У вас в запасе три минуты. 81 Вы уже справились? Если нет, не расстраивайтесь: не вы одни. Решить эту задачу вы не смогли вместе с 78 % участников исследований. А если справились, сколько времени вам понадобилось? Задумайтесь: если я включу в поле вашего зрения лампочку, пока вы решаете задачу, скорее всего, вы решите ее, если не решили до сих пор. Целых 44 % участников эксперимента решали задачу, увидев вспыхнувшую лампочку, а при обычных условиях (таких же, в которых очутились сейчас вы) задача поддалась всего 22 % участников. Скорее всего, с лампочкой и вы решили бы ее гораздо быстрее. Лампочка активизирует связанные с озарениями концепции у нас в голове, при этом побуждает наш разум мыслить креативнее, чем обычно. Вот пример внешней активации в действии. Поскольку лампочка ассоциируется у нас с креативностью и озарениями, мы с большей вероятностью упорствуем в решении трудных задач и мыслим творчески, нелинейно, когда видим, как загорается лампочка. Все образы, которые хранятся у нас на «чердаке» рядом с образом «вспыхнувшей лампочки», «озарения», «эврики», активизируются, что, в свою очередь, помогает нам проявлять креативность в подходах. Кстати, задача с точками решается вот так. Возможно, естественный для нас склад ума тормозит нас, но простейшего внешнего активатора достаточно, чтобы наши мысли приняли совсем иное направление. Таким активатором не обязательно должна быть лампочка. Помогают и произведения искусства на стенах. И голубой цвет. И портреты знаменитых творческих личностей. Счастливые лица. Радостная музыка (и в сущности, почти все мыслимые сигналы). Растения, цветы, пейзажи. Все перечисленное усиливает нашу креативность незаметно для нас. Нам есть чему радоваться. Но если не считать вспыхивающих лампочек в голубых комнатах с портретами Эйнштейна и Джобса на стенах, под звуки радостной музыки, под которую мы, облачившись в белые одежды, поливаем прекрасные розы, какие еще способы приобрести поразительную способность Холмса к креативному мышлению наиболее эффективны? Как важно уметь дистанцироваться Один из наиболее важных способов, помогающих мыслить, обращаясь к воображению, а не уподобляться Лестрейду, перескакивая от улик к умозаключениям, – умение 82 дистанцироваться во всех смыслах этого слова. В «Чертежах Брюса-Партингтона», довольно позднем деле Холмса, Ватсон отмечает: «Одной из замечательных черт Шерлока Холмса была его способность давать отдых голове и переключаться на более легковесные темы, когда он полагал, что не может продолжать работу с пользой для дела. И весь тот памятный день он целиком посвятил задуманной им монографии «Полифонические мотеты Лассуса». Я не обладал этой счастливой способностью отрешаться, и день тянулся для меня бесконечно»[12]12 Здесь и далее цитаты из рассказа «Чертежи Брюса-Партингтона» приведены в переводе Н. Дехтеревой. – Прим. пер. [Закрыть]. Непросто заставить свой ум отстраниться, дистанцироваться от задачи. Уход от проблемы, которую необходимо разрешить, выглядит противоречащим интуиции. На самом деле неудивительно, что это умение присуще как Холмсу, так и другим глубоким мыслителям. Сам факт, что оно удивляет Ватсона (по его собственному признанию), во многом объясняет, почему доктор так часто терпит фиаско там, где его друг достигает успеха. Психолог Яков Троп утверждает, что психологическое дистанцирование – одно из самых важных действий, которые можно предпринять, чтобы улучшить мышление и повысить качество принимаемых решений. Дистанция может быть разных видов: например, темпоральной, или временнГій (как по отношению к прошлому, так и к будущему); пространственной (насколько вы близки или удалены от объекта физически); социальной, или дистанцией между людьми (как этот объект воспринимает кто-то другой); гипотетической, или дистанцией от реальности (как могло бы обстоять дело). Но все эти виды дистанций имеют нечто общее: все они требуют мысленного выхода за пределы текущего момента. Требуют отступить от него. Троп утверждает: чем дальше мы дистанцируемся, тем более общим и отвлеченным становится наше видение и наша интерпретация; и чем дальше мы отходим от своей прежней точки зрения, тем обширнее становится картина, которую мы можем рассмотреть. И наоборот, когда мы вновь подступаем ближе, наши мысли становятся более конкретными, специфическими, практическими, и чем ближе мы оказываемся к нашему эгоцентрическому взгляду, тем более ограниченная и меньшая по масштабам картина открывается нам. В свою очередь, наш уровень интерпретации влияет на нашу оценку ситуации и выбор нами способа взаимодействия с ней. Он отражается на наших решениях и нашей способности решать задачи. И даже меняет способ обработки информации нашим мозгом на нейронном уровне (а именно способствует вовлеченности в процесс нашей префронтальной коры и медиальной височной доли; подробнее об этом поговорим далее). По сути дела, психологическое дистанцирование помогает осуществить одну важную задачу: задействовать систему Холмса. Оно способствует спокойному размышлению. Доказано, что дистанцирование улучшает когнитивную деятельность – от решения реальных задач до способности к самообладанию. Детям, пользующимся методами психологического дистанцирования (например, представляющим зефир в виде пушистых облаков; об этой методике мы подробно поговорим в следующем разделе), удается успешнее отсрочить удовольствие и дождаться более существенной, хоть и более поздней награды. Взрослые, которым советовали отстраниться и оценить ситуацию с более общей точки зрения, высказывали более точные суждения и оценки, демонстрировали изменение субъективной оценки к лучшему и снижение эмоциональной реактивности. Люди, пользующиеся дистанцированием в типичных сценариях решения проблем, опережают тех, кто в большей 83 мере погружен в ситуацию. А те, кто дистанцируется при оценке политических вопросов, справляются с ней лучше, и такая оценка выдерживает испытание временем. Можно воспринимать подобные упражнения как сборку большого и сложного пазла. Коробка потерялась, поэтому вы не знаете, что именно собираете, вдобавок за годы к фрагментам одного пазла примешались другие, разрозненные, поэтому вы не знаете даже, какие фрагменты к чему относятся. Для того чтобы собрать пазл, необходимо прежде всего составить представление о картине в целом. Некоторые фрагменты найдутся сразу же: уголки, края, явно сочетающиеся друг с другом цвета и рисунки. Не успев опомниться, вы поймете, к какому результату движется процесс, а также куда и как впишутся оставшиеся фрагменты. Но вам ни за что не справиться с этой задачей, если поначалу вы не дадите себе времени, чтобы разложить фрагменты, выбрать из них подходящие для первых шагов и попытаться представить себе уже законченную, собранную картину. Складывать отдельные фрагменты, выбирая их наугад, можно до бесконечности, это занятие вызовет излишнее раздражение, и, возможно, вы так и не сумеете довести дело до конца. Необходимо научиться действовать так, чтобы два элемента – конкретные, специфические фрагменты (их рисунки и цвета, сигналы и намеки) и общий вид (впечатление, которое создается ощущением картины как единого целого) – действовали вместе, помогая вам собрать пазл. Без обоих невозможно обойтись. При складывании фрагментов требуется пристальное внимание, а понять, насколько они сочетаются друг с другом, можно только с помощью воображения, дистанцируясь от получившейся картины. Подразумевается любое дистанцирование Тропа – временнГіе, пространственное, социальное, гипотетическое, – тем не менее дистанция должна быть. Когда я была маленькой, я часто играла в «данетки» – разновидность загадок. Один из участников описывал несложную ситуацию (в детстве мне особенно нравилась такая: Джо и Мэнди лежат на полу, оба мертвы. Вокруг битое стекло, лужица воды и бейсбольный мяч. Что произошло?), остальные пытаются разгадать загадку, задавая вопросы таким образом, чтобы на них можно было ответить только «да» или «нет». Я могла играть часами, и окружающим приходилось вместе со мной предаваться этому довольно странному времяпрепровождению. В то время я воспринимала эти загадки как развлечение, способ скоротать время и проверить свои способности сыщика и любила их отчасти потому, что убеждалась: я в состоянии справляться с такими задачами. Только теперь я понимаю, насколько изобретателен на самом деле этот метод наводящих вопросов с вынужденным выбором ответов: он заставляет отделять наблюдения от умозаключений, нравится нам это или нет. Можно сказать, что в загадках есть встроенная маршрутная карта, на которой показано, как добраться до решения – постепенно, делая частые перерывы, чтобы воображение успело обобщить полученную информацию и заново переформатировать уже известную. Нельзя просто нестись вперед, не разбирая дороги. Надо наблюдать, усваивать, не торопиться, рассматривая возможности, менять углы зрения, пытаться поместить элементы в соответствующий контекст, смотреть, не был ли сделан ранее ошибочный вывод. «Данетки» заставляют дистанцироваться в воображении. (В загадке про Джо и Мэнди оба они – золотые рыбки. Бейсбольный мяч влетел в окно и разбил аквариум.) Но как создавать дистанцию в отсутствие таких встроенных подсказок? Как противостоять свойственному Ватсону недостатку отстраненности, как научиться, подобно Холмсу, знать, когда и как вывести мозг из игры и дать уму какую-нибудь пищу полегче? Оказывается, даже проявления таких врожденных свойств, как креативность и воображение, можно разбить на шаги, помогающие преодолеть границу между замешательством и готовым решением. 84 Дистанцирование с помощью смены деятельности Скажите, что такое «задача на три трубки»? Она явно не входит в список распространенных типов задач, какие можно встретить в литературе по психологии. А между тем ее пора бы включить туда. В «Союзе рыжих» (The Red-Headed League) перед Шерлоком Холмсом возникает необычная головоломка, на первый взгляд не имеющая обоснованного решения. Зачем понадобилось выделять человека из числа прочих только за цвет волос, а потом платить этому человеку за то, чтобы он просиживал в закрытой комнате часы напролет? Когда обладатель огненно-рыжих волос мистер Уилсон покидает Холмса, предварительно рассказав свою историю, Холмс сообщает Ватсону, что медлить с этим случаем нельзя. «Что вы собираетесь делать?» – спрашивает Ватсон, как всегда, торопящийся узнать, каким образом будет раскрыто дело. Ответ Холмса звучит неожиданно: «– Курить, – ответил он. – Это задача как раз на три трубки. Я прошу вас минут пятьдесят не разговаривать со мной. Он скрючился в кресле, подтянув худые колени к ястребиному носу, и долго сидел в такой позе, закрыв глаза и выставив вперед черную глиняную трубку, похожую на клюв какой-то странной птицы. Я уж подумал было, что он заснул, да и сам начал дремать, но тут он вскочил, словно человек, принявший твердое решение, и положил трубку на камин». Это и есть задача на три трубки: та, которая требует каких-нибудь иных действий, кроме непосредственно размышлений о задаче. Например, курить трубку, в сосредоточенном молчании, на протяжении всего времени обдумывания. Предположительно задачи делятся на те, которые решаются за время выкуривания одной трубки, и так далее, вплоть до тех, которые можно решить за время, необходимое для выкуривания максимального количества трубок, чтобы при этом не стало дурно и все усилия не пропали даром. Конечно, ответ Холмса подразумевает нечто большее. Для него трубка – не что иное, как средство, причем одно из многих, которое применяется с целью создать психологическую дистанцию между собой и непосредственной задачей, чтобы наблюдения (в данном случае сделанные на основании рассказа посетителя и его внешности) проникли в голову и соединились там с содержимым «мозгового чердака» без лишней спешки, а мы наконец узнали, каким должен быть следующий шаг в расследовании. Ватсон предпочел бы сразу что-нибудь предпринять, на это указывает его вопрос. Но Холмс ставит между собой и задачей трубку. Он дает своему воображению время, чтобы оно без помех могло выполнить свою работу. Да, трубка – всего лишь средство для достижения цели, тем не менее значительное, материальное средство. Важно то, что в данном случае мы имеем дело с реальным объектом и реальной деятельностью. Смена деятельности на вроде бы никак не связанную с задачей, которую требуется решить, – один из наиболее благоприятных элементов для создания дистанции, необходимой воображению. И действительно, к этой тактике Холмс прибегает часто и успешно. Он не только курит трубку, но и играет на скрипке, посещает оперу, слушает музыку – все это предпочтительные для него механизмы дистанцирования. Важна не столько деятельность как таковая, сколько ее физическая природа и способность направить мысли по иному пути. Для этого деятельности надлежит обладать несколькими характеристиками: она не должна быть связана с задачей, которую предстоит решить (если вы расследуете преступление, не следует переключаться на расследование другого преступления; если обдумываете важную покупку, не стоит идти покупать что-то другое и т. п.); она не должна требовать чрезмерных усилий с вашей стороны (к примеру, если вы 85 попытаетесь освоить новый навык, мозг будет настолько поглощен этим занятием, что не сумеет высвободить ресурсы, необходимые для раскопок на «чердаке»; а как же игра Холмса на скрипке, спросите вы? Если вы не виртуоз, подобно ему, не стоит выбирать данный конкретный путь); вместе с тем эта деятельность должна так или иначе увлекать вас (если бы Холмс терпеть не мог курить трубку, три трубки, выкуренные ради решения задачи, вряд ли принесли бы ему пользу; точно так же, если бы он считал курение трубки скучным занятием, его разум от скуки вряд ли был бы способен работать по-настоящему, на любом уровне, или же Холмс, подобно Ватсону, так и не смог бы абстрагироваться от задачи). Переключаясь или отвлекаясь, мы, в сущности, вытесняем задачу, которую пытаемся решить, из сознания в подсознание. Даже если нам кажется, что мы заняты чем-то другим (и действительно, наши нейронные сети, относящие к вниманию, увлечены другой деятельностью), на самом деле наш мозг, не останавливаясь, работает над первоначальной задачей. Возможно, мы покидаем свой «мозговой чердак», чтобы выкурить трубку или сыграть сонату, но в «рабочей» зоне «чердака» продолжается кипучая деятельность: компоненты его содержимого извлекаются на свет, проверяются различные комбинации, оцениваются разнообразные подходы. Неспособность Ватсона создать дистанцию между собой и расследуемым делом может объясняться тем, что он пока не нашел подходящего, увлекательного, но не слишком захватывающего занятия в качестве замены. В некоторых случаях он пытается читать. Эта задача слишком сложна: ему не только не удается сосредоточиться на чтении, в результате чего теряется интерес к этому занятию, – он не может запретить себе мысленно возвращаться к тому самому делу, думать о котором ему не следует. (Что касается Холмса, для него чтение – действительно пригодный способ дистанцироваться: помните «Полифонические мотеты Лассуса»?) В других примерах Ватсон просто сидит в задумчивости. И сам признаёт, что это слишком скучно, поэтому вскоре начинает клевать носом. Так или иначе, попытка дистанцироваться проваливается. Разум просто не занимается тем, чем следовало бы, – не дистанцируется от нынешнего окружения и не задействует таким образом более рассеянную нейронную сеть внимания (ту самую сеть, которая активна по умолчанию, когда наш мозг находится в состоянии покоя). Эта проблема противоположна той, которую мы рассматривали в предыдущей главе, – склонности отвлекаться. А теперь Ватсон не может отвлечься в достаточной мере. Ему следовало бы отвлечься от расследования, а вместо этого он позволяет расследованию отвлекать его от выбранных способов отвлечься, в итоге не может воспользоваться преимуществами сосредоточенных размышлений или рассеянного внимания. Отвлекаться не всегда плохо. Все зависит от времени и специфики. (Примечательный факт: решение задач, в которых требуются догадки, дается нам лучше в состоянии усталости или интоксикации. Почему? Наши исполнительные функции подавлены, поэтому информация, которая в обычных условиях кажется отвлекающей, уже не отсеивается. Таким образом, мы лучше улавливаем отдаленные ассоциации.) В предыдущей главе речь шла о бессмысленном отвлечении, в этой же, напротив, об отвлечении осмысленном. Но для того, чтобы оно оставалось эффективным, важно правильно выбрать вид деятельности, будь то курение трубки, игра на скрипке, посещение оперы или что-нибудь совершенно иное. То, чем можно увлечься и таким образом полностью отвлечься, но при этом не настолько захватывающее занятие, чтобы оно препятствовало неосознанным размышлениям. Как только вы найдете себе излюбленное занятие, у вас появится возможность в соответствии с ним классифицировать задачи и решения: задача на три трубки, на две части симфонии, на одно посещение музея – словом, суть вы уловили. Вообще-то есть один вид деятельности, как будто специально предназначенный для работы. Вдобавок он прост: это ходьба (именно ею занимался Холмс, когда к нему пришло озарение 86 в рассказе «Львиная грива» (The Lion Mane)). Неоднократно доказано, что ходьба стимулирует творческое мышление и способность к решению задач, особенно если эта ходьба происходит на лоне природы – например, в лесу, а не в городской среде (однако в любом случае ходьба лучше, чем ничего, помогает даже прогулка по обсаженной деревьями улице). После прогулки у людей улучшается способность решать задачи, они дольше сохраняют упорство при выполнении сложных заданий, им проще уловить решение, подсказанное интуицией (например, когда требуется соединить четыре точки, как в задаче, предложенной вам ранее). И все это благодаря ходьбе мимо деревьев под открытым небом. И действительно, на природе ощущение хорошего самочувствия и благополучия усиливается, а это ощущение, в свою очередь, способствует решению проблем и творческому мышлению, изменениям внимания и механизмов когнитивного контроля в мозге так, что у нас возникает склонность пользоваться преимуществами воображения, более сходного с воображением Холмса. Прогулку даже можно заменить (в те моменты, когда напряжение слишком велико, поэтому мы, подобно Ватсону, вообще не в состоянии сосредоточиться на каком-либо деле) просмотром снимков с пейзажами на экране. Неидеальное решение, но в крайнем случае и оно подойдет. Душ тоже зачастую ассоциируется с творческим мышлением, помогает дистанцироваться так же, как трубка Холмса или прогулка по парку. (Но при этом придется простоять под душем какое-то время. Если перед вами стоит задача на три трубки, значит, мокнуть под душем понадобится долго. В таких случаях прогулка гораздо предпочтительнее.) То же самое относится к музыке, скрипке Холмса и походам в оперу, а также к визуально стимулирующей деятельности – например, при рассматривании картинок, вызывающих оптические иллюзии, или произведений абстрактного искусства. В любом случае нейронная сеть фонового, рассеянного внимания может осуществить свою функцию. По мере того как снижается подавление, сеть внимания берется за то, что нас беспокоит. И, если так можно выразиться, набирает обороты в преддверии того, что будет дальше. В итоге мы с большей вероятностью улавливаем отдаленные связи, активизируем несвязанные воспоминания, мысли и впечатления, способные помочь в данном случае, синтезируем материал, который нуждается в синтезировании. Обработка информации в нашем подсознании – мощный инструмент, главное – предоставить ему время и пространство для работы. Рассмотрим классическую модель решения задач – метод сложных отдаленных ассоциаций. Посмотрите на эти слова: CRAB PINE SAUCE А теперь попробуйте придумать единственное слово, которое можно добавить к каждому из перечисленных, чтобы образовать составное слово или фразу из двух слов. Справились? Долго пришлось думать? Каким путем вы пришли к решению? Решить эту задачу можно двумя способами. Один из них – озарение, при котором правильное слово можно увидеть после нескольких секунд поисков, второй – аналитический подход, или перебирание слова за словом, пока какое-нибудь не подойдет. В данном случае правильный ответ – apple, яблоко (crab apple – дикая яблоня, pineapple – ананас, applesauce – яблочный соус), и найти его можно, либо увидев сразу, либо просмотрев список возможных кандидатов (cake – торт, лепешка? Crabcake, крабовая котлета – они, положим, бывают, но со словом pine торт никак не сочетается. Grass – трава? То же самое, и т. п.). Первый путь – аналог выбора компонентов с противоположных углов «мозгового чердака» и составления из них третьего связанного и вместе с тем несвязанного элемента, который приобретает смысл в 87 тот же момент, как мы видим его. Второй сродни медленному и методичному пересмотру содержимого «чердака», цель которого – перерыть коробку за коробкой, выбросить один несоответствующий объект за другим, пока не найдется тот, с которым выполняются все соответствия[13]13 Можно предложить аналогичную задачу с русскими словами: ВИЛКА БЕГ ВОРОТ. А теперь попробуйте придумать единственное слово, которое можно добавить к каждому из перечисленных, чтобы образовать новое слово. В данном случае правильный ответ – слово «раз» (развилка, разбег, разворот), и найти его можно либо увидев сразу, либо просмотрев список возможных слов-кандидатов («да-вилка»? Но к двум другим словам это «да» не подходит. «Солнце-ворот»? То же самое для двух других слов, и т. п.). – Прим. пер. [Закрыть]. В отсутствие воображения приходится, подобно Ватсону, довольствоваться решением, далеким от идеала. И если Ватсон еще способен в конце концов решить головоломку вроде приведенной выше, со словами, в реальном мире успех ему не гарантирован, поскольку у него нет сформулированной задачи и аккуратно выстроенных в строчку элементов. Он не подготовил необходимое «мыслительное пространство», где может произойти озарение. Он понятия не имеет, какие элементы придется объединять. Другими словами, у него нет никакого представления о задаче. Даже самый мозг Ватсона действует иначе, чем мозг Холмса, когда требуется найти подход к задаче, будь то составление слов или расследование убийства подрядчика. Сканирование головного мозга доктора показало бы нам, что Ватсон достигнет решения примерно за триста миллисекунд до того, как осознает это сам. Точнее, мы увидим вспышку активности в правой передней височной доле (чуть выше правого уха, в области, вовлеченной в сложные когнитивные процессы) и усиление активности в правой передней верхней височной извилине (в области, которая ассоциируется с восприятием эмоциональной просодии, или ритма и интонаций речи, передающей определенное чувство, а также с обобщением разрозненной информации в сложном языковом восприятии). Мы сумеем даже предсказать, в правильном ли направлении движется Ватсон, если посмотрим на нейронную активность двух областей, левой и правой височных долей, ассоциирующихся с обработкой лексической и семантической информации, а также среднефронтальной коры, в том числе передней поясной, связанной с переключением внимания и выявлением непоследовательной и конкурирующей активности. Активизация этой последней представляет особый интерес, так как предполагает процесс, благодаря которому можно решить проблему, прежде казавшуюся непостижимой: передняя поясная кора, скорее всего, будет ждать выявления обособленных сигналов мозга, даже слабых (мы о них даже не подозреваем), и обращать на них внимание с целью поиска возможного решения, – так сказать, усиливая ту информацию, что уже имеется, просто недостает последнего импульса, чтобы ее объединить и обработать как единое целое. Собственно говоря, если бы мы просто сравнивали мозг Ватсона с мозгом Холмса, то обнаружили бы заметные признаки склонности Холмса к подобным озарениям и недостаток таковых у Ватсона – и отсутствие у него мысленной цели, мотивирующей на поиск решений. А именно, мы увидели бы, что в мозге сыщика области правого полушария, связанные с лексической и семантической обработкой, более активны, чем в мозге среднестатистического Ватсона, и что они демонстрируют более рассеянную активизацию зрительной системы. Что означают эти различия? Правое полушарие головного мозга в большей степени вовлечено в обработку таких свободных или отдаленных ассоциаций, которые часто 88 увязываются воедино в моменты озарений, а левому свойственно сосредоточиваться на более близких и определенных связях. Вероятнее всего, конкретные модели, сопровождающие озарение, подают разуму сигнал готовности к обработке ассоциаций, на первый взгляд вообще не выглядящих ассоциациями. Другими словами, разум, способный находить связи между вроде бы никак не связанной информацией, может обращаться к своей обширной сети мыслей и впечатлений, и выявлять даже неопределенные связи, а затем усиливать их, чтобы распознать их более общее значение, если оно существует. Может показаться, что озарение является из ниоткуда, но на самом деле оно приходит из конкретного места: с «чердака», где обработка информации продолжалась все время, пока вы были заняты другими делами. Трубка, скрипка, прогулка, концерт, душ – у всего перечисленного есть нечто общее помимо тех критериев, которыми мы пользовались, перечисляя виды деятельности, потенциально полезные для того, чтобы дистанцироваться. Они дают возможность разуму расслабиться. Снимают напряжение. По сути дела, все ранее упоминавшиеся характеристики – несвязанность, необходимость отсутствия чрезмерных и в то же время наличия достаточных усилий – вместе создают подходящую обстановку для нейронной релаксации. Невозможно расслабиться, если при этом работаешь над какой-нибудь задачей. Расслабиться не получится и в том случае, если деятельность требует слишком значительных усилий. А излишняя расслабленность не обеспечивает должную стимуляцию – наоборот, навевает сон. Даже если вы так и не пришли к какому-либо заключению и не сумели составить представление о задаче за то время, пока отдалялись от нее, есть вероятность, что вы вернетесь к своей задаче бодрым, свежим и готовым потратить больше усилий. В 1927 г. гештальт-психолог Блюма Зейгарник заметила забавную особенность: официанты в одном венском ресторане помнили заказы, пока те выполнялись. Как только заказ был полностью выполнен, он словно стирался из памяти официантов. Обнаружив это, Зейгарник поступила так, как полагается любому увлеченному психологу: вернувшись в лабораторию, она разработала и провела исследование. Группе взрослых и детей давали 18–22 задания, которые требовалось выполнить (задания предусматривали как физическую деятельность, например лепку фигурок из глины, так и умственную, например складывание пазлов), однако выполнение половины этих заданий прерывали, не давая их завершить. В конце эксперимента выяснялось, что его участники запомнили прерванные задания гораздо лучше, чем законченные, – точнее, более чем в два раза лучше. Зейгарник приписала эти результаты состоянию напряжения, как после фильма с интригующим финалом. Разум зрителя хочет знать, что будет дальше. Ему необходимо завершение. Он стремится прекратить работу, но будет продолжать работать, даже если приказать ему остановиться. Выполняя все прочие задания, он подсознательно будет вспоминать те из них, которые ему так и не удалось закончить. Мы уже сталкивались с этой потребностью в завершенности – стремлением нашего разума положить конец состоянию неопределенности и покончить с незавершенным делом. Эта потребность побуждает нас работать упорнее, лучше, поставив перед собой цель закончить работу. А как нам уже известно, мотивированный разум – гораздо более мощный разум. Физическое дистанцирование А если мы, подобно Ватсону, просто не в состоянии представить себе занятие, при котором можно думать о чем-то другом, даже если мы переберем все варианты из предложенного списка? К счастью, отстраненность – это не только смена деятельности (хотя это один из наиболее легких путей). Другой способ достичь психологической отстраненности – в буквальном смысле слова увеличить расстояние. Физически переместиться в другую точку. Для Ватсона аналогом такого перемещения становятся прогулки по Бейкер-стрит – вместо того чтобы сидеть в четырех стенах и наблюдать за своим соседом по квартире. Холмс умеет 89 мысленно перенестись в другое место, однако реальное физическое перемещение способно помочь менее волевому человеку и даже самому великому сыщику, когда ждать творческого вдохновения больше неоткуда. В «Долине страха» (The Valley of Fear) Холмс предлагает вечером вернуться на место расследуемого преступления и оставить отель, где он сделал большую часть умозаключений. «Вечер в одиночестве!» – восклицает Ватсон, убежденный, что из всех возможных решений это самое неудачное. Чепуха, возражает Холмс. На самом деле это решение весьма показательно. «Я намерен отправиться туда прямо сейчас. Я уже обо всем договорился с достопочтенным Эймсом, у которого, между прочим, есть сомнения относительно Баркера. Проведу вечер в кабинете, посмотрим, не подействует ли его атмосфера на мои умственные способности. Уверен, духи места сего принесут мне озарение. Вы улыбаетесь, друг Ватсон? Что ж, посмотрим»[14]14 Здесь и далее цитаты из «Долины страха» приведены в переводе И. Бернштейн. – Прим. пер. [Закрыть]. И Холмс отправляется в кабинет. Так обретает он вдохновение или нет? Обретает. К следующему утру у него уже готова разгадка. Как такое возможно? Неужели именно пресловутые духи места принесли Холмсу озарение, на которое он рассчитывал? Вполне возможно. Наше местонахождение влияет на мышление самым непосредственным образом – по сути дела, мы испытываем даже физическое влияние. Вспоминается один из самых известных экспериментов в области психофизиологии – собаки Павлова. Иван Павлов стремился показать, что физический сигнал (в данном случае звук, но его мог заменить некий образ, запах или общее местонахождение) в конце концов способен вызывать такую же реакцию, как и собственно поощрение. Павлов звонил в колокольчик, а потом предлагал собакам еду. При виде пищи у собак, само собой, вырабатывалась слюна. Но довольно скоро слюноотделение стало начинаться уже при звуках колокольчика, еще до того, как собаки успевали увидеть еду или почувствовать ее запах. Звон вызывал предвкушение еды и физическую реакцию на нее. Теперь нам уже известно, что усвоенные ассоциации такого рода свойственны не только собакам. Люди постоянно, не задумываясь, выстраивают такие связи, в итоге самые безобидные события вроде звонка вызывают предсказуемую реакцию у нас в мозге. Например, когда мы входим в кабинет врача, одного запаха достаточно, чтобы вызвать нервную дрожь, и не потому, что нам предстоит какая-нибудь болезненная процедура (возможно, мы просто зашли занести какие-то справки), а потому, что мы научились ассоциировать данную конкретную обстановку с тревогой, которой неизбежно сопровождается визит к врачу. Власть усвоенных ассоциаций проявляется повсюду. К примеру, мы лучше вспоминаем материал в том месте, где мы впервые с ним познакомились. Студенты, сдающие экзамен в той же аудитории, в какой занимались в течение семестра, обычно справляются лучше, чем когда экзамен приходится сдавать в совершенно новой обстановке. Верно и обратное: если какое-либо место ассоциируется у нас с раздражением, скукой или отвлекающими моментами, оно не подходит для усердной учебы. На всех уровнях, как физических, так и нейронных, местонахождение связано с воспоминаниями. Места ассоциируются с теми видами деятельности, которая там производится, и разрушить эту связь поразительно трудно. К примеру, если смотреть телевизор, лежа в постели, то заснуть потом бывает непросто (конечно, если вы не привыкли 90 засыпать за просмотром телепередач). Если весь день сидишь за одним и тем же столом, трудно преодолеть мыслительный ступор в случае его возникновения. Связь между мышлением и местонахождением объясняет, почему так много людей не в состоянии работать дома – им требуется определенная офисная обстановка. Они не привыкли работать дома, их отвлекают самые обычные дела, которыми они привыкли заниматься в домашних условиях. Эти нейронные ассоциации отнюдь не способствуют достижениям – точнее, достижениям, связанным с работой. В памяти просто нет соответствующих следов, а если и есть, то не те, что вам требуется активизировать. Этим объясняется еще один эффект от ходьбы. Поддаться контрпродуктивному образу мышления гораздо сложнее, если вокруг постоянно меняются пейзажи. Местонахождение влияет на мышление. Смена места подает нам, если так можно выразиться, сигнал мыслить иначе. При этом наши укоренившиеся ассоциации становятся неуместными, в итоге появляется возможность сформировать новые, исследовать образы и пути мышления, которыми мы прежде не пользовались. Если привычное место тормозит наше воображение, то, избавившись от усвоенных рамок, мы наконец даем воображению волю. У нас уже нет ни обременительных воспоминаний, ни нейронных связей, которые вмешиваются и стесняют нас. В этом и заключается суть тайного звена между воображением и физической дистанцией. Важнее всего то, что изменение физической перспективы может спровоцировать изменение умственной перспективы. Это полезно даже Холмсу, которого, в отличие от Ватсона, незачем брать за руку и силой уводить с Бейкер-стрит, чтобы дать возможность воспользоваться преимуществом дистанцирования. Вернемся еще раз к «Долине страха» и странному стремлению Холмса провести ночь в одиночестве в комнате, где было совершено убийство. Если принять во внимание связь между местонахождением, памятью и дистанцированием в воображении, вера Холмса в духов места уже не выглядит столь странной. Холмс вовсе не считает, что сумеет воссоздать события, просто очутившись в комнате, где они произошли; нет, он рассчитывает сделать именно то, о чем мы только что говорили, – спровоцировать смену перспективы, сменив собственное местонахождение, – просто в данном случае это специфическое место и специфическая перспектива – люди, причастные к преступлению. Поступая таким образом, сыщик позволяет воображению сойти с привычного пути его, Холмса, собственного опыта, воспоминаний и связей и отправиться путем упомянутых людей. С чем могла бы ассоциироваться эта комната у них? Какой ход мыслей она могла бы им подсказать? Холмс сознает и необходимость понять образ мысли действующих лиц этой драмы, и в то же время трудности, связанные с подобными попытками, любой элемент которых может завести не туда. А когда требуется абстрагироваться от всей информации и сосредоточиться на основных деталях так, как это, скорее всего, сделали бы основные действующие лица событий, что может быть лучше, чем провести одинокий вечер в комнате, где было совершено преступление? Разумеется, там Холмсу понадобится вся его наблюдательность и воображение, но теперь у него есть доступ к той картине и ее элементам, которая была перед глазами тех, кто присутствовал при самом преступлении, что даст сыщику дополнительную опору для построения выводов. И в самом деле, именно в том кабинете Холмс впервые замечает одну гантель и сразу предполагает, что пропавшая вторая должна иметь некое отношение к развитию событий, в этой же комнате он вычисляет наиболее вероятное местонахождение второй гантели – где-то за единственным окном, в которое ее, скорее всего, бросили. Покинув кабинет, Холмс отказывается от прежних выводов, касающихся развития событий. Находясь в кабинете, он сумел лучше понять ход мысли действующих лиц и при этом прояснил для себя элементы дела, которые прежде оставались туманными. 91 В этом смысле Шерлок Холмс обращается к принципу контекстуальной памяти, который мы только что рассмотрели, – пользуется контекстом, чтобы выбрать перспективу и направить туда воображение. Что, скорее всего, делал бы и о чем думал в данной комнате, в конкретное время суток человек, совершавший (или только что совершивший) преступление? Если бы Холмс не изменил физической дистанции, его воображение могло снова дать сбой, как происходило до того вечера: ему никак не удавалось представить себе действительный ход событий как один из возможных вариантов. Нас редко учат смотреть на мир глазами другого человека, причем делать это на базовом уровне, шире, чем позволяют рамки обычного общения. Как мог бы истолковать некую ситуацию другой человек, причем истолковать иначе, нежели мы? Как бы он мог действовать при конкретных обстоятельствах? О чем он мог думать при определенных условиях? Мы нечасто задаемся подобными вопросами. В сущности, мы настолько плохо подготовлены к действительному принятию чужой точки зрения, что когда от нас однозначно требуется именно так и поступить, мы все равно остаемся на эгоцентрических позициях. В одной серии исследований ученые обнаружили: испытуемые принимали чужую точку зрения, просто подстраивая к ней свою. Причем принципиальной разницы между людьми, как оказалось, нет, вопрос только в степени: все мы склонны выбирать точкой отсчета свой собственный взгляд, а затем слегка корректировать его, двигаясь в каком-либо направлении, вместо того чтобы менять взгляды полностью. Более того, как только мы приходим к оценке, которая нас устраивает, мы перестаем размышлять о ней, считая задачу решенной. Мы успешно восприняли требуемую точку зрения. Эта тенденция известна под названием «разумной достаточности», или «достовлетворительности» (по-английски satisficing – от слов sufficing – «достаточный» и satisfying – «удовлетворительный»): искажение ответа, отклонение приемлемых ответов на вопрос в эгоцентрическую сторону. Как только мы находим ответ, который удовлетворяет нас, мы прекращаем поиски независимо от того, является ли найденный ответ идеальным или хотя бы относительно точным. (К примеру, в недавнем исследовании поведения в интернете участники явно находились под значительным влиянием существующих личных предпочтений в оценке сайтов и пользовались этими предпочтениями как точкой отсчета с целью сокращения количества просмотренных сайтов и ускорения поиска. В итоге участники исследования зачастую обращались к уже известным сайтам вместо того, чтобы без спешки оценить потенциал новых источников информации, и сосредоточивали внимание на цитатах, выданных поисковой машиной, вместо того чтобы зайти на сами сайты и только тогда принять решение.) Эта склонность к эгоцентрическому ответу в поисках «разумной достаточности» особенно выражена в тех случаях, когда вероятный ответ встречается в самом начале процесса поисков. Тогда мы считаем свою задачу выполненной, даже если на самом деле она далека от завершения. Смена перспективы и физического местонахождения довольно простым способом вынуждают проявлять вдумчивость. В таких случаях нам приходится заново рассматривать мир, смотреть на вещи под иным углом. Иногда такая смена перспективы может дать толчок, необходимый для принятия трудного решения или пробуждающий креативность там, где ее прежде не было. Вспомним известный эксперимент, разработанный и поставленный Норманом Майером в 1931 г. Участника эксперимента приводили в комнату, с потолка которой свисали две бечевки. Задачей участника было связать эти две бечевки вместе. Но, держа в руке конец одной бечевки, дотянуться до второй было невозможно. В комнате имелось также еще несколько предметов: шест, электрический удлинитель и клещи. Как поступили бы вы? Большинство участников орудовали шестом или удлинителем, пытаясь дотянуться до конца одной бечевки, в то же время удерживая другую. Оказалось, это не так-то просто. 92 Самое элегантное решение? Привязать клещи к концу одной бечевки, раскачать ее как маятник и поймать, когда она будет пролетать близко к вам, пока вы удерживаете конец другой бечевки. Просто, быстро, изобретательно. Однако лишь немногие люди в пылу решения задачи способны представить себе смену назначения предмета (в нашем случае – понять, что клещи можно использовать не только как клещи, но и как груз, привязанный к бечевке). А те, кто решил задачу, отличались от остальных только тем, что сумели абстрагироваться. Они взглянули на задачу в буквальном смысле слова на расстоянии. Увидели ее целиком, а затем попытались представить себе, как заставить работать ее компоненты. Одним решение далось естественно, другим – благодаря подсказкам автора эксперимента, который словно случайно задевал одну из бечевок и раскачивал ее (этого действия хватало, чтобы решение с клещами само собой приходило в голову участникам эксперимента). Но никому так и не удалось решить задачу без сдвига в сознании, пусть даже небольшого, без смещения точки зрения, или, пользуясь терминами Тропа, без перемещения от конкретного (клещи) к абстрактному (груз для маятника), от деталей головоломки к головоломке в целом. Ни в коем случае не следует недооценивать такую эффективную подсказку, как физическая перспектива. Как говорит сам Холмс в «Загадке Торского моста» (The Problem of Thor Bridge), «стоит только измениться вашей точке зрения, как именно то, что ранее казалось изобличающей уликой, станет ключом к разгадке»[15]15 Перевод А. Бершадского. – Прим. пер. [Закрыть]. Дистанцирование с помощью ментальных приемов Вернемся еще раз к сцене из «Собаки Баскервилей», которую мы уже обсуждали. После первого визита доктора Мортимера доктор Ватсон покидает Бейкер-стрит и направляется в свой клуб. А Холмс остается сидеть в кресле, где Ватсон и находит его, вернувшись домой около девяти вечера. Неужели Холмс весь день не сходил с места? Об этом Ватсон и спрашивает его. «Вот и нет, – отвечает Холмс, – я успел побывать в Девоншире». Ватсон и бровью не ведет. «Мысленно?» – уточняет он. «Совершенно верно», – отвечает сыщик. Так чем же все-таки занимается Холмс, сидя в кресле и мыслями пребывая вдали от окружающей действительности? Что происходит в его мозге и почему воображение как инструмент настолько эффективно и является таким важным элементом мыслительного процесса, что Холмс едва ли когда-нибудь откажется от него? Мысленные путешествия Холмса можно называть по-разному, но чаще всего их именуют «медитацией». При слове «медитация» большинству людей представляются монахи, мастера йоги и т. п. – словом, что-то из области спиритуализма. Но этим значение слова «медитация» не исчерпывается. Холмс не монах и не практикует йогу, однако понимает, что представляет собой медитация – простое умственное упражнение с целью очищения разума. Медитация – не что иное, как спокойное дистанцирование, необходимое для целостного, творческого, наблюдательного и вдумчивого мышления. Это способность создавать дистанцию во времени и пространстве между вами и всеми проблемами, которые вы пытаетесь решить исключительно в уме. Вопреки распространенным представлениям, для этого даже не требуется отрешиться от всех мыслей и ощущений: направленная медитация способна подвести к конкретной цели или привести к месту назначения (например, в Девоншир), если разум не отвлекается ни на что другое или, точнее, до тех пор пока разум абстрагируется от всех отвлекающих моментов и продолжает абстрагироваться от них по мере возникновения этих отвлекающих моментов (поскольку они будут неизбежно возникать). 93 В 2011 г. ученые из Университета Висконсина исследовали группу людей, не имеющих привычки медитировать. Участников эксперимента проинструктировали следующим образом: им было предложено расслабиться с закрытыми глазами и сосредоточиться на собственном дыхании или на кончике носа. Если у них возникали какие-то мысли, им советовали признать, что эти мысли появились, и просто отвлекаться от них, мягко напомнив себе о необходимости следить за дыханием. На протяжении пятнадцати минут участники эксперимента пытались следовать этим рекомендациям. Затем группу делили на две подгруппы: для одной было предусмотрено девять 30-минутных занятий медитацией с инструктором, общей продолжительностью курса пять недель, а вторая группа могла посещать такие же занятия, но уже после завершения эксперимента. По истечении пяти недель все участники во второй раз проходили оценку мышления. Во время каждого занятия ученые оценивали с помощью энцефалографии электрическую активность мозга. Результаты оказались поразительными. Несмотря на краткий период обучения, в среднем 5–16 минут тренировок и практики в день, занятия медитацией вызвали изменения на нейронном уровне. Ученых особенно заинтересовала фронтальная асимметрия ЭЭГ – рисунок, обычно коррелирующий с положительными эмоциями. Она проявлялась после семидесяти и более часов применения вдумчивых медитативных техник. Если до начала занятий между двумя группами не наблюдалось различий, то к концу исследования те участники, которые присутствовали на дополнительных занятиях, продемонстрировали асимметрию со сдвигом влево, коррелирующую с позитивным эмоциональным состоянием и ориентацией на решение задач; неоднократно отмечалось, что такие состояния связаны с ростом творческих способностей и развитием воображения. Что это означает? Во-первых, в отличие от предыдущих исследований медитации, требовавших весьма существенных затрат времени и сил, этот эксперимент не требовал значительных затрат ресурсов, тем не менее он дал поразительные с точки зрения нейробиологии результаты. Более того, процесс подготовки характеризовался предельной гибкостью: участники сами могли решать, когда получать указания и когда заниматься. И, что, возможно, еще важнее, участники сообщали о резком росте спонтанной пассивной практики, когда, не принимая осознанного решения медитировать, в никак не связанных с психологическими занятиями ситуациях они вдруг обнаруживали, что действуют согласно указаниям, полученным на занятиях. Да, это всего лишь одно исследование. Но были и другие. Предшествующие опыты показали: обучение медитации способно влиять на сеть фонового режима работы мозга, ту самую сеть рассеянного внимания, о которой мы уже говорили, способствующую творческим озарениям и помогающую нашему мозгу прослеживать отдаленные связи, пока мы заняты чем-то совершенно другим. У людей, которые медитируют регулярно, обнаружен рост функциональной связности сети в состоянии покоя – по сравнению с теми, кто не занимается медитацией. Более того, в одном эксперименте, исследуя воздействие медитации в течение восьми недель, ученые обнаружили изменения в плотности серого вещества у группы начинающих медитирующих (то есть тех, кто не практиковал медитацию до начала исследования) по сравнению с участниками из контрольной группы. Отмечалось увеличение плотности гиппокампа левого полушария, коры задней части поясной извилины, височнотеменного стыка и мозжечка – областей, задействованных в обучении и запоминании, регулировании эмоций, обработки человеком информации, относящейся к нему самому, и умении смотреть в перспективу. Гиппокамп, кора задней части поясной извилины и височнотеменной стык образуют вместе нейронную сеть, которая поддерживает в том числе самопроекцию, включая мысли о гипотетическом будущем, взгляд в перспективу, рассмотрение чужой точки зрения – другими словами, именно тот вид дистанцирования, о котором идет речь. 94 Медитация – один из способов мышления. К счастью, привычке дистанцироваться свойственно подкреплять саму себя. Она входит в арсенал ментальных техник, помогающих привести себя в подходящее психофизическое состояние, чтобы достичь дистанции, необходимой для вдумчивого творческого мышления. Медитации не так сложно научиться, а список ее применений значительно шире, чем принято считать. Возьмем, к примеру, Рэя Далио. Далио медитирует почти каждое утро – иногда перед работой, иногда в своем офисе, прямо за письменным столом: он откидывается на спинку стула, закрывает глаза, сцепляет пальцы. Больше ему ничего не требуется. «Это просто умственное упражнение, помогающее очищать разум», – сказал он в интервью журналу New Yorker. Далио не из тех, о ком вспоминаешь в первую очередь, задавшись целью перечислить мастеров медитации. Он не монах, не поклонник йоги, не хиппи и не приверженец идей ньюэйдж, он не проявляет интереса к исследованиям в области психологии. Далио – основатель крупнейшего в мире хеджингового фонда Bridgewater Associates, человек, у которого нет лишнего времени, зато есть множество способов потратить имеющееся. Однако он сознательно предпочитает посвящать часть каждого дня медитации в ее самом широком и классическом смысле. Когда Далио медитирует, он очищает разум. Готовит его к новому дню, расслабляясь и оттесняя на периферию все мысли, которые в противном случае беспокоили бы его в последующие часы. Да, может показаться странным его стремление тратить часть дня на занятие, которое отнюдь не выглядит продуктивным. Однако минуты, проведенные в пространстве собственного разума, на самом деле повышают работоспособность Далио, способствуют гибкости, воображению, проницательности. Словом, медитация помогает ему успешнее принимать решения. Но всем ли подходит этот способ? Медитация, это пребывание в умственном пространстве, – не пустяк, она требует энергии и сосредоточенности (потому физически дистанцироваться проще). Если Холмс, Далио и подобные им люди способны сразу отключить мысли с огромной пользой для себя, могу поручиться, что Ватсону такой шаг дастся с трудом. Когда ему будет нечем занять разум, одного дыхания окажется недостаточно, чтобы сдерживать мысли. Гораздо проще дистанцироваться физически, чем полагаться только на свой разум. К счастью, как уже упоминалось ранее, полностью отключать все мысли при медитации необязательно. В действительности во время медитации мы сосредоточиваемся на чем-либо – например, на таком труднофиксируемом предмете, как дыхание, эмоция, телесное ощущение, – и исключаем из сферы своего внимания все остальное. Но можно воспользоваться и так называемым методом визуализации – сосредоточиться на конкретном мысленном образе, заменив пустоту чем-то более осязаемым и достижимым. Вернемся к «Собаке Баскервилей», где мы оставили Холмса мысленно парить над девонширскими торфяниками. Это тоже медитация, но не бесцельная и не сопровождающаяся ни созерцанием пустоты, ни отсутствием мысленных образов. Она требует сосредоточенности, как любая другая медитация, но в некотором смысле более доступна. Имеется конкретный план, то, что занимает разум и сдерживает непрошеные мысли, то, на чем можно сосредоточить свои усилия, только этот предмет медитации более живой и многомерный, чем вдохи и выдохи. Мало того, можно сосредоточиться на достижении дистанции, которую Троп назвал гипотетичной, начать обдумывать всевозможные «что, если?..». Попробуйте проделать следующее упражнение. Закройте глаза (после того, как дочитаете описание). Представьте себе конкретную ситуацию, в которой ощущаете гнев или враждебность, – например, недавнюю ссору с близким другом или родственником. Этот момент запечатлелся у вас в памяти? Вспомните его как можно лучше, словно переживая его 95 вновь. А потом скажите, как вы себя чувствуете. И объясните, как сможете, почему возникла такая ситуация. Кто был виноват? Почему? Можно ли что-нибудь исправить? Снова закройте глаза. Представьте себе ту же ситуацию. Только теперь вообразите, что в ней участвуют два человека, но не вы. А вы – просто муха, сидящая на стене и наблюдающая за тем, что происходит. Вы в состоянии взвиться с места и облететь собеседников со всех сторон, увидеть их во всех ракурсах, и вас никто не заметит. Покончив с наблюдениями, сразу же объясните мне, как вы теперь себя чувствуете. А потом еще раз ответьте на вопросы, приведенные выше. Вы только что выполнили классическое упражнение на мысленное дистанцирование посредством визуализации. Это процесс, при котором мы живо представляем себе что-либо, но со стороны, а именно – с точки зрения, разительно отличающейся от той, которую сохранили в памяти. Переходя от первого сценария ко второму, мы также переходим от конкретного к абстрактному образу мышления, скорее всего, становимся спокойнее в эмоциональном отношении, замечаем то, что упустили в первый раз, и, возможно, закладываем в память несколько видоизмененную версию случившегося. В сущности, при этом можно даже стать мудрее и научиться лучше решать проблемы в общем виде, не связанные с ситуацией, о которой идет речь. (И вместе с тем освоить одну из форм медитации. Ловко, правда?) Психолог Этан Кросс доказал, что такое ментальное дистанцирование (вышеупомянутый тест предлагался в одном из исследований, проведенных им) полезно не только для управления эмоциями. Оно также способствует обретению мудрости, как в области диалектики (например, осознания изменений и противоречий в мире), так и с точки зрения интеллектуального смирения (например, понимания пределов своих возможностей), позволяет успешнее решать задачи и делать выбор. Дистанцируясь, мы начинаем шире видеть вещи, замечаем связи, неразличимые с более близкого наблюдательного поста. Другими словами, «стать мудрее» в то же время означает «развить воображение». Даже если у нас не появится повода восклицать «эврика!», этот путь ведет к проницательности. Мы учимся мыслить так, словно на самом деле изменили свое местонахождение, при этом продолжая сидеть в своем кресле. Инженер-электрик Джекоб Рабинов – один из самых талантливых и плодовитых изобретателей ХХ в. Среди полученных им 230 патентов США – патент на аппарат для автоматической сортировки почты, который применяется до сих пор, магнитное устройство памяти, ставшее предшественником жесткого диска, и электропроигрыватель с прямым тонармом. В чем секрет Рабинова, что способствовало его поразительной продуктивности? Не что иное, как визуализация. Как однажды Рабинов сказал психологу Михаю Чиксентмихайи, всякий раз, когда задача оказывается слишком трудной, требует много времени или не имеет явного ответа, «я представляю себе, что нахожусь в тюрьме. А если я в тюрьме, время несущественно. Иначе говоря, если на задачу уйдет неделя, пусть будет неделя. А что еще мне делать? Я все равно пробуду там двадцать лет. Понимаете? Это своего рода умственная уловка. Без нее невольно будешь думать: «Господи, опять не получается», – и наделаешь ошибок. Потому я и напоминаю себе, что затраты времени не имеют ровным счетом никакого значения». Визуализация помогала Рабинову добиваться сдвига в образе мышления так, чтобы справляться с задачами, которые в противном случае повергли бы его в растерянность, высвободить в воображении пространство, необходимое для решения подобных задач. Этот прием получил широкое распространение. Спортсмены часто визуализируют определенные моменты матчей или движения еще до того, как они произойдут, мысленно разыгрывают предстоящие события до того, как они начнутся в реальности: теннисист 96 представляет себе подачу до того, как мяч покинет его ладонь, гольфист видит траекторию мяча до того, как взмахнет клюшкой. Специалисты в области когнитивной поведенческой терапии пользуются этим приемом, помогая людям, страдающим фобиями или другими заболеваниями, расслабляться и получать опыт каких-либо ситуаций, не переживая их на самом деле. Психолог Мартин Селигман убежден, что такая визуализация – возможно, самый важный инструмент для обретения более интуитивного и творческого мышления. Он даже полагает, что путем неоднократных визуальных разыгрываний различных ситуаций «интуиции можно реально обучать, причем массово». Вот и еще одно подтверждение. Все дело в том, чтобы научиться мысленно создавать дистанцию, представлять мир таким, словно видите и ощущаете его на самом деле. Как однажды сказал философ Людвиг Витгенштейн, «воспроизвести – не подумать, а увидеть!» В этом заключается сущность визуализации: научиться видеть внутренним взором, мысленно создавать сценарии и альтернативы им, разыгрывать нереальные ситуации так, как будто они реальны. Все это не только помогает замечать очевидное и не делать ошибок, характерных для Лестрейда или Грегсона, видящих только то, что перед глазами, или то, что хочется увидеть. Такой метод еще и стимулирует воображение, поскольку заставляет пользоваться им. Добиться этого легче, чем может показаться поначалу. В сущности, визуализация дается нам естественно, когда мы пытаемся вызвать что-либо из памяти. Даже нейронная сеть при этом задействуется та же самая – медиальная префронтальная кора, латеральная височная кора, медиальная и латеральная теменные доли, медиальная височная доля (вместилище гиппокампа). Но при визуализации мы, вместо того чтобы непосредственно вызывать воспоминания, перебираем подробности прошлого опыта, создавая то, чего в действительности никогда не было, например еще не наступившее будущее или прошлое, противоречащее фактам. Мы проверяем результат мысленно – вместо того чтобы переживать ситуацию в действительности. И при этом мы добиваемся того же самого, что и при физическом дистанцировании: мы абстрагируемся от ситуации, которую анализируем. Все это медитация в той или иной форме. В «Долине страха» Холмсу требуется физическая смена места – его мысли нужна подсказка, стимул из внешнего мира. Но того же эффекта можно достичь без перемены места – например, за письменным столом, по примеру Далио, или в кресле, по примеру Холмса, или там, где находитесь вы. Все, что от вас требуется, – высвободить в уме необходимое пространство. Пусть оно станет подобием чистого холста. И тогда вам откроется целый воображаемый мир. Развиваем воображение: важность любознательности и игры Шерлок Холмс призывал нас поддерживать безукоризненный порядок на своем «мозговом чердаке» – избавиться от никчемного хлама, заполнить «чердак» безукоризненно расставленными коробками с полезным содержимым, а не с никому не нужным барахлом. Но это не так-то просто. К примеру, откуда Холмсу известно о редком виде медуз, обитающих в теплых водах океана («Львиная грива»)? Невозможно объяснить данный факт строгими критериями, на которых он настаивал ранее. Как и в большинстве случаев, разумно будет предположить, что Холмс преувеличивал ради пущего эффекта. Незахламленность – да, но не пустота. «Чердак», вмещающий лишь самое необходимое для профессионального успеха, выглядит весьма плачевно. В нем вряд ли хватит материалов даже для работы, а тем более для великих озарений и игры воображения. Как попала упомянутая медуза на аккуратный «чердак» Холмса? Очень просто. В какой-то момент Холмсу наверняка стало любопытно. Точно так же, как любопытство побудило его заинтересоваться мотетами, как он увлекся искусством – настолько, чтобы попытаться убедить Скотленд-Ярд, что от его заклятого врага, профессора Мориарти, не стоит ждать 97 ничего хорошего. Как говорит сам Холмс в «Долине страха», когда инспектор Макдоналд с негодованием отвергает его предложение почитать книгу по истории Мэнор-хауса, «широта взгляда, дорогой мистер Мак, является одним из важнейших требований нашей профессии. Ассоциации идей, использование посторонних, казалось бы, сведений иногда бывают крайне полезны». Самим Холмсом любопытство овладевает постоянно, именно оно побуждает его узнавать все больше и больше. И все, что он узнаёт, оказывается в задвинутой в какойнибудь дальний угол (но снабженной этикеткой!) коробке на «чердаке». Именно это и пытается объяснить нам Холмс. На «чердаке» существуют разные уровни хранения. Есть разница между активным и пассивным знанием, теми коробками, в которые неизбежно приходится лазить регулярно, и теми, куда может понадобиться заглянуть когда-нибудь при случае, а не просматривать их содержимое периодически. Холмс вовсе не предлагает нам перестать проявлять любопытство и пополнять «чердак» новыми медузами. Нет, он просит нас содержать активные знания в чистоте и порядке, а также хранить пассивные в такой же чистоте и порядке, в коробках и контейнерах с ярлыками, в папках и ящиках с соответствующими надписями. Это не значит, что мы должны взять и отмахнуться от предыдущих предостережений и заполнить свою драгоценную ментальную недвижимость барахлом. Вовсе нет. Просто не всегда можно с первого взгляда отличить хлам от похожего на хлам важного дополнения нашего умственного арсенала. Последнее не помешает надежно припрятать на случай дальнейшего использования. Нам незачем даже отправлять на хранение предмет целиком – достаточно сохранить напоминание о нем, возможность в случае необходимости вновь найти его – точно так же, как Холмс разыскивает подробности, касающиеся медуз, в старой книге, а не хранит их в голове. От него требуется только вспомнить, что книга с содержащимися в ней сведениями существует. Организованный «чердак» не статичен. Воображение позволяет нам извлекать из умственного пространства больше, чем мы смогли бы иначе. И действительно, невозможно знать заранее, какой элемент и когда может оказаться на удивление полезным. Потому и предостережение Холмса имеет первостепенную важность: самые неожиданные предметы могут оказаться полезными, причем удивительнейшим образом. Разум должен быть открыт для поступления новой информации, сколь бы посторонней она ни казалась. Именно здесь в дело вступает наш склад ума. Предполагает ли он значительную открытость таким поступлениям, какими бы странными и бесполезными они ни казались, – в противовес склонности отвергать все, что потенциально может отвлекать нас? Является ли эта открытость привычным для нас подходом, в соответствии с которым мы приучили себя мыслить и смотреть на мир? Благодаря практике мы начинаем лучше чувствовать, что может нам понадобиться, а что нет, что сохранить на будущее, а от чего лучше сразу избавиться. Выглядящее на первый взгляд интуицией, на самом деле это нечто большее – знание, опирающееся на множество часов практики, тренировки восприятия, мысленного обобщения опыта, пока он наконец не станет для нас привычным со всеми своими шаблонами и отработанными направлениями. Помните эксперименты с отдаленными ассоциациями, где требовалось найти слово, дополняющее каждое из трех слов списка? В каком-то смысле это аналогия большинства жизненных ситуаций – ряд отдаленных ассоциаций, которые не заметишь, если не найдешь время остановиться, включить воображение, задуматься. Если вы по складу ума опасаетесь креативности, боитесь идти против преобладающих обычаев и норм, ваш разум будет только 98 тормозить вас. Кто боится креативности, пусть даже подсознательно, тому гораздо труднее стать творческим человеком. Несмотря на все старания, вам никогда не уподобиться Холмсу. Не следует забывать, что Холмс был в некотором смысле исключением, причем ничуть не похожим на вычислительную машину. Поэтому его подход и отличается поразительной эффективностью. Холмс ухватывает самую суть, когда в «Долине страха» наставляет Ватсона: «Не должно существовать такой комбинации случайных или неслучайных событий, для которой человеческий ум не мог бы найти объяснения. Я постараюсь указать возможный ход умозаключений, не утверждая, что они верны, а просто в виде умственного упражнения. Тут и встретится, я допускаю, немало предположений, но как часто они порождают истину?!»[16]16 Перевод Е. Тер-Оганяна. – Прим. пер. [Закрыть] ДАЛЬШЕ ЧИТАТЬ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ: «Молодой человек неожиданно узнает…», «Пока я не побывал в Блэкхите…» – рассказ «Подрядчик из Норвуда». «Вы далеко пойдете в своей профессии…» – рассказ «В Сиреневой сторожке». «Одной из замечательных черт Шерлока Холмса была его способность давать отдых голове…» – рассказ «Чертежи Брюса-Партингтона». «Это задача как раз на три трубки…» – рассказ «Союз рыжих». «Уверен, духи места сего принесут мне озарение…», «Широта взгляда, дорогой мистер Мак, является одним из важнейших требований нашей профессии…» – повесть «Долина страха». «Я успел побывать в Девоншире…» – повесть «Собака Баскервилей», гл. 2. Часть 3 ИСКУССТВО ДЕДУКЦИИ Глава 5 ОРИЕНТАЦИЯ НА «ЧЕРДАКЕ»: ДЕДУКЦИЯ НА ОСНОВАНИИ ФАКТОВ Представьте себе, что вы Холмс, а я, Мария, – потенциальный клиент. На протяжении последних ста с лишним страниц вам предоставлялась информация – почти так же, как если бы вы слушали меня в своей гостиной. Теперь остановимся на минуту: подумайте, что вам известно обо мне как человеке. Какие выводы вы можете сделать на основании написанного мною текста? Не буду приводить список всех возможных ответов, но вот один из них, чтобы заставить вас задуматься: имя Шерлока Холмса я впервые услышала по-русски. Помните книгу, которую мой папа читал нам у камина? Это был русский перевод, а не английский оригинал. Просто к тому времени мы только переехали в США, поэтому читали книги на том языке, на котором до сих пор общаемся друг с другом в домашней обстановке. Александр Дюма, Генри Райдер Хаггард, Джером Клапка Джером, Артур Конан Дойл – голоса всех перечисленных я сначала услышала по-русски. Но при чем тут это? А вот при чем: Холмс догадался бы об этом без подсказки. Он сделал бы простое умозаключение на основании имеющихся фактов, вдохновленный малой толикой воображения, о котором мы говорили в предыдущей главе. И понял бы, что я никак не могла впервые познакомиться с его методами на каком-либо языке, кроме русского. Не верите? 99 Уверяю вас, здесь есть все, чтобы сделать эти выводы. К концу этой главы вы тоже сможете по примеру Холмса сопоставить имеющиеся факты и дать единственно возможное объяснение, подходящее для них всех. Как часто повторяют сыщики, когда все пути испробованы – то, что осталось, пусть даже самое невероятное, наверняка окажется истиной. И мы переходим к самому эффектному этапу – к дедукции. К торжественному финалу. Фейерверку после завершения трудного рабочего дня. К моменту, когда мыслительный процесс можно наконец закончить и прийти к выводу, принять решение, сделать именно то, что и входило в ваши намерения. Вся информация собрана и проанализирована. Остается лишь посмотреть, что она означает и что это значение подразумевает для нас, довести умозаключения до их логического завершения. Именно в такой момент рассказа «Горбун» (The Crooked Man) Шерлок Холмс произносит свою бессмертную реплику – «elementary», то есть «элементарно» или «совсем просто». «Я ведь знаю ваши привычки, мой дорогой Ватсон, – сказал он. – Когда у вас мало визитов, вы ходите пешком, а когда много – берете кэб. А так как я вижу, что ваши ботинки не грязные, а лишь немного запылились, то я, ни минуты не колеблясь, делаю вывод, что в настоящее время у вас работы по горло и вы ездите в кэбе. – Превосходно! – воскликнул я. – И совсем просто, – добавил он. – Это тот самый случай, когда можно легко поразить воображение собеседника, упускающего из виду какое-нибудь небольшое обстоятельство, на котором, однако, зиждется весь ход рассуждений». Что же такое дедукция? Дедукция – это завершающая операция на «мозговом чердаке», момент, когда вы собрали вместе все элементы, предшествующие единственному связному целому, придающему смысл всей картине, и «чердак» упорядоченным образом выдает то, что так методично на нем собиралось. То, что подразумевают под умозаключением Холмс и формальная логика, – не одно и то же. С точки зрения чистой логики умозаключение – вывод для конкретного примера, сделанный на основании общего принципа. Вот, пожалуй, самый известный пример: Все люди смертны. Сократ – человек. Сократ смертен. Но для Холмса это лишь один из возможных путей к заключению. Его дедукция включает в себя многочисленные способы рассуждений – до тех пор пока не удается проделать путь от факта до утверждения, которое обязательно должно быть верным, и до исключения альтернативных вариантов[17]17 Строго говоря, дедукцию Холмса с точки зрения логики следовало бы именовать индукцией. Во всех случаях упоминаний дедукции или дедуктивного метода подразумевается дедукция в «холмсовском» смысле, а не в смысле формальной логики. – Прим. авт. [Закрыть]. О чем бы ни шла речь – о раскрытии преступления, принятии решения, личном обретении решимости, – в целом процесс одинаков. Берешь все свои наблюдения, то самое содержимое «чердака», которое решил сохранить и вписать в уже имеющуюся «чердачную» структуру и 100 при этом обдумал и преобразовал в воображении, расставляешь их по порядку, начиная с самого начала и ничего не упуская, и видишь, которое из них относится ко всей собранной информации и дает ответ на поставленный вопрос. Или, пользуясь терминологией Холмса, выстраиваешь цепочку рассуждений и проверяешь варианты до тех пор, пока все самые невероятные не будут отсеяны и не останется истинный: «Размышляя над всей этой историей, я исходил из предпосылки, что истиной, какой бы невероятной она ни казалась, является то, что останется, если отбросить все невозможное. Не исключено, что это оставшееся допускает несколько объяснений. В таком случае необходимо проанализировать каждый вариант, пока не останется один, достаточно убедительный». По сути дела, это и есть дедукция, или, пользуясь выражением Холмса, систематизированный здравый смысл. Но не все так просто. Всякий раз, пытаясь подражать Холмсу, Ватсон обнаруживает, что допустил ошибку. И в этом нет ничего удивительного. Даже если на протяжении всех рассуждений мы действовали верно, нам придется перепроверять себя еще раз, чтобы в последнюю минуту ватсоновская система не сбила нас с пути. Почему же дедуктивный метод гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд? Почему Ватсон так часто оступается, пытаясь идти по стопам своего товарища? Что стоит на пути к окончательному заключению? Почему нам зачастую так трудно мыслить четко и ясно, даже когда у нас есть все для этого необходимое? Как можно обойти эти трудности, чтобы, в отличие от Ватсона, раз за разом совершающего одни и те же ошибки, мы могли бы воспользоваться системой Холмса, выбраться из трясины и научиться делать правильные выводы? Трудности правильной дедукции: наш внутренний рассказчик за рулем Трое отпетых бандитов положили глаз на Эбби-Грэйндж – поместье сэра Юстеса Брэкенстолла, одного из богатейших жителей Кента. Однажды ночью, думая, что все в доме спят, злоумышленники проникли в дом через окно столовой, намереваясь ограбить богатое поместье так же, как две недели назад ограбили соседнее. Но их планы были сорваны: в комнату вошла леди Брэкенстолл. Ее оглушили ударом по голове и привязали к одному из стульев в столовой. Ограбление прошло бы по плану, если бы странный шум не привлек внимание сэра Брэкенстолла. Ему повезло меньше, чем его жене: хозяина дома ударили по голове кочергой, и он замертво рухнул на пол. Грабители поспешно забрали из буфета столовое серебро, но были настолько взбудоражены убийством, что вскоре сбежали. Однако прежде они распили бутылку вина, чтобы успокоить нервы. По крайней мере, так обстояло дело, по словам единственной оставшейся в живых свидетельницы, леди Брэкенстолл. Но в рассказе «Убийство в Эбби-Грэйндж» лишь немногое действительно оказывается таким, как выглядело. Повествование кажется вполне правдоподобным. Показания леди подтверждает ее горничная Тереза, все улики указывают на то, что события развивались именно так, как описывают женщины. И все-таки что-то настораживает Шерлока Холмса. «Мой опыт, моя интуиция восстают против этого, – говорит он Ватсону. – Все неправильно, готов поклясться, что все неправильно»вЂЉ[18]18 Здесь и далее цитаты из «Убийства в Эбби-Грэйндж» приведены в переводе Л. Борового. – Прим. пер. [Закрыть]. Холмс начинает перечислять возможные слабые места версии, и детали, которые по отдельности выглядели правдоподобно, теперь, рассматриваемые вместе, бросают тень сомнения на вероятность именно такого развития событий. А уж когда речь заходит о 101 бокалах для вина, Холмс убеждается, что он прав. «Но хуже всего эти бокалы», – говорит он товарищу. «– Что вам дались эти бокалы? – Вы можете представить их себе? – Могу. – Леди Брэкенстолл говорит, что из них пили трое. Не вызывает это у вас сомнения? – Нет. Ведь вино осталось в каждом бокале. – Но почему-то в одном есть осадок, а в других нет… Вы, наверное, это заметили? Как вы можете объяснить это? – Бокал, в котором осадок, был, наверное, налит последним? – Ничего подобного. Бутылка была полная, осадок в ней на дне, так что в третьем бокале вино должно быть точно такое, как и в первых двух. Возможны только два объяснения. Первое: после того как наполнили второй бокал, бутылку сильно взболтали, так что весь отстой оказался в третьем бокале. Но это маловероятно. Да, да, я уверен, что я прав. – Как же вы объясняете этот осадок? – Я думаю, что пили только из двух бокалов, а в третий слили подонки, поэтому в одном бокале есть осадок, а в двух других нет. Да, именно так и было. Но тогда ночью в столовой было два человека, а не три». Что известно Ватсону о свойствах вина? Рискну предположить, что немного, но, когда Холмс задает ему вопрос об осадке, у Ватсона уже готов ответ: должно быть, бокал с осадком наполнили последним. Объяснение выглядит достаточно разумно, однако взято с потолка. Ручаюсь, Ватсон даже не задумался бы об этой детали, если бы Холмс не указал на нее. Но, отвечая на вопрос, Ватсон охотно предложил разумное объяснение. Ватсон даже не понял, что произошло, и, не останови его Холмс, доктор отложил бы в памяти этот момент как еще одно подтверждение подлинности изначальных показаний, а не как возможную дыру в канве рассказа. Если бы не Холмс, подход Ватсона к изложению сюжета был бы естественным и интуитивным. Если бы не настойчивость Холмса, нам было бы невероятно трудно сопротивляться нашему стремлению создавать повествования, рассказывать истории, даже если они верны лишь отчасти или совсем не верны. Нам нравится простота. Нравятся конкретные соображения. Нравятся причины и мотивы. Мы отдаем предпочтение интуитивно понятным вещам (даже если интуиция нас подводит). С другой стороны, нам неприятен любой фактор, который стоит на нашем пути к простоте и причинно-обусловленной конкретности. Неопределенность, случайность, произвольность, нелинейность – все это угрозы для нашей способности давать объяснения, причем давать их быстро и якобы логично. В итоге мы делаем все возможное, чтобы избавляться от этих угроз при каждом удобном случае. Точно так же, как, увидев бокалы с неодинаково прозрачным вином, мы решаем, что в последний наполненный бокал попал весь осадок; мы, понаблюдав, как спортсмен несколько раз подряд попал мячом в корзину, делаем вывод, будто игрок обязательно попадет туда еще раз («ошибка горячей руки»). И в том и в другом случае мы пользуемся слишком малым количеством наблюдений. Когда речь идет о бокалах, мы имеем в виду лишь одну бутылку, но не знаем характеристик других подобных бутылок при различных обстоятельствах. В случае с баскетболом мы исходим лишь из результатов за 102 краткий период (закон малых чисел), а не из неравномерности, присущей игре любого спортсмена, – неравномерности, которая может проявиться на более длительном временном отрезке. Или приведем обратный пример: нам кажется, что при подбрасывании монеты с большей вероятностью выпадет орел, если до этого несколько раз выпадала решка («ошибка игрока»), но мы забываем, что в коротких последовательностях не обязательно проявляется распределение пятьдесят на пятьдесят, характерное для длинных последовательностей. Когда мы объясняем, почему произошло какое-либо событие, или делаем выводы касательно вероятной его причины, интуиция зачастую подводит нас, так как мы хотим, чтобы события были более контролируемыми, предсказуемыми и причинно-обусловленными, чем на самом деле. Из этих предпочтений вытекают ошибки суждений, которые мы допускаем, когда не удосуживаемся задуматься. Мы склонны делать выводы так, как не следовало бы, опережая факты, как высказался бы Холмс, и зачастую невзирая на них. Как только сочетание деталей «имеет смысл», невероятно трудно посмотреть на них же под другим углом. У. Дж. был ветераном Второй мировой войны, компанейским, обаятельным и остроумным человеком. Но эпилепсия, одной из форм которой он страдал, настолько изнуряла его, что в 1960 г. он отважился на радикальную операцию на мозге. Ему предстояло иссечение мозолистого тела – ткани между левым и правым полушариями мозга, позволяющей сообщаться этим двум полушариям. Ранее было доказано, что подобное оперативное вмешательство заметно снижает частоту эпилептических припадков. Утратившие трудоспособность больные сразу же обретали возможность жить, не страдая от припадков. Но чем им приходилось расплачиваться за существенное изменение естественной связи между полушариями мозга? К тому времени, как У. Дж. решился на операцию, ответа на этот вопрос не знал никто. Однако Роджер Сперри, нейробиолог из Калифорнийского технологического института, в дальнейшем удостоенный Нобелевской премии в области медицины за исследования связи между полушариями, подозревал, что даром эти операции не проходят. По крайней мере, у животных иссечение мозолистого тела вело к прекращению сообщения между полушариями мозга. Происходящее в одном полушарии становилось полной загадкой для другого. Могла ли подобная изоляция проявиться и у людей? Расхожее мнение ответило бы решительным «нет». Мозг человека – это не мозг животного. Он гораздо сложнее, устроен гораздо хитроумнее, более развит. Лучшим доказательством служили пациенты, перенесшие операцию. В отличие от больных, прошедших лоботомию, у этих людей сохранялись прежние показатели IQ, как и способность мыслить и рассуждать. Память от операции тоже явно не страдала. И речь оставалась нормальной. Эта оценка выглядела и очевидной, и достоверной. Однако была глубоко ошибочной. Просто никто пока не нашел научный способ проверить ее: она представляла собой чисто ватсоновский сюжет, в нем все вроде бы сходилось, имело смысл, но опиралось на то же самое отсутствие подтвержденного фактического фундамента. Правда, лишь до тех пор, пока на сцене не появился Холмс от науки – Майкл Газзанига, молодой нейробиолог из лаборатории Сперри. Газзанига нашел способ проверить теорию Сперри (о том, что с иссечением мозолистого тела полушария головного мозга теряют способность сообщаться между собой) с помощью тахистоскопа – устройства, на протяжении определенных периодов времени демонстрирующего зрительные раздражители и, что особенно важно, способное показывать их по отдельности левой и правой сторонам каждого глаза. (При такой боковой демонстрации любая информация поступает только в одно из двух полушарий.) 103 Когда Газзанига протестировал У. Дж. после операции, то получил поразительные результаты. Человек, который всего несколько недель назад прошел те же тесты без труда, теперь не смог описать ни единого предмета, показанного ему в левом поле зрения. Когда же Газзанига переводил изображение ложки в правое поле, У. Дж. сразу говорил, что видит, но стоило тому же изображению переместиться влево, как пациент в буквальном смысле слова становился слепым. Его глаза функционировали полностью, однако пациент не мог ни объяснить словами, ни вспомнить то, что видел. Что же произошло? У. Дж. стал для Газзанига первым пациентом из длинного списка подтверждающих одно и то же: две половины нашего мозга созданы отнюдь не одинаковыми. Одна половина отвечает за обработку зрительной информации (это у нее есть окошко во внешний мир, если вы еще не забыли изображение на обложке книги Шела Силверстайна), а другая половина – за вербализацию известного ей (это она сообщается лестницей с прочими помещениями дома). Когда две эти половины разделены, между ними уже нет мостика. Информация, доступная одной половине, для другой словно не существует. В сущности, мы имеем два отдельных «мозговых чердака» – уникальных хранилища со своим содержимым и в некоторой степени своей структурой. Именно здесь и возникает каверзный момент. Если показать изображение, допустим, куриной лапки, одной только левой стороне глаза (это означает, что изображение обработает только правое полушарие мозга – визуальное, с «окошком») и картинку с занесенной снегом дорожкой к дому только правой стороне глаза (это означает, что ее обработает только левое полушарие, с соединительной «лестницей»), а затем попросить участника эксперимента найти изображение, наиболее тесно связанное с увиденным, действия двух его рук окажутся несогласованными: правая рука (связанная с левой точкой ввода) укажет на лопату, а левая (связанная с правой точкой ввода) – на курицу. Спросите этого человека, почему он выбрал именно эти два предмета, и, вместо того чтобы смутиться, он сразу же даст вполне правдоподобное объяснение: для того чтобы расчистить дорожку к курятнику, нужна лопата. В голове у него уже сложился целый сюжет, повествование, которое убедительно придаст смысл замеченному расхождению, в то время как в реальности есть одни только безмолвные изображения. Газзанига называет левое полушарие нашим «толкователем», нацеленным на поиск причин и объяснений даже в тех случаях, когда их быть не может или, по крайней мере, их нет в готовом виде у нас в голове, причем этим причинам и объяснениям придается естественный и интуитивно понятный вид. Но, несмотря на всю внешнюю логичность объяснений «толкователя», чаще всего он явно ошибается: перед нами все тот же случай Ватсона с бокалами, взятый в предельном варианте. Пациенты с разделенными полушариями головного мозга – самый наглядный научный пример присущего нам искусства нарративного самообмана, создания объяснений, которые вроде бы правдоподобны, но на самом деле далеки от истины. Однако для этого даже не обязательно иссекать мозолистое тело. С нами подобное происходит постоянно. Помните творческий эксперимент, в котором участникам требовалось связать две бечевки, но для этого превратить одну из них в маятник и привести в движение? Когда участников эксперимента спрашивали, откуда к ним пришло озарение, они давали многочисленные объяснения. «Ничего другого не оставалось». «Я просто сообразил, что бечевка раскачается, если привязать к ней груз». «Мне вспомнилось, как можно, раскачавшись, перебраться через реку». «Мне представились обезьяны, раскачивающиеся на ветках». Звучит довольно убедительно. Но некорректно. Ни один участник не упомянул о подсказке экспериментатора. И даже когда в дальнейшем участникам напомнили о ней, более двух третей продолжали настаивать, что не заметили подсказки или что она никак не повлияла на их собственное решение, хотя они пришли к этому решению в среднем в течение 45 секунд 104 после подсказки. Более того, даже та треть участников, которые признали, что на них могла повлиять подсказка, оказались склонными к ошибочным объяснениям. Заметив обманную подсказку (раскручивание груза на шнуре), не оказывающую никакого влияния на решение, эти участники ссылались на нее, утверждая, что именно она помогла им, подтолкнула к правильному действию. Наш разум постоянно составляет связные повествования из разрозненных элементов. Нам становится неуютно, когда что-либо не имеет причины, поэтому наш мозг находит ее тем или иным способом, не спрашивая у нас на это разрешения. В случае сомнений наш мозг выбирает самый легкий путь и поступает так на каждой стадии процесса рассуждения – от формирования умозаключений до обобщений. Случай У. Дж. – всего лишь более наглядный пример того же, что проявляет Ватсон в случае с бокалами. В обоих примерах фигурирует спонтанное построение истории, затем твердая убежденность в ее достоверности, даже когда последняя не обусловлена ничем, кроме кажущейся связности. В этом и заключается дедуктивная проблема номер один. Несмотря на наличие всех материалов, которые можно принимать во внимание, наша возможность игнорировать некоторые из них, как сознательно, так и неосознанно, совершенно реальна. Память несовершенна и чрезвычайно подвержена изменениям и влиянию. Даже сами наши наблюдения, пусть и довольно точные поначалу, могут в конце концов повлиять на способ их извлечения, а значит, и на дедуктивные умозаключения, больше, чем мы думаем. Нам следует соблюдать осмотрительность, когда наше внимание захвачено некой необычностью объекта или события (салиентностью), его слишком недавним проявлением (эффектом новизны) либо чем-то внешним (праймингом или фреймингом), чтобы в результате не придать слишком большого веса собственным рассуждениям и не упустить из виду некоторых деталей, необходимых для надлежащей дедукции. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы отвечать на тот же вопрос, которым мы задались сперва, сформированный нашими изначальными целями и мотивацией, а не на тот, что кажется более уместным и интуитивно ясным теперь, когда мы приблизились к завершению мыслительного процесса. Почему Лестрейд и прочие так часто упорствуют, настаивая на справедливости арестов, даже когда все улики указывают, что арестован невиновный? Почему продолжают придерживаться первоначальной версии, словно не замечая, как она трещит и разваливается по всем швам? По очень простой причине. Нам не нравится признавать, что наше изначальное предположение было ошибочным, – гораздо проще отмахнуться от фактов, противоречащих ему. Возможно, именно поэтому несправедливые аресты настолько распространены даже за пределами мира, созданного Конан Дойлем. Точная классификация этих ошибок и названия, которые мы даем им, не так важны, как общий принцип: зачастую мы не проявляем вдумчивости в процессе дедукции, вдобавок соблазн блеснуть и разом перейти к финальному выводу тем сильнее, чем ближе мы к финишной черте. Наши правдоподобные истории невероятно убедительны, их трудно игнорировать и пересматривать. Они стоят на пути предписанного Холмсом систематизированного здравого смысла, стремления пересмотреть одну за другой все альтернативы, отсеивать важное от случайного, маловероятное от невозможного, пока у нас не останется единственный ответ. Как простую иллюстрацию к предыдущим объяснениям рассмотрим следующие вопросы. Напишите первый ответ, который придет вам в голову. Готовы? 1. Бита и мяч вместе стоят 1 доллар 10 центов. Бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч? 105 2. 5 станкам требуется 5 минут, чтобы изготовить 5 устройств. Сколько времени понадобится 100 станкам, чтобы изготовить 100 устройств? 3. Один участок озера зарос кувшинками и полностью покрыт их листьями. С каждым днем площадь этого участка увеличивается вдвое. Если кувшинкам понадобится 48 дней, чтобы покрыть всю поверхность озера, сколько времени им нужно, чтобы их листья закрыли половину поверхности озера? Вы только что выполнили когнитивный рефлексивный тест Шейна Фредерика (CRT). Если вы похожи на большинство людей, есть вероятность, что вы дали неверный ответ по меньшей мере в одном из трех случаев: $0,10 на первый вопрос, 100 минут – на второй вопрос, 24 дня – на третий вопрос. Во всех этих случаях вы ошиблись. Но не вы один. Когда те же вопросы задавали студентам Гарварда, в среднем им удавалось набрать 1,43 правильных ответа (57 % студентов давали либо только один правильный ответ, либо ни одного). Результаты в Принстоне оказались похожими: 1,63 правильных ответа и 45 % набравших один правильный ответ или ни одного. Даже в Массачусетском технологическом институте результаты были далеки от идеала: в среднем – 2,18 правильных ответов, 23 % студентов, то есть почти четверть, не дали ни одного правильного ответа или всего один. Эти «элементарные» задачки на самом деле не так просты, как может показаться на первый взгляд. Правильные ответы – 5 центов, 5 минут и 47 дней соответственно. Если вы задумаетесь на минуту, то наверняка поймете почему и скажете себе: «Ну конечно! Как же это я не заметил?» По простой причине. В выигрыше вновь оказалась старая добрая система Ватсона. Первоначальные ответы привлекательны с точки зрения интуиции, они быстро и естественно приходят в голову, когда мы не даем себе труда задуматься. Мы позволяем салиентности некоторых элементов (а она придана им умышленно) отвлекать нас от надлежащего точного рассмотрения каждого элемента. Мы применяем стратегию бездумного дословного повтора, повторяем один из элементов предыдущего ответа и не задумываемся над тем, какая стратегия будет наилучшей для решения нынешней задачи – вместо вдумчивого подхода (по сути требующего заменить интуитивно понятный вопрос более трудным и отнимающим больше времени, притом что оба вопроса выглядят взаимосвязанными). Чтобы дать вдумчивый ответ, требуется подавить поспешную реакцию своей ватсоновской системы и позволить Холмсу взяться за дело: поразмыслить, придержать первый порыв интуиции, затем подредактировать ее, а мы обычно не рвемся делать что-либо подобное, особенно когда устали думать. Нелегко сохранить мотивацию и вдумчивость на протяжении всей дистанции от старта до финиша, гораздо проще начать экономить когнитивные ресурсы, пустив к рулю Ватсона. Когнитивный рефлексивный тест может показаться слишком далеким от задач, с которыми мы сталкиваемся в реальности, однако он с поразительной точностью предсказывает наши результаты в ряде ситуаций, когда в игру вступают логика и дедукция. В сущности, этот тест зачастую оказывается более красноречивым, чем другие методы оценки когнитивных способностей, характера мышления и исполнительных функций. Хорошие результаты по трем кратким задачам теста прогнозируют устойчивость к ряду распространенных логических ошибок, и все это, вместе взятое, считается признаком способности твердо следовать базовым структурам рационального мышления. Когнитивный рефлексивный тест даже предсказывает нашу способность путем рассуждений решать задачи на формальные выводы того типа, которые мы видели ранее (задача про Сократа): чем хуже пройден тест, тем больше вероятность подобного рода рассуждений: если всем животным нужна вода и розам тоже нужна вода, значит, розы – животные. Поспешные выводы, избирательность вместо логичности в изложении историй, несмотря на наличие и систематизацию всех свидетельств, довольно распространенное явление (хотя его 106 можно избежать, в чем вы вскоре убедитесь). Подробные рассуждения вплоть до последнего момента, умение не заскучать от обилия прозаических деталей и не исчерпать запасы терпения ближе к концу процесса – все это большая редкость. Нам необходимо учиться находить удовольствие даже в самых примитивных проявлениях интеллектуальных способностей. И следить, чтобы дедукция не казалась скучной или слишком примитивной после всех затраченных усилий. Это непросто. В первых строках рассказа «Медные буки» Холмс напоминает нам: «Человек, который любит искусство ради искусства, самое большое удовольствие зачастую черпает из наименее значительных и ярких его проявлений… Если я прошу отдать должное моему искусству, то это не имеет никакого отношения ко мне лично, оно – вне меня. Преступление – вещь повседневная. Логика – редкая». Почему? Потому что логика скучна. Нам кажется, что мы уже во всем разобрались. Главное испытание в том, чтобы отбросить это предвзятое мнение. Умение отличать важное от несущественного Что же делать, чтобы дедукция двигалась по правильно выбранному пути, а не отклонялась от него с первого же шага? В рассказе «Горбун» Шерлок Холмс излагает Ватсону подробности нового дела – о смерти полковника Джеймса Барклея. На первый взгляд, дело действительно странное. Свидетели слышали, как Барклей ссорился в гостиной со своей женой Нэнси. Обычно супруги прекрасно ладили друг с другом, поэтому ссора сама по себе стала событием. Но горничная удивилась еще больше, обнаружив, что дверь гостиной заперта, а находящиеся внутри хозяева не отвечают на стук. Вдобавок она услышала повторенное несколько раз имя «Давид». И наконец, самое удивительное: когда кучер наконец проник в гостиную через вторую дверь, выходящую в сад, ключа так и не нашли. Хозяйка без чувств лежала на софе, хозяин был мертв, его затылок обезобразила рваная рана, лицо исказила гримаса ужаса. И ни у кого не оказалось ключа от запертой двери. Как разобраться в этих многочисленных подробностях? «Узнав все это, Ватсон, – сообщает Холмс доктору, – я выкурил несколько трубок подряд, пытаясь понять, что же главное в этом нагромождении фактов». Фраза описывает первый шаг к успешной дедукции: отделение фактов, которые имеют решающее значение для вывода, от несущественных, с тем чтобы на решение повлияли лишь действительно важные элементы. Рассмотрим следующее описание двух людей, Боба и Линды. За каждым описанием следует список профессий и увлечений. Ваша задача – выстроить пункты списка по той степени, в которой Билл или Линда напоминают типичных представителей своего класса. Биллу 34 года. Он интеллектуал, но лишен воображения, склонен к навязчивому поведению и в целом апатичен. В школе он хорошо успевал по математике и еле-еле – по общественным и гуманитарным предметам. Билл врач, его хобби – покер. Билл – архитектор. Билл – бухгалтер. Билл в свободное время играет джаз. Билл журналист. Билл – бухгалтер, его хобби – играть джаз. Хобби Билла – альпинизм. 107 Линде 31 год, она не замужем. Линда – искренний человек, наделенный яркими способностями. В колледже специализировалась по философии. В студенческие годы принимала близко к сердцу проблемы дискриминации и социальной несправедливости, участвовала в демонстрациях против ядерного оружия. Линда – учительница в начальной школе. Линда работает в книжном магазине и посещает занятия йогой. Линда – активистка феминистского движения. Линда – социальный работник в сфере психиатрии. Линда – член Лиги женщин-избирательниц. Линда – кассир в банке. Линда продает страховые полисы. Линда – кассир в банке и активная участница феминистского движения. Справившись с заданием, присмотритесь к двум парам утверждений: «Билл в свободное время играет джаз» и «Билл – бухгалтер, его хобби – играть джаз», а также «Линда – кассир в банке» и «Линда – кассир в банке и активная участница феминистского движения». Какое из двух утверждений в каждой паре вы сочли более вероятным? Я готова поручиться, что в обоих случаях это было второе утверждение. Если да, вы поступили так же, как большинство участников эксперимента, и при этом сделали большую ошибку. Это упражнение целиком взято из статьи, опубликованной в 1983 г. Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом, чтобы проиллюстрировать момент, который мы сейчас рассматриваем: когда речь заходит об отделении важных деталей от несущественных, зачастую мы справляемся с поставленной задачей плоховато. Участники экспериментов, получив эти списки, неоднократно выносили одно и то же суждение – то же самое, какое, по моим прогнозам, сделали и вы: то, что Билл бухгалтер, а исполнение джазовых композиций – его хобби, более вероятно, чем то, что он просто играет джаз в свободное время. То же самое относится к Линде: вероятность того, что она феминистка и работает кассиром в банке, выше, чем то, что она просто работает кассиром в банке. С позиций логики ни то, ни другое не имеет смысла: комбинация не может быть более вероятной, чем какой-либо из ее компонентов. Если с самого начала вы не считали вероятным то, что Билл играет джаз или что Линда – кассир в банке, вам не следовало менять свое мнение только потому, что вы сочли вероятной работу Билла бухгалтером и феминистскую активность Линды. Маловероятный элемент или событие в сочетании с вероятным никак не может чудесным образом стать более вероятным. Однако 87 и 85 % участников эксперимента (со списком для Билла и списком для Линды соответственно) вынесли именно такое суждение, допустив так называемую ложную конъюнкцию. Участники эксперимента допускали такую ошибку даже в условиях ограниченного выбора: когда им предлагалось два подходящих варианта («Линда – кассир в банке» и «Линда – феминистка и кассир в банке»), 85 % по-прежнему отмечали, что комбинация более вероятна, чем один из ее компонентов. Даже когда им объясняли логику этих утверждений, они в 65 % случаев предпочитали логику некорректного уподобления («Линда больше похожа на феминистку, поэтому я скажу, что выше вероятность того, что она феминистка и 108 кассир в банке») корректной экстенсиональной логике (банковские кассиры-феминистки – только один из подвидов банковских кассиров, поэтому Линда должна быть кассиром с большей вероятностью, нежели феминисткой). Даже когда всем нам представлен один и тот же набор фактов и характеристик, это еще не значит, что все мы сделаем из них одинаковые выводы. Наш мозг не создан для того, чтобы делать оценки в таком свете, и в действительности эти наши промахи имеют немалый смысл. Когда речь заходит о шансах и вероятностях, мы склонны рассуждать наивно (и поскольку шанс и вероятность играют важную роль во многих наших умозаключениях, неудивительно, что мы часто сбиваемся с пути). Подобное явление называется вероятностной непоследовательностью, оно проистекает из той же самой склонности к прагматичному, «складному» сюжету, которой мы поддаемся так естественно и с такой готовностью: эта склонность может иметь более глубокое, нейробиологическое объяснение. И отчасти связано с У. Дж. и разделенными полушария мозга. Попросту говоря, если вероятностные рассуждения локализованы, по-видимому, в левом полушарии, то процесс дедукции активизирует главным образом правое полушарие. Иными словами, нейронный очаг оценки логических импликаций и место поиска их эмпирического правдоподобия находятся, возможно, в противоположных полушариях: такая когнитивная архитектура не способствует согласованию логических утверждений и оценки шанса и вероятности. В итоге нам не всегда удается объединить различные требования, мы часто терпим фиаско при попытках сделать это правильно и тем не менее остаемся в полной уверенности, что у нас все получилось как надо. К описанию Линды так подходит феминизм (а к описанию Билла – его работа бухгалтером), что нам трудно отмахнуться от этого соответствия и не признать его установленным фактом. В этом случае решающую роль играет наше представление о частоте, с которой что-либо происходит в реальной жизни, а также понятие элементарной логики, согласно которому целое просто не может быть более вероятным, чем сумма составляющих его частей. Тем не менее мы позволяем несущественным деталям описания влиять на наши рассуждения настолько, что упускаем из виду решающие вероятности. Нам стоило бы поступить гораздо более прозаичным образом. Следовало бы оценить истинную вероятность каждого отдельного случая. В третьей главе упоминалось понятие базовой частоты встречаемости тех или иных свойств среди населения, и я пообещала вернуться к ней, когда мы будем рассматривать дедукцию. Не зная или не учитывая эту базовую частоту, мы допускаем ошибки дедукции – такие, как ложная конъюнкция. Они препятствуют наблюдениям и окончательно сбивают нас с толку при умозаключениях, при переходе от наблюдений к выводам. В итоге наша избирательность – в том числе избирательное пренебрежение информацией – вынуждают нас терять нить рассуждений. Для того чтобы корректно определить вероятность принадлежности Билла и Линды к любой из перечисленных профессий, нам необходимо знать, насколько распространены бухгалтеры, банковские кассиры, непрофессиональные исполнители джаза, активные феминистки и т. п. среди населения в целом. Нельзя рассматривать наших персонажей вне контекста. Мы не можем допустить, чтобы одно возможное совпадение сбросило со счетов всю прочую информацию, которой мы, возможно, располагаем. Как же избежать ловушки, как правильно классифицировать детали, чтобы не оказаться погребенным под кучей несущественного? Вероятно, вершины дедуктивного мастерства Холмс достиг в деле менее традиционном, чем многие его лондонские расследования. Жеребец Серебряный, который завоевал немало 109 призов и дал название рассказу, пропал за несколько дней до скачек на кубок Уэссекса, на победителя которых многие поставили целое состояние. Тем же утром тренер жеребца был найден мертвым неподалеку от конюшни – с черепом, размозженным каким-то большим тупым предметом. Конюха, охранявшего жеребца, чем-то опоили, поэтому о ночных событиях он почти ничего не помнил. Сенсационное происшествие: Серебряный – один из самых знаменитых коней во всей Англии. Расследовать это дело Скотленд-Ярд поручает инспектору Грегсону. Однако Грегсон в замешательстве. Он берет под стражу наиболее вероятного подозреваемого – джентльмена, которого вечером, когда исчез жеребец, видели вблизи конюшни, – но признает, что все улики настолько косвенны, что в любой момент общая картина может измениться. Проходит три дня, коня так и не удается найти, и Шерлок Холмс с доктором Ватсоном отправляются в Дартмур. Будет ли Серебряный участвовать в скачках? Будет ли убийца его тренера предан в руки правосудия? Проходит еще четыре дня. Наступает день скачек. Холмс уверяет обеспокоенного владельца Серебряного, полковника Росса, что его питомец будет скакать. Опасаться незачем. И конь действительно бежит. Он не только участвует в скачках, но и выигрывает их. А вскоре после этого находят и того, кто убил тренера. Мы еще несколько раз вернемся к рассказу «Серебряный», чтобы обратиться к содержащимся в нем сведениям о методе дедукции, но сначала посмотрим, каким образом Холмс представляет это дело Ватсону. «Это один из случаев, – говорит Холмс, – когда искусство логически мыслить должно быть использовано для тщательного анализа и отбора уже известных фактов, а не для поисков новых. Трагедия, с которой мы столкнулись, так загадочна и необычна и связана с судьбами стольких людей, что полиция буквально погибает от обилия версий, догадок и предположений». Другими словами, информации с самого начала слишком много, подробностей столько, что им никак не удается придать вид хоть сколько-нибудь связного целого или отделить важные от несущественных. При таком нагромождении фактов сложность задачи резко возрастает. Помимо множества собственных наблюдений и данных у нас имеется еще более великое множество потенциально неверных сведений от людей, которые, возможно, вели наблюдения не так вдумчиво, как мы. Холмс формулирует проблему так: «Трудность в том, чтобы выделить из массы измышлений и домыслов досужих толкователей и репортеров несомненные, непреложные факты. Установив исходные факты, мы начнем строить, основываясь на них, нашу теорию и попытаемся определить, какие моменты в данном деле можно считать узловыми». Другими словами, запутавшись в подробностях биографий Билла и Линды, мы должны поставить перед собой задачу мысленно отделить реальные факты от подробностей, вымышленных и приукрашенных нашим воображением. Раскладывая по полочкам несущественное и важное, надо проявлять ту же осторожность, как и при наблюдениях, чтобы с максимальной точностью зафиксировать все впечатления. Если забыть об осмотрительности, то особенности нашего склада ума, предубежденность или последующие повороты событий способны повлиять даже на то, что, как нам казалось, мы наблюдали своими глазами. В классическом исследовании свидетельских показаний очевидцев, проведенном Элизабет Лофтус, участникам показывали фильм, в котором фигурировала автомобильная авария. Затем Лофтус просила каждого участника определить, с какой скоростью двигались машины в момент аварии, – это классический вывод на основании имеющихся данных. Каверза заключалась в том, что всякий раз, задавая этот вопрос, Лофтус меняла формулировку. В ее 110 описании аварии появлялись другие глаголы: машины сталкивались, врезались, влетали, ударялись, стукались. Лофтус обнаружила, что выбор ею выражений оказывает заметное влияние на память участников эксперимента. Те, кто видел, как машины «врезались», оценивали скорость как более высокую, чем те, кто видел, как машины «стукались», и, кроме того, по прошествии недели первые даже припоминали, как видели в фильме битое стекло, хотя на самом деле в нем ничего не разбивалось. Это так называемый эффект дезинформации. Когда нам предлагают информацию, вводящую в заблуждение, мы чаще всего вспоминаем ее как истинную и принимаем во внимание в процессе дедукции. В эксперименте Лофтус участники не слышали явной лжи – просто их слегка вводили в заблуждение. Если выбор конкретного слова и делает что-то, то лишь действует как простой фрейм, смысловая рамка, влияющая на ход наших рассуждений и даже на нашу память. Отсюда и сложность, и абсолютная необходимость того, что Холмс называет умением отделить то, что несущественно (как и все домыслы окружающих), от реальных, объективных, установленных фактов, причем делать это систематически и с умом. В противном случае можно вспомнить осколки вместо увиденного на самом деле целого ветрового стекла. Вообще говоря, особенно осторожными нам следует быть в случае избытка, а не недостатка информации. Нашей уверенности в правильности собственных умозаключений свойственно расти вместе с количеством подробностей, на которых они основаны, особенно если одна из этих подробностей имеет смысл. Более длинный список почему-то выглядит более вразумительным, даже если мы сочли отдельные пункты этого списка маловероятными с учетом имеющейся информации. Так что когда мы замечаем в составе комбинации элемент, который вроде бы соответствует условиям, мы чаще всего принимаем комбинацию целиком, даже если в этом действии мало смысла. Линда – феминистка, работающая кассиром в банке. Боб – бухгалтер, играющий джаз. Что в некотором смысле извращение. Чем внимательнее мы наблюдаем и чем больше данных собираем, тем больше вероятность, что единственной определяющей детали хватит, чтобы сбить нас с толку. Аналогично, чем больше несущественных подробностей мы видим, тем меньше вероятность, что мы сосредоточимся на существенных, и тем вероятнее, что мы придадим несущественному чрезмерное значение. Когда нам рассказывают какую-нибудь историю, вероятность, что мы сочтем ее убедительной и верной, будет тем больше, чем больше подробностей нам предоставят, даже если они не имеют никакого отношения к истинности истории. Психолог Рума Фальк отмечает: когда рассказчик дополняет конкретными избыточными деталями историю о совпадениях (например, как два человека выиграли в лотерею в одном и том же городке), слушатели с большей вероятностью находят такое совпадение удивительным и убедительным. Когда мы рассуждаем, наш разум в процессе извлечения данных из памяти обычно склонен хватать любую информацию, которая выглядит имеющей отношение к делу, – будь то важные сведения или те, что только кажутся связанными с темой рассуждения, но на самом деле могут не иметь к ней никакого отношения. Причин тут несколько: ощущение привычности – нам кажется, что предмет нам знаком, у нас есть ощущение, что мы уже сталкивались с ним или откуда-то знаем о нем, хотя и не можем сказать точно, откуда именно; распространение активации памяти – активировав один блок памяти, мы запускаем соседние, и со временем вызванные воспоминания постепенно распространяются все дальше от исходной точки; простая случайность или совпадение – просто так вышло, что мы думали о чем-то одном, а заодно и о другом. Если бы, к примеру, Холмс волшебным образом сошел со страниц книги и попросил не Ватсона, а нас перечислить подробности дела, о котором идет речь, мы принялись бы рыться в памяти («о чем это я только что читал? Или это было другое дело?»), извлекать факты из 111 хранилища («ах, да: пропал конь, убит тренер, конюха опоили, возможного подозреваемого задержали. Я ничего не упустил?»), и одновременно у нас будут возникать мысли, не имеющие отношения к делу («кажется, я забыл пообедать – так захватил меня сюжет, совсем как когда я впервые читал «Собаку Баскервилей» и забыл поесть, а потом у меня разболелась голова, пришлось улечься в постель, и…»). Если не сдерживать склонности к чрезмерной активации и попыткам охватить все, активация распространится гораздо шире, чем требуется для конкретной цели, и может замутнить наше видение вместо того, чтобы сфокусировать его на конкретной цели. В деле Серебряного полковник Росс постоянно призывает Холмса делать больше, искать повсюду, думать усерднее, перевернуть каждый камень. Кипучая деятельность, и чем больше, тем лучше, – вот его жизненный принцип. Полковник выходит из себя, когда Холмс вместо этого сосредоточивается на ключевых элементах, которые он уже успел выявить. Однако сам Холмс понимает: чтобы отсеять несущественное, он должен делать что угодно, только не высказывать новые предположения и не собирать потенциально относящиеся (или не относящиеся) к делу факты. По сути дела, нам необходимо то, чему учит когнитивный рефлексивный тест: размышлять, притормаживать, вносить поправки. Включите систему Холмса, отключите стремление бездумно собирать подробности и вместо этого вдумчиво сосредоточьтесь на уже имеющихся деталях. А как быть со всем объемом наблюдений? Надо научиться мысленно классифицировать их, чтобы довести до максимума продуктивность рассуждений. Мы должны знать, когда не следует думать о них и когда к ним обратиться. Должны научиться сосредоточиваться (размышлять, притормаживать, вносить поправки), иначе с таким множеством идей, витающих в голове, мы ни к чему не придем. Вдумчивость и мотивация – обязательное условие успешной дедукции. Но «обязательное» не означает «простое» и тем более «достаточное». В деле Серебряного Холмсу, несмотря на всю сосредоточенность и мотивацию, трудно оказывается проверить все возможные версии. Как он объясняет Ватсону после обнаружения Серебряного, «должен признаться, что все версии, которые я составил на основании газетных сообщений, оказались ошибочными. А ведь можно было даже исходя из них нащупать вехи, если бы не ворох подробностей, которые газеты поспешили обрушить на головы читателей». Отделение важного от несущественного, стержневой момент любой дедукции, дается с трудом даже самым натренированным умам. Вот почему Холмс не спешит действовать на основании своих первоначальных теорий. Прежде всего он делает то, к чему призывает и нас: аккуратно раскладывает факты в ряд и обрабатывает их. Даже в своих ошибках он вдумчив похолмсовски и не позволяет включиться системе Ватсона, как бы та ни рвалась в бой. Как же он этого добивается? Холмс движется в своем темпе, не обращая внимания на тех, кто призывает его поторопиться. Он никому не позволяет оказывать на него влияние. Он делает то, что необходимо сделать. И, кроме того, он применяет еще один простой фокус. Он все объясняет Ватсону – это происходит с завидной регулярностью на всем протяжении холмсовского канона (а мы-то думали, что это всего лишь ловкий писательский прием!). Как Холмс говорит доктору перед тем, как углубиться в непосредственные наблюдения, «лучший способ добраться до сути дела – рассказать все его обстоятельства кому-то другому». Этот принцип мы уже видели в действии – подробное проговаривание вслух, с паузами и размышлениями. Оно принуждает к вдумчивости. Заставляет обдумать логическую ценность каждого предположения, дает возможность сбавить темп мышления, чтобы не попасть впросак, как с феминисткой Линдой. Не дает упустить чего-либо важного только потому, что оно не привлекло внимание сразу или не соответствовало правдоподобной истории, которая уже сложилась у нас в голове (само собой, мы этого не осознали). Наш внутренний Холмс получает возможность слушать и вынуждает нашего Ватсона помалкивать. Мы находим 112 подтверждение тому, что на самом деле поняли, а не решили, что поняли, потому что это решение показалось нам правильным. В сущности, именно в момент изложения фактов Ватсону Холмс замечает то, что помогает ему раскрыть это дело. «Только когда мы подъехали к домику Стрэкера, я осознал важность того обстоятельства, что на ужин в тот вечер была баранина под чесночным соусом». Выбор блюда легко по ошибке принять за несущественную деталь, если не сопоставить ее с остальными и не сообразить, что это блюдо словно специально создано для того, чтобы замаскировать вкус и запах порошка опиума, которым одурманили конюха. Тот, кто не знал, что на ужин будет баранина с чесноком, ни за что не решился бы воспользоваться ядом, вкус которого легко уловить. Следовательно, злоумышленник – человек, знавший, что готовят на ужин. И это осознание приводит Холмса к пресловутому выводу: «Тогда я вспомнил, что собака молчала в ту ночь. Как вы догадываетесь, эти два обстоятельства теснейшим образом связаны». Стоит только начать движение по верному пути, и вероятность, что вы пройдете по нему до конца, значительно возрастет. При этом постарайтесь припомнить все свои наблюдения, все возможные комбинации, сложившиеся у вас в воображении, но избегайте тех, что не имеют отношения к общей картине. Нельзя просто сосредоточиться на деталях, которые сами приходят в голову, или тех, которые выглядят показательными, или же самых ярких и наиболее убедительных с точки зрения интуиции. Копать надо глубже. Вы ни за что бы не подумали по описанию Линды, что она, вероятно, кассир в банке, хотя вполне могли принять ее за феминистку. Но не позволяйте этому последнему суждению влиять на последующие выводы, вместо этого исходите из той же логики, что и прежде, оценивайте каждый элемент обособленно и объективно, как часть единого целого. Кассир в банке? Маловероятно. Да еще и феминистка? Вероятность еще меньше. Подобно Холмсу, нам следует помнить все подробности исчезновения Серебряного – за исключением досужих домыслов и теорий, невольно сформулированных на их основании. Холмс никогда не назвал бы Линду банковским кассиром-феминисткой, не убедившись, что она действительно работает кассиром. Невероятное – не значит «невозможное» В повести «Знак четырех» ограбление и убийство совершены в маленькой комнате, запертой изнутри, на верхнем этаже довольно большого дома. Каким образом преступник мог пробраться внутрь? Холмс перечисляет возможные варианты: «Дверь со вчерашнего вечера не отпиралась, – рассуждает он, обращаясь к Ватсону. – Окно заперто изнутри. Рамы очень прочные. С этой стороны никаких петель. Давайте откроем его. Рядом никакой водосточной трубы. Крыша недосягаема». В таком случае как же попасть внутрь? Ватсон высказывает предположение: «Дверь заперта, окна снаружи недоступны. Может быть, через трубу?» Нет, решительно отвечает Холмс. «Каминное отверстие слишком мало. Я уже проверил эту возможность». «– Но как же тогда? – Вы просто не хотите применить мой метод, – сказал он, качая головой. – Сколько раз я говорил вам, отбросьте все невозможное, то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Нам известно, что он не мог попасть в комнату ни через дверь, ни через окна, ни через дымовой ход. Мы знаем также, что он не мог спрятаться в комнате, поскольку в ней прятаться негде. Как же тогда он проник сюда?» В этот момент Ватсона наконец осеняет: 113 «– Через крышу! – воскликнул я. – Без сомнения. Он мог проникнуть в эту комнату только через крышу», – отвечает Холмс, признавая такой способ проникновения логически наиболее возможным. Что, разумеется, не так. Это крайне маловероятно, такое предположение никогда бы не возникло у большинства людей, точно так же, как Ватсон, несмотря на знакомство с методом Холмса, не сделал бы его без подсказки. Нам не только трудно отделить несущественное от по-настоящему важного: зачастую мы не принимаем во внимание невероятное, ведь наш разум отметает его как невозможное, прежде чем мы успеваем как следует его обдумать. Задача системы Холмса – сбить нас с простого сюжета повествования и вынудить задуматься о том, что даже маловероятное событие вроде проникновения в комнату через крышу может оказаться той самой подсказкой, которая нужна нам, чтобы раскрыть дело. Лукреций назвал глупцом всякого, кто верит, что самая высокая гора в мире и самая высокая гора, какую он однажды видел, – одно и то же. Вероятно, и мы сочли бы глупым того, кто так считает. Тем не менее мы ежедневно поступаем именно так. Вдохновленный античным поэтом писатель и математик Нассим Талеб даже дал этому явлению название «проблема Лукреция». (Заметим, возвращаясь во времена Лукреция: разве это странно – считать, что твой мир ограничен тем, что тебе известно? В каком-то смысле это более явное свидетельство ума, чем ошибки, которые мы допускаем сегодня, имея в своем распоряжении столько знаний.) Говоря попросту, мы позволяем своему личному опыту оценивать границы возможного. Совокупность наших представлений становится своего рода якорем, это отправная точка наших рассуждений и место, с которого начинают развиваться наши мысли. Даже когда мы пытаемся скорректировать свои эгоцентричные взгляды, эта корректировка обычно оказывается поверхностной, а мы упрямо склоняемся к подходу, который направляем сами. Это все то же наше стремление к связной истории, просто в другой ипостаси: мы воображаем себе истории на основе того, что пережили сами, а не того, чего с нами никогда не было. Изучение исторических прецедентов тоже мало что меняет, поскольку по описаниям мы обучаемся совсем не так, как на собственном опыте. Это явление называется разрывом между описанием и опытом. Возможно, Ватсону случалось читать о дерзком проникновении в дом через крышу, но поскольку непосредственного опыта такого проникновения у Ватсона нет, он и не обрабатывает эту информацию, и вряд ли воспользуется ею при решении проблемы. Глупец, по мнению Лукреция? Прочитав о высоких горах, он, возможно, попрежнему не верит в их существование. «Я хочу видеть их своими глазами, – скажет он. – Дурак я, что ли?» В отсутствие прямого прецедента невероятное выглядит невозможным, в итоге высказывание Холмса не достигает цели. Однако способность вообразить невероятное нам насущно необходима… Потому что, даже если мы успешно отделим важное от несущественного, даже если соберем все факты (и следствия из них) и сосредоточимся на тех из них, которые действительно уместны, мы зайдем в тупик, если не разрешим себе задуматься о крыше как возможной точке проникновения в помещение, сколь бы маловероятной ни была такая версия. Если же мы, подобно Ватсону, отмахнемся от нее, недолго думая, или если она у нас вообще не возникнет, то просто не сумеем сделать правильных выводов, даже если они сами вытекают из наших рассуждений. Мы пользуемся наилучшим мерилом будущего – прошлым. Это естественное решение, не подразумевающее, впрочем, точности. В прошлом редко находится место для невероятного. Оно ограничивает наши умозаключения известным, правдоподобным, вероятным. А кто 114 сказал, что улики, собранные вместе и рассмотренные надлежащим образом, никогда не приводят к альтернативным выводам, выходящим за эти рамки? Вернемся к «Серебряному». Да, Шерлок Холмс вновь торжествует – конь найден, как и убийца тренера, – но лишь после задержки, нетипичной для знаменитого сыщика. Он запаздывает с расследованием (на три дня), теряет ценное время на месте преступления. Почему? Просто он делает то же самое, за что укоряет Ватсона: забывает применить принцип «невероятное – не значит невозможное» наряду с поиском наиболее вероятных вариантов. Когда Холмс и Ватсон направляются в Дартмур оказывать помощь в расследовании, Холмс упоминает, что во вторник вечером и владелец пропавшего коня, и инспектор Грегори телеграммами просили его о помощи. Озадаченный Ватсон восклицает: «Во вторник вечером! А сейчас уже четверг. Почему вы не поехали туда вчера?» На что Холмс отвечает: «Я допустил ошибку, милый Ватсон. Боюсь, со мной это случается гораздо чаще, чем думают люди, знающие меня только по вашим запискам. Я просто не мог поверить, что лучшего скакуна Англии можно скрывать так долго, да еще в таком пустынном краю, как Северный Дартмур». Холмс отмахнулся от невероятного как от невозможного, в итоге упустил возможность действовать своевременно. При этом Холмс с Ватсоном поменялись местами, и теперь уже Ватсон, оказавшись в несвойственной ему роли, справедливо упрекает Холмса. Даже самый лучший и проницательный ум обязательно подчиняется уникальному опыту и знаниям о мире, которыми располагает его обладатель. Холмс обычно способен рассмотреть даже самые маловероятные возможности. Однако порой и такой выдающийся ум оказывается в плену предвзятого представления о том, что именно из его арсенала доступно в отдельно взятый момент. Словом, архитектура «мозгового чердака» сдерживает в действиях даже Холмса. Холмс узнает, что конь с узнаваемой внешностью пропал в сельской местности. Весь предыдущий опыт подсказывает Холмсу, что пропавшим конь будет недолго. Ход рассуждений таков: если конь настолько приметен, если это единственное животное в своем роде в целой Англии, как же он может остаться незамеченным в глухой провинции, где почти негде прятаться? Несомненно, кто-нибудь да заметит животное мертвым или живым и сообщит о находке. И это умозаключение, сделанное на основании фактов, было бы идеальным, если бы оказалось верным. Но вот уже четверг, а конь пропал во вторник, и с тех пор о нем никто так и не сообщил. Что же ускользнуло от внимания Холмса? Коня обнаружили бы, если бы в нем по-прежнему можно было узнать того самого коня. Знаменитому сыщику и в голову не пришло, что внешний вид животного можно изменить, а если бы пришло, он не стал бы пренебрегать вероятностью предположения, что коня попрежнему прячут. Холмс видит не только то, что перед ним, но и то, что ему известно. Когда мы сталкиваемся с чем-то, не укладывающимся в прежние схемы и не имеющим аналогов в нашей памяти, чаще всего мы не знаем, как истолковать увиденное, или даже вообще не замечаем его и вместо этого видим то, что ожидали с самого начала. Представим себе этот процесс как усложненный вариант известного примера из области гештальт-психологии, демонстрирующего особенности визуального восприятия. Легко убедиться, что один и тот же объект мы можем воспринимать по-разному, в зависимости от того, в каком контексте он показан. Возьмем такую иллюстрацию. 115 Что вы видите в центре – букву В или число 13? Стимул не меняется, а то, что мы видим, – вопрос лишь ожиданий и контекста. Замаскированное животное? Каким бы обширным ни был опыт Холмса, такого в нем не значится, в итоге он даже не рассматривает подобную возможность. Наличие и доступность – благодаря опыту, рамкам контекста, имеющимся точкам привязки – влияет на умозаключения. Мы не увидим букву В, если уберем А и С, и точно так же мы не увидим число 13, если убрать 12 и 14. У нас даже не мелькнет такого предположения, хотя оно возможно, просто маловероятно в таком контексте. А если слегка изменить контекст? Если недостающий ряд присутствует, только он скрыт от наших глаз? При этом вся картина изменится, но не обязательно приведет к изменению нашего выбора. И здесь возникает еще один примечательный момент: наши представления о возможном обусловлены не только нашим опытом, но и нашими ожиданиями. Холмс ожидал, что Серебряный найдется, поэтому воспринимал улики в ином свете, оставляя некоторые возможности непроверенными. И здесь вновь в игру вступают востребованные свойства, только на этот раз они принимают облик предвзятого подтверждения, одной из самых распространенных ошибок, которую допускают как новички, так и опытные мыслители. С раннего детства мы, по-видимому, склонны к формированию предвзятых подтверждений, к принятию решений задолго до того, как мы на самом деле принимаем их, и к отметанию с порога невероятного как невозможного. В одном из ранних исследований этого феномена учеников третьего класса школы попросили определить, какие особенности спортивных мячей имеют значение для подачи этих мячей человеком. Как только третьеклассники приняли решение (к примеру, что размер имеет значение, а цвет – нет), они либо полностью отказывались признавать свидетельства, противоречащие выбранной ими теории (например, что цвет имеет значение, а размер – нет), либо судили о них в высшей степени избирательно и искаженно, чтобы подогнать объяснение подо все, что не соответствует их первоначальному мнению. Более того, третьеклассники так и не смогли без подсказки сформулировать альтернативные теории, а когда позднее вспоминали и теорию, и свидетельство, то свидетельства становились у них более согласованными с теорией, чем в действительности. Другими словами, они подправляли прошлое, чтобы оно лучше соответствовало их представлениям о мире. С возрастом ситуация только усугубляется, во всяком случае, не меняется к лучшему. Взрослые чаще ставят доводы в пользу одной стороны выше говорящих в пользу обеих и чаще считают именно такой выбор свидетельством здравого смысла. Кроме того, мы чаще подыскиваем подтверждающие, позитивные свидетельства для гипотез и устоявшихся убеждений, даже если сами не имели к выдвижению таких гипотез никакого отношения. В ходе одного фундаментального исследования ученые обнаружили, что участники проверяли правильность идеи, обращая внимание только на примеры, подтверждающие ее, и не замечали ничего, что указывало на ее ошибочность. И наконец, мы демонстрируем 116 поразительную асимметричность в оценке подтверждений какой-либо гипотезы: мы переоцениваем любые позитивные, подкрепляющие свидетельства и недооцениваем негативные, опровергающие – эту склонность профессиональные ясновидящие, читающие чужие мысли, эксплуатировали веками. Мы видим то, что хотим видеть. На этих заключительных стадиях дедукции система Ватсона все так же связывает нас по рукам и ногам. Даже если у нас действительно есть все доказательства, а к завершению процесса они наверняка собраны, мы по-прежнему ставим теорию выше свидетельств, а наше восприятие и применение этих свидетельств обусловлены нашими же представлениями о том, что возможно, а что нет. В «Серебряном» Холмс пренебрегает уликами, которые указали бы ему верное направление, – потому что полагает, что надежно спрятать коня невозможно. Ватсон исключает крышу как вероятный путь проникновения преступника в комнату, потому что не считает такой способ попасть в помещение возможным. В нашем распоряжении могут быть все свидетельства, но это не значит, что мы, рассуждая, примем их во внимание как объектные, безупречные и вообще имеющиеся в наличии. Однако Холмс, как нам известно, ухитряется выявить и исправить свою ошибку – или сделать так, чтобы ее исправили, когда конь так и не нашелся. Как только Холмс допустил, что невероятное возможно, изменилась вся его оценка дела, а все подробности встали на свои места. И Холмс с Ватсоном отправились искать коня и спасать положение. Точно так же и Ватсон способен исправить свою оплошность, когда ему указывают на нее. Как только Холмс напоминает доктору, что, каким бы невероятным ни казалось предположение, его всетаки следует рассмотреть, Ватсон выдает альтернативный вариант, соответствующий свидетельствам, – альтернативу, которой всего минуту назад он попросту не видел. «Невероятное» – еще не значит «невозможное». Делая умозаключения, мы слишком поддаемся склонности к разумной достаточности и прекращаем поиски, обнаружив что-либо достаточно подходящее. Но пока мы не исчерпали все возможности и не убедились, что сделали все, успокаиваться рано. Мы должны научиться выходить за рамки своего опыта, не ограничиваться первым побуждением. Нам следует выработать привычку искать как подтверждающие, так и опровергающие свидетельства и, что самое важное, на время отодвигать в сторону точку зрения, которая выглядит слишком естественно, – нашу собственную. Словом, надо вернуться к когнитивному рефлексивному тесту и его этапам; задуматься о том, что стремится предпринять наш разум; отказаться от того, что не имеет смысла (в данном случае – задать себе вопрос, действительно ли предположение невозможное или просто маловероятное), и соответственно откорректировать свой подход. Не всегда с нами рядом окажется Холмс и напомнит нам об этом, однако мы и сами можем дать себе подсказку посредством той самой вдумчивости, которую мы культивируем. У нас попрежнему будет возникать соблазн сначала действовать, а потом думать, отметать варианты, не успев их рассмотреть, но мы, по крайней мере, усвоим общий принцип: сначала думать, потом действовать и стараться подходить к каждому решению на свежую голову. Все необходимые элементы уже в наличии (по крайней мере, если вы проявили наблюдательность и применили воображение). Весь вопрос в том, как теперь с ними поступить. Воспользовались ли вы всеми имеющимися свидетельствами, а не только теми, какие сумели вспомнить, о которых подумали или с которыми уже сталкивались? Одинаковое ли значение придали им и поэтому смогли отсеять важное от несущественного – или подпали под влияние лишь некоторых факторов, хотя те не имеют отношения к делу? Вы расположили элементы в логической последовательности, где каждый шаг подразумевает следующий и каждый фактор учитывается в выводах, не впали ли в ошибку, решив, будто все продумали, хотя на самом деле ничего подобного не сделали? Приняли во внимание все логические цепочки, даже те, которые кажутся вам невозможными? И наконец, достаточно 117 ли вы сосредоточенны и мотивированны? Вы помните первоначальную задачу или сбились с пути, увлекшись другой, и сами не понимаете, как и почему это произошло? Впервые я читала о Шерлоке Холмсе по-русски по той причине, что русский – язык моего детства и всех моих детских книг. Вспомним все подсказки, которые я вам дала: сообщила, что я из русской семьи и что мы с сестрой родились в Советском Союзе. Упомянула, что рассказы о Шерлоке Холмсе мне читал отец. Сказала, что это были рассказы из старой книги – настолько старой, что, возможно, моему отцу ее мог читать его отец. Если сложить все эти подробности, разве можно представить, чтобы эта книга была издана на каком-то другом языке? Но задумались ли вы об этом, узнавая подробности одну за другой? Или у вас даже мысли такой не мелькало – из-за ее… невероятности? Ведь Холмс такой «английский»? Неважно, что Конан Дойл писал по-английски и что сам Холмс глубоко укоренился в англоязычном сознании. Неважно, что теперь я читаю и пишу по-английски так же, как когда-то по-русски. Неважно, что вы, возможно, никогда не сталкивались с русским Шерлоком Холмсом и даже не догадывались о его существовании. Важно лишь то, каковы предпосылки и куда они ведут, если развить их до логического завершения, независимо от того, к чему склоняется ваш разум. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ «Я выкурил несколько трубок подряд, пытаясь понять, что же главное…» – рассказ «Горбун». «Мой опыт, моя интуиция восстают против этого…» – рассказ «Убийство в Эбби-Грэйндж». «Это один из случаев, когда искусство логически мыслить должно быть использовано для тщательного анализа и отбора уже известных фактов», «Должен признаться, что все версии, которые я составил на основании газетных сообщений, оказались ошибочными…» – рассказ «Серебряный». «Истиной, какой бы невероятной она ни казалась, является то, что останется, если отбросить все невозможное…» – повесть «Знак четырех», гл. 6 «Шерлок Холмс демонстрирует свой метод». Глава 6 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ «ЧЕРДАКА»: ОБУЧЕНИЕ – НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС Это постоялец вел себя очень странно. Миссис Уоррен, хозяйка дома, в котором он жил, за десять дней ни разу его не видела. Он вообще не покидал своей комнаты и целыми днями вышагивал по ней туда-сюда – если не считать первого вечера пребывания в доме, когда постоялец куда-то ушел и вернулся поздно ночью. Мало того, когда ему что-нибудь требовалось, он оставлял клочок бумаги, на котором печатными буквами писал единственное слово: «МЫЛО». «СПИЧКА». «ДЕЙЛИ ГАЗЕТТ». Миссис Уоррен встревожилась – ей все это не нравилось. И она решила посоветоваться с Шерлоком Холмсом. Поначалу Холмс не проявляет интереса к делу. Таинственный постоялец вовсе не кажется ему достойным расследования. Но мало-помалу подробности заинтриговали сыщика. Первый проблеск интереса вызвали печатные буквы. Почему постоялец не пишет как все? Зачем выбирает обременительный и неестественный способ поддерживать связь? Потом окурок сигареты, который предусмотрительно прихватила с собой миссис Уоррен: несмотря на то что, по ее словам, у таинственного постояльца усы и борода, Холмс убежден, что так выкурить сигарету способен только гладко выбритый человек. Тем не менее фактов пока слишком мало, поэтому сыщик просит миссис Уоррен сообщить ему, «если произойдет чтолибо новое». 118 И кое-что действительно происходит. На следующее утро миссис Уоррен вновь является на Бейкер-стрит и восклицает: «С меня хватит, мистер Холмс! Надо сообщить в полицию!»[19]19 Здесь и далее цитаты из рассказа «Алое кольцо» приведены в переводе Э. Бер. – Прим. пер. [Закрыть] На ее мужа, мистера Уоррена, напали два каких-то человека: ему на голову накинули пальто, втолкнули его в кэб и отпустили примерно через час. Миссис Уоррен во всем винит постояльца и намеревается в тот же день выставить его из дома. Холмс советует ей немного подождать. «Не делайте ничего наспех. Боюсь, что случай куда более серьезен, чем кажется на первый взгляд. Теперь ясно, что вашему жильцу грозит какая-то опасность. Столь же ясно, что в туманном утреннем свете враги, подстерегавшие его у двери, приняли за него вашего мужа. Обнаружив свою ошибку, они его отпустили». Тем же днем Холмс и Ватсон отправляются на Грейт-Орм-стрит, надеясь получить какоенибудь представление о личности жильца, который доставил хозяевам дома такое беспокойство. И вскоре им действительно удается увидеть его – точнее, ее. Предположение Холмса подтвердилось: постояльца подменили. «Парочка ищет убежища в Лондоне, спасаясь от нависшей над ними страшной угрозы. Насколько серьезна угроза, можно судить по тому, что приняты строгие меры предосторожности», – объясняет Холмс Ватсону. «Мужчина, которому необходимо что-то совершить, желает на это время обеспечить женщине полную безопасность. Задача нелегкая, однако он решил ее весьма своеобразно и настолько успешно, что присутствие женщины в доме неизвестно даже квартирной хозяйке, которая ей носит еду. Теперь ясно, зачем нужны печатные буквы: чтобы не было видно, что пишет женщина. Встречаться с ней мужчина не может – он навел бы врагов на ее след. А поскольку ему нельзя с нею видеться, он сообщал ей о себе через газету. Пока что все понятно». Но для чего все это? Ватсону хочется узнать, к чему такая секретность и в чем заключается опасность. Холмс полагает, что речь идет о жизни и смерти. Нападение на мистера Уоррена, ужас на лице постоялицы, которая заподозрила, что за ней наблюдают, – все это подтверждает самые мрачные предположения. Зачем же тогда продолжать расследование, спрашивает Ватсон. Ведь дело миссис Уоррен Холмс уже раскрыл, а сама хозяйка горит желанием выселить постояльца из своего дома. Зачем вмешиваться в это дело, особенно если оно действительно настолько рискованное? Проще было бы отстраниться и предоставить событиям идти своим чередом. «Никакой выгоды оно вам не сулит», – указывает Ватсон сыщику. У Холмса уже готов ответ: «– Правда, не сулит. Искусство для искусства, Ватсон. Вы ведь тоже, когда занимались врачебной практикой, наверное, лечили не только за плату. – Чтобы пополнять свое образование, Холмс. – Учиться никогда не поздно, Ватсон. Образование – это цепь уроков, и самый серьезный приходит под конец. Наш случай поучительный. Он не принесет ни денег, ни славы, и все же хочется загадку распутать. С наступлением темноты мы сделаем шаг вперед в наших изысканиях». Для Холмса не имеет значения то, что первоначальная цель достигнута. Неважно, что дальнейшее расследование крайне опасно. Нельзя просто бросить какое-либо дело, когда 119 изначальная цель достигнута, если это дело оказалось более сложным, чем представлялось поначалу. Данное дело поучительно. По крайней мере, оно может чему-то научить. Когда Холмс говорит, что учиться никогда не поздно, смысл его слов не так однозначен, как кажется. Безусловно, продолжать учебу полезно: она не дает нашему мозгу отупеть, а нам – закоснеть в своих привычках. Но Холмс понимает под учебой нечто большее. Обучение в холмсовском смысле – это способ постоянно проходить испытания, ставить под вопрос привычный ход мысли, ни в коем случае не давать воли ватсоновской системе, пусть она и успела многое перенять у системы Холмса. Это способ время от времени устраивать встряску устоявшимся принципам и никогда не забывать: какими бы выдающимися экспертами мы ни считали себя в каком-нибудь деле, нам следует оставаться вдумчивыми и мотивированными во всем, чем занимаемся. В этой книге не раз подчеркивалась необходимость практики. Поразительных результатов Холмс достиг благодаря тому, что постоянно практиковал вдумчивое мышление, в итоге оно стало стержнем его подхода к постижению мира. Но по мере того, как мы практикуемся и стоящие перед нами задачи становятся все более и более простыми и естественными, они переходят в сферу системы Ватсона. Даже холмсовские привычки являются тем не менее привычками, тем, что мы принимаем как само собой разумеющееся, в итоге забываем об осторожности и перестаем действовать вдумчиво. Именно в такие моменты мы принимаем свое мышление как должное и перестаем уделять внимание тому, что на самом деле происходит на нашем «мозговом чердаке», где нам свойственно разводить беспорядок, даже если покуда этот «чердак» – самый организованный и опрятный из всех нами виденных. Холмсу приходится постоянно бросать себе вызов, чтобы не поддаться подобным побуждениям. И несмотря на то что его привычка к вдумчивости достаточно отточена, даже она способна сбить его с пути, если перестать регулярно себя контролировать. Если мы перестанем устраивать испытания для своих мыслительных привычек, то вдумчивость, которую мы так старательно культивировали, может уступить место дохолмсовскому, бездумному существованию. Задача непроста, а наш мозг, как обычно, мало чем в состоянии нам помочь. Когда мы понимаем, что покончили с каким-либо достойным делом, будь то уборка в захламленном стенном шкафу или что-нибудь более замысловатое, вроде раскрытия преступления, наш ватсоновский мозг не находит ничего лучшего, как почить на лаврах, вознаградить себя отдыхом за проделанную работу. Зачем предпринимать что-то еще, если намеченное уже выполнено? Обучение человека во многом обусловлено так называемой ошибкой предсказания награды (ОПН). Когда какое-либо дело оказывается более успешным, чем ожидалось, – «я сделал левый поворот! я не сбил конус!», если мы учимся водить машину, – ОПН приводит к выбросу в мозг допамина (дофамина). Такие выбросы – довольно частое явление, когда мы только начинаем учиться чему-то новому. Отрадные результаты легко увидеть на каждом шагу: мы начинаем понимать, что делаем, наши результаты улучшаются, мы допускаем все меньше ошибок. Каждый достигнутый результат действительно приносит нам некую пользу. Мы не только действуем успешнее (в итоге у нас появляются новые поводы для радости): наш мозг получает награду за учебу и совершенствование. А потом вдруг процесс прекращается. Меня уже не удивляет собственная способность плавно вести машину. Не удивляет отсутствие опечаток в набранном тексте. Не удивляет даже то, что я могу определить, откуда прибыл Ватсон – из Афганистана. Я знаю, что сумею все это, еще до того, как проделаю. ОПН отсутствует. А нет ОПН – нет и допамина. Нет удовольствия. Нет потребности в дальнейшем обучении. Мы достигли удобного плато и решили (как на нейронном, так и на сознательном уровне), что уже постигли все, что нам надо знать. 120 Весь фокус в том, чтобы приучить свой мозг проходить мимо точки немедленного вознаграждения, видеть награду в самой неопределенности будущего. Это нелегко: как уже было сказано, именно неопределенность в будущем мы недолюбливаем. Гораздо удобнее пожинать плоды сразу же, ловить допаминовую волну и наслаждаться последствиями ее воздействия. Инерция – мощная сила. Все мы рабы привычек, и не только наблюдаемых, таких, к примеру, как привычка включать телевизор, едва после работы мы входим в гостиную, или проверять содержимое холодильника, но и мыслительных привычек мышления, предсказуемых циклов, при которых мысль движется по заведомо известному пути. От привычек мышления избавиться трудно. Одна из самых действенных сил, влияющих на выбор, – эффект умолчания, склонность выбирать путь наименьшего сопротивления, довольствоваться тем, что находится перед нами, если этот вариант достаточно приемлем. С проявлениями этого эффекта мы сталкиваемся постоянно. Сотрудники компаний склонны делать отчисления в пенсионные программы, когда эти отчисления делаются по умолчанию, и перестают их вносить (даже при условии щедрой компенсации от работодателя), когда требуется сперва составить соответствующее заявление. В странах, где донорство органов подразумевается по умолчанию (то есть каждый человек является донором органов, если только он не заявит о том, что не желает быть таковым), процент доноров значительно выше, чем в тех странах, где о своем согласии стать донором надо заявить самостоятельно. Фактически, когда нам предоставлен выбор между каким-либо действием и бездействием, мы выбираем бездействие – забывая, что и в этом случае совершаем некое действие. Однако подобное пассивное и самоуспокоенное действие диаметрально противоположно активной вовлеченности, важность которой всегда подчеркивает Холмс. И вот еще одна странность: чем лучше мы становимся, чем больше узнаём, тем сильнее стремление наконец угомониться. Мы считаем такой отдых заслуженным и не осознаём, что тем самым оказываем себе самую что ни на есть медвежью услугу. Проявления этой закономерности мы встречаем не только на индивидуальном уровне, но и в организациях и корпорациях. Вспомним о том, сколько компаний представили миру принципиально новые разработки и уже через несколько лет после этого безнадежно отстали от конкурентов или были поглощены ими. (К примеру, вспомним Kodak, или Atari, или компанию RIM, создательницу коммуникатора BlackBerry.) Этот процесс не ограничен миром бизнеса. Модель, когда за поразительными инновациями следует столь же ошеломляющий застой, описывает более общую тенденцию, которая наблюдается в академических и военных кругах, а также почти в любой области деятельности или профессии. Все объясняется настройками мозга, тем, как устроена его система наград. Почему эта модель настолько распространена? Все дело в эффекте умолчания, инерции, а на более масштабном уровне – в укоренении привычки. Чем больше наград или удовлетворения приносит привычка, тем труднее расстаться с ней. Если пятерки за контрольную по правописанию достаточно, чтобы вызвать выброс допамина в мозг школьника, нетрудно представить себе, как действуют многомиллиардные успешные сделки, рост доли на рынке, написание бестселлера, получение премии или прочих академических наград. Прежде мы уже говорили о разнице между кратковременной и долговременной памятью, о той информации, которую мы храним лишь некоторое время, а потом забываем, и о той, которую отправляем на постоянное хранение на свой «мозговой чердак». Последняя имеет две разновидности (хотя точные их механизмы еще только предстоит изучить): декларативная, или эксплицитная, память, и процедурная, или имплицитная, память. Первую можно представить себе как подобие свода энциклопедических знаний о событиях 121 (эпизодическая память), или фактах (семантическая память), или же о других вещах, которые мы можем вспоминать эксплицитно, то есть в явном виде. Каждый раз, когда мы узнаем чтонибудь новое из этой категории, мы можем сохранить полученные сведения как отдельную, особую статью в нашей энциклопедии. Когда нам требуется обратиться к этой конкретной статье, мы можем перелистать страницы энциклопедии и, если мы правильно записали информацию и чернила не выцвели, извлечь ее из памяти. А если что-то нельзя записать как таковое? Если речь идет о каком-то чувстве или умении? Тогда мы переходим в сферу процедурной, или имплицитной, памяти. В сферу опыта. Здесь все не так просто, как в случае со статьей из энциклопедии. Если я спрошу об этой информации напрямик, возможно, вы не сумеете мне ответить, мало того, ущерб будет нанесен самой информации, о которой я спросила. Эти две системы не являются полностью обособленными, они довольно плотно взаимодействуют, но для наших целей удобнее представлять их себе как два отдельных, предназначенных для двух разных типов информации хранилища на нашем «чердаке». Оба находятся в одном месте, но мы неодинаково сознаем их и имеем к ним неодинаковый доступ. Вдобавок можно переходить от одного хранилища к другому, не вполне сознавая, что делаешь. Сравним происходящее с обучением вождению автомобиля. Сначала вы в явном виде запоминаете все, что вам требуется сделать: повернуть ключ, поправить зеркала, вывести машину со стоянки, и т. д., и т. п. Вам приходится осознанно выполнять каждый этап. Но вскоре вы перестаете думать об этих этапах. Они входят в привычку. И если я спрошу вас, что вы делаете, возможно, вы даже не сумеете ответить мне. Вы перешли от эксплицитной памяти к имплицитной, от активного знания к привычке. А в сфере имплицитной памяти сознательно совершенствоваться, проявлять вдумчивость и находиться в настоящем гораздо труднее. Придется приложить больше усилий, чтобы поддерживать тот же уровень внимательности, какой был, когда вы только начали учиться. (Вот почему в процессе интенсивного обучения обычно достигается точка, именуемая К. Андерсом Эрикссоном «плато», – точка, по достижении которой улучшений мы уже не видим. Как мы выясним, это не всегда так, но «плато» действительно трудно преодолеть.) Когда мы начинаем учиться, мы находимся в сфере декларативной, или эксплицитной, памяти. Именно эти воспоминания кодируются в гиппокампе, а затем обобщаются и отправляются на хранение (в случае, если все пройдет успешно) для будущего использования. Этой памятью мы пользуемся, когда запоминаем даты из истории или заучиваем последовательность действий при новой рабочей процедуре. С помощью этой же памяти я пыталась запомнить количество ступенек на лестницах во всевозможных зданиях (и потерпела жестокое поражение), поскольку поняла смысл слов Холмса совершенно не так, как следовало. К ней же мы обращаемся, когда пытаемся поэтапно охватить разумом мыслительный процесс Холмса, чтобы приобрести толику его проницательности. Однако сам Холмс пользуется другой памятью. Он уже освоил эти этапы мышления. Для него они стали второй натурой. Холмсу не нужно обстоятельно и подробно думать о мышлении; он делает это машинально, как мы машинально обращаемся к нашему внутреннему Ватсону потому, что научились этому, а теперь отучаемся. А пока мы не отучились, то, что Холмсу дается без труда, требует от нашего внутреннего Ватсона значительных усилий. Нам приходится поминутно останавливать его, чтобы поинтересоваться мнением внутреннего Холмса. Но по мере того, как мы практикуемся, заставляем себя наблюдать, обращаться к воображению, делать умозаключения, в том числе и в тех обстоятельствах, в которых все это может показаться нелепостью, например когда надо решить, что съесть на обед, начнут происходить перемены. Внезапно процесс станет более гладким и плавным. Мы начнем действовать чуть быстрее. Сами действия будут казаться нам более естественными и менее утомительными. 122 В сущности, происходящее – не что иное, как переход на другую память. Мы переходим от эксплицитной памяти к имплицитной, привычной, процедурной. Наше мышление становится сродни той памяти, к которой мы обращаемся, когда ведем машину, едем на велосипеде, выполняем задачу, выполненную уже бесчисленное множество раз. Мы переходим от целеустремленности (в случае мышления – от сознательного движения по стопам Холмса и старательного выполнения каждого действия) к автоматизму (нам уже незачем думать об отдельных этапах, наш ум сам перебирает их один за другим). От усиленной, напряженной работы памяти – к запуску допаминовой системы поощрений, порой незаметному для нашего сознания (поведение наркомана как крайний случай). И здесь разрешите мне повториться, так как повтор напрашивается сам собой: чем больше награда за какое-нибудь действие, тем быстрее оно становится привычкой и тем труднее от нее отвыкнуть. Как вернуть привычку из сферы бездумности в сферу вдумчивости Действие рассказа «Человек на четвереньках» (The Adventure of the Creeping Man) происходит в то время, когда Холмс и Ватсон уже не живут в одном доме. Однажды сентябрьским вечером Ватсон получает послание от бывшего соседа: «Сейчас же приходите, если можете. Если не можете, приходите все равно»[20]20 Здесь и далее цитаты из рассказа «Человек на четвереньках» приведены в переводе М. Кон. – Прим. пер. [Закрыть]. Ясно, что Холмс хочет увидеться с доктором, и, видимо, как можно скорее. Но зачем? Что могло быть такого у Ватсона, что так спешно потребовалось Холмсу, причем сыщик не может ни ждать, ни сообщить в письме или передать с посыльным? Трудно представить себе, что за время, которое товарищи провели вместе, Ватсон когда-либо играл иную роль, кроме верного компаньона и автора записок. И уж конечно, Ватсон никогда не раскрывал преступлений, ему никогда не приходили в голову решающие догадки, он не оказал хоть сколько-нибудь заметного влияния на расследовании. Почему же призыв Шерлока Холмса выглядит настолько срочным, словно сыщику никак не обойтись без помощи Ватсона? Потому что так оно и есть. Оказывается, Ватсон уже давно не просто автор записок о Шерлоке Холмсе и его друг, верный спутник, умеющий оказать моральную поддержку. По сути дела, Ватсон – одна из причин того, что Шерлок Холмс ухитряется оставаться таким же проницательным и вдумчивым. Ватсон необходим (и даже незаменим) для расследования и будет оставаться таковым впредь. Вскоре вы поймете почему. Привычки полезны. Больше того – привычки необходимы. Они обеспечивают нам когнитивную свободу, возможность обдумывать более масштабные стратегические вопросы вместо того, чтобы беспокоиться о рутинных мелочах. Они нам позволяют мыслить на более высоком уровне и в совершенно другой плоскости, чем нам бы пришлось, не будь их у нас. В опыте заключена огромная свобода и масса возможностей. С другой стороны, привычка опасно близка к бездумности. Когда что-то начинает даваться легко и машинально, очень просто вообще перестать мыслить. Наш непростой путь к приобретению холмсовских навыков мышления характеризует целеустремленность. Мы сосредоточены на получении будущей награды, которую обещает нам умение мыслить вдумчиво, действовать успешнее, делать более компетентный и основательный выбор, управлять своим разумом вместо того, чтобы подчиняться ему. Навык же как таковой имеет противоположную направленность. Под действием привычек вдумчивый, мотивированный мозг, работающий по системе Холмса, превращается в бездумный, легкомысленный мозг ватсоновского типа, со всеми его предубеждениями и эвристикой, этими скрытыми силами, 123 которые влияют на наше поведение так, что мы об этом даже не подозреваем. Мы перестаем замечать это, а в результате теряем способность уделять происходящему должное внимание. А что же Шерлок Холмс? Каким образом ему удается сохранять вдумчивость? Разве он – не доказательство, что навык не обязательно с ней несовместим? Вернемся к срочному письму, которое Холмс прислал Ватсону, к этому призыву приехать, несмотря на все неудобства подобного визита. Ватсон точно знает, зачем его зовут, хотя, возможно, и не осознаёт, насколько он необходим. Холмс, как объясняет Ватсон, «человек привычек, привычек прочных и глубоко укоренившихся, и одной из них стал я. Я был где-то в одном ряду с его скрипкой, крепким табаком, его дочерна обкуренной трубкой и справочниками». В чем же именно заключается роль Ватсона как привычки? «На мне он оттачивал свой ум, я как бы подстегивал его мысль. Он любил думать вслух в моем присутствии. Едва ли можно сказать, что его рассуждения были адресованы мне – многие из них могли бы с не меньшим успехом быть обращены к его кровати, – и тем не менее, сделав меня своей привычкой, он стал ощущать известную потребность в том, чтобы я слушал его и вставлял свои замечания». И это еще не все. «Вероятно, его раздражали неторопливость и обстоятельность моего мышления, – продолжает Ватсон, – но оттого лишь ярче и стремительней вспыхивали догадки и заключения в его собственном мозгу. Такова была моя скромная роль в нашем дружеском союзе». Холмс пользуется и другими приемами, да и роль Ватсона, как мы вскоре увидим, в действительности гораздо масштабнее, однако Ватсон служит незаменимым инструментом в многоплановом арсенале Холмса, и его функция как инструмента (или, если хотите, как привычки) – следить, чтобы мыслительные привычки Холмса не свелись к бездумной рутине, чтобы они всегда оставались вдумчивыми, относились к настоящему и неуклонно шлифовались. Ранее мы говорили об обучении вождению и опасности, с которой мы сталкиваемся, как только становимся опытными настолько, что перестаем задумываться о своих действиях, в итоге отвлекаемся, мысленно витаем в облаках, впадаем в состояние бездумности. Если все идет как обычно, с нами все в порядке. А когда что-то не ладится? Наша реакция вряд ли окажется такой же стремительной, как на первых этапах обучения, когда мы всецело сосредоточивались на дороге. А если бы мы были вынуждены вновь и вновь задумываться о том, как ведем машину? Кто-то учил нас водить ее, значит, и нас могут попросить научить кого-то другого. Если так, с нашей стороны будет мудрым решением согласиться. Когда мы объясняем что-нибудь другому человеку, раскладываем подробности по полочкам, нам не только вновь приходится уделять внимание тому, что мы делаем: мы даже замечаем, что совершенствуемся сами. Мы видим, что иначе обдумываем этапы, более вдумчиво подходим к тому, что делаем, хотя бы для того, чтобы подать хороший пример. Мы заметим, что уже иначе смотрим на дорогу, точнее формулируем то, что надо знать и на что обращать внимание начинающему водителю, чего он должен остерегаться и как реагировать. Мы видим, как возникают модели, которых мы не принимали во внимание и, в сущности, не замечали раньше, когда с таким трудом осваивали сложные последовательности действий. Для того чтобы увидеть все перечисленное, у нас появятся не только свободные когнитивные ресурсы: мы в достаточной мере будем вовлечены в нынешнюю ситуацию, чтобы воспользоваться преимуществами обретенной свободы. То же самое происходит и с Холмсом. Присутствие Ватсона ему требуется не только в «Человеке на четвереньках». Обратите внимание, как в каждом расследовании он наставляет своего спутника, как объясняет ему, каким образом пришел к тому или иному выводу, что 124 происходило у него в голове и по какому пути двинулись мысли. А для этого ему требуется обратиться к мыслительному процессу, снова сосредоточиться на том, что вошло в привычку. Ему приходится вдумчиво подходить даже к тем умозаключениям, которые он делает бездумно, так же, как знает, почему Ватсон прибыл из Афганистана. (Впрочем, как мы уже говорили, бездумность Холмса отличается от ватсоновской.) Ватсон заставляет разум Холмса вновь обдумать все элементы, которые приходят как бы сами собой. Более того, Ватсон служит постоянным напоминанием о возможных ошибках. Как говорит сам Холмс, «замечая ваши ошибки, я порой находил путь к истине». А это важно. Даже задавая незначительные вопросы, те, которые для Холмса совершенно очевидны, Ватсон тем не менее вынуждает Холмса дважды подумать о самой их очевидности и либо усомниться в ней, либо объяснить, почему она ясна как день. Иначе говоря, Ватсон незаменим. И Холмс прекрасно понимает это. Взгляните на список его внешних привычек: скрипка, табак, трубка, справочник. Каждая из этих привычек выбрана вдумчиво. Каждая способствует мышлению. Как же Холмс обходился до тех пор, пока Ватсон не появился в его жизни? Как бы там ни было, он наверняка быстро понял, что с Ватсоном лучше, чем без Ватсона. «Если от вас самого не исходит яркое сияние, то вы, во всяком случае, являетесь проводником света. Мало ли таких людей, которые, не блистая талантом, все же обладают недюжинной способностью зажигать его в других! Я у вас в неоплатном долгу, друг мой». И Холмс действительно многим обязан Ватсону. Великие не успокаиваются и не становятся самодовольными. В этом, в сущности, и состоит секрет Холмса. Ему не нужно, чтобы кто-нибудь разъяснял ему суть научного дедуктивного метода, который он изобрел сам, тем не менее он постоянно заставляет себя узнавать больше, действовать лучше, совершенствоваться, браться за новые дела, вставать на точку зрения или применять подход, к которым никогда раньше не обращался. Отчасти это подразумевает постоянное взаимодействие с Ватсоном, который бросает Холмсу вызов, стимулирует, вынуждает никогда не принимать свое мастерство как должное. Кроме того, многое определяет выбор дел. Напомню, что Холмс берется далеко не за каждое расследование, а лишь за те, которые вызывают у него интерес. Этот нравственный кодекс весьма замысловат. Холмс раскрывает преступления не только для того, чтобы снизить преступность, но и чтобы устроить очередное испытание своему мышлению. Заурядный преступник для этой цели не годится. Так или иначе, суть взаимодействия с Ватсоном или выбора более сложных, незаурядных дел, заключается в одном и том же: в постоянном удовлетворении потребности в обучении и совершенствовании. В конце рассказа «Алое кольцо» Холмс сталкивается с инспектором Грегсоном, который, оказывается, расследует то же самое дело, что и Холмс. Грегсон крайне озадачен. «Чего я не способен уразуметь, так это каким образом в этом деле оказались замешаны вы, мистер Холмс», – говорит он. Ответ Холмса прост: «Образование, Грегсон, образование. Все еще обучаюсь в университете». Запутанность, отвлеченность второго преступления ничуть не отпугнула его. Напротив, привлекла и побудила узнать больше. В каком-то смысле это тоже привычка – ни в коем случае не говорить, что тебе уже достаточно знаний, даже если новые знания внушают опасения или выглядят слишком сложными. Дело, о котором идет речь, – «образец трагедии и гротеска», как говорит Холмс Ватсону. Именно поэтому оно стоит того, чтобы его раскрыли. И нам тоже следует подавить в себе стремление уклоняться от сложных дел или поддаться утешительной мысли, что мы уже раскрывали преступления, уже справлялись с трудными задачами. Вместо этого мы должны принять вызов, даже если отклонить его гораздо проще. 125 Только в этом случае мы сможем на протяжении всей жизни пожинать плоды холмсовского мышления. Опасность чрезмерной самоуверенности Но как не стать жертвой чрезмерно самоуверенного мышления, которое уже не считает нужным устраивать себе регулярные испытания? Полностью надежного метода не существует. В сущности, считая какой-либо метод полностью надежным, мы рискуем попасть в ловушку. Поскольку мы не замечаем собственных привычек, перестаем активно учиться и уже не думаем так усердно, как когда-то, нам свойственно забывать, каким трудным некогда был этот процесс. Мы принимаем как должное именно то, что нам следовало бы ценить. Нам кажется, что мы все держим под контролем, что по-прежнему проявляем вдумчивость, что наш мозг все еще активен, что наш разум постоянно учится и преодолевает испытания, ведь мы столько трудились, чтобы прийти к этому состоянию, но на самом деле мы просто заменили один набор привычек другим, пусть и улучшенным. При этом мы рискуем стать жертвой двух самых опасных убийц успеха: самоуспокоенности и чрезмерной самоуверенности. Это и вправду могущественные враги. Даже для такого человека, как Шерлок Холмс. Обратимся к рассказу «Желтое лицо» (The Yellow Face) – одному из тех редких дел, в которых теории Холмса оказываются совершенно несостоятельными. В этом рассказе некий Грэнт Манро просит Холмса выяснить причину необычного поведения его жены. В коттедже неподалеку от дома Манро с недавних пор появились новые жильцы, притом довольно странные. Мистер Манро мельком видит одного из них и признаётся, что «было в этом лице что-то неестественное, нечеловеческое»[21]21 Здесь и далее цитаты из рассказа «Желтое лицо» приведены в переводе Н. Вольпин. – Прим. пер. [Закрыть]. При одном виде этого лица мороз пробегает по коже. Но еще удивительнее, чем таинственные жильцы, стала реакция супруги Манро на их прибытие. Она покидает дом среди ночи, лжет о своем уходе, а на следующий день наносит визит в коттедж, взяв с мужа обещание, что он не войдет туда следом за ней. Во время третьего такого визита Манро все-таки следует за женой и обнаруживает, что в коттедже никого нет. Но в той же комнате, где ранее он видел пугающее лицо, он находит фотографию своей жены. Что происходит? «Подоплекой здесь шантаж, или я жестоко ошибаюсь», – объявляет Холмс. А кто шантажист? «Не иначе, как та тварь, что живет в единственной уютной комнате коттеджа и держит у себя эту фотографию на камине. Честное слово, Ватсон, есть что-то очень завлекательное в этом мертвенном лице за окном, и я бы никак не хотел прохлопать этот случай». Ватсон заинтригован этими заманчивыми обрывками сведений. «– Есть у вас своя гипотеза? – Пока только первая наметка. Но я буду очень удивлен, если она окажется неверной. В коттедже – первый муж этой женщины». Но первая наметка оказывается ошибочной. Обитатель коттеджа – вовсе не первый муж миссис Манро, а ее дочь, о существовании которой не подозревали ни мистер Манро, ни Холмс. А то, что выглядит как шантаж, на самом деле представляет собой просто передачу денег, которые позволили дочери и ее няне перебраться из Америки в Англию. Лицо же 126 казалось неестественным и нечеловеческим потому, что на самом деле было не лицом, а маской, прикрывающей черную кожу девочки. Словом, все предположения Холмса оказались бесконечно далеки от истины. Как мог так оплошать великий сыщик? Уверенность в себе и в своих навыках позволяет нам раздвигать пределы собственных возможностей и добиваться большего, пытаться действовать даже в тех крайних случаях, к которым побоялся бы подступиться менее уверенный человек. Небольшой запас уверенности не повредит, восприятие, развитое чуть выше среднего уровня, заметно отражается на нашем психологическом самочувствии и даже на нашей эффективности в решении проблем. Когда мы уверены в себе, мы беремся за более сложные задачи, чем могли бы. Мы сами выталкиваем себя из собственной зоны комфорта. Но вместе с тем возможен и избыток уверенности – чрезмерная самоуверенность, попирающая тщательность и точность. Мы все тверже верим в свои способности, в том числе по сравнению с чужими, чем следовало бы в данных обстоятельствах. Иллюзия правильности крепчает, соблазн и впредь поступать по-своему усиливается. Эта избыточная вера в себя может иметь неприятные последствия – например, чудовищную ошибку, допущенную в деле, с которым мы обычно справляемся превосходно: такую ошибку допустил Холмс, приняв дочь за мужа, а любящую мать – за жену, которую шантажируют. Такое случается даже с лучшими из нас. Вообще-то, как я уже намекала, как раз с лучшими такое происходит чаще. Исследования показали, что с приобретением все более значительного опыта чрезмерная самоуверенность не снижается, а нарастает. Чем больше знаешь и чем успешнее действуешь в реальности, тем выше вероятность, что ты переоценишь свои способности и недооценишь силу обстоятельств, неподвластных тебе. Одно исследование продемонстрировало, что руководители компаний становятся излишне самоуверенными, когда приобретают опыт слияний и поглощений: их оценки стоимости сделок становятся чрезмерно оптимистичными (чего не случалось ранее). В другом исследовании избыточная уверенность, связанная с вложениями в пенсионные программы, коррелировала с возрастом и образованием, поэтому самыми самоуверенными вкладчиками оказывались мужчины предпенсионного возраста, имеющие высшее образование. В ходе исследований Венского университета выяснилось, что в целом участники торговли активами на экспериментальном рынке не проявляли чрезмерной самоуверенности – до тех пор, пока не приобретали значительный опыт торговли на этом рынке. После этого уровень самоуверенности начинал стремительно расти. Аналитики, продемонстрировавшие заметную точность в прогнозировании доходов в предшествующие четыре квартала, в своих последующих прогнозах становились гораздо менее точными. Степень самоуверенности у профессиональных трейдеров была намного выше, чем у студентов. Собственно говоря, власть – один из наиболее точных показателей чрезмерной самоуверенности, а она обычно появляется со временем и опытом. Ничто не порождает самоуверенность так, как успех. Когда мы почти всегда оказываемся правыми, долго ли до заявления, что мы всегда будем правы? У Холмса есть все причины быть уверенным в себе. Он почти неизменно оказывается правым, почти всегда действует успешнее всех почти во всем, будь то расследование преступлений, игра на скрипке или борьба. Значит, он просто обязан достаточно часто становиться жертвой чрезмерной самоуверенности. Однако все эти недостатки перевешивает достоинство, выявленное нами в предыдущем разделе: Холмс знает подводные камни своего мышления и старается обходить их, следуя строгим правилам и сознавая, что должен постоянно продолжать учиться. В отличие от литературных героев, для живых людей чрезмерная самоуверенность становится ловушкой. Мы попадаемся в нее всякий раз, когда позволяем себе хотя бы на минуту ослабить бдительность. 127 Чрезмерная самоуверенность вызывает слепоту, а слепота, в свою очередь, приводит к грубым ошибкам. Зачарованные собственным мастерством, мы ставим под сомнение информацию, сомневаться в которой опыт ни за что не посоветовал бы нам, – даже настолько красноречивую, что на ее фоне, по мнению Ватсона, наши теории – «только предположения», – и продолжаем действовать так же, как прежде. На некоторое время мы забываем то, что нам прекрасно известно (не следует строить теории, не собрав факты, не стоит забегать вперед, вместо того чтобы смотреть вглубь и наблюдать внимательнее), и нас легко сбивает с пути незатейливость нашей интуиции. Чрезмерная самоуверенность подменяет динамичное, активное исследование пассивными допущениями, касающимися наших способностей или кажущейся привычностью ситуации. Наша оценка, ведущая к успеху, смещается с обусловленной к определяющей. «Я достаточно квалифицирован, чтобы действовать в окружающих условиях так же легко, как прежде. Это происходит исключительно благодаря моим способностям, а не тому факту, что окружение создает выгодный фон, на котором мои способности могут блистать. Поэтому я не стану менять свое поведение». Холмс не принимает во внимание возможность появления в драме неизвестных действующих лиц или неизвестных подробностей в биографии миссис Манро. Кроме того, он не учитывает вероятность маскировки (для него маскировка – нечто вроде «слепого пятна». Если помните, Холмс с той же уверенностью не принял во внимание маскировку в деле Серебряного, а также в рассказе «Человек с рассеченной губой». Если бы Холмс мог перечитать рассказы о собственных расследованиях так, как это делаем мы, он понял бы, что склонен к ошибкам подобного типа). Во многих исследованиях этот процесс был продемонстрирован в действии. В одном классическом эксперименте психологов-консультантов попросили высказать мнение об уверенности человека на основании профиля его личности. Участникам эксперимента были предложены описания клинических случаев в четырех частях, составленные на основании реальной истории болезни; после каждой части участников просили дать ответ на ряд вопросов о личности пациента, например определить его модель поведения, интересы, типичные реакции на жизненные события. Кроме того, психологов просили определить собственную уверенность в оценке этих реакций. С предоставлением каждой новой части описания объем вводной информации о случае увеличивался. Чем больше узнавали психологи, тем заметнее росла их уверенность, а точность держалась на одном и том же уровне. В сущности, все консультанты, кроме двух, продемонстрировали чрезмерную самоуверенность (другими словами, их уверенность перевешивала точность), и если средний уровень уверенности вырос с 33 % на первом этапе до 53 % на последнем, то точность не поднималась выше 28 % (из которых 20 % выпадало на долю случайности, согласно условиям задачи). Чрезмерная самоуверенность зачастую непосредственно связана с низкой результативностью, а временами и с грубыми ошибками в суждениях. (Представьте себе медика-консультанта уже не в обстановке эксперимента – специалиста, чрезмерно убежденного в правильности своих суждений, которые тем не менее неточны. Есть ли вероятность, что он поинтересуется мнением третьей стороны или посоветует пациенту узнать его?) Излишне самоуверенные люди чересчур твердо верят в свои способности, слишком легко отмахиваются от влияния, которое не могут контролировать, недооценивают других людей, и в результате действуют гораздо менее успешно, чем могли бы, допускают ошибки во всем, чем бы они ни занимались – раскрывали преступление или ставили диагноз. Эту связь мы наблюдаем вновь и вновь, не только в обстановке эксперимента, а когда на карту поставлены настоящие деньги, карьера, личные результаты. Доказано, что у чрезмерно 128 самоуверенных трейдеров результаты хуже, чем у менее уверенных коллег: первые ведут торговлю интенсивнее, но получают меньше прибыли. Есть данные, что чрезмерно самоуверенные руководители переоценивают свои компании и затягивают первичное публичное размещение IPO – с негативными последствиями. Кроме того, подобные руководители более склонны к сделкам по слияниям и поглощениям вообще и к убыточным в частности. Излишне самоуверенные менеджеры снижают прибыли компаний, в которых работают. А убежденные в своей непогрешимости следователи портят свой в целом безупречный послужной список. Успех угрожает положить конец необходимому процессу постоянной, непрекращающейся учебы – если активно не сопротивляться этому, ежечасно и ежеминутно. Победа как ничто другое вынуждает нас перестать сомневаться и ставить перед собой задачи, насущные для холмсовского мышления. Как заметить признаки чрезмерной самоуверенности Пожалуй, с излишней самоуверенностью успешнее всего можно бороться, если знать, когда она проявится с наибольшей вероятностью. Например, Холмсу известно, в какой мере ошибки мышления обусловлены былым успехом и опытом. Именно это знание помогло ему мастерски расставить ловушку на злодея, сыгравшего центральную роль в трагедиях «Собаки Баскервилей». Когда подозреваемый узнаёт, что на место преступления прибыл Шерлок Холмс, Ватсон опасается, что в итоге поймать злоумышленника с поличным будет труднее. «Все-таки жалко, что он нас увидел!» – говорит Ватсон Холмсу. Но Холмс считает, что у этого обстоятельства есть не только минусы. «Я сначала сам об этом пожалел», – признаётся он и добавляет, что преступник, зная о его приезде, может «решиться на какойнибудь отчаянный шаг. Как и большинство незаурядных преступников, Стэплтон, вероятно, слишком полагается на свою хитрость и воображает, что обвел нас вокруг пальца». Холмс знает, что удачливый преступник, скорее всего, падет жертвой собственного успеха. Значит, надо ждать проявлений хитроумия, которое слишком высоко ставит себя, а следовательно, недооценивает противника и переоценивает собственные возможности. Этим знанием Холмс не раз пользовался при поимке злоумышленников, и не только в Баскервильхолле. Но заметить чрезмерную самоуверенность или ее первые признаки в окружающих – одно дело, а выявить ее в себе – совершенно другое и гораздо более трудное. Отсюда и вопиющие ошибки Холмса в Норбери. Но, к счастью для нас, психологи добились значительного прогресса в выявлении ситуаций, при которых нас чаще подстерегает опасность чрезмерной самоуверенности. Среди них преобладают четыре совокупности обстоятельств. Во-первых, чрезмерная самоуверенность проявляется особенно часто при столкновениях с трудностями: например, когда мы вынуждены делать выводы по делу, все факты которого знать невозможно. Это так называемый «эффект трудности-легкости». Нам свойственно проявлять недостаточную уверенность при решении легких задач и чрезмерную уверенность при решении трудных. Это означает, что мы недооцениваем свою способность преуспеть, когда все указывает на потенциальный успех, и переоцениваем эту способность, когда признаки гораздо менее благоприятны, то есть нам не удается в достаточной мере приспособиться к изменению внешних обстоятельств. Так, при выполнении теста «выбор-50» участники эксперимента должны выбрать один из двух вариантов, а затем оценить свою уверенность в этом выборе по шкале от 0,5 до 1. Ученые неоднократно убеждались, что по мере усложнения трудности выбора несоответствие между уверенностью и точностью (то есть чрезмерная самоуверенность) резко возрастает. 129 Одна из сфер преобладания эффекта «трудности-легкости» – прогнозы на будущее, задача не просто трудная, а в сущности, невыполнимая. Но невозможность выполнить ее не мешает людям предпринимать попытки и демонстрировать избыток уверенности в своих прогнозах, основанных на собственных представлениях и опыте. Возьмем для примера фондовый рынок. По сути дела, предсказать движение конкретной ценной бумаги невозможно. Да, можно иметь опыт в этой сфере и даже быть экспертом, тем не менее это все те же попытки предсказать будущее. В таком случае, разве удивительно, что одни и те же люди временами добиваются невероятных успехов, а в других случаях терпят сокрушительное фиаско? Чем больше успех, тем выше вероятность, что обладатель припишет его исключительно своим способностям, а не чистой случайности, везению, которое во всех предсказаниях является неотъемлемым элементом условия задачи. (На самом деле это же справедливо для всех азартных игр и пари, но почему-то именно применительно к фондовому рынку людям проще считать себя носителями глубинного эмпирического превосходства.) Во-вторых, чрезмерная самоуверенность усиливается по мере того, как ситуация становится знакомой. Когда я что-то делаю в первый раз, я, скорее всего, буду действовать осторожно. Но если мне уже удалось несколько раз справиться с одним и тем же делом, я все охотнее буду доверять своим способностям и стану самоуспокоенной, даже если ландшафт изменится (это, к слову, о чрезмерно самоуверенных водителях). Когда перед нами стоит знакомая задача, мы чувствуем себя спокойнее, считаем, что нам вовсе незачем проявлять такую же осторожность, как в тех случаях, когда мы пробуем нечто новое или еще не опробованное. В одном классическом примере Эллен Лангер обнаружила, что люди с большей вероятностью поддаются иллюзии контроля (при таком проявлении самоуверенности мы считаем, что контролируем окружение в большей степени, чем есть на самом деле), когда играют в знакомую лотерею, чем в тех случаях, когда играют в незнакомую. Здесь есть нечто от формирования привычки, о чем мы уже говорили. Каждый раз, когда мы что-то повторяем, мы ближе знакомимся с ним и наши действия становятся все более автоматическими, поэтому мы с меньшей вероятностью уделяем достаточное внимание тому, что делаем. Вряд ли Холмс допускал в ранних делах такие ошибки, как в «Желтом лице»: в рассказе говорится, что эта история произошла на более позднем этапе карьеры сыщика и напомнила ему обычный шантаж, с которым Холмс неоднократно сталкивался прежде. Холмсу прекрасно известно, насколько опасным может быть ощущение уже знакомого, по крайней мере когда речь идет о других людях. В «Истории жилички под вуалью» (The Adventure of the Veiled Lodger) он рассказывает об опыте супружеской пары, которая слишком долго кормила льва. «На следствии о смерти говорилось, что по некоторым признакам лев был опасен, но, как всегда бывает, привычка порождает небрежность, и вот – эта трагедия»[22]22 Здесь и далее цитаты из рассказа «История жилички под вуалью» приведены в переводе Н. Галь. – Прим. пер. [Закрыть]. Все, что остается Холмсу, – применить ту же логику к себе. В-третьих, избыточная самоуверенность нарастает одновременно с накоплением информации. Если мне известно о чем-либо достаточно много, скорее всего, я буду считать, что справлюсь с этим делом, даже если дополнительная информация не влечет за собой существенного увеличения моих знаний. Именно этот эффект мы наблюдали ранее, в эксперименте с участием психологов-консультантов, высказывающих суждения: чем больше информации о пациенте они получали, тем увереннее считали поставленный диагноз точным, хотя в действительности эта уверенность становилась все менее оправданной. Что касается Холмса, во время поездки в Норбери его запас подробностей неуклонно 130 пополняется. Но все эти подробности даны с точки зрения мистера Манро, который сам не подозревает, какие из них наиболее важны. Тем не менее изложенное выглядит на редкость правдоподобно. Теория Холмса, безусловно, охватывает все факты, точнее, известные факты. Однако Холмс не учитывает того, что вся эта обильная информация продолжает быть избирательной. Множество сведений мешает ему расслышать тревожный сигнал: попрежнему еще ничего не известно о главном действующем лице, обладающем наиболее существенной информацией, – о миссис Манро. Как всегда, количество отнюдь не означает качества. И наконец, чрезмерная самоуверенность возрастает во время действия. При активной вовлеченности мы становимся более уверенными в том, что делаем. В еще одном классическом исследовании Лангер обнаружила, что участники, которые подкидывали монету сами (в отличие от тех, кто наблюдал, как ее подкидывали другие), предсказывали выпадение орла или решки с большей уверенностью в своей точности, несмотря на то что объективно вероятность правильных предсказаний не менялась. Более того, участники, которые сами выбирали лотерейный билет, были более уверены в том, что им повезет, чем те, кто получал лотерейный билет, выбранный кем-то другим. В реальной жизни подобный эффект проявляется столь же отчетливо. Еще раз приведем в качестве примера трейдеров. Чем больше они торгуют, тем более им свойственна уверенность в своей способности прибыльно торговать. В итоге они зачастую выходят за рамки имеющихся средств и подрывают собственные предыдущие достижения. Но кто предупрежден, тот вооружен. Зная обо всех этих ловушках, можно их избежать. Все сводится к идее, выраженной в начале главы: необходимо продолжать учиться. Лучшее, что мы можем сделать, – признать, что рано или поздно и мы споткнемся, если не в результате застоя, то от чрезмерной самоуверенности, почти диаметральных противоположностей, тесно связанных друг с другом (я говорю «почти», потому что чрезмерная самоуверенность создает иллюзию движения – в отличие от привычного застоя, – однако это движение не обязательно куда-то ведет), и продолжать учиться. Заканчивая расследование в рассказе «Желтое лицо», Холмс еще раз обращается к своему спутнику: «Ватсон, если вам когда-нибудь покажется, что я слишком полагаюсь на свои способности или уделяю случаю меньше старания, чем он того заслуживает, пожалуйста, шепните мне на ухо: «Норбери» – и вы меня чрезвычайно этим обяжете». Холмс прав: такое дело ни в коем случае не следует забывать. Даже лучшие из нас, в особенности самые лучшие, нуждаются в напоминании, что нам свойственно ошибаться и что мы способны обманывать самих себя, с полной уверенностью совершая грубейшие ошибки. А теперь – хорошие новости Продолжать учебу никогда не поздно, даже если однажды вы уже прекратили ее. Мы открыли главу рассказом «Алое кольцо», торжеством принципа непрерывного обучения, которого придерживался Холмс. В каком году был совершен этот подвиг неугасающей любознательности и неиссякающего стремления ставить перед своим разумом новые, все более трудные испытания? В 1902-м[23]23  Хронология событий биографии Холмса и раскрытых им дел взята из книги Лесли Клингер «Новый комментированный Шерлок Холмс» (Leslie Klinger. The New Annotated Sherlock Holmes. NY: W. W. Norton & Company, Inc. 2004). – Прим. авт. [Закрыть]. А в каком году произошли события, описанные в «Желтом лице», когда самоуверенность великого сыщика одерживает верх над его же принципом неустанной учебы? В 1888-м. Эти хронологические подробности я привожу, чтобы указать на очевидное и вместе с тем важнейшее свойство человеческого разума: мы никогда не перестаем учиться. 131 Холмс, который берется за дело о таинственном жильце и в конце концов проникает в сложную сеть тайных обществ и международных криминальных кругов (отсюда и название «Алое кольцо» – речь идет о тайном итальянском преступном синдикате, на счету которого немало злодеяний), – уже не тот Холмс, который по явной невнимательности допустил столь досадные ошибки в «Желтом лице». У Холмса случались свои «Норбери». Однако он предпочел усвоить их уроки и в результате стал мыслить еще успешнее, отточил и без того невероятно острый разум. И мы тоже никогда не перестаем учиться, даже если не подозреваем об этом. К моменту событий, описанных в «Алом кольце», Холмсу исполнилось сорок восемь лет. Согласно обычным меркам, в таком возрасте человек уже не способен кардинально измениться, по крайней мере на фундаментальном уровне мозга. До недавнего времени считалось, что все хоть скольконибудь значительные нейронные изменения могут происходить самое позднее в третье десятилетие нашей жизни, когда окончательно оформляется наша нейронная сеть. Однако новые исследования указывают, что дело обстоит совсем иначе. Мы не просто можем продолжать учиться: сама структура нашего мозга может меняться и развиваться более сложными способами на протяжении гораздо более длительного периода, даже в преклонном возрасте. В одном исследовании взрослых людей в течение трех месяцев учили жонглировать тремя мячиками. Сканирование мозга этих людей, а также тех, кто не учился жонглировать, проводили за этот период трижды: до начала тренировок, в тот момент, когда у обучающихся жонглированию начинало хоть что-нибудь получаться (например, им удавалось жонглировать хотя бы минуту), и через три месяца после второго сканирования, когда их просили полностью перестать заниматься жонглированием. Поначалу снимки серого вещества не выявили никакой разницы между «жонглерами» и «нежонглерами». Но к тому времени, как «жонглеры» приобрели некоторый опыт, явные изменения стали очевидными: у «жонглеров» отмечалось двустороннее (то есть в обоих полушариях) увеличение объема серого вещества в медиальной височной зоне и в области левой задней внутритеменной борозды – участков, связанных с обработкой и сохранением в памяти сложной зрительно-двигательной информации. Учились не только сами «жонглеры», но и мозг этих людей, причем изменяясь куда фундаментальнее, чем это ранее считалось возможным. Более того, подобные нейронные изменения могут происходить гораздо быстрее, чем мы в состоянии представить. Обучая группу взрослых людей отличать различные оттенки двух цветов, зеленого и синего, в течение двух часов (для обучения были взяты четыре оттенка, различимые визуально, но не лексически, и носящие произвольно присвоенные им названия), ученые заметили увеличение объема серого вещества в области зрительной коры головного мозга V2/3, которая, как известно, имеет отношение к цветовому зрению. Всего через два часа мозг уже демонстрировал восприимчивость к новой информации и обучению на глубинном, структурном уровне. Даже сфера, которая традиционно считалась прерогативой молодежи, – изучение новых языков – продолжает изменять ландшафт мозга в более позднем возрасте. Когда группа взрослых учеников проходила интенсивный девятимесячный курс современного китайского, белое вещество их мозга неуклонно преобразовывалось (по данным ежемесячных исследований) в языковых зонах левого полушария и аналогичных им зонах правого полушария, а также в колене (передней оконечности) мозолистого тела – сети нервных волокон, соединяющих два полушария (мозолистое тело мы уже упоминали, говоря о пациентах с разделенными полушариями мозга). Только представьте себе, как меняется нейронная сеть в крайних случаях, когда человек теряет зрение, функции какой-либо конечности, претерпевает другие, не менее радикальные 132 телесные изменения. Работа целых зон мозга оказывается направленной на развитие новых функций, участкам с потерянными функциями находится сложное новаторское применение. Наш мозг способен в ходе обучения совершать подвиги, которые не назовешь иначе как чудом. Но и это еще не все. Теперь уже ясно, что практическое применение усвоенных сведений даже пожилым человеком может сделать обратимыми симптомы когнитивной деградации, которые уже проявились. Я выделила эти слова курсивом исключительно от восторга. Это же удивительно – знать, что, даже если мы всю жизнь ленились, мы можем значительно измениться и починить свой мозг, если будем помнить и воплощать в жизнь самые важные уроки Холмса. Разумеется, у всего есть и обратная сторона. Наш мозг не только учится на протяжении всей жизни и при этом продолжает меняться: одновременно происходит процесс «отучения». Задумайтесь над следующим: в исследовании с жонглированием к моменту третьего сканирования объем серого вещества, который еще три месяца назад так заметно увеличился, вдруг резко сократился. А как же тренировки? Обратный процесс начался не только на уровне результативности внешних действий, но и на нейронном уровне. Что это значит? Наш мозг учится независимо от того, знаем мы об этом или нет. Если мы не занимаемся укреплением нейронных связей, мы их теряем. Наше обучение может прекратиться, если мы сочтем нужным. Но мозг учиться не перестанет никогда. Мозг будет и дальше реагировать на то, как мы решим пользоваться им. Разница не только в том, учимся мы или нет, но и в том, чему и как мы учимся. Мы можем научиться быть пассивными, остановиться, ничему не учиться и точно так же можем научиться быть любознательными, пытливыми, продолжать приобретать знания, которые никогда прежде не считали необходимыми. Следуя примеру Холмса, мы учим наш мозг быть активным. Если же мы не воспримем этот пример, если удовлетворимся достигнутым, дойдем до определенной точки и решим, что нам хватит и этого, то результат обучения будет прямо противоположным. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ «Никакой выгоды оно вам не сулит…», «Искусство для искусства…» – рассказ «Алое кольцо». «Сейчас же приходите, если можете. Если не можете, приходите все равно…», «Я был где-то в одном ряду с его скрипкой, крепким табаком, его дочерна обкуренной трубкой и справочниками…» – рассказ «Человек на четвереньках». «Подоплекой здесь шантаж, или я жестоко ошибаюсь…» – рассказ «Желтое лицо». «Как и большинство незаурядных преступников, Стэплтон, вероятно, слишком полагается на свою хитрость…» – повесть «Собака Баскервилей», гл. 12 «Смерть на болотах». Часть 4 ИСКУССТВО И НАУКА САМОПОЗНАНИЯ Глава 7 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ «ЧЕРДАК»: ОБОБЩЕНИЕ На первых страницах повести «Собака Баскервилей» Ватсон входит в гостиную дома номер 221В по Бейкер-стрит и видит палку, забытую неким Джеймсом Мортимером. Ватсон решает воспользоваться случаем и применить методы Холмса на практике, посмотреть, какое мнение он сможет составить о Джеймсе Мортимере по виду этой палки, однако его размышления прерывает вопрос товарища: «Ну-с, Ватсон, какого вы мнения о ней?» 133 Ватсон потрясен: приятель сидит спиной к нему, за обеденным столом. Как можно было узнать, чем занят он, Ватсон, и о чем думает? Можно подумать, у Холмса есть глаза на затылке. «Чего нет, того нет, – говорит Холмс. – Зато передо мной стоит начищенный до блеска серебряный кофейник». И продолжает настаивать: «А в самом деле, Ватсон, что вы скажете о палке нашего посетителя?.. Обследуйте палку и попробуйте воссоздать по ней образ ее владельца, а я вас послушаю». Ватсон азартно включается в игру, старательно следуя обычному подходу товарища. «Помоему, этот доктор Мортимер – преуспевающий медик средних лет, к тому же всеми уважаемый, поскольку друзья наделяют его такими знаками внимания, – начинает Ватсон. – Кроме того, я склонен думать, что он сельский врач, а следовательно, ему приходится делать большие концы пешком». Первая часть вывода звучит вполне убедительно. Но каким образом Ватсон пришел ко второму? «Потому что его палка, в прошлом весьма недурная, так сбита, что я не представляю себе ее в руках городского врача», – объясняет он. Холмс доволен. «Весьма здравое рассуждение», – восклицает он. Что же дальше? «Опять же надпись: “От друзей по ЧКЛ”, – Ватсон замечает гравировку на палке. – Полагаю, что буквы “КЛ” означают клуб, вернее всего охотничий, членам которого он оказывал медицинскую помощь, за что ему и преподнесли этот небольшой подарок». «Ватсон, вы превзошли самого себя», – отвечает Холмс, называет товарища «проводником света», способным зажигать в других талант, и заканчивает похвалу словами: «Я у вас в неоплатном долгу, друг мой». Неужели Ватсон наконец освоил этот фокус? Неужели научился рассуждать так, как это делает Холмс? По крайней мере минуту он наслаждается похвалами. Пока Холмс не берет у него палку и не замечает, что «кое-какие данные здесь, безусловно, есть» и могут послужить основой для умозаключений. «Неужели от меня что-нибудь ускользнуло? – спрашивает Ватсон – как он сам признаётся, не без самодовольства. – Надеюсь, я ничего серьезного не упустил?» Не то чтобы упустил. «Увы, дорогой мой Ватсон, большая часть ваших выводов ошибочна, – говорит Холмс. – Когда я сказал, что вы служите для меня хорошим стимулом, это, откровенно говоря, следовало понимать так: ваши промахи иногда помогают мне выйти на правильный путь. Но сейчас вы не так уж заблуждаетесь. Этот человек, безусловно, практикует не в городе, и ему приходится делать большие концы пешком». Ватсон воспринимает эти слова как указание, что в целом он прав. Точнее, в той степени, в какой он верно оценил детали. Но прав ли он, если так и не сумел увидеть картину в целом? С точки зрения Холмса – нет. Например, он полагает, что «ЧКЛ» – скорее «Чаринг-Кросская лечебница», чем какой-либо местный охотничий клуб, и это заключение порождает множество дальнейших выводов. Ватсон удивлен: какими же они могут быть? «А вам ничего не приходит в голову? – спрашивает Холмс. – Вы же знакомы с моим методом. Попробуйте применить его». И с этим знаменитым возгласом, или, если угодно, бросив этот вызов, Холмс приступает к своему логическому фокусу, который завершается появлением самого доктора Мортимера в сопровождении кокер-спаниеля, о существовании которого сыщик только что догадался. 134 Эта непродолжительная беседа содержит все элементы научного подхода к мышлению, который мы исследовали на всем протяжении нашей книги, и служит почти идеальной отправной точкой для разговора о том, как сделать процесс мышления единым целым и что может помешать такому процессу объединения. На примере с палкой доктора Мортимера мы видим, как можно, рассуждая правильно, тем не менее не достичь цели. Этот эпизод демонстрирует основополагающую границу между теорией и практикой, между знаниями о том, как следует мыслить, и практическим применением этих знаний. Ватсон множество раз наблюдал за работой Холмса, но, когда пришло время применить те же принципы самостоятельно, потерпел фиаско. Почему? Как можно помочь ему измениться к лучшему? 1. Познайте себя – и свое окружение Как всегда, начнем с азов. Как мы сами воспринимаем ту или иную ситуацию? Как оцениваем происходящее еще до того, как приступим к процессу наблюдения? Рассуждения Ватсона начинаются с собственно палки – «хорошей толстой палки с набалдашником», «в прежние времена с такими палками – солидными, увесистыми, надежными – ходили почтенные домашние врачи». К первой части нет никаких претензий, мы видим описание внешнего вида палки. Но присмотримся к продолжению. Что это – наблюдение в чистом виде или скорее домысел? Ватсон не успел приступить к описанию палки, как его восприятие оказалось под влиянием личной предубежденности, собственного опыта, истории и взглядов, формирующих его мысли так, что он об этом не подозревает. Палка уже не просто палка. Это палка домашнего врача прежних времен со всеми характеристиками, которые подразумевает эта связь. Мгновенно сложившийся образ домашнего врача оказывает воздействие на все суждения, которые высказывает далее Ватсон, однако он ничего подобного не замечает. У него не мелькает даже мысли о том, что аббревиатура «ЧКЛ» может означать известную больницу – об этом Ватсону как врачу полагалось бы знать, однако он лишь коснулся вопроса о профессии доктора Мортимера, но так и не понял, что буквы относятся к названию больницы. Вот фрейм, или подсознательный прайминг, во всей красе. Кто знает, какие еще предубеждения, стереотипы и тому подобное будут еще извлечены из углов «мозгового чердака» Ватсона? Явно не сам Ватсон. Но нам известно одно. Любая эвристика, или, как мы помним, эмпирический метод, способный повлиять на окончательные суждения Ватсона, скорее всего, берет начало в исходной бездумной оценке. С другой стороны, Холмс понимает: началу мозгового штурма обязательно предшествует некий этап. И в отличие от Ватсона, он не занимается не вполне осознанными наблюдениями, а так сказать, руководит этим процессом с самого начала – причем начинается тот задолго до осмотра палки. Холмс охватывает ситуацию в целом, вместе с доктором и палкой, еще до того, как приступает к подробным наблюдениям, касающимся объекта, который представляет для него интерес. Для этого он делает нечто гораздо более прозаическое, чем может предположить Ватсон: смотрит в отполированный серебряный кофейник. Ему незачем даже применять способности к дедукции: если можно воспользоваться отражающими свойствами поверхности, зачем упускать такой случай? Так и нам не мешает посматривать по сторонам, искать, нет ли где-нибудь уже готового «зеркала», прежде чем кидаться в бой очертя голову. Такое «зеркало» может нам помочь критически оценить ситуацию в целом – вместо того чтобы позволять разуму бездумно 135 забегать вперед и хвататься за первый попавшийся предмет с нашего «чердака», да еще без нашего ведома и контроля. Под оценкой окружения можно подразумевать разные действия, в зависимости от выбора, который мы делаем. Для Холмса это наблюдение за происходящим в комнате, за действиями Ватсона и легко доступным отражением в кофейнике. В любом случае ясно: перед рывком понадобится сделать паузу. Ни в коем случае нельзя забывать: оценить обстановку необходимо еще до того, как будут предприняты какие-то действия или даже запущен холмсовский процесс мышления. Ведь пауза и размышление – первый этап этого процесса. Точка, от которой ведется отсчет наблюдений. Прежде чем мы начнем собирать детали, нам необходимо знать, будем ли мы собирать их вообще, и если да, то какие именно. Помните: важна именно конкретная, вдумчивая мотивация. Ее значение чрезвычайно велико. Цели надо определить и обозначить заранее. Пусть они показывают вам, как идет процесс. Пусть дают понять, как мы распределяем свои драгоценные когнитивные ресурсы. Мы должны продумать их, записать, сделать их как можно более четкими. Конечно, Холмсу незачем вести подобные записи, но большинству людей они необходимы – по крайней мере, когда речь идет о действительно важных решениях. Прежде чем мы отправимся в мысленное путешествие, этот этап поможет прояснить важные моменты: чего я хочу добиться? Что это означает для моего мыслительного процесса в будущем? Если ничего не ищешь, не обязательно ничего не найдешь. Но для того, чтобы найти, сначала надо знать, где вести поиски. 2. Наблюдайте – внимательно и вдумчиво Рассматривая палку, Ватсон обращает внимание на ее размеры и вес. Кроме того, он замечает сбитый наконечник – признак частой ходьбы по пересеченной местности. И наконец, он смотрит на гравировку «ЧКЛ» и делает выводы, уверенный, что от его взгляда ничто не ускользнуло. Холмс же в этом не уверен. Прежде всего, он не ограничивает свои наблюдения палкой как физическим объектом: ведь его изначальная цель, определившая первые этапы процесса, – узнать что-нибудь о владельце палки. «Только рассеянные способны оставить свою палку вместо визитной карточки, прождав больше часа в вашей гостиной», – говорит он Ватсону. Ну разумеется, палку же позабыли. Естественно, Ватсону известно об этом, однако он не в состоянии данный факт осознать. Более того, палка создает собственный контекст, свою версию биографии владельца, если угодно, поскольку на палке есть гравировка. Если Ватсон расшифровывает буквы «ЧКЛ» исключительно в свете своих подсознательных и предвзятых представлений о деревенском враче, Холмс понимает, что рассматривать их следует сами по себе, без каких-либо предварительных допущений, и тогда палка сообщает совсем другое. Почему врач получил ее в подарок? Или, говоря словами самого Холмса, «почему был сделан этот подарок? Когда его друзья сочли нужным преподнести ему сообща эту палку в знак своего расположения?». Такая отправная точка подсказана истинным наблюдением, касающимся надписи, а не предубеждением, вдобавок она указывает на предысторию, к которой можно выйти путем тщательных умозаключений. Контекст – неотъемлемая составляющая ситуации, а не аксессуар, который выбирается по своему усмотрению. Что касается самой палки, то и в этом случае добрый доктор не проявил должной осмотрительности в своих наблюдениях. Прежде всего, он просто бросает взгляд на палку, в то время как Холмс «несколько минут разглядывал ее невооруженным взглядом. Потом, явно заинтересовавшись чем-то, отложил сигарету в сторону, подошел к окну и снова стал осматривать палку, но уже через увеличительное стекло». Это уже более подробное изучение под всевозможными углами, применение многочисленных подходов. Конечно, метод не 136 столь быстрый, как тот, которым пользуется Ватсон, но гораздо более скрупулезный. И хотя наградой за такой подход могут и не стать новые подробности, заранее угадать это невозможно, поэтому ни в коем случае не стоит отказываться от него тем, кто хочет проявить истинную наблюдательность. (Впрочем, для нас окно и увеличительное стекло, скорее, метафора, означающая пристальность, скрупулезность, а значит, и время, потраченное на изучение проблемы.) Да, Ватсон замечает размеры палки и сбитый наконечник. Однако он не видит, что почти посередине отчетливо обозначены следы зубов. Следы зубов – на палке? Не требуется большого ума, чтобы понять: это наблюдение подразумевает существование собаки, которая носила палку, причем носила часто вслед за своим хозяином (о чем говорит Холмс). Эти подробности тоже относятся к наблюдениям, являются частью биографии доктора Мортимера. Более того, как указывает своему другу Холмс, расстояние между следами зубов позволяет определить размеры челюстей собаки, а значит, приблизительно представить ее породу. Разумеется, для этого понадобится забежать вперед и перейти к умозаключению – но оно невозможно без выбора необходимых деталей и оценки их значимости для нашей конечной цели. 3. Проявляйте воображение – не забывайте застолбить пространство на «чердаке», даже если оно вам может не понадобиться Вслед за наблюдениями наступает стадия, требующая пространства для творчества, времени для размышления и обследования всех углов и закоулков вашего «чердака», – стадия воображения. Это передышка для разума, задача на три трубки, игра на скрипке, поход в оперу, на концерт, в музей, прогулка, душ и что угодно еще, лишь бы это занятие помогало вам абстрагироваться от ситуации, о которой идет речь, а потом снова двинуться вперед. Здесь нам следует признать, что Ватсону просто не хватает времени, чтобы абстрагироваться, так как Холмс ставит его в затруднительное положение, бросает вызов, призывая применить его методы и благодаря им понять, что буквы «ЧКЛ» означают ЧарингКросскую лечебницу, а не какой-нибудь охотничий клуб. Ватсону вряд ли стоит рассчитывать на отдых за сигаретой или рюмкой коньяка. Тем не менее наш доктор способен предпринять нечто не столь радикальное и куда более подходящее для решении не слишком масштабной задачи – все же речь не идет о раскрытии настоящего преступления. В конце концов, далеко не всякая задача требует трех трубок. Порой бывает достаточно сделать умозрительный шаг назад. Мысленно отстраниться, абстрагироваться, взять паузу, задуматься и переосмыслить и заново обобщить подробности в более сжатых временных рамках. Но Ватсону это не удается. Он даже не пытается помедлить и задуматься в ответ на предложение Холмса поступить таким образом и говорит, что сделал лишь «очевидные выводы», но копнуть глубже не в состоянии. Сопоставим подходы Ватсона и Холмса. Ватсон действует напрямик: от наблюдений, касающихся прочности и формы палки, переходит к образу домашнего врача в старинном духе, от «ЧКЛ» – к какому-нибудь охотничьему клубу, от сбитого наконечника – к деревенскому врачу, от Чаринг-Кросса – к переезду из города в деревню, и этим ограничивается. У Холмса же проходит несколько больше времени между наблюдениями и выводами. Вспомним: сначала он слушает Ватсона, затем изучает палку, снова беседует с Ватсоном и наконец, когда начинает перечислять собственные выводы, делает это далеко не сразу. Скорее, он задает себе вопросы, предполагающие ряд ответов, и лишь потом останавливается на одной из возможных версий. Он рассматривает различные комбинации: может ли доктор Мортимер быть врачом с солидной лондонской практикой? Штатным консультантом? Куратором, живущим при лечебнице? Практикантом? А потом он выбирает 137 ту из них, которая наиболее вероятна в свете всех прочих наблюдений. Он не делает выводы, а скорее, размышляет и перебирает варианты. Он задается вопросами и взвешивает ответы. И лишь после этого начинает формулировать умозаключения. 4. Делайте выводы – но лишь из собственных наблюдений и ни из чего больше От палки к «преуспевающему медику средних лет, к тому же всеми уважаемому», «сельскому врачу, которому приходится делать большие концы пешком» и который «оказывал медицинскую помощь» местному охотничьему клубу, за что и получил в подарок вышеупомянутую палку, – маршрут Ватсона. И от той же палки к «бывшему консультанту или куратору» при Чаринг-Кросской лечебнице, «симпатичному человеку лет тридцати, нечестолюбивому, рассеянному и нежно любящему свою собаку», – нет, кокер-спаниеля, – и получившему палку по случаю отъезда из Чаринг-Кросса в провинцию, – курс, выбранный Холмсом. Одна и та же отправная точка и совершенно разные умозаключения (с единственной точкой пересечения: деревенский врач, который много ходит пешком). Как эти два человека пришли к различным результатам, имея дело с одной и той же задачей? Ватсон сделал два правильных вывода: палка принадлежит деревенскому врачу, и этот врач ходит пешком, навещая пациентов. Но почему же он немолод и солиден? Откуда взялся этот образ добросовестного и преданного делу семейного врача? Отнюдь не из наблюдений. Это плод воображения Ватсона, его непосредственной реакции на палку – точь-в-точь такую, с какими «ходили почтенные домашние врачи». Сама по себе палка лишена подобных свойств, она разве что «солидна». Это просто предмет, имеющий определенные признаки. Но для Ватсона она сразу обретает историю. Она воскрешает воспоминания, не имеющие отношения к конкретному делу и представляющие собой разрозненные предметы «чердачной» обстановки, приведенные в движение неким ассоциативным процессом мышления, о котором сам Ватсон не подозревает. То же самое относится к местному охотничьему клубу. Ватсон так сосредоточивается на выдуманном им почтенном и солидном деревенском медике, что ему представляется вполне логичным получение палки в подарок от членов охотничьего клуба, которым, вероятно, оказывал некую врачебную помощь доктор Мортимер. По сути дела, у Ватсона нет обоснованных, логических шагов, приводящих к этим выводам. Их порождает избирательность фокуса и образ врача в его воображении. Как почтенный и пожилой семейный человек, доктор Мортимер наверняка состоит в местном охотничьем клубе, где всегда готов оказать помощь. Хирургическую? Разумеется. Образованный человек, занимающий такое положение, просто обязан быть хирургом. От внимания Ватсона полностью ускользают буквы «Ч. К. Х. О.» после фамилии Мортимера (позднее сам Мортимер указывает на это, поправляя Холмса, назвавшего его доктором: «Что вы, что вы! У меня нет докторской степени, я всего лишь скромный член Королевского хирургического общества») – дополнение, опровергающее статус Мортимера, порожденный гиперактивным мозгом Ватсона. И, как мы уже упоминали, Ватсон никак не отмечает тот факт, что палку забыли в гостиной, а визитной карточки не оставили. Память Ватсона в этом примере так же бездумно избирательна, как его внимание, – ведь он увидел буквы «Ч. К. Х. О.», едва в первый раз взглянул на палку, однако эту аббревиатуру полностью заслонили подробности, которые разум подкинул по своему почину, руководствуясь видом самой палки. Ватсон с самого начала знает, что палку забыл ее хозяин накануне вечером, но не считает этот факт важным или даже просто достойным упоминания. Версия Холмса возникает в результате совершенно иного мыслительного процесса, полностью осознанного и осознающего полученную информацию, стремящегося охватить все свидетельства, а не только избранные, использовать наблюдения в целом, а не сосредоточиваться на отдельных компонентах, окрашенных более ярко по сравнению с остальным. 138 Прежде всего, возраст посетителя. «Отметьте, – говорит Холмс Ватсону, убедив его, что наиболее вероятное значение аббревиатуры ЧКЛ – “Чаринг-Кросская лечебница”, а не какойто охотничий клуб (ведь речь идет о враче; разве не логично предположить, что он получил подарок от больницы, а не от охотников? Какая из двух расшифровок предпочтительнее с учетом объективной информации, а не ее субъективной версии?), – что он не мог состоять в штате консультантов лечебницы, ибо это позволено только врачу с солидной лондонской практикой, а такой врач вряд ли уехал бы из города». (Мы уже знаем, что на этот переезд в деревню, выводы о котором сделаны на основании палки, Ватсон старательно указывал.) Логично. Человек, преуспевающий настолько, чтобы стать штатным врачом, едва ли снялся бы с места и уехал, разве что ввиду непреодолимых обстоятельств. Но палка о подобных обстоятельствах не говорит, следовательно, из данных свидетельств делать такого вывода нельзя (чтобы не впасть в ошибку, которую совершает Ватсон, создавая свою версию истории врача, порожденную его разумом, а не основанную на объективных наблюдениях). Так кто же он, Мортимер? Холмс рассуждает так: «Если он работал там, не будучи штатным консультантом, значит, ему отводилась скромная роль куратора, живущего при лечебнице, то есть немногим большая, чем роль практиканта. И он ушел оттуда пять лет назад – смотрите дату на палке». И вот ватсоновский медик средних лет становится «человеком лет тридцати». Отметим также, что если Холмс уверен насчет возраста посетителя – ведь он перебрал все варианты прежних должностей Мортимера, пока не осталась единственная версия, косвенно указывающая на возраст (вспомним: «оставшиеся несколько объяснений подвергаются проверке одно за другим, пока то или другое не получит значительное подкрепление»), – он все же не заходит так далеко, как Ватсон, утверждая, что человек, о котором идет речь, может быть только хирургом. С таким же успехом его можно назвать терапевтом. Доказательств нет, ничто не указывает ни в ту, ни в другую сторону, а Холмс делает выводы лишь в том случае, если к ним ведут свидетельства. Обратное было бы столь же ошибочным, сколь и чрезмерная осторожность в выводах. Что можно сказать о характере хозяина палки? «Что же касается прилагательных, то, если не ошибаюсь, я употребил следующие: симпатичный, нечестолюбивый и рассеянный». (Нет, он не ошибся.) Каким образом он пришел к этому выводу? Оказывается, отнюдь не так же бездумно, как Ватсон, наделивший посетителя другим набором черт. «Уж это я знаю по опыту, – говорит Холмс. – Только симпатичные люди получают прощальные подарки, только самые нечестолюбивые меняют лондонскую практику на сельскую, и только рассеянные способны оставить свою палку вместо визитной карточки, прождав больше часа в вашей гостиной». Каждая черта возникает непосредственно из наблюдений (пропущенных через время и пространство воображения, пусть и всего за несколько минут), сделанных Холмсом ранее. От объективного факта – к рассмотрению многочисленных возможностей и сужения их спектра до наиболее вероятных. Никаких посторонних деталей, никаких пробелов, заполненных не в меру ретивым воображением. Научная дедукция в ее лучшем проявлении. И наконец, почему Холмс наделяет доктора Мортимера собакой, причем совершенно определенной? Мы уже упоминали о следах зубов, которые проглядел Ватсон. Но эти отметины, а точнее, расстояние между ними, имеют весьма специфический вид – «для терьера такие челюсти слишком широки, а для мастифа узки». Холмс вполне мог прийти к выводу о кокер-спаниеле самостоятельно, следуя той же логической цепочке, но ему помешало появление собаки вместе с хозяином. Этим и завершилась череда умозаключений. Но разве она не была ясной на всем своем протяжении? Разве не вызывала желание воскликнуть: «Это же элементарно! Как я сам не додумался?» Именно таким свойством и должна обладать настоящая дедукция. 5. Учитесь – как на своих ошибках, так и на успехах 139 Наблюдая за оплошностями Ватсона на данном конкретном примере, Холмс узнаёт еще больше о подводных камнях мыслительного процесса, о тех моментах, когда мысли легко могут направиться по неверному пути, а также понимает, куда ведет этот путь. После разговора с Ватсоном он защищает собственные рассуждения от власти активировавшихся стереотипов и сокрушительного воздействия неверно выбранной точки отсчета на дальнейшие рассуждения, а также от ошибки, когда вместо того, чтобы учитывать все наблюдения, человек сосредоточивается только на самых заметных, недавних или иным образом выделяющихся из общего ряда. Обо всем этом Холмс знал и ранее, но каждый новый случай служит напоминанием, подкреплением, новым проявлением в ином контексте, в итоге знаниям Холмса не грозит застой. И если бы Ватсон проявил должное внимание, он сделал бы подобные выводы, извлек уроки из поправок Холмса, научился определять моменты, когда ему свойственно допускать ошибки, и в следующий раз мог бы действовать правильнее. Увы, он выбирает другой путь, сосредоточивается на заявлении Холмса о том, что он, Ватсон, на этот раз не так уж заблуждается: «Этот человек, безусловно, практикует не в городе, и ему приходится делать большие концы пешком». Вместо того чтобы попытаться понять, почему именно эти две детали оказались верными, а все остальные выводы – ошибочными, Ватсон восклицает: «Значит, я был прав» – и отказывается от возможности чему-нибудь научиться, предпочитая ей избирательную сосредоточенность на доступных наблюдениях. Обучение – это замечательно, но его необходимо переводить с теоретического уровня на практический, причем регулярно, чтобы знания не начали покрываться пылью, а «чердак», дверь которого не открывали годами, не пропах затхлостью. Всякий раз, когда у нас возникает желание не слишком усердствовать, нам стоило бы вспоминать образ заржавленной бритвы из «Долины страха»: «Позади осталась череда скучных, бессодержательных недель, и вот наконец появился подходящий объект для приложения тех редкостных способностей, которые – без применения – становятся в тягость. Ум Шерлока Холмса, подобно острой бритве, в бездействии тупел и покрывался ржавчиной». Представьте себе эту старую, затупившуюся бритву, покрытую рыжими чешуйками ржавчины, представьте грязь и упадок настолько осязаемый, что к такому предмету даже не хочется прикасаться, извлекая его из забвения, и запомните: даже когда все идет вроде бы замечательно и принимать серьезных решений не приходится, этой бритвой необходимо пользоваться. Тренировки разума, пусть даже самые незначительные, помогут ему сохранить остроту для важных дел. Пора вести дневник Отвлечемся ненадолго от доктора Мортимера. Одна моя близкая подруга, назовем ее Эми, долгое время страдала мигренями. Боли начинались внезапно, как гром среди ясного неба. Один раз она подумала, что умирает, другой – что подхватила ужасный норовирус, вспышка которого как раз наблюдалась в то время. Ей понадобилось несколько лет, чтобы научиться распознавать первые признаки мигрени и мчаться в ближайшую темную комнату с дозой имитрекса еще до того, как начиналась паника «я умираю» или «у меня жуткий желудочный грипп». Но со временем Эми научилась более-менее справляться с приступами. За исключением тех случаев, когда мигрень мучала ее несколько раз в неделю, а острая боль мешала работать, писать, заниматься чем-либо еще. Или если мигрень наваливалась в самый неподходящий момент, когда темная комната и лекарство были недоступны. И Эми приходилось оставаться на посту. Целый год Эми меняла одного терапевта за другим. Во время первого приема она обычно жаловалась на мигрени. Так происходило до тех пор, пока один из врачей вместо того, чтобы 140 сочувственно закивать и вновь прописать ей имитрекс, задал неожиданный вопрос: доводилось ли Эми вести дневник мигрени? Эми растерялась. Вести дневник предполагалось от имени мигрени? Или попытаться описать симптомы в назидание потомкам, невзирая на боль? Нет, все оказалось гораздо проще. Врач дал ей стопку бланков с графами «Время начала/завершения», «Настораживающие признаки», «Продолжительность сна», местом для описания пищи, съеденной в тот день, и т. п. После каждого приступа мигрени Эми следовало заполнять такой бланк задним числом, стараясь припомнить подробности как можно точнее. И продолжать в том же духе, пока не наберется около дюжины описаний. Эми позвонила мне, чтобы поделиться своими мыслями о подходе нового врача: возня с бланками казалась ей нелепостью. Ей известно, отчего у нее возникают мигрени, уверенно заявила мне Эми. Всему виной стресс и перемены погоды. Тем не менее она сказала, что попробует вести дневник, хотя бы ради смеха и вопреки своим сомнениям. Я посмеялась вместе с ней. Я не рассказывала бы сейчас об этом случае, если бы результаты не ошеломили нас обеих. Во время первой встречи врач спросил Эми, не бывает ли у нее мигреней от кофеина. А от спиртного? Эми, хорошо знакомая с подобными вопросами, отрицательно покачала головой. Нет, никогда. Между этими явлениями нет никакой связи. А дневник мигрени рассказал совсем иную историю. Крепкий черный чай, особенно выпитый во второй половине дня, почти всегда входил в список съеденного и выпитого Эми непосредственно перед приступом. Гораздо чаще, чем бокал вина, который тоже оказывался частым виновником мигреней. Продолжительность сна, как казалось Эми, не имела никакого отношения к мигреням. Но на самом деле имела. Количество часов сна в те дни, когда Эми было трудно даже шевелиться, неизменно оказывалось намного меньше обычного. Сыр (сыр? надо же!) тоже вошел в список. В чем-то Эми оказалась права: стресс и перемены погоды всегда провоцировали приступы. Вот только обнаружилось, что права Эми лишь частично. Подобно Ватсону, она настаивала на своей правоте, хотя степень той была ограниченна. Два выбранных Эми фактора выглядели настолько выраженными, что она не замечала никаких других. И ни разу не попыталась проследить связи, которые задним числом оказались очевидными. Конечно, знать причину – это лишь полдела. Мигрени по-прежнему мучают Эми чаще, чем ей хотелось бы. Но, по крайней мере, теперь она может контролировать ряд провоцирующих факторов гораздо лучше, чем прежде. Первые симптомы она стала замечать раньше, особенно когда позволяла себе то, чего не следовало бы, например немного вина и сыра… да еще в дождливый день. В таких случаях ей иногда удается принять лекарство до того, как разыграется головная боль, и по крайней мере на время обхитрить ее. Мигренями страдают не все. Но каждому приходится делать выбор и принимать решения, обдумывать проблемы и дилеммы, причем делать это ежедневно. И вот что я советую, чтобы ускорить обучение и усвоить методы, которыми так великодушно поделился с нами Холмс: необходимо вести дневник решений. Я имею в виду, не в переносном смысле, а в буквальном, физическом, – вести записи так, как делала Эми в отношении своих мигреней и провоцирующих факторов. Когда мы делаем выбор, устраняем проблему, приходим к решению, мы можем фиксировать этот процесс в едином месте. Мы можем внести в наш дневник список наблюдений, чтобы вспомнить их, когда придет время; туда же можно включить наши мысли, заключения, цепочки рассуждений, то, что нас заинтересовало. А можно пойти еще дальше: вести записи 141 о завершенных делах. О том, есть ли у нас какие-либо сомнения и возражения, обдумывали ли мы другие варианты (во всех случаях следует конкретно указать, какие именно). В дальнейшем мы сможем пересматривать каждую запись и дополнять ее указаниями о последствиях, которые имело наше решение. «Остался ли я доволен? Жалел ли, что не поступил иначе? Прояснилось ли сейчас то, чего я не замечал раньше?» Для тех случаев выбора, для которых мы не записали никаких наблюдений и не составили списков, можно все равно попытаться изложить, что происходило у нас в голове в тот момент. «О чем я думал? На чем основано мое решение? Какие чувства я испытывал в тот момент? Каков был контекст (я был в состоянии стресса? Взволнован? Мне было лень? День был обычным или нет? Отличался ли он чем-нибудь, и если да, то чем?)? Затрагивало ли это решение кого-нибудь, кроме меня, и если да, то кого? Что было поставлено на карту? Какова была моя цель, изначальная мотивация? Достиг ли я цели, которую поставил перед собой? Отвлекало ли меня что-нибудь?» Другими словами, надо попытаться уловить как можно бГільшую часть нашего мыслительного процесса и его результат. А потом, когда таких записей соберется не меньше десятка, можно начать перечитывать их. Можно просмотреть их все за один присест. Все эти мысли о никак не связанных друг с другом вопросах, от начала до конца. Есть вероятность, что мы заметим то же самое, что увидела Эми, перечитывая свои «дневники мигрени»: что мы делаем одни и те же привычные ошибки, мыслим одинаковым привычным образом, становимся жертвами одних и тех же воздействий контекста и т. п. И что мы никогда не замечаем этих привычных событий – точно так же, как Холмс не подозревает, что проявляет недостаток внимательности в ситуациях, когда возможно сознательное изменение внешности. И действительно, записывая то, что, как нам кажется, мы знаем как свои пять пальцев, двигаясь по следам, по которым мы не считаем нужным проходить вновь, мы приобретаем привычку, невероятно полезную даже для самых выдающихся экспертов. В 2006 г. группа врачей обнародовала результаты революционного исследования: им удалось снизить количество случаев заражения крови в результате катетеризации, грозящих затратами и возможным летальным исходом. Согласно оценкам, в год таких случаев заражения насчитывалось около 80 тыс. (из них со смертельным исходом – до 28 тыс.), стоимость лечения достигала 45 тыс. долларов на одного пациента. В отделениях интенсивной терапии Мичигана количество случаев заражения удалось снизить с 2,7 на 1000 пациентов до нуля всего за три месяца. По прошествии 16 и 18 месяцев количество случаев заражения на 1000 пациентов снизилось с исходного значения 7,7 до 1,4. Как такое возможно? Неужели врачи изобрели некий чудесный метод? На самом деле их метод был настолько простым, что многие врачи возмутились, узнав, как легко им утерли нос. Исследователи учредили список обязательных действий. В него входило всего пять простых пунктов, таких элементарных, как мытье рук и обработка кожи пациента перед введением катетера. Разумеется, в напоминаниях о таких простейших действиях никто не нуждался. И тем не менее при наличии напоминаний количество случаев инфекции резко снизилось почти до нуля. (Задумаемся о том, что это означает: до введения списка обязательных действий ряд очевидных правил не соблюдался или соблюдался нерегулярно.) Ясно, что сколь бы выдающимся специалистом в каком-либо деле мы ни стали, мы в состоянии забыть даже простейшие детали этого дела, если действуем бездумно, независимо от степени собственной мотивированности на успех. Все, что побуждает нас к вдумчивости, будь то памятка или нечто совершенно иное, способно оказать значительное влияние на нашу способность удерживаться на высоком экспертном уровне и постоянно демонстрировать отличную результативность. 142 Способность человека приспосабливаться поразительна. Как уже не раз подчеркивалось, наш мозг способен создавать всё новые нейронные сети в течение длительного времени. Клетки, срабатывающие вместе, объединяются в одну сеть. А если они начинают срабатывать в разных комбинациях с достаточным количеством повторов, конфигурация сети тоже будет меняться. Причина, по которой я делаю акцент на необходимости практики, заключается в том, что только практика позволит нам применять методику Холмса в реальной жизни, в ситуациях, гораздо более нагруженных в эмоциональном отношении, чем можно представить себе по результатам любого эксперимента, связанного с мышлением. Нам необходимы умственные тренировки, подготовка к этим эмоциональным моментам, к периодам, когда игра обстоятельств против нас особенно заметна. Легко забыть, как быстро наш разум выбирает знакомые пути, когда времени на размышление у нас нет, или в напряженных условиях другого рода. Тем не менее только нам решать, какими будут эти выбранные пути. Труднее всего применять логику Холмса в те моменты, когда от нее зависит особенно многое. Следовательно, все, что нам остается, – практиковаться, пока мы не приобретем настолько прочную привычку, что даже в условиях самого острого стресса наше мышление останется прежним, приобретенным нами упорным трудом. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ «Вы же знакомы с моим методом. Попробуйте применить его…», «Ну-с, Ватсон, какого вы мнения о ней?» – повесть «Собака Баскервилей», гл. 1 «Мистер Шерлок Холмс». «Если я берусь распутать загадку, я должен знать мельчайшие подробности…» – рассказ «Алое кольцо». «Ум Шерлока Холмса, подобно острой бритве, в бездействии тупел и покрывался ржавчиной…» – повесть «Долина страха». Глава 8 МЫ ВСЕГО ЛИШЬ ЛЮДИ Однажды утром в мае 1920 г. Эдвард Гарднер получил письмо от друга. В письмо были вложены две небольшие фотографии. На одной группа существ, напоминающих эльфов, танцевала на берегу ручья, а девочка наблюдала за ними. На другой крылатое существо, которое Гарднер принял за гнома, сидело возле другой девочки, протягивающей к нему руку. 143 Гарднер был теософом, то есть верил, что знания о Боге можно приобрести посредством духовного экстаза, непосредственной интуиции или особых личных взаимоотношений с духовным миром (популярное слияние восточных идей о реинкарнации и возможности путешествий духа). Эльфы и гномы казались бесконечно далекими от какой бы то ни было реальности, с которой он сталкивался за пределами книг, но, если любой другой человек только посмеялся бы и отложил в сторону письмо вместе со снимками, Гарднер захотел 144 разобраться в этом случае. И в ответном письме он спросил у друга, нельзя ли получить негативы этих кадров. Когда прибыли негативы, Гарднер безотлагательно переслал их Гарольду Снеллингу, выдающемуся знатоку фотографии. Говорили, что от взгляда Снеллинга не ускользает ни одна подделка. Лето продолжалось, Гарднер ждал ответа от эксперта. Неужели эти снимки – не просто искусный фотомонтаж? К концу июля Гарднер получил вердикт: «Эти два негатива, – писал Снеллинг, – совершенно настоящие, подлинные фотографии с однократной экспозицией, сделанные на открытом воздухе, демонстрирующие движения эльфов. На них нет ни малейших признаков студийной работы с применением картонных или бумажных моделей, темного фона, нарисованных фигурок и т. п. По моему мнению, это два настоящих неретушированных снимка». Гарднер пришел в восторг. Но далеко не всех убедило мнение эксперта. Изображение выглядело совершенно невероятно. Разобраться в этом деле решил один из скептиков – сэр Артур Конан Дойл. Конан Дойл действовал в высшей степени педантично. По крайней мере, в этом случае он применил методику созданного им персонажа. И запросил подтверждений у бесспорного авторитета в области фотографии, компании Kodak, тем более что снимки были сделаны фотоаппаратом именно ее производства. Компания Kodak отказалась выносить официальный вердикт. Эксперты определили, что фотографии действительно сделаны при однократной экспозиции и не носят видимых признаков подделки, но делать на этом основании вывод о подлинности снимков – это уже чересчур. Фотографии могут быть поддельными, даже если на них нет видимых признаков подделки, ведь, так или иначе, эльфов не существует. Следовательно, снимки просто не могут быть подлинными. Конан Дойл отверг последнее как сбой логики, типичный «порочный круг» аргументации. Однако прочие утверждения выглядели здравыми. Никаких следов подделки. Однократная экспозиция. Явно убедительное заключение, особенно если дополнить его вердиктом Снеллинга. Единственный негативный отзыв, высказанный экспертами Kodak, – в чистом виде предположение, а кому, как не создателю Холмса, знать, что предположения не следует принимать во внимание? Оставалось получить подтверждение лишь по последнему пункту: а что же девочки, изображенные на снимках? Какие свидетельства могут предложить они – за подлинность фотографий или против нее? Увы, сэр Артур уезжал в Австралию, отменить или отложить поездку было невозможно, поэтому он просил Гарднера отправиться вместо него туда, где были сделаны снимки, – в маленькую западно-йоркширскую деревушку Коттингли – и поговорить с родственниками девочек, запечатленных на фотографиях. В августе 1920 г. Эдвард Гарднер в первый раз встретился с Элси Райт и ее двоюродной сестрой Фрэнсис Гриффитс, шестью годами моложе Элси. Гарднеру сообщили, что снимки были сделаны три года назад, когда Элси было шестнадцать лет, а Фрэнсис десять. Родители не верили их рассказам об эльфах, живущих у ручья, и девочки решили подкрепить свои рассказы вещественным доказательством. Результатом стали фотографии. Элси и Фрэнсис произвели на Гарднера впечатление скромных и искренних девушек. Они были благовоспитанными и порядочными провинциалками, вряд ли гнались за личной выгодой и слышать не желали о плате за фотографии. Мало того, они просили не упоминать их имен в том случае, если снимки будут опубликованы. И хотя мистер Райт, отец Элси, скептически называл эти кадры детской шалостью, Гарднер был убежден, что они 145 подлинные: эльфы действительно существуют. Девушки не лгут. По возвращении в Лондон Гарднер отправил Конан Дойлу отчет о поездке, сообщив, что полностью удовлетворен ею. Пока что концы сходились с концами. Но Конан Дойл все-таки решил получить и другие подтверждения. Ведь результаты научных экспериментов считаются достоверными, если их можно воспроизвести вновь. Поэтому Гарднер еще раз отправился в провинцию, на этот раз с двумя фотоаппаратами и двумя дюжинами специально помеченных фотографических пластинок, незаметно подменить которые было бы невозможно. Он оставил привезенное девушкам, попросив их еще раз запечатлеть эльфов, предпочтительно в солнечный день, при наилучшем освещении. Разочарование его не постигло. В начале осени он получил еще три фотографии. На них были изображены эльфы. Фотопластинки оказались теми же самыми, которые привез он. Никаких свидетельств фальсификации обнаружить не удалось. 146 147 Это доказательство убедило Артура Конан Дойла. Эксперты согласились с ним (хотя, разумеется, неофициально). Воспроизведение эксперимента прошло гладко. Девушки явно ничего не скрывали и заслуживали доверия. В декабре знаменитый создатель Шерлока Холмса опубликовал первоначальные фотографии с рассказом о процессе подтверждения их подлинности в журнале The Strand Magazine, в том же самом, где публиковались повествования о самом Холмсе. Статья была снабжена заголовком: «Сфотографированы эльфы: эпохальное событие». Два года спустя он издал книгу «Пришествие эльфов» (The Coming of the Fairies), в которой подробно рассказывалось о первоначальном расследовании, а факт существования эльфов дополнительно подтверждал ясновидящий Джеффри Ходсон. Конан Дойл принял решение и не собирался менять его. Как мог Конан Дойл провалить тест на холмсовское мышление? Что подтолкнуло этого явно разумного человека к выводу, будто эльфы существуют, – только на основании того, что эксперт подтвердил: фотографии из Коттингли – не подделка? Сэр Артур потратил столько сил на подтверждение подлинности снимков, что ни разу не задался очевидным вопросом: почему в попытках определить подлинность никто не пробовал установить, нет ли более простого способа сфальсифицировать сами изображения эльфов? Легко согласиться с логичным утверждением, что десятилетняя и шестнадцатилетняя девочки вряд ли могли сфабриковать фотографии, удовлетворившие экспертов, но как насчет сфабрикованных эльфов? Рассмотрите снимки на предыдущих страницах. Теперь, по прошествии времени, очевидно, что они ненастоящие. Разве эльфы выглядят живыми? Или, скорее, напоминают вырезанные из бумаги и продуманно расположенные фигурки? Почему они настолько контрастные? Почему не движутся их крылья? Почему никто не последовал за девушками, чтобы лично увидеть эльфов? Конан Дойл мог бы копнуть глубже и должен был сделать это, когда речь зашла о девочках с фотографий. Тогда он узнал бы, что Элси – талантливая художница, вдобавок, как оказалось, работавшая в фотостудии. Кроме того, он мог бы обнаружить некую книгу, изданную в 1915 г., с иллюстрациями поразительно напоминавшими эльфов на первых снимках. Холмс определенно не попался бы на подобную уловку. Не было ли у эльфов помощниковлюдей, которые помогли этим существам попасть в кадр и, так сказать, явить свое существование? – вот какой вопрос задал бы сыщик в первую очередь. Невероятное – еще не значит невозможное, однако без соответствующих веских доказательств не обойтись. Совершенно ясно, что именно их сэр Артур Конан Дойл раздобыть не смог. Почему? Как мы вскоре убедимся, когда нам по-настоящему хочется поверить во что-либо, то мы становимся гораздо менее скептичными и дотошными и принимаем доказательства далеко не столь придирчиво, чем когда те подтверждают явление, верить в которое нам не хочется. Другими словами, в подобных случаях мы не обременяем себя особо тщательной проверкой. Для Конан Дойла существование эльфов стало как раз таким случаем. Принимая решение, мы делаем это в рамках контекста знаний, доступных нам в настоящий момент, а не глядя из будущего. В названном контексте бывает непросто найти баланс между требуемой непредубежденностью и тем, что считается объективным критерием в контексте данного времени. Нас тоже можно обманом убедить в том, что эльфы (или еще что-нибудь) действительно существуют. Достаточно лишь верно выбранного окружения и мотивации. Задумайтесь об этом, прежде чем осуждать Конан Дойла за глупость (надеюсь, к концу главы вы будете меньше склонны к осуждению). Мы – заложники наших знаний и мотивации Закройте глаза и представьте себе тигра. Он лежит на зеленой траве, купаясь в лучах солнца. Вылизывает лапы. Лениво зевает, перекатывается на спину. Неподалеку слышится шорох. 148 Возможно, это ветер, но тигр настораживается. Мгновение – и он уже стоит на всех четырех лапах, выгнув спину плавной дугой, вжав голову в плечи. Вы видите его? Как он выглядит? Какого цвета шерсть? Есть ли на ней полосы? Какого они цвета? А глаза? А морда (есть ли у тигра усы)? Какова текстура шерсти? Вы видите клыки, когда тигр открывает пасть? Если вы похожи на большинство людей, ваш тигр оранжевого цвета, с темными или черными полосами на морде и боках. Возможно, вы не забыли добавить характерные белые пятна на голове и животе, кончиках лап и горле. Или же не сделали этого, и тигр у вас получился почти одноцветный. Возможно, у вашего тигра черные глаза. Или синие. В равной степени вероятно и то и другое. Может, вы видите, как он обнажает клыки. Или не видите их. Но одна деталь неизменна почти для всех: преобладающий цвет вашего тигра – какойнибудь из оттенков темно-оранжевого или рыжего цвета, нечто среднее между цветом огня и патоки. Вряд ли это редкий белый тигр-альбинос, белый цвет шерсти которого обусловлен двойным рецессивным геном, который встречается так редко, что эксперты оценивают его появление в естественных условиях следующим образом: в дикой природе белым рождается примерно один из десяти тысяч тигров. (На самом деле они вовсе не альбиносы. Это состояние называется лейкизм и является результатом снижения уровня всех кожных пигментов, а не только меланина.) Вряд ли это будет и черный тигр, так называемый меланист. Эта разновидность окраски – без полос, без цветовых переходов, шерсть глубокого и ровного черного цвета – объясняется мутацией гена, отвечающего за агути-фактор (многоцветную зональную окраску каждой шерстинки). И то и другое встречается редко. Ни один из этих двух окрасов не всплывает в голове, когда требуется представить себе типичного тигра. Тем не менее все три животных – представители одного и того же вида, Panthera tigris. А теперь снова закройте глаза и вообразите другое животное – осьминога-имитатора, который водится на океанском дне вблизи некоторых рифов. Вода серовато-голубая, неподалеку проплывает стайка рыб. Вы озадачены? Вот подсказка. Длина этого осьминога – примерно 60 см, на теле есть коричневые и белые пятна и полосы – за исключением случаев, когда их там нет. Видите ли, имитатор умеет маскироваться более чем под 15 различных обитателей моря. Его можно принять за медузу из рассказа «Львиная грива», поразившую столько жертв чуть ли не на глазах растерявшегося Холмса. Он может стать похожим на полосатую морскую змею, на плоскую, как лист, камбалу или приобрести сходство с нахохлившимся индюком на человеческих ногах. Может менять цвет, размер, форму в любой момент. Иначе говоря, представить себе такое существо почти невозможно. Оно сочетает в себе множество животных, так что в любой отдельно взятый момент нельзя вычленить какое-то одно. А теперь я скажу вам еще кое-что. Одного из животных, упомянутых в предыдущих абзацах, в действительности не существует. Возможно, когда-то оно и обитало на Земле, но теперь сохранилось лишь в легендах. О каком из них вы подумали? О рыжем тигре? О белом? О черном? Об осьминоге-имитаторе? Правильный ответ – черный тигр. Хотя с генетической точки зрения его существование выглядит правдоподобно и то, что нам известно о генетическом наследовании тигра и его геноме, подтверждает такую теоретическую возможность, настоящего тигра-меланиста никто и никогда не видел. Да, говорят, будто такого тигра видели, – но это лишь голословные утверждения. Попадались также экземпляры-псевдомеланисты, полосы у которых были такими широкими и близко расположенными, что почти сливались, создавая 149 впечатление меланизма. Существовали темно-коричневые тигры с черными полосами. Некоторые черные тигры оказывались в конце концов черными леопардами – такая путаница встречается особенно часто. Но настоящего черного тигра никто не видел. Не зафиксировано ни одного подтвержденного и проверенного случая. Ни единого. Тем не менее вы, вероятно, без труда поверили в его существование. На протяжении веков людям явно хотелось, чтобы черный тигр существовал. Черные звери фигурируют в одной вьетнамской легенде, за их поимку не раз назначались награды, одного даже преподнес в дар Наполеону король Явы (увы, подарок оказался опять-таки леопардом). Существование такого животного представляется логичным. Оно имеет определенное сходство с животными, о реальности которых нам известно. И потом, почему бы и нет? С другой стороны, осьминог-имитатор до сравнительно недавнего времени оставался персонажем легенд. Он был обнаружен лишь в 1998 г. группой рыбаков у побережья Индонезии. Сообщение об этом событии выглядело так неправдоподобно и странно, что понадобилось отснять часы видеоматериалов, чтобы убедить скептически настроенных ученых, что такое существо действительно есть. Мимикрия – довольно распространенное явление в царстве животных, однако никогда прежде не был найден вид, способный принимать столь многочисленные обличия, и никакие осьминоги прежде не пытались изображать других животных. Дело в том, что выглядящий научным контекст способен с легкостью ввести в заблуждение, заставить поверить в реальность того, чего на самом деле не существует. Чем больше нам предложено цифр и подробностей, чем чаще мы читаем замысловатые научные термины («меланист» вместо «полностью черного животного», «агути-фактор» вместо «пестрой окраски шерсти», а также такие слова, как «мутация», «полиморфизм», «гены»), нагроможденные один на другой, – тем больше вероятность, что мы поверим в реальность того, что этими словами описывается. И наоборот, слишком легко поверить в неправдоподобность, нереальность и неубедительность явления, которого мы никогда не видели и даже не подозревали о его существовании. 150 Представим себе, что на фотографиях из Коттингли девочки изображены рядом с насекомым неизвестного науке вида. Или что на снимке одна из девочек протягивала руку вот к такому существу. 151 Не иначе как миниатюрный дракон. (А на самом деле – Draco sumatranus, индонезийская летающая ящерица, но кто мог бы узнать ее в Англии во времена Конан Дойла?) Или вот к этому. Порождение мрачных глубин воображения, возможно, персонаж триллера. Но реально ли оно? (На самом деле это родич крота, звездонос, или звездорыл Condylura cristata, обитающий на востоке Канады. Малоизвестное существо даже в недавние доинтернетные времена, не говоря уже о викторианской эпохе.) Если в самом деле на свете есть животные, казавшиеся необычными и странными всего несколько десятилетий назад, а некоторые продолжают нас удивлять и по сей день, – понадобилось бы нам множество веских доказательств их существования или хватило бы свидетельств, что фотография не представляет собой явную подделку? Наши представления о мире и вес доказательств, которые требуются нам, чтобы принять что-либо как факт, постоянно меняются. Эти представления – не совсем та информация, что хранится на нашем «мозговом чердаке», и не наблюдения в чистом виде, а то, что окрашивает каждый этап решения задачи. Наша собственная вера в возможность или правдоподобие чего-либо формирует наши основные допущения, то, как мы формулируем и рассматриваем вопросы. Как мы убедимся, Конан Дойл был склонен верить в возможность существования эльфов. Он хотел, чтобы они были настоящими. Эта предрасположенность, в свою очередь, обусловила его восприятие снимков из Коттингли и в дальнейшем не позволила абстрагироваться от них, несмотря на то что писатель считал, будто прилагает все усилия для установления подлинности снимков. Наша интерпретация сведений окрашена непосредственным восприятием. Некоторые вещи кажутся нам более правдоподобными, чем другие, и наоборот: некоторые просто «не имеют смысла», какими бы свидетельствами они ни были подкреплены. Это предубежденность, 152 подтверждающая некие взгляды (к ней относятся разные виды предубежденности: иллюзия значимости и понимания, закон малых чисел, зацикленность, репрезентативность, а также все это, вместе взятое), и так вновь и вновь. Психолог Джонатан Хейдт обобщает это явление в книге «Праведный разум» (The Righteous Mind): «Нам совершенно не даются поиски свидетельств, бросающих вызов нашим представлениям, но окружающие оказывают нам такую услугу столь же усердно, как мы сами находим ошибки в чужих представлениях». Нам довольно легко заметить изъяны в изображении эльфов, потому что их потенциальная реальность не ассоциируется у нас с какими-либо эмоциями. Но если мы возьмем то, что задевает за живое лично нас и угрожает оставить пятно на нашей репутации, останется ли задача столь же простой? Легко рассказывать своему разуму о том, что существует, и ничуть не труднее – рассказывать ему о том, чего нет. Здесь прослеживается глубокая зависимость от нашей мотивации. Даже в этом случае мы можем счесть, что эльфы бесконечно далеки от таких существ, как осьминог-имитатор, как бы трудно нам ни было вообразить его себе. Ведь мы знаем, что осьминоги бывают. Знаем, что каждый день ученые открывают новые виды животных. Знаем, что некоторые из этих животных имеют весьма причудливый облик. С другой стороны, эльфы бросают вызов всем разумным представлениям об устройстве мира. Именно здесь в дело вступает контекст. Опрометчивость разума? Удостоверяя подлинность снимков из Коттингли, Конан Дойл поступал отнюдь не безрассудно. Да, он не собрал те самые точные доказательства, которых, несомненно, потребовал бы от своего сыщика. (Стоит вспомнить, что сэр Артур не проявлял лени в подобных делах. Как нам уже известно, он способствовал оправданию двух подозреваемых, несправедливо обвиненных в убийстве, – Джорджа Эдалджи и Оскара Слейтера.) Тем не менее он обратился за разъяснениями к двум лучшим экспертам в области фотографии, каких знал. И попытался в некотором роде воспроизвести эксперимент. Так ли легко поверить, что две девочки десяти и шестнадцати лет в состоянии располагать техническими знаниями, позволяющими фальсифицировать негативы? Понять мотивацию Конан Дойла нам поможет попытка взглянуть на снимки так, как смотрели на них сам Дойл и его современники. Вспомним, что дело происходило задолго до начала эпохи цифровых фотоаппаратов, фотошопа и бесконечного редактирования, когда каждый в состоянии создать изображение почти всего, что пожелает, причем результаты будут выглядеть гораздо убедительнее, чем эльфы из Коттингли. В те времена фотография была сравнительно новым видом искусства – трудоемким, требующим больших затрат времени и технически сложным. Далеко не всякий мог заниматься ею, а тем более фотомонтажом. Сегодня мы смотрим на эти снимки иначе, чем люди в 1920 г. У нас другие стандарты. Мы выросли на других примерах. Было время, когда фотография считалась убедительным доказательством, настолько трудно было ее сделать или подделать. Оглядываясь в прошлое, поражаешься, как много изменилось и насколько иным когда-то был мир. Тем не менее эльфы из Коттингли обладали единственным крупным, а в случае репутации Конан Дойла – неоспоримым недостатком. Эльфов нет и быть не может. На это указывали сэру Артуру эксперты из Kodak: доказательство не имеет значения, каким бы оно ни было. Эльфы – плод воображения, а не порождение действительности. И точка. Наши представления о том, что возможно или невозможно, влияют на то, как мы воспринимаем одни и те же доказательства. Но со временем эти представления меняются, в итоге доказательство, которое когда-то казалось бессмысленным, приобретает огромное значение. Задумайтесь о том, как много идей казались чуждыми и нелепыми, когда их только 153 выдвинули: они выглядели невозможными, никак не могли быть правдой: Земля круглая, Земля вращается вокруг Солнца, Вселенная почти целиком состоит из незримого темного вещества и энергии. И не забывайте, что волшебство во времена Конан Дойла действительно происходило повсюду: были открыты рентгеновские лучи и возбудители болезней – микробы, а также радиация, и все это переходило из категории невидимого, следовательно, несуществующего, в категорию видимого и явного. И то, о реальности чего никто не задумывался, существует на самом деле. Разве удивительно в таком контексте то, что Артур Конан Дойл стал спиритуалистом? В 1918 г., когда он официально объявил о своих спиритуалистских взглядах, он не был одинок в своих убеждениях – или знаниях, как сказал бы он сам. Сам спиритуализм, хоть никогда и не занимал господствующего положения, имел выдающихся сторонников по обе стороны океана. В частности, Уильям Джеймс считал, что новой дисциплине – психологии – необходимо проверить себя в области духовных исследований, и писал: «Сейчас научно едва затронут, если затронут вообще, лишь поверхностный слой фактов, относящихся к «сверхъестественному». Я убежден, что именно благодаря исследованию этих фактов будущим поколениям предстоит достичь величайших научных успехов». В «сверхъестественном» он видел будущее науки. Оно открывало новые пути не только для психологии, но и для всех научных достижений. Такого мнения придерживался человек, считающийся отцом современной психологии. Достаточно упомянуть лишь несколько имен тех, кто также пополнил ряды поборников изучения духов: физиолог и специалист в области сравнительной анатомии Уильям Б. Карпентер, автор основополагающих трудов по сравнительной нейрологии; известный астроном и математик Саймон Ньюкомб; натуралист Альфред Рассел Уоллес, выдвинувший теорию эволюции одновременно с Чарльзом Дарвином; химик и физик Уильям Крукс, открыватель новых элементов и новых методов их изучения; физик Оливер Лодж, непосредственно причастный к развитию беспроволочного телеграфа; психолог Густав Теодор Фехнер, основатель одной из наиболее точных областей психологических исследований – психофизики; физиолог Шарль Рише, удостоенный Нобелевской премии за изучение анафилаксии; список можно продолжать. Далеко ли мы ушли сегодня? В 2004 г. 78 % населения США верило в существование ангелов. А что касается духовной реальности как таковой, задумаемся над следующим. В 2011 г. Дэрил Бем, один из столпов современной психологии (обязанный своей славой теории, согласно которой мы воспринимаем свое ментальное и эмоциональное состояние так же, как и чужие, – обращая внимание на физические признаки), опубликовал статью в Journal of Personality and Social Psychology, одном из самых уважаемых и влиятельных изданий в этой области. Тема статьи – доказательство существования ESP, экстрасенсорного восприятия. Автор статьи считает, что люди способны видеть будущее. К примеру, в одном исследовании Корнелльского университета участникам показывали на экране два занавеса. Участники должны были сказать, за каким из них скрывается картинка. После того как объект выбирали, занавесы открывались, и участники видели, где картинка находится на самом деле. У вас наверняка возник резонный вопрос: какой смысл показывать местонахождение картины уже после того, как выбор сделан? Бем утверждает: если мы способны увидеть хотя бы крошечную частицу будущего, то можем воспользоваться этой информацией, чтобы делать в настоящем догадки с результатами выше среднего. Их удалось даже улучшить. Для эксперимента были выбраны картинки двух видов: нейтральные и с эротическими сценами. По оценкам Бема, есть вероятность, что мы успешнее смотрим в будущее, когда там есть на что смотреть (многозначительное 154 подмигивание). Если он прав, значит, угадывая изображение, мы продемонстрируем результаты, отличающиеся в лучшую сторону от случайных пятьдесят на пятьдесят. О чудо: местонахождение эротических картинок участники угадывали с вероятностью примерно 53 %. Экстрасенсорное восприятие – реальность. Возрадуемся! Или, говоря более сдержанными словами психолога Джонатана Скулера (одного из рецензентов этой статьи), «я уверен, что такие успехи уважаемого и педантичного исследователя заслуживают внимания общественности». Оставить в прошлом эльфов и спиритуализм труднее, чем кажется. Особенно трудно бывает предать забвению то, во что мы хотим верить. Работа Бема вызвала точно такие же громкие сожаления о «кризисе жанра», как публичная поддержка спиритуализма Уильямом Джеймсом более ста лет назад. Это выяснилось в том же номере, в котором были опубликованы сами результаты исследования, – редкий случай одновременного появления статьи и ее опровержения. Мог ли журнал Journal of Personality and Social Psychology предвидеть будущее и воздержаться от спорного решения публиковать эти материалы? С тех пор мало что изменилось, разве что спиритуализм теперь называют парапсихологией и экстрасенсорным восприятием. (С другой стороны, сколько людей отказалось поверить результатам исследования подчинения, проведенным Стэнли Милгрэмом и показавшим, что подавляющее большинство людей способно по приказу причинить другим смертельную боль, прекрасно сознавая, что они делают, и несмотря на внутренний конфликт?) С нашими инстинктами трудно бороться, какую бы направленность они ни имели. Для этого требуется вдумчивое, осознанное усилие воли. Нашу интуицию формирует контекст, а контекст наполнен информацией благодаря миру, в котором мы живем. Таким образом, он может служить шорами или своего рода «слепым пятном», как в случае с Конан Дойлом и эльфами. Но благодаря вдумчивости мы можем постараться найти баланс между проверкой нашей интуиции с помощью фактов и широтой взглядов. Затем мы можем вынести наиболее точное суждение, располагая информацией, вдобавок отдавая себе отчет, что эту информацию окрашивает сама эпоха. В таком случае можно ли винить Артура Конан Дойла за его приверженность версии о реальности эльфов? Разве он зашел слишком далеко – в условиях викторианской Англии, когда эльфы населяли страницы почти каждой детской книжки (не в последнюю очередь «Питера Пэна», написанного близким другом сэра Артура, Дж. М. Барри), где даже терапевты и психологи, химики и астрономы допускали возможность их существования? В конце концов, Конан Дойл был всего лишь человеком, подобно всем нам. Мы никогда не узнаем наверняка, что произошло. Самое большее, что мы можем предпринять, – запомнить наставления Холмса и старательно применять их. И помнить, что непредубежденность – одно из этих наставлений, отсюда и принцип (или аксиома, как она названа в конкретном случае, в рассказе «Чертежи Брюса-Партингтона»): «Когда исключаются все возможности, кроме одной, эта последняя, сколь ни кажется она невероятной, и есть неоспоримый факт». Но что это означает на практике? Как перейти от теоретического понимания необходимости баланса и непредубежденности к его практическому применению в ситуациях, когда у нас может и не быть времени обдумывать свои суждения так, как во время неспешного чтения на досуге? И мы возвращаемся к самому началу: к привычному культивируемому нами складу ума, к структуре нашего «мозгового чердака», которую мы стремимся сохранить во что бы то ни стало. 155 Охотничий склад ума Одна из ипостасей Шерлока Холмса, то и дело возникающая в рассказах о нем, – Холмсохотник, вечно настороженный хищник, который высматривает очередную добычу, даже когда кажется, что он мирно лежит в тени, этот бдительный снайпер, улавливающий малейший шорох, даже если винтовка покоится у него на коленях во время полуденного отдыха. Вспомним, как Ватсон описывает спутника в рассказе «Дьяволова нога» (The Adventure of the Devil’s Foot): «Холмс преобразился: внешнее бесстрастие мгновенно сменилось бешеной энергией. Он подобрался, насторожился, глаза его засверкали, лицо застыло, он двигался с лихорадочной быстротой… точь-в-точь гончая, почуявшая дичь»[24]24 Здесь и далее цитаты из «Дьяволовой ноги» приведены в переводе А. Ильф. – Прим. пер. [Закрыть]. В сущности, идеальный образ. Энергия не тратится понапрасну: она порождает привычное состояние бдительности и внимания, позволяющее действовать мгновенно, как делает охотник, увидевший льва, лев, заметивший антилопу, или гончая, которая почуяла лисицу, и теперь все ее тело начеку, готовое броситься в погоню. Охотник – это символ, объединяющий все свойства мышления, воплощением которых выглядит Шерлок Холмс, в единый элегантный силуэт. Культивируя такой склад ума со всеми его установками, мы на шаг приближаемся к умению осуществлять на практике то, что уже поняли в теории. Разум охотника воплощает в себе все элементы холмсовской мысли, не давая им ускользнуть, и, регулярно пользуясь таким складом ума, мы всякий раз освежаем в памяти принципы, которые иначе бы оказались забыты. Неусыпное внимание Быть охотником не значит постоянно охотиться. Это значит всегда быть начеку, чтобы действовать, когда того потребуют обстоятельства, а не растрачивать энергию попусту, без необходимости. Следить за признаками и симптомами, требующими внимания, и знать, какие из них можно игнорировать. Как известно любому хорошему охотнику, в решающий момент необходимо собрать все силы. Флегматичность Холмса, это «внешнее бесстрастие», которое со стороны может показаться признаком меланхолии, депрессии или просто лени, в действительности является вполне преднамеренным. В нем нет и тени вялости. В обманчивые моменты бездействия энергия копится на «мозговом чердаке», циркулирует там, заполняет углы, набирается сил, чтобы в нужный момент можно было мгновенно сосредоточиться. Временами сыщик даже отказывается от еды, не желая, чтобы кровь отливала от мозга. «Голод обостряет умственные способности, – говорит Холмс Ватсону в «Камне Мазарини» (The Adventure of the Mazarin Stone), когда Ватсон убеждает его хоть немного поесть. – Мой дорогой Ватсон, вы, как врач, должны согласиться, что при пищеварении мозг теряет ровно столько крови, сколько ее требуется для работы желудка. Я сейчас один сплошной мозг. Все остальное – не более чем придаток. Поэтому я прежде всего должен считаться с мозгом»[25]25 Здесь и далее цитаты из «Камня Мазарини» приведены в переводе А. Поливановой. – Прим. пер. [Закрыть]. 156 Мы не в состоянии забыть, что наше внимание, или, в более широком смысле, наши когнитивные возможности, – один из компонентов исчерпаемого колодца, который иссякнет, если неразумно распоряжаться его содержимым и не пополнять запасы регулярно. Поэтому мы должны подходить к использованию ресурсов нашего внимания вдумчиво и избирательно. Будьте готовы броситься в атаку, едва покажется тигр, насторожиться, когда ветер принесет запах лисицы – тот же самый ветер, в котором нос, не столь чуткий, как ваш, не сумеет уловить ничего, кроме запахов весны и цветов. Знайте, когда надо включиться в действия, когда устраниться – и на что вообще не стоит отвлекаться. Соответствие окружению Охотник знает, на какую дичь охотится, и в соответствии с этим изменяет свой подход. Вряд ли вы станете стрелять в лисицу, если можете добыть тигра, или в куропатку, если выслеживаете оленя. Если вас не устраивает раз за разом охотиться на добычу одного и того же типа, научитесь приспосабливаться к обстоятельствам, подбирать оружие, подход, поведение согласно тому, что диктует конкретная ситуация. Финал игры для охотника всегда одинаков – убийство добычи; так и у Холмса всегда одна цель – получить информацию, которая приведет его к подозреваемому. Но обратите внимание, как различается подход Холмса в зависимости от человека, с которым он имеет дело, в зависимости от конкретной «добычи». Раскусив, с кем имеет дело, Холмс действует в соответствии с тем, что выяснил. В «Голубом карбункуле» (The Adventure of the Blue Carbuncle) Ватсон восхищается способностью Холмса добыть сведения, которые еще несколько минут назад были недоступны. Холмс объясняет, как ему это удается: «Если у человека такие бакенбарды и такой красный платок в кармане, у него можно выудить все что угодно, предложив ему пари. Я утверждаю, что и за сто фунтов мне не удалось бы получить у него такие подробные сведения, какие я получил, побившись с ним об заклад»вЂЉ[26]26 Здесь и далее цитаты из «Голубого карбункула» приведены в переводе М. и Н. Чуковских. – Прим. пер. [Закрыть]. Эта тактика контрастирует с примененной в «Знаке четырех», когда Холмсу требовалось выяснить некоторые подробности, касающиеся катера «Аврора». «Самое главное, – говорит сыщик Ватсону, – имея дело с простыми людьми, не давать им понять, что хочешь что-то узнать у них. Стоит им это понять, сейчас же защелкнут створки, как устрицы. Если же выслушивать их с рассеянным видом и спрашивать невпопад, узнаешь от них все, что угодно». Не стоит даже пытаться подкупить того, кто считает ниже своего достоинства принимать подкуп. Лучше предложить ему пари – конечно, если есть признаки, что этот человек азартен. Незачем ловить каждое слово собеседника, который не желает выдавать информацию кому попало. Лучше дать ему возможность разговориться, потакать его склонности, если он явный сплетник. Все люди разные, к каждой ситуации должен быть свой подход. Безрассуден тот охотник, который идет охотиться на тигра с тем же оружием, которое приобрел для стрельбы по фазанам. Универсального, единого для всех случаев подхода не существует. Когда у вас появятся инструменты и вы научитесь владеть ими, то будете с толком применять их, а не молотить кувалдой там, где достаточно легкого постукивания маленьким молоточком. Бывают случаи, когда требуется применить простые и прямые методы, а иногда нужны нестандартные приемы. Охотник умеет различать эти случаи и знает, когда и каким оружием пользоваться. 157 Приспособляемость Охотник умеет приспосабливаться к обстоятельствам, даже если они меняются непредсказуемым образом. Допустим, вы отправились охотиться на уток, но в ближайшем кустарнике заметили оленя. Как быть? Кто-то скажет: «Спасибо, не надо», однако многие воспользуются случаем, адаптируются к обстоятельствам, чтобы заполучить, если так можно выразиться, более ценную добычу. Вспомним «Убийство в Эбби-Грэйндж», где Холмс в последний момент решает не передавать подозреваемого в руки Скотленд-Ярда. «Нет, я не мог этого сделать, Ватсон», – говорит он товарищу. «Если будет выписан ордер на арест, ничто на свете уже не сможет спасти его. В первый или во второй раз за всю мою карьеру я чувствую, что, раскрыв преступника, я причиню больший вред, чем преступник своим преступлением. Я научился быть осторожным, и уж лучше я согрешу против законов Англии, чем против моей совести. Прежде чем начать действовать, нам надо разузнать еще кое-что». Незачем бездумно следовать одному и тому же заранее запланированному порядку действий. Обстоятельства меняются, а вместе с ними и подходы. Надо подумать, прежде чем бросаться действовать – или чем осуждать кого-либо, как в приведенном примере. Все мы совершаем ошибки, но некоторые из них могут и не быть ошибками как таковыми, если рассматривать их в контексте времени и ситуации. (В конце концов, мы не сделали бы тот или иной выбор, если бы не считали его верным в тот момент.) А если мы решаем придерживаться прежнего пути, несмотря на изменения, то, по крайней мере, выбираем неоптимальный путь вдумчиво, с полным осознанием причин своего поступка. Научитесь всегда «узнавать побольше», прежде чем действовать. Как говорит Уильям Джеймс, «все мы, и ученые, и не только, живем на некой наклонной плоскости доверия. Для одного человека эта плоскость склоняется в одну сторону, для другого – в другую, и пусть тот, чья плоскость не склоняется никуда, не станет первым бросать в остальных камень!» Признание собственной ограниченности Охотник знает свои слабые места. Если у него есть «слепое пятно», он просит кого-либо прикрыть его или же, если просить некого, заботится о том, чтобы наличие этого пятна ему не мешало. Если охотник знает за собой склонность метить выше цели, он делает поправку и на нее. Каким бы ни был изъян, его надо принять во внимание, чтобы охота завершилась успешно. В «Исчезновении леди Фрэнсис Карфакс» (The Disappearance of Lady Frances Carfax) Холмс понимает, куда подевалась вышеупомянутая леди, только когда спасать ее уже почти поздно. «Если вы захотите включить этот эпизод в свою хронику, милый Ватсон, – говорит он по возвращении домой, опередив злоумышленников всего на несколько минут, – приведите его как пример временного затмения, которое может поразить даже самый трезвый ум. Ни один смертный не застрахован от таких промахов, но уважения достоин тот, кто способен вовремя понять их и исправить. Мне кажется, я вправе причислять себя к таким людям»вЂЉ[27]27 Здесь и далее цитаты из «Исчезновения леди Фрэнсис Карфакс» приведены в переводе Ю. Жуковой. – Прим. пер. [Закрыть]. Охотник просто обязан ошибаться, прежде чем он поймет, в чем заключается его слабость. Разница между удачливым и неудачливым охотником – не отсутствие ошибок, а их признание, способность учиться на ошибках и предотвращать их появление в будущем. Нам необходимо признать собственную ограниченность, чтобы преодолеть ее, знать, что нам 158 свойственно ошибаться, и увидеть в наших мыслях и действиях ту погрешность, которую мы с легкостью замечаем у других людей. В противном случае мы обречены всегда верить в эльфов – или никогда в них не верить, даже если по всем признакам необходим гораздо менее предубежденный подход. Культивирование покоя Охотник знает, когда разум следует успокоить. Если он позволит себе всегда воспринимать все, его восприятие вскоре переполнится. Оно утратит остроту, лишится способности сосредоточиваться на важных признаках и отфильтровывать несущественные. Для такой бдительности просто необходимы минуты одиночества. Ватсон кратко заостряет внимание на этом моменте в «Собаке Баскервилей», когда Холмс просит оставить его одного. Доктор не сетует на это. «Уединение и покой были необходимы моему другу в часы напряженной умственной работы, когда он взвешивал все мельчайшие подробности дела, строил одну за другой несколько гипотез, сравнивал их между собой и решал, какие сведения существенны и какими можно пренебречь», – пишет он. Мир норовит вас отвлечь. Он никогда не обеспечит вам тишину и покой и не оставит вас одного по собственному почину. Охотник сам должен находить одиночество, уединение, тишину в собственном разуме, свое пространство, в котором можно обдумать тактику, подходы, прошлые действия и планы на будущее. Если время от времени не погружаться в молчание, шансов на удачную охоту очень мало. Постоянная бдительность И самое главное: охотник ни в коем случае не должен терять бдительности, даже если он убежден, что ни один тигр в здравом уме не высунется из логова под палящие лучи полуденного солнца. Кто знает, может, как раз в этот день будет впервые замечен черный тигр, и охотничьи привычки этого тигра отличаются от общеизвестных (ведь у него другая защитная окраска – значит, и охотиться он должен совершенно по-другому?). Как неоднократно предупреждает Холмс, труднее всего раскрыть зачастую наименее примечательное преступление. Ничто не порождает чрезмерную самоуверенность так, как рутина и подобие обычности. Ничто не лишает бдительности так, как обыденность. Для удачливого охотника нет ничего страшнее чрезмерной самонадеянности, порожденной тем же самым успехом, – прямой противоположности ситуации, которая изначально позволила достичь этого успеха. Не становитесь охотником, который упускает добычу только потому, что научился охотиться настолько хорошо, что в итоге пал жертвой бездумной рутины и соответствующих действий. Всегда применяйте правила вдумчиво. Никогда не переставайте мыслить. Как в том эпизоде из «Долины страха», когда Ватсон начинает: «Я склонен думать…», а Холмс, по своему обыкновению, обрывает его словами: «Похвальное намерение». Можно ли найти более точную иллюстрацию осознанности, чем холмсовский подход к мышлению? Главное – мозг, а в нем – готовность охотника. Охотника, который не просто «склонен думать», а мыслит постоянно. Ибо вдумчивость не начинается с началом каждой охоты и не заканчивается вместе с ней, не связана исключительно с началом нового предприятия или процесса мышления. Это перманентное состояние, хорошо усвоенное присутствие разума, даже когда охотник устраивается на ночлег и вытягивает ноги перед огнем. Научившись мыслить подобно охотнику, мы куда быстрее удостоверимся, что не закрываем глаза на явные неувязки в представленном нам изображении страны эльфов. Не обязательно отвергать эльфов с порога, но следует быть настороже и знать: даже если мы на самом деле 159 хотим найти первое подлинное доказательство их существования, оно может появиться только в будущем или вообще никогда и требует придирчивого изучения. Того же подхода мы должны придерживаться по отношению к окружающим и свойственным им убеждениям. Важно то, как вы воспринимаете себя. Воспринимайте себя по жизни как охотника, и скорее всего, обретете возможность «охотиться» успешнее. Неважно, решите вы задуматься о возможности существования эльфов или нет, – будучи охотником, вы подойдете к этому вопросу обдуманно. Он не застигнет вас врасплох. В 1983 г. история об эльфах из Коттингли приблизилась к логическому завершению. По прошествии более чем 60 лет после того, как эти снимки впервые были обнародованы, семидесятишестилетняя Фрэнсис Гриффитс выступила с признанием: эти фотографии – подделка. Или, по крайней мере, четыре из них. Эльфы были нарисованы ее старшей кузиной и поставлены стоймя с помощью шляпных булавок. Такое «доказательство», как пупок, который Конан Дойл якобы заметил на первом снимке, на самом деле не что иное, как булавка. Но последняя фотография подлинная. По крайней мере, так утверждала Фрэнсис. Спустя две недели с заявлением выступила Элси Хилл, урожденная Райт. Это правда, подтвердила она, хотя поначалу хранила молчание. Она нарисовала эльфов сепией на тонком бристольском картоне и раскрасила их акварелью, пока родителей не было дома. Она же закрепила их на шляпных булавках, воткнутых в землю. Сами фигурки были переведены из выпущенной в 1915 г. книги «Подарок принцессе Мэри» (Princess Mary Gift Book). А как же последний снимок, который Фрэнсис упрямо называла подлинным? Фрэнсис даже не видела, как он был сделан, сообщила Элси газете The Times. «Я страшно горжусь этой фотографией – я сделала ее сама, собственным хитроумным способом, дождавшись подходящей погоды, – объяснила она. – Его секрет я открою на самой последней странице своей книги». Увы, эта книга так и не была написана. Фрэнсис Гриффитс умерла в 1986 г., а Элси – два года спустя. Сторонники подлинности пятой фотографии находятся до сих пор. Эльфы из Коттингли никак не желают умирать. Но, может быть, – может быть – Конан Дойл как охотник избежал бы подобного заблуждения. Если бы он отнесся к самому себе (и к девушкам) чуть более критически, копнул поглубже, возможно, он сумел бы сделать выводы из своих ошибок, как это удавалось созданному им сыщику. Несмотря на приверженность спиритуализму, Конан Дойл не принял во внимание единственную страницу о Шерлоке Холмсе, обязательную при вдумчивом подходе. У. Х. Оден писал о Холмсе: «Его отношение к людям, его методика наблюдений и выводов роднят его с химиками или физиками. Если он выбирает в качестве объекта изучения людей, а не неодушевленную материю, то лишь потому, что исследования последней не столь исполнены героизма и сравнительно просты, так как она не лжет, что люди делают сплошь и рядом, следовательно, имея дело с ними, надо быть вдвое наблюдательнее и придерживаться вдвое более жесткой логики». Сэр Артур Конан Дойл мало что ценил так же высоко, как героизм. Однако он так и не осознал, что существа, на которых он охотился, – такие же люди, как те, которых он создал. Он не был вдвойне проницательным, логичным и придирчивым. Но, возможно, с помощью склада ума им же самим созданного сыщика он смог бы стать тем, кто никогда не забывает, что люди способны лгать и лгут, что все могут допускать ошибки и всем свойственно ошибаться, в том числе и нам самим. 160 Конан Дойл не мог предвидеть, в каком направлении развивается наука. Он высказал максимально точные предположения, какие смог, придерживаясь рамок, которые установил для себя и которые, добавлю, сохраняются по сей день. Несмотря на уверенные прогнозы Уильяма Джеймса, наши знания о силах, управляющих нашей жизнью, обогнали на световые годы самые смелые предположения сэра Артура в том, что касается природных явлений, но, когда речь заходит об объяснении сверхъестественного, они по-прежнему остались на уровне 1900 г. Но дело не в Шерлоке Холмсе и Артуре Конан Дойле и, если уж на то пошло, не в Дэриле Беме или Уильяме Джеймсе. Все мы существуем в рамках наших познаний и контекста. И нам следует крепко помнить об этом. Если мы не можем вообразить чего-либо, это еще не значит, что его не существует. Если мы терпим фиаско из-за нехватки знаний, это не значит, что наше положение безнадежно или что мы уже не в силах учиться. Если речь заходит о разуме, все мы способны быть охотниками. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ «Женщин вообще трудно понять…» – рассказ «Второе пятно» (The Adventure of the Second Stain). «Если дьявол действительно захотел вмешаться в людские дела…», «Уединение и покой были необходимы моему другу…» – повесть «Собака Баскервилей», гл. 3 «Задача». «Внешнее бесстрастие мгновенно сменилось бешеной энергией…» – рассказ «Дьяволова нога». «Если у человека такие бакенбарды и такой красный платок в кармане, у него можно выудить все что угодно, предложив ему пари…» – рассказ «Голубой карбункул». «Самое главное, имея дело с простыми людьми, не давать им понять, что хочешь что-то узнать у них…» – повесть «Знак четырех», гл. 8 «Нерегулярные полицейские части с Бейкерстрит». «Если будет выписан ордер на арест, ничто на свете уже не сможет спасти его…» – рассказ «Убийство в Эбби-Грэйндж». «Если вы захотите включить этот эпизод в свою хронику, милый Ватсон, приведите его как пример временного затмения…» – рассказ «Исчезновение леди Фрэнсис Карфакс». «Я склонен думать…» – повесть «Долина страха». Заключение Вальтеру Мишелу было девять лет, когда он пришел в подготовительный класс начальной школы. И это не значит, что родители пренебрегали его образованием: просто мальчик не говорил по-английски. Шел 1940 год, семья Мишела только прибыла в Бруклин. В числе немногих еврейских семей ей посчастливилось покинуть Вену вскоре после захвата ее нацистами весной 1938 г. Причина заключалась не только в везении, но и в предусмотрительности: семья обнаружила принадлежавшее давно умершему деду с материнской стороны свидетельство о гражданстве США. Видимо, он получил его, пока работал в Нью-Йорке в 1900 г., прежде чем вновь вернулся в Европу. Но, отвечая на вопрос о самых первых воспоминаниях, Мишел заговорил бы не о том, как молодчики из гитлерюгенда наступали ему на новенькие ботинки, толкаясь на тротуарах Вены. И не о том, как его отца и других мужчин-евреев вытаскивали из квартир и заставляли маршировать по улицам в одних пижамах, с ветками в руках, изображать пародию на традиционное еврейское шествие в честь начала весны. (Отец Мишела перенес полиомиелит 161 и не мог передвигаться без трости. Поэтому маленькому Мишелу пришлось смотреть, как его толкают из стороны в сторону в толпе.) Вряд ли он вспомнил бы и бегство из Вены, время, проведенное в Лондоне, в гостях у дяди, и переезд в США, когда началась война. Скорее всего, Мишелу вспомнились бы первые дни в подготовительном классе, когда ему, едва способному произнести по-английски несколько слов, пришлось сдавать тест на коэффициент интеллектуального развития. Неудивительно, что результаты теста оказались неважными. Выросший в условиях другой культуры, Мишел сдавал тест на чужом языке. Тем не менее его учительница была поражена. По крайней мере, так она сказала Мишелу, не скрывая разочарования. Ведь иностранцам положено быть умными! Она ожидала от него гораздо большего. Итог похожей истории для Кэрол Дуэк оказался прямо противоположным. Когда она училась в шестом классе – по случайному совпадению, тоже в Бруклине, – ей, как и остальным ученикам, дали тест на IQ. А затем учительница сделала то, что сегодня вызвало бы немало вопросов, а в те времена встречалось нередко: рассадила учеников по количеству набранных баллов. Самые «умные» ученики были усажены поближе к учителю, а те, кому не так повезло, – дальше от него. Этот порядок был неизменным, и тем ученикам, которые показали невысокие результаты, не разрешали даже выполнять такие обычные классные обязанности, как стирать с доски или нести флаг на школьных собраниях. Им постоянно напоминали, что их IQ не на должном уровне. Самой Дуэк повезло: ей досталось первое место. Она набрала больше всех баллов в классе. Но в происходящем было что-то неправильное. Дуэк знала: достанься ей другой тест, она оказалась бы менее умной. Неужели все так просто – надо лишь набрать определенное количество баллов, чтобы твой интеллект был признан высоким? Много лет спустя Вальтер Мишел и Кэрол Дуэк встретились в Колумбийском университете. (На момент написания этих строк Мишел по-прежнему работал там, а Дуэк перебралась в Стэнфорд.) Оба стали видными исследователями в области социальной и личностной психологии (несмотря на то что Мишел на 16 лет старше), оба приписывают последующее развитие своей карьеры тому давнему тестированию и желанию исследовать такие якобы неизменные вещи, как личностные черты и интеллект, которые можно оценить с помощью простого теста и по его результатам предопределить будущее человека. Несложно догадаться, как Дуэк пришла к вершине академических достижений. Ведь она была самой умной в классе. А как же Мишел? Как мог человек, который в классе Дуэк очутился бы на самой последней парте, стать одним из выдающихся психологов ХХ в., автором знаменитого «эксперимента со сладостями», исследующего силу воли, а также основателем принципиально нового подхода к изучению свойств личности и их оценки? Чтото здесь не так, и причина кроется не в интеллекте Мишела или в его заоблачной карьере. Шерлок Холмс – охотник. Ему известно, что для его мастерства не существует чрезмерных трудностей – в сущности, чем сложнее задача, тем лучше. Возможно, этим отношением в основном и объясняется его успех, а также в значительной мере неудачи Ватсона, который пытается следовать по его стопам. Вспомним сцену из «Случая в интернате», когда Ватсон уже не надеется понять, что случилось с пропавшим учеником и преподавателем. «Я теряюсь», – говорит он Холмсу. Но Холмс ничего не желает слышать. «Полно, полно, мы разгадывали и более трудные загадки». 162 Или возьмем ответ Холмса Ватсону, когда последний заявляет, что шифр недоступен пониманию человека. Холмс отвечает: «Возможно, есть моменты, которые ускользнули от вашего макиавеллиевского интеллекта». Но позиция Ватсона ничуть не способствует делу. «Предлагаю рассмотреть проблему в свете чистого разума», – наставляет его Холмс и, естественно, расшифровывает записку. В каком-то смысле Ватсон сам заставил себя сдаться, еще не успев приняться за дело. Объявив, что он теряется, назвав нечто недоступным пониманию человека, он мысленно отгораживается от возможности успеха. Оказывается, именно эта установка имеет решающее значение, и она гораздо менее осязаема и измерима, чем баллы теста. На протяжении долгих лет Кэрол Дуэк пыталась понять, что отделяет «полно, полно» Холмса от ватсоновского «я теряюсь», успех Вальтера Мишела от его диагностированного IQ. В своих исследованиях она исходила из двух основных предположений: IQ не может быть единственным способом измерения интеллекта, само понятие интеллекта включает в себя не только очевидные и измеримые компоненты. Согласно Дуэк, есть две основные концепции интеллекта: концепция наращивания и концепция неизменности. Если вы сторонник первой, то наделяете интеллект свойством «текучести». Упорнее работая, больше изучая, находя себе лучшее применение, мы становимся умнее. Другими словами, эта теория отвергает представления о том, что есть вещи, которые человек просто не в состоянии понять. Ее сторонники считают, что первоначальное количество баллов, набранное при тестировании IQ Вальтером Мишелом, – не только не повод для разочарования: оно не имеет никакого отношения к его реальным способностям и последующим результатам. В то же время сторонники концепции неизменности верят, что интеллект – постоянная величина. Сколько бы стараний мы ни прилагали, мы навсегда останемся настолько же умными (или глупыми), как прежде. Все зависит от первоначального везения. Такой позиции придерживалась учительница в шестом классе Дуэк и в подготовительном классе Мишела. Это означает, что если ты попал на заднюю парту, то так на ней и останешься. И ничего уже не поделать. Извини, приятель, так легла карта. В ходе своих исследований Дуэк неоднократно сталкивалась с примечательной особенностью: результаты человека, особенно его реакция на неудачи, главным образом зависят от того, какого из этих подходов он придерживается. Сторонник концепции наращивания интеллекта воспринимает фиаско как возможность для самообучения, а сторонник концепции неизменности – как свой досадный личный изъян, который никак не устранить. В итоге если первый выносит из эксперимента некий опыт, применимый в дальнейших ситуациях, то второй с большей вероятностью полностью списывает его со счетов. Так, по сути дела, наши представления о мире и о себе могут изменить то, как мы учимся и что знаем. В недавнем исследовании группа психологов решила выяснить, объясняется ли такая разница в реакции простыми поведенческими особенностями или же уходит корнями глубже, на уровень мозговой деятельности. Ученые измеряли ассоциирующийся с реакцией вызванный потенциал (ВП) – электрические нейронные сигналы, возникающие в результате внутренних или внешних событий в мозге студентов колледжа, принимающих участие в простом эксперименте. Студенту показывали ряд из пяти букв и просили быстро назвать среднюю. Буквы могли быть одинаковыми, к примеру МММММ, или разными, например ММNММ. 163 Точность результатов была в целом высока, примерно 91 %, однако специфические параметры задания выбрали так, чтобы каждый участник сделал ряд ошибок. Но главное заключалось в том, как участники и, в сущности, их мозг реагировали на ошибки. Те, кто придерживался концепции наращивания (то есть верил, что интеллект текуч), после первых пробных действий демонстрировали лучшие результаты, чем сторонники концепции неизменнности (то есть те, кто считал интеллект постоянной величиной). Более того, установка на наращивание увеличивала положительные колебания ВП при действиях методом проб и ошибок в отличие от метода исправлений. И чем выше становилась амплитуда положительных колебаний ВП в случае ошибки при действиях методом проб и ошибок, тем точнее оказывались действия после ошибок. Что же это означает? Судя по данным, установка на рост и развитие, то есть убежденность в том, что интеллект можно повысить, способствует более адаптивной реакции на ошибки – не только на поведенческом, но и на нейронном уровне. Чем больше сам человек верит в возможность совершенствования, тем выше амплитуда сигналов мозга, отражающая осознанное внимание, уделяемое ошибкам. А чем сильнее нейронный сигнал, тем лучше последующие результаты. Такое опосредованное воздействие указывает на то, что сторонники концепции наращивания интеллекта действительно обладают лучшими системами наблюдения за собой и самоконтроля на самом базовом, нейронном уровне: их мозг тщательнее наблюдает за собственными, самостоятельно допущенными ошибками и соответствующим образом корректирует поведение человека. То есть речь идет об усиленном внимании к собственным ошибкам в реальном времени, выявлению ошибок по мере их совершения и немедленному исправлению. Наш мозг безгранично восприимчив к установке своего обладателя. И не только при обучении. Даже такое абстрактное убеждение, как вера в свободу воли, может изменить реакцию нашего мозга (если мы не верим в эту свободу, наш мозг действует более вяло). И общие теории, и специфические механизмы дают нам уникальную возможность влиять на работу нашего разума, на наше поведение, на поступки и на взаимодействие всего вышеназванного. Если мы считаем себя способными к учебе, она удается нам. А если мы думаем, что обречены на провал, то именно на такой результат и обрекаем себя, и не только на поведенческом, но и на самом фундаментальном, нейронном уровне. Но склад ума не предопределен, интеллект не заложен с рождения и не является неизменным. Мы можем учиться, можем совершенствоваться, менять привычные нам взгляды на мир. Возьмем стандартный негативный фактор, пример, в котором представления окружающих о нас – реальные или мнимые – в свою очередь влияют на то, как мы действуем, и прежде всего оказывают воздействие на том же подсознательном уровне. Положение маркированного члена группы (например, единственной женщины в мужском коллективе) может усилить чувство неловкости и негативно отразиться на результатах. Необходимость указывать свою этническую или половую принадлежность перед выполнением теста оказывает негативное влияние на набор баллов по математике женщинами и на общее количество баллов – представителями меньшинств. (Так, указание этнической принадлежности во время теста GRE, который сдают при поступлении в аспирантуру, заметно снижает результаты чернокожих студентов.) Женщины-азиатки лучше справляются с заданиями по математике, когда акцент делается на их расовой принадлежности, и хуже – когда на половой. Мужчины-европеоиды показывают более низкие результаты в тех видах спорта, в которых, по их мнению, результаты зависят от врожденных способностей, а негроиды – когда им говорят, что результаты зависят от спортивного интеллекта. Это явление называется «стандартный негативный фактор». Однако помочь может простое вмешательство. Женщины, которым приводят в пример других женщин, преуспевающих в сфере науки и техники, не испытывают влияния 164 негативного фактора при выполнении тестов по математике. Студенты колледжей, ознакомленные с теорией Дуэк о наращивании интеллекта, получают более высокие отметки и лучше укладываются в учебный процесс к концу семестра. В одном исследовании у принадлежащих к этническим меньшинствам студентов, которые писали сочинения о значении для них какой-нибудь самоочевидной ценности (например, отношений в семье или музыки) три-пять раз в течение учебного года, средний академический балл за два года вырос на 0,24 пункта по сравнению с теми, кто писал о нейтральных предметах, а у низкорезультативных афроамериканцев наметилось улучшение в среднем на 0,41 пункта. Более того, расходы на дополнительные занятия с отстающими снизились с 18 до 5 %. Каких установок вы обычно придерживаетесь, когда речь заходит о вас лично? Если вы не осознаёте, что они у вас есть, то вряд ли что-нибудь сможете предпринять, чтобы побороть их влияние, когда оно оборачивается против вас (как в случае с негативными факторами, снижающими результативность), и пользоваться их преимуществами, когда они играют вам на руку (как бывает, если задействовать стандартные факторы с позитивными ассоциациями). В значительной мере мы есть то, во что мы верим. Когда Ватсон объявляет, что сдается, он видит «мир неизменности» – «черное» или «белое», «знаю» или «не знаю», – а если доктор сталкивается с тем, что кажется ему слишком трудным, то даже не пытается решить задачу, чтобы не опозориться. Холмса окружает «мир наращивания»: пока не попытаешься, не узнаешь. Каждое испытание – возможность научиться чему-нибудь новому, раздвинуть умственные горизонты, улучшить свои способности, дополнить свой «чердак» новыми инструментами для будущего использования. Если «чердак» Ватсона статичен, то холмсовский динамичен. Наш мозг никогда не перестает создавать новые связи и отсекать те, которые не используются. Такие связи будут непрерывно крепнуть в тех областях, в которых мы укрепляем их, – подобно мышцам, о которых мы упоминали на первых страницах книги, нейронные связи крепнут по мере использования и атрофируются от бездействия. Благодаря тренировке мы можем добиться таких рекордов, о которых прежде и подумать не смели. Как можно усомниться в способности мозга развиваться, особенно в сфере мышления, если ему под силу наделять всевозможными талантами людей, которые и предположить не могли, что обладают ими? Возьмем, к примеру, художника Офея. Впервые он начал рисовать, когда был физиком средних лет, а до этого не рисовал ни дня. Он даже не знал точно, научился рисовать или нет. Но оказалось, что научился, и вскоре уже устраивал персональные выставки и продавал свои произведения коллекционерам всего мира. Разумеется, Офей – нетипичный пример. Он не простой физик, а лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман, демонстрирующий удивительный талант почти во всех областях, которыми занимался. Фейнман выбрал себе псевдоним «Офей», чтобы его живопись ценили как таковую, а не за его лавры физика. Однако известно и множество других подобных случаев. Если вклад Фейнмана в физику уникален, то продемонстрированная им способность мозга меняться, причем радикально и в достаточно зрелом возрасте, присуща далеко не ему одному. Анна Мэри Робертсон-Мозес, более известная как Бабушка Мозес, начала рисовать, когда ей исполнилось семьдесят пять лет. Ее дар художника сравнивали с талантом Питера Брейгеля. В 2006 г. картина Бабушки Мозес «Варка кленового сиропа» (Sugaring Off) была продана за 1,2 млн долларов. 165 Вацлав Гавел был драматургом и писателем, пока не стал ключевой фигурой чешского оппозиционного движения, а затем, в возрасте 53 лет, – первым посткоммунистическим президентом Чехословакии. Ричард Адамс опубликовал «Корабельный холм» (Watership Down) лишь в 52 года. Он вообще никогда не считал себя писателем. Эта книга была распродана тиражом более 50 млн экземпляров (и продолжает продаваться), а родилась она из сказок, которые Адамс рассказывал дочерям. Гарланд Дэвид Сандерс, более известный как «Полковник» Сандерс, основал компанию Kentucky Fried Chicken (KFC), когда ему было 65 лет, однако успел стать одним из самых преуспевающих бизнесменов своего поколения. Шведский стрелок Оскар Сван впервые победил на Олимпийских играх в 1908 г., когда ему было шестьдесят лет. Он завоевал две золотые и одну бронзовую медаль, а в возрасте 72 лет стал самым возрастным олимпийцем и обладателем олимпийских медалей в истории, после того как на играх 1920 г. удостоился бронзовой медали. Этот список можно продолжать долго, примеры разнообразны, достижения относятся к всевозможным областям деятельности. Да, существуют и холмсы, наделенные даром ясного мышления с ранних лет, – им незачем резко меняться и начинать развиваться в новом направлении после многолетнего следования вредным привычкам. Но не стоит забывать, что даже Шерлоку Холмсу приходилось тренироваться, даже он не был «холмсом с рождения». Ничто не дается даром, само по себе. Ради достижений надо трудиться. Но при правильном распределении внимания все получится. Человеческий мозг – удивительная штука. Оказывается, уроки Холмса можно применять практически в любой области. Главное – какое отношение, какие установки, привычки мышления и отношение к миру мы культивируем в себе. А чем конкретно мы при этом занимаемся, не так уж важно. Если бы вам понадобилось вынести из этой книги всего один урок, ему следовало бы стать таким: самый могущественный разум – тихий и мирный. Он всегда в настоящем, он вдумчив и внимателен к своим мыслям и состояниям. Он нечасто переходит в режим многозадачности, а если и делает это, то с конкретной целью. Мысль требует четкого изложения. В недавней статье в New York Times говорилось о том, что в последнее время люди все чаще присаживаются на корточки, набивая текстовые сообщения, или сидят в припаркованных автомобилях – посылают эсэмэски, электронные письма, сообщения в Twitter и т. п., – вместо того чтобы отправиться дальше и освободить место на стоянке. Эта практика способна довести до белого каления людей, ждущих места на парковке, вместе с тем она свидетельствует о распространении понимания: вести машину и одновременно делать еще что-нибудь – не лучшая затея. «Пора уничтожить многозадачность», – вопиет заголовок популярного блога «99 %». Зашумленность нашего мира можно назвать ограничивающим фактором, причиной, по которой мы не в состоянии достичь свойственного Шерлоку Холмсу присутствия разума – ведь ему не досаждали постоянно СМИ, новые технологии, бешеный ритм нынешней жизни. Ему было гораздо легче. Однако мы можем воспринять происходящее как вызов, чтобы попробовать улучшить результаты Холмса. Показать, что это не столь важно: мы все равно сможем стать такими же вдумчивыми, как он, если только приложим усилия. А чем больше усилия, тем выше достижения, тем ощутимее изменение привычек, переход от бездумности ко вдумчивости. 166 Те же достижения техники мы можем воспринять как неожиданное преимущество, о котором Холмс мог только мечтать. Только вдумайтесь: одно недавнее исследование показало, что когда люди ориентированы на пользование компьютерами или когда они рассчитывают на доступ к информации в будущем, они в меньшей степени способны вспомнить эту информацию. Однако – и это главное – они гораздо лучше запоминают, где (и как) найти информацию в дальнейшем. В цифровую эпоху наш «мозговой чердак» уже не подчиняется таким же ограничениям, как «чердаки» Холмса и Ватсона. По сути дела, мы виртуально расширили свое хранилище способом, немыслимым во времена Конан Дойла. И это дополнение открывает заманчивые возможности. Теперь мы можем складировать «хлам», способный пригодиться в будущем, и точно знать, как получить доступ к нему, если возникнет такая необходимость. Даже если мы не уверены, заслуживает ли тот или иной объект места на «чердаке», нам незачем выбрасывать его. Все, что от нас требуется, – помнить, что мы сохранили его на будущее. Но к этой возможности прилагается и необходимость действовать осмотрительно. У нас может возникнуть соблазн хранить за пределами «мозгового чердака» то, чему место именно в нем, вдобавок процесс сортировки (что сохранить, что выбросить) неуклонно усложняется. У Холмса была своя картотека. У нас есть Google. Есть Wikipedia. Есть книги, статьи, рассказы, начиная с давних времен и вплоть до наших дней, полностью доступные нам. У нас имеется своя цифровая картотека. Но не стоит рассчитывать, что мы сможем обращаться к ней всякий раз, когда нам понадобится сделать выбор. Или надеяться запомнить всю информацию, поступающую к нам, – в сущности, нам это и не нужно. Вместо этого мы должны научиться организовывать свой «чердак» лучше, чем когда-либо. В этом случае пределы наших возможностей раздвинутся беспрецедентным образом. Но если мы позволим себе увязнуть в трясине поступающей информации, если будем отправлять на хранение несущественную вместо той, которая наилучшим образом подходит для хранилища с ограниченным пространством, которое всегда при нас, в нашей голове, – наступление цифровой эпохи может обернуться не плюсом, а минусом. Наш мир меняется. Теперь в нашем распоряжении столько ресурсов, сколько Холмс и представить себе не мог. Рамки нашего «мозгового чердака» сместились и раздвинулись. Значительно увеличилась область возможного. Наша задача – стремиться осознать эти перемены и пользоваться их преимуществами – вместо того чтобы позволять им пользоваться нами. Все сводится к той же идее внимания, присутствия в настоящем, вдумчивости, установки и мотивации, которая сопровождает нас по жизни. Нам никогда не стать совершенными. Но мы можем применить вдумчивый подход к своим несовершенствам и таким образом в долгосрочной перспективе превратиться в более способных мыслителей. «Любопытно, как мозг сам себя контролирует», – восклицает Холмс в рассказе «Шерлок Холмс при смерти» (The Adventure of the Dying Detective). Поистине это так и будет так всегда. Но мы, возможно, со временем сумеем лучше понять этот процесс и внести в него свой вклад. Благодарности Созданию этой книги способствовало столько замечательных людей, что заслуженные благодарности, адресованные им, могли бы занять как минимум еще одну главу – мне не всегда удается изъясняться кратко. Я чрезвычайно признательна всем, кто направлял и поддерживал меня на всем протяжении работы, – моим родным и дорогим друзьям. Я люблю вас всех, без вас я бы даже не начала, не то что не закончила эту книгу. Спасибо всем 167 ученым, исследователям, знатокам Шерлока Холмса, которые направляли меня по этому пути, – огромное спасибо за вашу неустанную помощь и безграничный опыт. Мне хотелось бы особо поблагодарить Стивена Пинкера, самого чудесного наставника и друга, какого я только могу представить, который бескорыстно делился со мной временем и мудростью в течение почти десяти лет (хотя наверняка нашел бы занятия поинтереснее). Его книги – причина, по которой я решила изучать психологию, а его поддержка – причина, по которой я не бросила ее. И Ричарда Панека, следившего за моим проектом с момента его зарождения и до завершающих этапов: советы и неутомимая помощь Ричарда помогли мне сдвинуть проект с места (и продолжать движение). Я благодарна Кэтрин Ваз, которая с самого начала поверила в мой текст и долгие годы оставалась неизменным источником ободрения и вдохновения. И Лесли Клингер, чей первоначальный интерес к моей работе о Холмсе и беспрецедентные познания о мире дома 221В по Бейкер-стрит стали важным компонентом успеха этого предприятия. Не устаю восхищаться моим потрясающим агентом, Сетом Фишменом, – мне повезло, что он оказался рядом. Спасибо остальным сотрудникам Gernert Company, в особенности Ребекке Гарднер и Уиллу Робертсу. Благодаря моим чудесным редакторам, Кевину Дафтену и Венди Вулф, моя рукопись практически из ничего превратилась в пригодную для предъявления миру меньше чем за год – никогда бы не подумала, что такое возможно. Я благодарна также остальным сотрудникам издательства Viking/Penguin, особенно Ень Чен, Патрисии Николеску, Веронике Виндхольц и Бритни Росс. Спасибо Нику Дэвису за внимательное редактирование и всем сотрудникам Canongate за веру в этот проект. Эта книга началась как серия статей на форуме Big Think и в журнале Scientific American. Огромное спасибо вам, Питер Хопкинс, Виктория Браун, все сотрудники Big Think, а также Бора Живкович и все сотрудники Scientific American, – за то, что предоставили мне возможность развивать эти идеи так, как я считала нужным. Я могу перечислить еще многих людей, щедро даривших проекту свое время, поддержку и ободрение, но есть несколько человек, которым я хотела бы выразить признательность отдельно: Вальтер Мишел, Элизабет Гринспен, Линдсей Фей, все прекрасные дамы из ASH, все сотрудники кафедры психологии Колумбийского университета, Чарли Роуз, Харви Мансфилд, Дженни 8. Ли, Сандра Апсон, Мэг Уолитцер, Мередит Каффел, Элисон Лорентцен, Амелия Лестер, Лесли Джеймисон, Шон Отто, Скотт Хьюэлер, Майкл Дирда, Шара Заваль и Джоанна Ливайн. И наконец, спасибо моему мужу Джефу, благодаря которому свершилось все упомянутое. Я люблю тебя, мне невероятно повезло, что ты есть в моей жизни. Дополнительное чтение В разделах «Читать дальше о Шерлоке Холмсе» в конце каждой главы указаны произведения из следующих источников: Conan Doyle, Arthur. (2009). The Adventures of Sherlock Holmes. Penguin Books: New York. Conan Doyle, Arthur. (2001). The Hound of the Baskervilles. Penguin Classics: London. Conan Doyle, Arthur. (2011). The Memoirs of Sherlock Holmes. Penguin Books: New York. Conan Doyle, Arthur. (2001). Sign of Four. Penguin Classics: London. Conan Doyle, Arthur. (2001). A Study in Scarlet. Penguin Classics: London. Кроме того, информацию я черпала из множества статей и книг. Подробный список источников можно увидеть на моем сайте www.mariakonnikova.com. Далее приведены 168 некоторые наиболее значительные источники материалов для каждой главы. В них не включены все использованные исследования и не упомянуты все психологи, работы которых помогли сформулировать текст данной книги, – скорее, это некоторые ключевые публикации и ученые в каждой области. Вступление Тем, кто заинтересовался подробной историей понятия вдумчивости и ее роли, рекомендую классический труд Эллен Лангер (Ellen Langer, Mindfulness). Кроме того, Лангер опубликовала новую редакцию своей первой работы «Против часовой стрелки: осознанное здоровье и сила возможности» (Counterclockwise: Mindful Health and the Power of Possibility). Мало где найдется более подробное обсуждение разума, его эволюции и природных возможностей, чем в книге Стивена Пинкера «Чистая доска, или Как работает ум» (Steven Pinker, The Blank Slate and How the Mind Works). Глава 1. Научный метод мышления Рассказывая историю Шерлока Холмса и предысторию произведений Конан Дойла, а также биографию последнего, я опиралась главным образом на несколько источников: «Новый комментированный Шерлок Холмс» Лесли Клингер (Leslie Klinger, The New Annotated Sherlock Holmes), «Человек, который создал Шерлока Холмса» Эндрю Лайсетта (Andrew Lycett, The Man Who Created Sherlock Holmes) и «Артур Конан Дойл: жизнь в письмах» Джона Лелленерга, Дэниела Сташауэра и Чарльза Фоули (John Lellenerg, Daniel Stashower, Charles Foleys, Arthur Conan Doyle: A Life in Letters). Две последние книги – кладезь информации о жизни Конан Дойла, первая – лучший единый источник по предыстории и различным толкованиям канонических рассказов о Холмсе. Желающим познакомиться с психологической наукой прежних времен рекомендую классический текст Уильяма Джеймса «Принципы психологии» (William James, The Principles of Psychology). Анализ научного метода и его истории смотрите в книге Томаса Кана «Структура научных революций» (Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions). Во многом разговор о мотивации, обучении и опыте основан на данных исследований Энджелы Дакуорт, Эллен Уиннер – авторов книги «Одаренные дети: мифы и реальность» (Gifted Children: Myths and Realities) – и К. Андерса Эрикссона (автора «Дороги к совершенству», The Road to Excellence). Кроме того, эта глава обязана своим появлением труду Дэниела Гилберта. Глава 2. «Мозговой чердак»: что это такое и что там хранится? Один из лучших обзоров исследований памяти – «В поисках памяти» Эрика Кандела (Eric Kandel, In Search of Memory). Кроме того, превосходны «Семь грехов памяти» Дэниела Шактера (Daniel Schacter, The Seven Sins of Memory). Джон Барг по-прежнему остается главным авторитетом по праймингу и его влиянию на поведение. Источником вдохновения для этой главы послужила работа Соломона Аша и Александра Тодорова, а также совместное исследование Норберта Шварца и Джералда Клора. Обзор исследований по ИАТ предоставляет лаборатория Мазарина Банаджи. Глава 3. Заполнение «чердака»: сила наблюдательности 169 Основополагающий труд по фоновой работе мозга, состоянию покоя, естественной внутренней деятельности и распределению внимания проведен Маркусом Райхле. Анализ внимания, слепоты невнимания и того, как нас сбивают с толку наши органы чувств, рекомендую в книге Кристофера Чабриса и Дэниела Саймона «Невидимая горилла» (Christopher Chabris, Daniel Simon, The Invisible Gorilla). Для более глубокого представления о встроенных когнитивных предубеждениях мозга адресую к книге «Мышление быстрое и медленное» Дэниела Канемана (Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow). Коррекционная модель наблюдения позаимствована из работы Дэниела Гилберта. Глава 4. Изучение «чердака»: в чем ценность творческих способностей и воображения Самая недавняя работа о природе креативности, воображения и интуиции – «Вообрази» Джоны Лерера (Jonah Lehrer, Imagine). Рекомендую также книги Михая Чиксентмихайи «Творчество: поток и психология открытия и изобретения» и «Поток: психология оптимального опыта» (Mihaly Csikszentmihalyi, Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention; Flow: The Psychology of Optimal Experience). Разговор о дистанции и ее роли в творческом процессе смотрите в работе Якова Тропа и Этана Кросса. В целом глава обязана своим существованием книгам Ричарда Фейнмана и Альберта Эйнштейна. Глава 5. Ориентация на «чердаке»: дедукция на основании фактов На мои представления о разрыве связи между объективной реальностью и субъективным опытом и интерпретацией оказала заметное влияние работа Ричарда Нисбетта и Тимоти Уилсона, в том числе сенсационная статья 1977 г. «Понять больше, чем нам известно» (Richard Nisbett, Timothy Wilson, Telling more than we can know). Превосходный обзор их работы можно найти в книге Уилсона «Незнакомые самим себе» (Wilson, Strangers to Ourselves), а новый взгляд предлагает Дэвид Иглмен в книге «Инкогнито: тайная жизнь мозга» (David Eagleman, Incognito: The Secret Lives of the Brain). Первую работу о пациентах с разделенными полушариями мозга опубликовали Роджер Сперри и Майкл Газзанига. Желающим подробнее узнать о смысле этого явления рекомендую труд Газзаниги «Кто главный? Свобода воли и наука о мозге» (Michael Gazzaniga, Who’s in Charge? Free Will and the Science of the Brain). Источники дискуссии о том, как предубеждения могут повлиять на наши выводы, – опятьтаки «Мышление быстрое и медленное» Дэниела Канемана (Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow). Книга Элизабет Лофтус и Кэтрин Кетчам «Свидетель защиты» (Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham, Witness for the Defence) – превосходная отправная точка для тех, кто хочет больше узнать о трудностях объективного восприятия, последующего вспоминания и дедукции. Глава 6. Техобслуживание «чердака»: обучение – непрерывный процесс При рассмотрении способности мозга к обучению я вновь отсылаю вас к работам Дэниела Шахтера, в том числе к его книге «Поиски памяти» (Daniel Schachter, Searching for Memory). В «Силе привычки» Чарльза Дуигга (Charkes Duhigg, The Power of Habit) предлагается детальное описание процесса формирования привычки, ее изменения, а также объяснение, почему привычки настолько живучи. Подробнее о зарождении чрезмерной самоуверенности смотрите книгу Джозефа Халлинана «Почему мы делаем ошибки» (Joseph Hallinan, Why We Make Mistakes) и Кэрол Тэврис «Кто-то ошибается (но не я)» (Carol Tavris, Mistakes Were 170 Made (But Not by Me)). Немало работ о склонности к чрезмерной самоуверенности и об иллюзии контроля принадлежат Эллен Лангер (см. Вступление). Глава 7. Функциональный «чердак»: обобщение Эта глава – обзор данной книги в целом, и хотя в ней упомянут ряд исследований, конкретных рекомендаций по дополнительному чтению не предлагается. Глава 8. Мы всего лишь люди Подробности, касающиеся Конан Дойла, спиритуализма и эльфов из Коттингли, можно узнать из источников о жизни автора, список которых приведен для главы 1. Интересующимся историей спиритуализма рекомендую «Воля к вере и другие очерки популярной философии» (William James, The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy). Книга «Праведный разум» Джонатана Хейдта (Jonathan Haidt, The Righteous Mind) – это размышление о том, как трудно бросить вызов собственным убеждениям. Фотографии: все фотографии, кроме с. 260 и 263, – Creative Commons, фотографии на с. 260 и 263 любезно предоставлены автором.