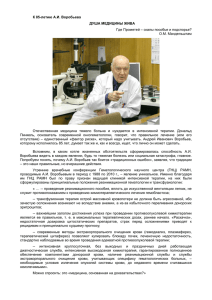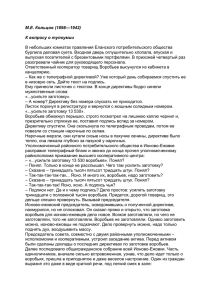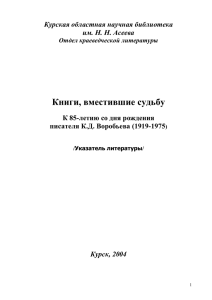Лейтенант сорок первого
реклама
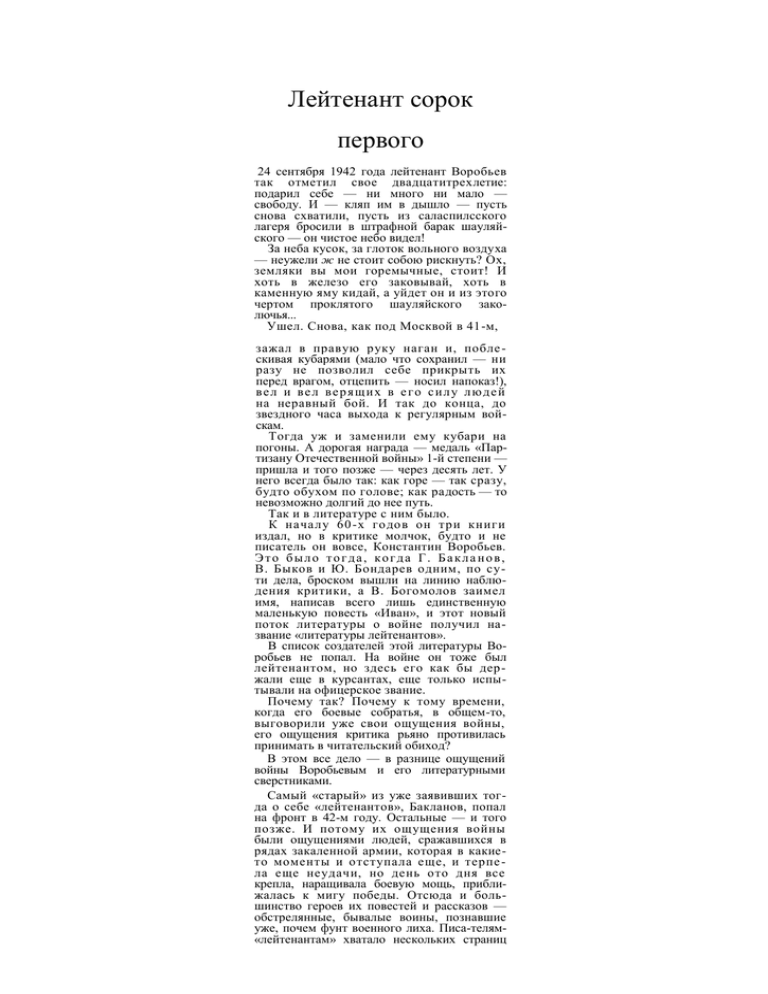
Лейтенант сорок первого 24 сентября 1942 года лейтенант Воробьев так отметил свое двадцатитрехлетие: подарил себе — ни много ни мало — свободу. И — кляп им в дышло — пусть снова схватили, пусть из саласпилсского лагеря бросили в штрафной барак шауляйского — он чистое небо видел! За неба кусок, за глоток вольного воздуха — неужели ж не стоит собою рискнуть? Ох, земляки вы мои горемычные, стоит! И хоть в железо его заковывай, хоть в каменную яму кидай, а уйдет он и из этого чертом проклятого шауляйского заколючья... Ушел. Снова, как под Москвой в 41-м, зажал в правую руку наган и, побле скивая кубарями (мало что сохранил — ни разу не позволил себе прикрыть их перед врагом, отцепить — носил напоказ!), вел и вел верящих в его силу людей на неравный бой. И так до конца, до звездного часа выхода к регулярным войскам. Тогда уж и заменили ему кубари на погоны. А дорогая награда — медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени — пришла и того позже — через десять лет. У него всегда было так: как горе — так сразу, будто обухом по голове; как радость — то невозможно долгий до нее путь. Так и в литературе с ним было. К началу 60 -х го до в он тр и книги издал, но в критике молчок, будто и не писатель он вовсе, Константин Воробьев. Это было тогда, когда Г. Бакла нов, В. Быков и Ю. Бондарев одним, по сути дела, броском вышли на линию наблюдения критики, а В. Богомолов заимел имя, написав всего лишь единственную маленькую повесть «Иван», и этот новый поток литературы о войне получил название «литературы лейтенантов». В список создателей этой литературы Воробьев не попал. На войне он тоже был лейтенантом, но здесь его как бы дер жали еще в курсантах, еще только испытывали на офицерское звание. Почему так? Почему к тому времени, когда его боевые собратья, в общем-то, выговорили уже свои ощущения войны, его ощущения критика рьяно противилась принимать в читательский обиход? В этом все дело — в разнице ощущений войны Воробьевым и его литературными сверстниками. Самый «старый» из уже заявивших тогда о себе «лейтенантов», Бакланов, попал на фронт в 42-м году. Остальные — и того позже. И потому их ощущения войны были ощущениями людей, сражавшихся в рядах закаленной армии, которая в какието моменты и отступала еще, и терпе ла еще неудачи, но день ото дня все крепла, наращивала боевую мощь, приближалась к мигу победы. Отсюда и большинство героев их повестей и рассказов — обстрелянные, бывалые воины, познавшие уже, почем фунт военного лиха. Писа-телям«лейтенантам» хватало нескольких страниц повести или далее рассказа, чтобы превратить юнца-новичка в многоопытного фронтовика. И в этом была известная легкость их задачи. Воробьев начинал воевать в 41-м. Мало того. Первый военный год стал для него и последним годом в действующих войсках. Это-то вот отличие его индивидуальной судьбы от, в общем-то, сходных между собой судеб других «лейтенантов» и было причиной иного, нежели у них, ощущения войны. Ощущения Воробьева — это ощущения человека, сражавшегося в армии, которая только еще училась воевать. Отсюда и неизмеримо большая сложность писательской задачи. И большая ответственн о с т ь : з а к а ж д о е с л о во , з а к а ж д ы й факт, за каждую мысль. Для того, чтобы превратить своего новичка (а новички-то все!) в бойца, в человека, победившего страх перед врагом, Воробьеву понадобились не рассказ и не повесть, а все его знания о войне, все его военные рас сказы и повести. Особая человеческая судьба Воробьева определила ему и особую судьбу в нашей литературе. Да, предметом своей литературы Воробьев сделал собственный, исключительно трудный, не укладывающийся в рамки обычных человеческих горестей жизненный опыт. Этот-то опыт, помноженный на опыт людей, которые, как и сам Воробьев, жили под тяжестью свалившихся на их долю неслыханных испытаний,— осмысленный и переведенный в русло литературы,— и смущал не привыкших к подобному чтению издателей, а за ними и критику. Книги его шли тяжело, а выйдя, практически не имели прессы, если не считать упоминаний в общих статьях и нескольких коротышек-рецензий, появлявшихся, как правило, во второстепенных, периферийных изданиях. Воробьев очень страдал, что его «не замечают». Но... Может быть, грех говорить такое, а все же скажу: слава богу, что и тут, на «литературной ярмарке», у него не вышла легкая жизнь. Он так был устроен, что с каждой новой обидой все злее мучил себя за столом. Все лучше писал. А так ли б то было, появись у него собственная ячейка в литературной обойме?.. Словом, на рубеже 50—60-х годов Воробьев уговорил себя, что все написанное прежде было лишь проверкой литературных возможностей, подступом к себе самому. Что критика это чувствует, понимает и своим молчанием — спасибо — дает намек: дескать, мешать не будем, работай дальше, а там разберемся, писатель ты или нет. Я пишу о Воробьеве, и совсем не случайно связываю разговор о его судьбе с отношением к нему критики. Это так: на протяжении всей своей жизни в лите- ратуре Константин Воробьев крайне нуждался в поддержке. Но это не значит, что, жаждав о себе доброго слова, он хоть раз изменил самому себе — потрафил критике, написал такое, что заведомо должно было быть поднято ею на щит. Нет, тако го о н не пис ал. Он знал: двух жизней не хватит, чтобы рассказать людям о том, что он видел, что пере жил, что думает по поводу этого виденного и пережитого. А у него жизнь только одна, да и та приближается к скло ну. Како е же о н им еет пр аво тратить ее на всякие там «литературные игры»! Неважный тактик? Никудышный стратег?.. Но ведь он и в немецком плену куба рей не снимал. А тут — все свои. Достойно ли ему хитрить со своими? И вот в то время, когда писатели из «его полка» писали об испытанном ими в последние годы войны, он написал о первом. Это сего дня то тут, то там м ы читаем о поражениях 41 -го года и не числим за теми, кто пишет об этом, особого мужества: разрешено. А ведь тогда, когда Воробьев вздумал написать «Крик», правда о начале войны была окружена часто колом запретительных циркуляров. Изрезанной, оскопленной, повесть все-таки была напечатана, и вот тут-то доселе снисходительно-равнодушная к Воробьеву критика встала на дыбы: как посмел?! В повести «Крик» Воробьев «посмел» написать, что в сознании его героя труд но укладывается, что перед войной мы летали «выше и дальше всех», а теперь «красные соколы» редкие гости в небе — враг летает; что, «гремя огнем, сверкая блеском стали», не наши танки, а немецкие пашут землю, и все оружие против них — ПТР да поллитровка с бензином; что не мы бьем врага на «чужой территории», а он нас на нашей. Словом, что такая война разительно не похожа на ту, что нам «обещали». И, наконец, он написал о плене. А это уж совсем ни в какие ворота не лезло. Потому что все пленные — это предатели и изменники Родины. Так сказал Сталин. Нет, этому писателю во что бы то ни стало надо было заткнуть глотку. Задушить его крик! И душили. А он закрылся на все ключи, и писал. И написал. Немногословную — и оттого каждое слово, как пуля в де сятку; многодумную — и оттого глубокую, как само знание жизни людей на войне; трагическую по содержанию, оптимистическую по сути — повесть «Убиты под Москвой». Своими героями эта повесть не только закрыла зияющую брешь в обороне сто - лицы — она закрыла собою брешь в художественной летописи Великой Отечественной войны. Сегодня это известно всем, кто знаком с литературным процессом 50—60-х годов. А когда Воробьев повесть закончил, редактор журнала, куда он ее послал, отписал, что воина была отнюдь не такой, какой представлена у него. И в заклю чение назвал автора «пустым холодильником». «В то же время я был сравни тельно молод,— незадолго до смерти вспоминал Воробьев,— и такое кухонное сравнение привело меня в состояние столбнячной оцепенелости. Позже я узнал, что этот редактор на войне не был. Повесть отвергли еще многие журналы и издательства. Я не только отправлял ее по поч те, но и доставлял, так сказать, нарочно,— говорили будто личное общение автора с сотрудниками редакции смягчает их души, но в моем случае этого не произо шло. Хуже всего было то, что я бесповоротно терял веру в свои писательские способности... Приниматься за новую вещь не было душевных сил,— «холодильник» не выходил из головы, а безучастность и унижающая человеческое достоинство черствость отвергающих тебя редакторов подкрепляла мысль о твоей бездарности». Вот тут-то, когда все, казалось, летит в тартарары, когда никчемной и глупой представилась ему вся прожитая после войны жизнь (днем грузчик, киномеханик, конторщик, завмаг, а ночью до одури протабаченные бдения над листом бумаги, и все это — неужели кошке под хвост?), и повстречался ему наконец человек, который сразу и безоговорочно в нем разобрался. Словами же он выразил это так: «Константин Дмитриевич, в своей повести вы сказали несколько новых слов о войне. Повесть мы решили печатать в одном из ближайших номеров...» Цитирую Воробьева: «Я тогда позорно сконфузился. Я заплакал, стыдясь и пытаясь спрятать глаза от Твардовского. Александр Трифонович молчал, глядя мимо меня в окно,— давал мне возможность, как я понимаю сейчас, привести себя в порядок, но тогда мне почему-то подумалось, что он уважает мои слезы, раз молчит, и от этого они были горше и отрадней». В состоянии ли мы вспомнить и перечислить все то, что сделал для нас Твардовский? Решится ли кто на труд — составить «послужной список» его дел на пользу родной литературе? Если решится, открытие Александром Трифоновичем Константина Воробьева (а именно с «Убитых под Москвой», опубликованных в «Новом мире» в феврале 1963 года, Воробьев получил известность) неминуемо пройдет по разряду самых благих из его сотворений... Теперь Воробьев не как-нибудь там догадывался или подозревал, а знал точно и определенно: он писатель. Приходила к нему и раньше мысль, что проза его не повторяет всем известных азов. А тут сам верховный для него судья подтвердил, что доступно ему говорить «новые слова». С той встречи тем более не мог Воробьев позволить себе писать что-либо ненастоящее. Да, был он такой: работая над каждой очередной вещью, а потом — уже вышедшую ее — подозрительно и отстраненно, как не свою, перелистывая, он страшно боялся, что где-то в чем-то дал слабину — недоговорил, затушевал, округлил, что, одним словом, это — ненастоящее. Эта боязнь была, как болезнь неотступная,— сидел ли он за машинкой или отдыхал от нее: на рыбалке (мелочугу не брал — охотился только на «трудную» рыбу), за шахматами (играл сильно, «понастоящему», его настольной шахматной книгой была «Мои шестьдесят памятных партий» Фишера, а гроссмейстер Ратмир Холмов не считал для себя зазорным часокдругой попереставлять с ним фигуры), в разговорах о литературном деле, о том, что и как пишут другие. Однажды ему попался какой-то мой опус, который ему не понравился, и он гневно меня отчитал: «...Это, кстати сказать, совсем не значит, что я приглашаю тебя одуматься. Я только хочу с высоты своих горьких лет предупредить тебя, младшего сополчанина, что нужно тщательно беречь свои силы — слова, жесты, мимику лица, движения души, — чтобы в урочный час написать настоящую книгу. Иначе — гроша не стоят все твои планы...» Настоящее. Всегда, везде и во всем. Только так достойно вести себя человеку, что взялся в письменной форме судить о жизни людей... Другим не спускал. Но себято как крыл Воробьев чуть ли не за все им написанное! Как стыдился он «браво-победновылощенных» первых своих вещей, написанных «в лета тщеславно-легкомысленной юности». В кавычках — его слова, а ведь среди этих «вылощенных» вещей повесть «Сказание о моем ровеснике», рассказы «Подснежник», «Ермак», «У кого поселяются аисты»! О вышедшем в 1971 году рассказе «Уха без соли», в котором с редкостной силой он сшиб понятия ненависти и прощения, и все это сумел уместить в русской душе, любя ее и осуждая одновременно,— классика, да и только!— он мне писал, что «получилась не уха, а похлебка с такими компонентами, ко- торые я сроду не использовал в своих блюдах». О повести «Вот пришел великан», которая после появления в журнале была в короткий срок дважды переиздана, писал он так: «Повести той, о которой я часто и гордо думал вначале, не получилось. Это трагично. И выпадает карандаш из рук. Куда я ее дену?.. Получился какой-то недоносок...» В свое время он мучился оттого, что ему казались подделкой «Почем в Ракитном радости» и даже «Убиты под Москвой». А последнюю свою повесть «...И всему роду твоему» он хотел бросить — так не нравилась. Ему нравилось думать о том, что еще не написано. Он хотел снова вернуться в огнедышащий 41-й и написать роман «Это мы, господи!». Мечтал нацепить ногами вперед вытащенному из немецкого концлагеря герою погоны власовского поручика, откормить его хорошенько на вражеских харчах, а затем, поставив в охрану того же, откуда вынесен был, концлагеря, дать ему возможность и право организовать и возглавить восстание пленных и уйти с ними в лес... И он страшно раздражался, что текущие дела вынуждают откладывать срок подступа к этой мысленно уже написанной книге — он видел ее с начала и до конца. Эти текущие дела были повестью «...И всему роду твоему», у которой он сам был хозяин: хочешь — пиши, хочешь — не пиши. Но он не мог бросить то, что недоделал,— такой у него был характер. И еще было в его характере: он не считал себя вправе подгонять рабочий процесс, писать быстро. Потому что «быстро» в его понимании значило «плохо». К концу дня, измочаленный и потухший, вставал он из-за стола, и если из всего за день написанного, десятки раз переписанного, переправленного, передуманного оставалось несколько крепких фраз, он радовался: день прожит не зря. Он был из тех писателей, которые знают цену литературному языку. В повестях и рассказах Воробьева, даже тех, что написаны в пятидесятые годы, вы не найдете пустых страниц, проходных абзацев, стертых или небрежно друг к другу пригнанных слов. Все на месте, все выписано, У него был абсолютный литературный слух. И вот этот слух его уловил, что при всем недовольстве трудно рождаемой повестью «...И всему роду твоему» она получается чуть ли не самой важной для него книгой. Он писал книгу очередную, но вдруг осознал, что именно в ней ему удается выразить устоявшееся за пятьдесят с лишним лет свое отношение к времени, в котором ему довелось жить, и к человеку, который жил в одно и то же с ним время. Он понял, что получается книга-итог, книга-завет, книга главных его мыслей о жизни людей. И он полюбил эту книгу. И готов был сидеть над ней дни напролет. Но все реже и реже выдавались ему теперь погожие дни. Вероломно проникшая в его тело болезнь все чаще оттаскивала от стола. Он мечтал и планировал, а смерть не посчиталась с его мечтами и планами. И вот мы остались без этой книги-итога Константина Воробьева. Склоним же головы перед ним, покинувшим нас так рано и неожиданно. Пожалеем, что не успел он дописать свою главную книгу. Но будем знать: и незавершенная — она дает хорошее представление о личности Воробьева, до последней написанной им строки воевавшего за чистоту наших сердец, за честь людей называться людьми. ...Вот стоит герой его неоконченной повести перед зеркалом и, не в силах «породниться» с теперешним своим отражением, маскирует лысинку «взмахами расчески с затылка наперед», а за окном слышится песня, знакомая ему еще с пионерского возраста. И слезы памяти режут глаза... Тут неминуемо и мы вспомним «Тетку Егориху», «Ермака», «Чертов палец», «Почем в Ракитном радости». Вспомним простых деревенских людей, которые в годы сталинской коллективизации преподали страдающему от своего сиротства мальчишке первые уроки доброты, чести и мужества. А не будь этих уроков? Жизнь у героя Воробьева всегда складывалась так, что немудрено было на одном из ее крутых поворотов упасть, сломать себе шею. ...Вот приходит герой неоконченной повести в кабинет врача, измеряет рост, и его сознание с гордостью отмечает, что рост у него остался «прежним, давним, военным — сто восемьдесят три сантиметра...» И мы неминуемо вспомним «Дорогу мужества», «Крик», «Убитых под Москвой». Вспомним, что герой военных произведений Воробьева всегда лейтенант, выпускник Краснознаменного Кремлевского училища, где все — и курсанты, и командиры — были только одного роста: сто восемьдесят три сантиметра. Как и всех сражавшихся в тяжкие месяцы 1941 года, душит их, мучит непонимание: почему отступаем, а не бьем врага на его территории? Но когда идут они в бой, то забывают об этом. Они помнят только одно: они кремлевцы, гвардия, и потому, возвышаясь среди других, видные отовсюду, дерутся не просто отважно,— по-рыцарски красиво! ...Вот сидит герой неоконченной повести за случайной бутылкой вина и, услышав от собеседника, что-де предателей в войну было много, «особенно среди пленных», говорит, что он лично «наградил бы всех пленных, кто остался цел в фашистских лагерях!». И мы снова неминуемо вспомним «Крик» и «Почем в Ракитном радости», а еще — «Седой тополь», «Немца в валенках» и «Уху без соли». Вспомним, что не из трусости, не из подлости оказался в плену герой Воробьева, а по общей судьбе сотен тысяч бойцов сорок первого года. И потому он и его товарищи не стелются перед палачами, не вымаливают себе жизнь. С высоко поднятой головой, непокорившимися, непобежденными стоят они перед своими мучителями, готовые не только с гордым презрением принять смерть, но и в любую минуту — выпади лишь она!— броситься на врага и задушить, разорвать, загрызть. Константин Воробьев был один из первых наших писателей (добавлю еще — один из немногих), кто нашел в себе мужество «замолвить слово» за незаслуженно выпавших из списка героев войны людей, в условиях куда более сложных, нежели самые сложные условия жизни на фронте, продемонстрировавших непоколебимую верность Отчизне. И низкий поклон за это ему, выполнившему свой долг перед ними, живыми и мертвыми, с кем вместе он переносил надругательства в фашистком плену, а потом — горечь и унижения у себя на Родине,.. С£егодня наша литературная критика твердо закрепила за Воробьевым место в обойме военных писателей. Это очень почет но и справедливо. Потому что это понятие — военный писатель — включает в себя нечто большее, нежели сам факт, что человек воевал, а потому писал о войне. Здесь прежде всего имеется в виду сам характер писателя: боевой, военный. Воробьев воевал до последней написанной им строки. Как же она чувствуется, эта «военная косточка», даже, казалось бы, в самых «мирных» ,его вещах! И с каким постоянством, когда ему нужны особо важные аргументы в защиту добра, в порицание зла, он черпает их из знаний войны! Он был убежден, что лучшее в людях проявлялось именно тогда, в пору обрушившейся на них величайшей трагедии. И потому те, с кем вместе он воевал, с кем вместе он победил, в крутые минуты всегда приходят на помощь героям его «мирных» произведений, становятся для них примером чести и чистоты. Этот вот человек, победивший фашизм и тем самым утвердивший себя в праве думать, говорить и поступать так, как велит ему совесть — простая, человеческая, без всякой там шелухи,— всегда был единственно желаемым для Воробьева спутником в жизни, пускался ли он в очередную дорогу с пером в руке или же просто ходил по земле: гулял, глядел, как живут люди, мечтал, любил, ненавидел. Он сам был из этих людей, сам был таким. Он усадил себя за стол и, воскрешая в памяти былое-пережитое, затем мучился и страдал, чтобы люди, прочитав его книги, мучились и страдали меньше, чем он. Свою последнюю повесть Воробьев писал как никогда трудно. Болезнь подтачивала его силы, когда он сидел еще над предыдущей вещью, а теперь, уже не скрывая своего присутствия в нем, то и пело сваливала в постель. Но он недаром прошел сквозь огонь 41-го года. Недаром дважды совершал побеги из фашистских концлагерей. Недаром вырвавшиеся из-за колючей проволоки военнопленные сделали его своим командиром. В течение тех страшных лет он каждый день смотрел смерти в лицо и научился выдерживать ее взгляд. Он знал, что ему остается немного. Он об этом говорил и писал — незавершенная повесть напитана пронзительным ощущением близкой смерти. Но за два с половиной месяца до нее, после тяжелейшей и окончательно ему объяснившей его положение операции, он все еще продолжал смерти перечить. «Я потихоньку пробую работать...— писал он мне.— А то ненароком сыграешь в ящик...» Шутил!.. Я перечитываю его последние письма и плачу, и все благодарю, благодарю судьбу, что свела она меня с этим человеком. Другого такого я не встречал: такого красивого в своей любви к жизни, такого мужественного в своем презрении к смерти. Видимо, здесь и была его суть. И это она породила жажду писать, породила в пулеметной тачанке его маленького героя, вырастила его и провела в семидесятые годы. Да, все написанное Воробьевым — это словно одна книга об одной жизни. Он вышел из курских земель, жил и работал в деревне, потом воевал, а после войны поселился в гостеприимной Литве, с которой связала его боевая участь, стал писателем. И он всегда писал о человеке своей судьбы, который много пережил, но сквозь прокатившиеся по земле ураганы сумел сохранить и высокую стать души, и прямоту сердца, и завоеванное всей историей человеческого рода гордое право называть себя, быть человеком. Воробьев очень хотел жить. Он был исключительный жизнелюб и вообще, надо сказать, замечательный человек. Высокий, с высоким лбом и белозубой улыбкой, с глазами, в которых мудрость прожитых лет легко уживалась с юношеским озорством, он, вероятно, вполне мог бы сниматься в кино. Но он отдал себя на служение российской словесности, зная, что именно здесь его место, что только здесь он способен вытряхнуть себя без остатка. А только так — он был убежден — должен жить русский писатель. Ю. ТОМАШЕВСКИЙ.