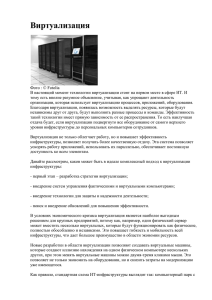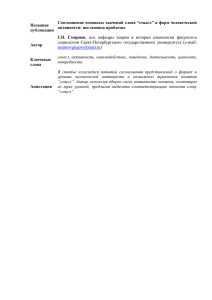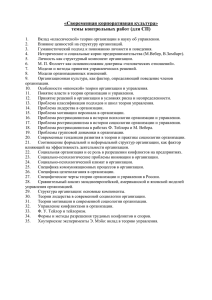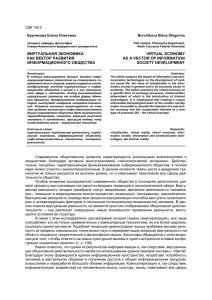Визуальный анализ виртуальной реальности
advertisement

УТВЕРЖДЕНО Решением Бюро Совета Научного Фонда ГУ-ВШЭ от «01» ноября 2006 г., протокол № 20 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по теме: «Визуальный анализ виртуальной реальности» № 06-05-0024 в рамках Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ «Формирование системы аналитических компетенций для инноваций в бизнесе и государственном управлении» Мероприятие 5.2.5 «Проведение совместных исследований преподавателей, аспирантов и студентов» 1. Основание для проведения работы Работа выполняется на основании протокола заседания Координационного Совета ИОП № 9 от «07» ноября 2006 г. Цель 5.: Формирование способностей к исследовательской работе и практическому использованию результатов фундаментальных и прикладных исследований. Задача 5.2.: Реализация научно-исследовательских проектов. Мероприятие 5.2.5: Проведение совместных исследований преподавателей, аспирантов и студентов. Направление совместных исследований – Социология. 2. Исполнитель и соисполнители работы Руководитель проекта – Покровский Никита Евгеньевич, профессор, зав. кафедрой общей социологии (факультет социологии) ГУ-ВШЭ Контактная информация о руководителе: телефон рабочий – (495)152-41-35, телефон домашний – (495)242-68-81, мобильный – (916) 222-24-36, эл. почта – nikita@gol.ru Исполнители: Попов Дмитрий Сергеевич, научный сотрудник Института анализа предприятий и рынков ГУ-ВШЭ, преподаватель кафедры общей социологии ГУ-ВШЭ Контактная информация: телефон рабочий – (495)621-39-34, телефон домашний – (495)331-02-13, мобильный - (916)674-38-33, эл. почта – dmitry_popov@sociolog.net Коновалова Ирина Владимировна, аспирант кафедры общей социологии ГУ-ВШЭ Контактная информация: телефон рабочий – (495)152-02-31, телефон домашний – (495)432-04-10, мобильный – (926)255-27-25, эл. почта – mirina@dnk.ru, viverlen@gmail.com Харламов Никита Алексеевич - студент 4 курса ф-та социологии ГУ-ВШЭ Контактная информация: телефон рабочий – (495)152-02-31, телефон домашний – (495)459-20-06, мобильный – (926)532-88-42, эл. почта – nick.kharlamov@gmail.com Сивак Елизавета Викторовна - студентка 4-го курса ф-та социологии ГУ-ВШЭ Контактная информация: телефон рабочий – (495)152-02-31, мобильный – (926)603-28-31, эл. почта – felline@mail.ru Состав исполнителей проекта может изменяться в течение срока его выполнения. Соисполнитель(и) - отсутствует. Сторонние организации - исполнители - отсутствуют. 3. Цель, задачи и исходные данные для проведения работы Проведение совместных исследований преподавателей, аспирантов и студентов направлено на формирование способностей к исследовательской работе и практическому использованию результатов фундаментальных и прикладных исследований (цель 5 Инновационной образовательной программы ГУ-ВШЭ), что определяется целями и задачами данного сегмента Программы. Целью проведения работы «Визуальный анализ виртуальной реальности» является построение, с использованием метода визуального анализа, варианта теоретической модели процессов виртуализации современного российского общества. В этом смысле исследование в равной степени носит теоретический и эмпирически-прикладной характер. Задачи исследования: 1. Концептуализация понятия «виртуализация». Оно по-прежнему остается очень узким и мало разработанным в теоретической социологии. 2. Дальнейшее определение критериев процесса виртуализации. Выявить грань отличия мира реальной жизни от мира жизни «виртуальной». Будет ошибкой пытаться анализировать все сферы нашей жизни с точки зрения виртуализации. В задачу исследовательской группы входит выявление в основном той виртуальная сферы, которая уже сформировались, и в связи с этим как можно четче задать границу между реальностью и гиперреальностью. 3. Разработка методологии исследования визуальных образов. Процессы виртуализации требуют специфических подходов к их изучению, прежде всего визуальных. 4. Анализ основных компонентов виртуальной реальности. Согласно разработанной теоретико-методологической базе необходимо выделить определенные миры гиперреальности, в которых виртуализация играет одну из главенствующих ролей. Необходимо разработать схему анализа этих миров. Построить теоретические модели их функционирования. 5. Создание модели виртуальности в контексте повседневности. По разработанным моделям провести анализ повседневных практик в сфере массового потребления (туризм, реклама, торговля, мода, рекреация, оздоровительный спорт) и других социальных областях (виртуальность в современном городе, виртуальная группа, виртуальные игры, виртуальные взаимодействия). Исходные данные: Исследование опирается на теоретические разработки, сделанные как зарубежными (М. Кастельс, М. Маклюэн, Ж. Бодрийяр, Н. Луман и др.), так и отечественными социологами (в российской социологии виртуализация стала предметом исследовательского интереса ряда видных авторов — Л.Г. Ионина, Д.В. Иванова, М.А. Бойцова и др.). Постижение виртуальности невозможно без освоения и фиксации специфического концептуального языка, поэтому необходимыми представляются такие подходы, как дискурсный анализ и семиологические методы (представленные, например, в работах Р. Барта). Для визуальной социологии фундаментальной стала монография Джона Колльера мл. «Визуальная антропология: фотография как метод исследования», классиком визуальной социологии также считается Дуглас Харпер. Эмпирические исследования в рамках визуальной социологии ведутся уже более тридцати лет. Журнал «Качественная социология» (Qualitative Sociology) посвятил один из номеров визуальной этнографии (номер 12 (вып. 2), лето 1989 г.). Существует и пользуется популярностью в профессиональных кругах журнал Visual Studies, ранее называвшийся Visual Sociology, который целиком посвящен изучению визуальных образов, в том числе их социологическому анализу. 4. Основное содержание работы Новизна работы и связь с предыдущими исследованиями (не менее 0,5-1 стр.) Исток и тайна виртуализации. Постановка проблемы Понятие «виртуальность» прочно вошло в современный научный и околонаучный язык. В наши дни все чаще это понятие переводят в более высокий смысловой ранг, говоря о «виртуальной реальности». В каком смысле современный мир генерирует особую реальность? В чем ее особенность? В каком смысле она может претендовать на всеобщий характер? Или же речь идет о некоем частном явлении, незаслуженно абсолютизируемом? Развитие информационных технологий конца XX и начала XXI веков повлекло за собой качественное изменение самого статуса информации в современном мире. В различных социальных системах постепенно (и чем дальше, тем больше) информационные технологии приобретают самодовлеющий и самодостаточный характер, становясь реальностью-в-себе и реальностью-для-себя. В теперь уже далеких от нас 1970-х годах в Массачусетском технологическом институте для описания нового программного продукта было предложено вполне рабочее определение — «виртуальная реальность». Речь шла о разработке трехмерных пространственных моделей, которые использовали для особенно убедительной симуляции реальности, скажем, при обучении пилотирования самолетов, а также различного рода компьютерных игр. Однако эффект создания столь жизнеподобных моделей оказался неожиданным даже для их создателей. Трехмерные пространственные компьютерные модели, снабженные для большей убедительности звуковым треком, стали «втягивать» в себя пользователей программ. Из чисто прикладных и игровых продуктов они превратились в особого рода осколки новой, виртуальной, реальности, которая обладала всеми чертами принудительности, всеобщности и универсальности. Это был реальныйнереальный мир, постепенно отсекающий пользователя от мира обыденно реального. Дело, однако, не ограничилось исключительно компьютерными программами. К концу 1990-х годов виртуальная реальность в своих различных инвариантах распространилась на многообразный мир потребления (туризм, мода, видео, кино, компьютерные игры, реклама, Интернет, телевидение, межличностные отношения), который, с одной стороны, сохраняет свою предельную физиологичность и материальность, но, с другой стороны, основывается на виртуальных симуляциях, игре и в итоге ведет в символическое зазеркалье. Первоначально само словосочетание «виртуальная реальность» рассматривалось как удачный слоган, основанный на парадоксальном соединении, казалось бы, несоединяемого: «мнимое-очевидное», «воображаемое-непреложное» (Жарон Ланье). Это в свою очередь привлекло к этому странному концепту внимание бизнеса и маркетинга. Теперь же можно говорить о том, что «виртуальная реальность» перешла из области продаваемой на рынке метафоры в общезначимый символ всей современной действительности. Причем одна из важнейших особенностей виртуализации состоит в ее манипулятивности, инженерной конструируемости и проектности. Фактически в общественном поле теперь возможно интеллектуально сымитировать практически любой продукт и придать ему убедительной черты бытийственности. «Виртуальная корпорация», «виртуальная TV студия», «виртуальная демократия», «виртуальные деньги», «виртуальное обучение», «виртуальное общение», «виртуальная игрушка», и т.п. Этот список можно продолжить. Многообразие воздействия виртуальной сферы на общество дает основание ставить вопрос о тенденции возникновения в обществе нового измерения. Разумеется, не стоит впадать в крайность и объявлять всё и вся продуктом виртуализации. Мир, в одном смысле, становясь все более и более материальным, с другой стороны, уходит в имматериальную сферу воображаемого, сконструированного, «параллельного» и симуляционного. Пространственногеографические показатели постепенно снижают свою первостепенную роль в нашей жизни, Интернет, например, создает свое киберпространство, во многом более активное, чем пространство физическое, и резко сокращающее дистанции между людьми. Пути научного проникновения в мир виртуального могут быть достаточно разнообразными. Основным методом по-прежнему можно считать интеллектуальное моделирование процессов виртуализации и определение внутренних смысловых граней этого процесса. Это моделирование будет проводится и в рамках предлагаемого проекта. Между тем равноценный акцент будет сделан на социологическом анализе визуальных образов, которые стали органичным компонентом виртуальной реальности, входящими в ее структуру. Социальный смысл визуальных образов Виртуальная реальность состоит из многих «миров», сымитированных нашими органами чувств. Существенную роль в конструировании этих множественных миров играет визуальность. Изображения, зрительные ощущения приглашают в мир виртуального, обладая при этом чертами принудительной убедительности, доходчивости и коммуникативности. Это образы рекламы, дизайн, мультимедиа, компьютерные игры, мода, фотография и видео. Их нельзя считать некоей второстепенной оболочкой виртуальной реальности. Они входят в ее структуру в качестве значимых самодостаточных компонентов и нагружается особым смыслом. Зафиксировать и описать эти смыслы — одна из основных целей данного исследования. Естественно, перед социологией стоит задача проникнуть в этот мир и исследовать его с применением своих методов и своего понятийного аппарата. Этому, с рядом ограничений, и посвящается предлагаемый исследовательский проект. Виртуализация городской среды Современное общество по праву можно назвать обществом городской среды. Город есть средоточие социальных, политических и экономических структур и процессов и одновременно место повседневного бытия миллионов людей – городских жителей, мигрантов, туристов, бродяг. Всеохватность изменений, для описания которой разрабатывается теория виртуализации, находит свое непосредственное выражение в действительных феноменах городской среды. Повседневный уровень «экзистенции» в городе теснейшим образом связан с процессом виртуализации. Существование человека, обращающееся вокруг его живых встреч, столкновений (encounters, Э.Амин и Н.Трифт) с людьми, предметами, образами, структурами, встроено в множество машин и механизмов, организующих и структурирующих, управляющих и контролирующих столкновения и встречи. Виртуализация стирает различия между материальными структурами и механизмами, символическими системами, образами и представлениями. На физически реальные протяженные пространства надстраивается пространство медийных коммуникаций, создающее альтернативные относительно физически реальных перемещений и соприсутствий пути взаимодействия. Медиа приобретают самостоятельное существование и расширяют сферу досягаемости человека до всего мира. Зарождение виртуальных структур столкновений и взаимодействий порождает умножение города. Материальный город физической формы репрезентируется в воображаемом городе ментальных образов. Медийные образы умножают воображаемое, создавая множественность образов города. «Правдивые» образы переплетаются с образами «Вымышленными» – например, созданными научной фантастикой и визуализированными в фотографиях, фотомонтажах, фильмах и компьютерных играх. Ключевым феноменом города является множественная мобильность людей, вещей и образов (Дж.Урри). Виртуальные образы реализуются в действительных мобильностях и создают феномены организации пространства и новые механизмы мобильности. Виртуальные коммуникации позволяют образам и информации совершать мгновенные перемещения, производя виртуальные мобильности, виртуальные путешествия и мгновенное время. Виртуализация порождает трудности с контролем над повседневностью и над широкими хозяйственными, властными и культурными структурами. Человек, погруженный в гиперреальность информационных образов, нуждается в новых идентичностях и основаниях осмысления жизни. Производятся новые способы самоорганизации сообществ (например, сообщества в пространстве блогов, виртуальных дневников; флэшмобы). Одной из задач в ходе построения теории виртуализации является построение объяснительной схемы, связывающей формирование медийной и коммуникативной гиперреальности с одной стороны, и процессов повседневного существования в городской среде социальных структур на макро и микро уровнях. А именно, каким образом организуются встречи и столкновения, как они укоренены в виртуальных взаимодействиях, и как они реализуются в физически реальных городских пространствах. Что виртуализируется, что остается невиртуализированным, а что сопротивляется виртуализации и восстает против нее. Виртуальность как игра Й.Хайзинга рассматривал игру как то, посредством чего создается культура. На основании изучения истории культуры, он сделал вывод об уменьшении роли игры – культура, по его мнению, теряет игровой элемент, замещая его понятиями пользы и экономического интереса. Однако некоторые тенденции современного мира возвращают игровой элемент в культуру и возводят его на новое, возможно, еще более значимое место. Некоторые уже ставшие более или менее традиционными игровые формы получают новое выражение, возникают все новые и новые ранее невозможные игровые формы, примером которых, в частности, могут быть флеш-мобы. Современные технологии позволили появиться новой реальности - виртуальной реальности, отличной и в то же время схожей с реальным (физическим) миром. Но виртуальная реальность – это не сколько и не только мир, созданный посредством высоких технологий, это, в большей степени, определенная логика – игровая логика. И она переходит из виртуальной реальности в реальный мир. Характеристики виртуальной реальности (в частности, реальность по принципу воздействия: управляемость, условность и прерываемость) делают ее практически идеальной средой для игры. Главными составляющими игры являются имитация (игра есть имитирующая реальность система – замещение абсолютной реальностью ее иллюзией) и условность (в силу конвенционального характера правил, задающих поле игры): это прерываемость, условность пространства, времени и идентичности. Реальность по принципу воздействия (управляемость, условность и прерываемость) свойственна всем играм, в каком бы формате они не проходили. «Традиционная» игра управляема – так как существуют правила, люди, их создающие и следящие за их исполнением; игра условна – в силу эфемерности происходящих действий (игровая смерть, рождение или заклинание не существуют в реальном мире); игра прерываема – так как любой игрок волен в любой момент выйти из нее. Как способ проведения времени в виртуальном пространстве онлайн игры занимают далеко не последнее место, в значительной степени благодаря тому, что нигде виртуальность как особый мир не имеет такой визуальной достоверности, как в играх – особенно, как в графических играх последнего поколения. Теперь новейшие двигатели и драйвера создают миры, мало отличающиеся своей визуальной составляющей от реального (физического) мира. Современные технические средства позволяют добиться недостижимой ранее достоверности, схожести с реальным (физическим) миром: продуманная физика мира, плавные, абсолютно живые движения аватар, мимика, выражения эмоций, звук – все выглядит и ощущается «как живое». Одновременно с этим, отчетливо виден вторичный, симуляционный характер этой игровой реальности, как в фантастических элементах, так и, прежде всего, в условности некоторых сторон игры. С развитием Интернета появились игры, специально создаваемые для виртуального пространства – это игры, в которых можно «жить» месяцами – онлайн-игры, также называемые MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game). Такие игры объединяют тысячи игроков, в том числе из разных стран мира. В таких играх индивиды проводят долгие часы – причем, не только и не сколько в сражениях, но и, прежде всего, в общении с окружающими. Площади игровых городов становятся местом встреч и общения. Общение здесь развивается по тем же принципам, что и общение через другие каналы онлайн коммуникации. В случае графических онлайн-игр, появляется и пространственная составляющая взаимодействия, которая позволяет проводить визуальный анализ происходящего. Таким образом, в условиях развития графического интерфейса современных онлайн-игр, они становятся интересным предметом для анализа. Скриншоты игр становятся, фактически, аналогом фотографий: они отображают как индивидуальные предпочтения людей, так и некоторые аспекты социальных отношений, взаимодействий и структур. Виртуализации и визуализация: теоретические разработки Современный мир как виртуальный представляется в последние десятилетия в очень широком круге работ различных теоретических и философских направлений. Термин «информационное общество» прочно вошел в научный и медиа дискурс. Хотя некоторые исследователи, например Фрэнк Уэбстер [10]1, и ставят под вопрос само его существование как радикально, качественно отличного от предыдущего общества, даже они признают, что некие изменения происходят. Кроме макросоциальных феноменов объектом, на котором можно наблюдать изменения, является повседневная жизнь людей. Виртуализация в виде Интернета, медиа, сотовых телефонов проникает в обыденную реальность и преобразует ее течение (см. напр. работу М. Кастельса «Галактика Интернет» [5]). К феномену трансформации сущности времени обращается норвежский антрополог Т. Х. Эриксен в книге «Тирания момента. Время в эпоху информации» [12]). Сами медиа входят в жизнь сегодняшнего человека и создают особую реальность. Классикой социологической мысли является книга М. Маклюэна «Понимание медиа» [8]). Современные теории созданы Ж. Бодрийяром, М. Кастельсом, Н. Луманом (см. например книгу Н. Лумана «Реальность массмедиа» [7]). Интересной является концепция медиавирусов [9]. В российской социологии виртуализация стала предметом исследовательского интереса ряда видных авторов — Л. Г. Ионина, Д. В. Иванова, М. А. Бойцова и др. (см. напр. работы [1], [3], [4]). За пределами академических трудов сложились свои традиции трактовки термина «виртуализация» (иногда ее называют «имагологией», т.е. теорий создания имиджей). Так, одна из наиболее популярных версий виртуализации принадлежит писателю М. Кундере [6]2. В его понимании, виртуализация оказывается теорией и практикой сотворения «кажимостей», создания вымышленной реальности, которая при всей своей искусственности в состоянии при определенных условиях затмевать реальность подлинную, все менее и менее населенную современными людьми. В этой связи само понятие «подлинности» (аутентичности) в значительной степени растворяется. В журналистике, художественной критике и искусствознании термин виртуализация применяется для оценки информационной стратегии, прежде всего в области телевещания и популярных искусств, направленной на массовое потребление имиджей в самых различных сферах. Сами работники средств массовой информации и PR, современной «фабрики грез», пользуются словом «виртуализация», обозначая им технологии как анализа уже существующих в средствах коммуникации образов, так и технологий их создания [1]. Виртуализация — это закономерный этап развития современной глобализированной культуры и технологий, имеющий объективные предпосылки своего возникновения в современном мире и столь же закономерные пути своей дальнейшей эволюции. В этом смысле заказ на виртуализацию, по нашему мнению, приходит извне, от самого общества. Виртуализация в большей степени самостоятельно «прорастает» сквозь текстуру современной культуры, чем рождается за закрытыми дверями в среде имиджмейкеров и виртуалистов. Виртуальная реальность и «гиперреальность» (термин Ж. Бодрийяра) под известным углом зрения составляют важный компонент сегодняшнего общества, в том числе российского. Понимание структуры смыслов гиперреальности имеет высокую прикладную ценность, например, для маркетинга и производства медиапродукции. Одной из основных областей исследования предполагается сфера визуальной информации и визуального образа. В формировании исследовательской стратегии авторы проекта считают необходимым использовать методы визуальной социологии—многогранного анализа визуальной информации, как первичной (смыслы визуального образа в повседневной жизни, например, непроизвольная манифестация ценностей и норм в артефактах, нацеленных на внешнее визуальное восприятие); так и вторичной (в частности, анализ визуального образа в Интернет-рекламе). Освоение языка виртуального Постижение виртуальности невозможно без освоения и фиксации специфического концептуального языка. Полезным в данном случае могут быть такие подходы, как дискурсный анализ (см. работы [11], [17]) и семиологические методы (представленные, например, в работах Р. Барта). Для визуальной антропологии и социологии фундаментальной стала монография Джона Колльера мл. «Визуальная антропология: фотография как метод исследования» ([15], впоследствии доработанная и изданная новым изданием [16]). Одной из первых работ в современном этапе развития визуальной социологии стала статья Говарда Беккера «Фотография и социология» [13], в которой были поставлены многие ключевые вопросы, в частности, вопрос о том, может ли фотография считаться в точности передающей информацию. Впоследствии Беккером была написана статья «Визуальная социология, документальная фотография и фотожурналистика: (почти) все зависит от контекста» [14]. Классиком визуальной социологии также считается Дуглас Харпер. В статье «Визуальная социология: расширение социологического взгляда» [18] предлагается четыре основных варианта modus operandi визуально-социологических исследований (научный, нарративный (повествующий), рефлексивный, феноменологический). Теоретический раздел данной статьи является своего рода расширенным определением визуальной социологии. Материалы статьи 1988 года статьи развиваются Харпером в статье «Новое прочтение визуальных методов» [19]. Характерным для указанных работ является то, что, несмотря на акцент на фотографии, визуальная информация не сводится лишь к тривиальному фотографированию и сбору фотографических и видеоматериалов, но включает и визуальные образы в медиа-сфере и их смысловую интерпретацию. Впоследствии было издано несколько монографий и сборников статей, которые, собственно, и составляют ядро зарубежной, прежде всего, американской литературы и, соответственно, американской традиции в визуальной социологии. В частности, это сборники ([21] и [22]). Эмпирические исследования в рамках визуальной социологии ведутся уже более тридцати лет. Журнал «Качественная социология» (Qualitative Sociology) посвятил один из номеров визуальной этнографии (номер 12 (вып. 2), лето 1989 г.). Существует и пользуется популярностью в профессиональных кругах журнал Visual Studies, ранее называвшийся Visual Sociology, который целиком посвящен изучению визуальных образов, в том числе их социологическому анализу. Проведенное Хернаном Вера [23] в Голландии и Германии фотографическое исследование оформления окон в частных домах позволило реконструировать такие черты культуры, как намеренно демонстрируемая внешним наблюдателям «витринная» частная жизнь, а также стиль повседневной организации жизни в жилых кварталах современного города. Статья Линды Кэлоф и Эми Фитцджеральд [20] описывает результаты исследования фотографий в охотничьих журналах с точки зрения того, какими ценностями нагружены публикуемые фотографии. При всей внешней незначительности предмета визуального анализа автор создает убедительную модель гендерных и расовых отношений, имеющих яркие визуальные индикаторы. Примечания 1. Книга Уэбстера кроме собственно критического анализа интересна тем, что в ней имеется краткое изложение теорий нескольких выдающихся мыслителей, в частности, Д. Белла и Ю.Хабермаса. 2. Очевидно влияние на Кундеру в этом пункте французской философской и социологической мысли, в частности, Ролана Барта и Бодрийяра с его знаменитыми «симулякрами». Литература 1. Бойцов М. А. Что такое потестарная имагология? Рукопись статьи, обсужденной на заседании ИГИТИ ГУ-ВШЭ, 24 октября 2005 г. 2. Запорожец О. Н. Визуальная социология: контуры подхода // Интер. 2005. Рукопись, в печати. 3. Иванов Д. В. Виртуализация общества. Версия 2. 0. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2002. 4. Ионин Л. Г. Социология культуры. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательский дом ГУВШЭ, 2004. 5. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 6. Кундера М. Бессмертие. СПб., 2004. С. 126–131. 7. Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. 8. Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, Жуковский, 2003. 9. Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание. М: Ультра.Культура, 2003. 10. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. 11. Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Издательство Гуманитарный Центр, 2004. 12. Эриксен Т. Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. М: Издательство «Весь Мир», 2003. 13. Becker H. S. Photography and sociology // Studies in the Anthropology of Visual Communication, 1974, No. 1. pp. 3-26. 14. Becker H. S. Visual sociology, documentary photography, and photojournalism: It's (almost) all a matter of context // Visual Sociology, 1995,Vol. 10, No. 1-2. pp. 5-14. 15. Collier J., Jr. Visual anthropology: photography as a research method. New York: Holt, Rinehart, Winston, 1967. 16. Collier J., Jr., Collier M. Visual anthropology: photography as a research method. 2nd ed. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1986. 17. Gee J. An introduction to discourse analysis. Theory and method. New York: Routledge, 1999. 18. Harper D. Visual sociology: expanding sociological vision // The American Sociologist, 1988, Vol. 19, No. 1. pp. 54-70. 19. Harper D. Reimagining visual methods: from Galileo to Neuromancer / Denzin N., Lincoln Y. (ed.) The Handbook of Qualitative Research, 2nd ed. Thousand Oaks: Sage, 2000. 20. Kalof L., Fitzgerald A. Reading the trophy: exploring the display of dead animals in hunting magazines // Visual Studies, 2003, Vol. 18, No. 2. pp. 112-122. 21. Prosser J. (ed.) Image-based research: a sourcebook for qualitative researchers. London: Falmer Press, 1998. 22. Wagner J. (ed.) Images of information: still photography in the social sciences. Beverly Hills: Sage, 1979. 23. Vera H. On Dutch Windows // Qualitative Sociology, 1989, Vol. 12, No. 2. pp. 215-233. Методология исследования (не менее 1стр.) Построение теоретических моделей происходит в ходе исполнения следующих шагов: 1. Подробный анализ имеющейся на данный момент отечественной и зарубежной социологической и социально-философской литературы, которая уделяет внимание, во-первых, состоянию современного общества и процессам его изменения; во-вторых, процессу виртуализации; в-третьих, процессам визуализации общества и расширения сферы использования визуального образа; в-четвертых, визуальным методам исследования. 2. Выделение и конструирование понятий, с помощью которых будут построены теоретические модели функционирования виртуальных реальностей, а также определяется методологическая база исследования. Наше исследование в первую очередь направлено на анализ визуальных аспектов процесса виртуализации, хотя мы, разумеется, признаем наличие и не менее важный онтологический статус других аспектов, в первую очередь, вербально-текстовых и языковых. Другими словами, наш подход предполагает: 3. Анализ виртуализации через визуализацию. Методологической базой, используемой нами в качестве основы, является сложившаяся (в первую очередь в американской социальной науке) традиция анализа визуальных образов в таких дисциплинах, как визуальная антропология и визуальная социология. Нашей задачей является построить, отталкиваясь от этой традиции, но не ограничиваясь задаваемыми ею рамками, строгую и эффективную модель применения методов анализа визуальных образов к процессам виртуализации общества. Наш подход предполагает, таким образом, комплексное изучение как самого процесса виртуализации, так и связанных и в некотором роде пересекающихся с ним процессов визуализации. На основе анализа этих двух групп процессов будут уточняться, расширяться и дорабатываться исходные модели виртуальных миров. Должен быть выполнен следующий комплекс работ: В 2006 г.: 1. Проведение анализа источников в формате серии семинаров. 2. Подготовка к печати аннотированной хрестоматии (2-й том, первый том выйдет в 2007 г.). Тема хрестоматии – визуальная социология. 3. Публикация двух статей в российских рецензированных изданиях (конец 2006 г.); 4. Подготовка секции на седьмой Международной научной конференции ГУВШЭ «Модернизация экономики и государство» (4-6 Апреля 2006) 5. Мастер-класс проф. П. Штомпки и подготовка учебного DVD-ROM с профессионально отредактированной и обработанной видеозаписью В 2007 г.: 1. Подготовка круглого стола «Фабрики грез и реальность: виртуальная сфера и ее социальное содержание» на VIII Международной научной конференции ГУ-ВШЭ «Модернизация экономики и общественное развитие» (апрель 2007 г.) 2. Создание сайта «Теории виртуализации» (контент, дизайн, администрирование) 3. Подготовка к печати аннотированной хрестоматии (1-й том, второй том – 2006 г.). Тема хрестоматии – теории виртуализации. 4. Подготовка программы учебного курса «Социальные теории виртуализации» 5. Инициирование и проведение секции по социологии виртуализации на Конференции Европейской социологической ассоциации (Глазго, 2007 г.) с участием членов группы и зарубежных исследователей. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов работы. Этап 1.-2006 г. Краткое содержание этапа: 1. Проведение анализа источников. 2. Подготовка к печати аннотированной хрестоматии (2-й том, первый том выйдет в 2007 г.). Тема хрестоматии – визуальная социология. 3. Публикация двух статей в российских рецензированных изданиях; 4. Подготовка секции на седьмой Международной научной конференции ГУ-ВШЭ «Модернизация экономики и государство» 5. Мастер-класс проф. П. Штомпки и подготовка учебного DVD-ROM с профессионально отредактированной и обработанной видеозаписью Сроки выполнения: октябрь-декабрь 2006 года. Стоимость этапа: 300000 рублей. Этап 2 - 2007 г. Краткое содержание этапа: 1. Подготовка круглого стола «Фабрики грез и реальность: виртуальная сфера и ее социальное содержание» на VIII Международной научной конференции ГУ-ВШЭ «Модернизация экономики и общественное развитие» (апрель 2007 г.) 2. Открытие сайта «Теории виртуализации» (контент, дизайн, администрирование) Подготовка к печати аннотированной хрестоматии (1-й том, второй том – 2006 г.). Тема хрестоматии: теории виртуализации. 3. Подготовка программы учебного курса «Социальные теории виртуализации» 4. Инициирование и проведение секции по социологии виртуализации на Конференции Европейской социологической ассоциации (Глазго, 2007 г.) с участием членов группы и зарубежных исследователей. Сроки выполнения: январь-ноябрь 2007 года. Стоимость этапа: 750000 рублей. 6. Основные требования к выполнению работы Не менее половины от общего объема финансирования исследований по проекту должно ежегодно выделяться молодым участникам коллектива. Результатами проекта в обязательном порядке должны стать: - публикации или рукописи, подготовленные для открытой печати в виде монографий или статей в ведущих российских и зарубежных изданиях, - учебно-методические материалы, в т.ч. подготовленная рукопись учебного пособия, программа учебного курса и т.п. Организационные требования Руководители проектов представляют: ежеквартальные научно-организационные отчеты о ходе выполнения проекта (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по форме в соответствии с приложением 3); промежуточный годовой научно-организационный отчет (не позднее 30 ноября 2006 года по форме в соответствии с приложением 3); итоговый научный отчет по проекту (не позднее 1 ноября 2007 года по форме в соответствии с приложением 4). Материалы итогового научного отчета по проекту в обязательном порядке публикуются на сайте Научного фонда ГУ-ВШЭ. Отчетные документы о проведенных работах представляются в двух экземплярах на бумажном и электронном носителях (дискета или компакт-диск). Требования к оформлению работ Все результаты научно-исследовательских разработок должны быть оформлены в соответствии с приложением 3 (Научно-организационный отчет) и приложением 4 (Научный отчет). 7. Состав участников Руководитель проекта: Покровский Никита Евгеньевич Исполнители старше 30 лет (из числа сотрудников ГУ-ВШЭ, работающих на полную ставку): нет Исполнители моложе 30 лет (из числа сотрудников ГУ-ВШЭ, работающих на полную ставку): Попов Дмитрий Сергеевич в том числе: - аспиранты Коновалова Ирина Владимировна - студенты Харламов Никита Алексеевич Сивак Елизавета Викторовна 8. Ожидаемые результаты работ и предполагаемое использование результатов работ Будет создана теоретическая модель виртуализации, проведена разработка методов визуальной социологии с рекомендациями по ее применению к анализу различных социальных объектов и институтов (таких как туризм, реклама и пр.). Результаты исследования могут быть использованы в социальной теории, преподавании социальных дисциплин, для политического анализа воздействия виртуального на сферу публичной политики. Они могут найти применение в области маркетинга, PR, при разработке брэндов, в практике работы телевидения для изучения воздействия на аудиторию. Предполагаемые условия распространения результатов работы. Учебно-методические материалы, публикации, презентации и использование в учебном процессе: 1. Два тома хрестоматии будут опубликованы в печатном и электронном виде для студентов ГУ-ВШЭ (внутреннее пользование). 2. Учебный курс «Социальные теории виртуализации» будет предложен студентам факультета социологии. 3. Результаты проекта публикуются на русском и английском языках в российских и зарубежных научных журналах, сборниках научных работ. По итогам гранта планируется публикация сборника научных статей участников проекта. 4. Открытие, поддержание в сети и развитие научного веб-сайта по теме исследований. 5. Инициирование секции по социологии виртуализации на Конференции Европейской социологической ассоциации (Глазго, 2007 г.) с участием членов группы и зарубежных исследователей. 6. Подготовка круглого стола «Фабрики грез и реальность: виртуальная сфера и ее социальное содержание» на VIII Международной научной конференции ГУ-ВШЭ «Модернизация экономики и общественное развитие» (апрель 2007 г.) 7. Инициирование и проведение секции по социологии виртуализации на Конференции Европейской социологической ассоциации (Глазго, 2007 г.) с участием членов группы и зарубежных исследователей. Руководитель работ, профессор, зав. кафедрой общей социологии ГУ-ВШЭ _____________________ (Покровский Н.Е.) подпись