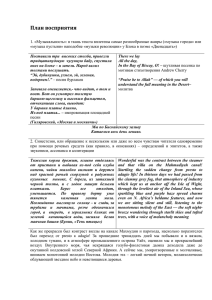Л - Ruthenia
реклама

Л. А. Мазель О парадоксальной противоречивости и высшей естественности Глава из книги “Вопросы анализа музыки” Мы описали две пары взаимодополняющих и взаимоуравновешивающих принципов. Есть еще ряд принципов художественного воздействия, точнее, приемов выразительности, имеющих большое и самостоятельное значение. Их можно описывать по отдельности, но в то же время можно рассматривать и как особые проявления принципов, уже исследованных в предыдущих разделах. Так, например, контраст, который вполне заслуживает специального изучения и имеет много разных типов, вероятно, допускает понимание и как одна из форм нарушения инерции восприятия — инерции, создаваемой первым элементом контраста и нарушаемой вторым (это нарушение способно, в частности, служить объяснением свежести и яркости того, что воздействует по контрасту с предыдущим). С другой стороны, целесообразно, наоборот, объединить ряд принципов и приемов, о которых пойдет речь в этом разделе, в еще одну, третью пару (она названа в заглавии раздела), носящую настолько общий характер, что эта пара в известной мере подчиняет себе многое из отнесенного нами к сфере действия ранее описанных принципов. Действительно, например, следование инерции восприятия — естественно; ее нарушения — неожиданны, но, коль скоро они оправданны, они тоже естественны. Однако неожиданность способна сгущаться до парадоксальной противоречивости, а естественность — до ощущения единственно возможного. С этой точки зрения новая пара предстает как предельное заострение (отчасти и как обобщение) принципов использования инерции восприятия. Соприкасается эта пара и с другими принципами художественного воздействия (напомним вновь сказанное во введении: выясняемые нами принципы неоднородны, обладают неодинаковой степенью обобщенности; в то же время они частично пересекаются, перекрещиваются). Пара, о которой идет речь, связана с самой сущностью искусства еще более глубоко, чем две пары, описанные выше. А члены этой пары объединены между собой еще теснее. Если следование инерции восприятия и ее нарушение (не говоря уже о множественном воздействии и совмещении функций) — разные и отделимые друг от друга явления (поскольку в одних случаях, бесспорно, имеет место одно из. них, а в других — другое), то парадоксальная противоречивость и высшая естественность предстают в искусстве скорее как разные стороны одного принципа, как неразрывное единство противоположностей. Ибо парадоксальность оборачивается здесь высшей естественностью, а последняя, в свою очередь, оказывается парадоксальной. Элемент парадоксальной противоречивости заложен в природе искусства. Оно полно необычного и, казалось бы, сверхъестественного, которое, однако, чудесным образом превращается в совершенно естественное. Так, действительность и вымысел, фантазия — явные противоположности. Но искусство познает действительность именно через вымысел. И мы настолько привыкли к этому факту, что не ощущаем в нем никакого парадокса. Столь же противоположны понятия неповторимо индивидуального и типичного или же представления об обобщении и о чувственно воспринимаемом конкретном предмете. Однако художественный образ как раз и дает типизацию, обобщение в форме единичного, неповторимо индивидуального и чувственно воспринимаемого явления. И мы опять-таки настолько свыклись с этой общеизвестной истиной, что не замечаем в ее содержании ничего необычного. Наконец, в ярком художественном открытии, в совмещении того, что ранее казалось несовместимым, тоже непременно присутствует элемент парадоксального, сразу же оборачивающийся полной естественностью, поскольку совмещение реально осуществлено и новое совмещающее “устройство” убедительно функционирует в качестве органичного произведения. Свои собственные “чудеса” есть и в отдельных видах искусства, в частности в музыке. В самом деле, неречевые слуховые впечатления дают человеку по сравнению с речевыми и по сравнению с впечатлениями зрительными довольно скудную информацию. Между тем музыка способна выражать много, сильно, точно, ничего не изображая и не описывая и используя слух не со стороны его основных (словесно-речевых) информационных возможностей, а лишь как рецептор весьма ограниченного числа тонов (вспомним, что многие прекрасные мелодии не выходят за пределы семиступенной диатоники). Далее, представления человека о красоте форм возникли на основе предметно-пространственных соотношений и зрительных восприятий, дающих связную, целостную картину. Слуховые впечатления, с одной стороны, значительно менее дифференцированы, чем зрительные, с другой — более разрозненны, отрывочны, не образуют цельной, оформленной картины. Мир звуков сам по себе несколько хаотичен, не вызывает представлений об эстетическом совершенстве форм. Музыка же вносит в этот хаотичный мир величайший порядок, стройность, соразмерность, то есть строго и совершенно оформляет те сферы — сферы звукового и временного, которые своей бесформенностью (звуковой мир) и текучестью (сфера процессуального) максимально этому противятся. Понятно, что и принципы художественного воздействия тоже в значительной мере связаны с единством парадоксальной противоречивости и высшей естественности. Одним из его проявлений можно считать движение по линии наибольшего сопротивления. Оно играет важную роль и в других областях, в искусстве же его значение особенно велико. Только что мы проиллюстрировали это на примере некоторых свойств музыки. Но и искусство в целом, познавая действительность через вымысел и давая типизацию через единичное и неповторимо индивидуальное, тоже, в сущности, движется по линии наибольшего сопротивления. Связано с таким движением и одно из основных требований, предъявляемых к художественному произведению, и вместе с тем одна из важнейших черт художественного эффекта — максимальный результат при минимальной затрате средств (как уже было сказано, это обычно достигается сочетанием множественного и концентрированного воздействия и совмещения функций). Наконец, само творчество, само искусство есть прежде всего искусство преодоления материала, а следовательно, неизбежно содержит элемент движения по линии наибольшего сопротивления. Количество частных выражений этого приема бесконечно велико. Так, эпизоды мертвенной застылости нередко строятся в музыке не на консонирующем и никуда не тяготеющем тоническом трезвучии,. а, наоборот, на гармониях диссонирующих, но лишенных — благодаря особому контексту — своих тяготений. В результате слушателю передается ощущение, как бы равносильное представлению, что если даже эти гармонии никуда не тяготеют, то, значит, действительно все мертво. Таким образом преодолевается сопротивление материала, и возникает парадоксальное сочетание диссонантности и отсутствия тяготений, то есть совмещение противоположных свойств. Примерами могут служить некоторые эпизоды в музыке позднего Римского-Корсакова, Скрябина, Шенберга. Если перенести принцип наибольшего сопротивления из сферы выбора материала в область развития, он предстанет как движение к цели под видом удаления от нее. Здесь, в свою очередь, возможны самые различные варианты. Иногда развитие лишь временно отводится в сторону, противоположную той, где лежит его истинная цель, а затем меняет свое направление. Прообразы этого имеются в простейших явлениях действительности: так, удар будет сильнее при более широком размахе, но направление размаха противоположно направлению удара. В искусстве значение этого приема размаха (“отказного движения”, по С. Эйзенштейну) весьма велико. Например, выразительность мелодической вершины (кульминации) выигрывает, если мелодия предварительно опускается в более низкий регистр и затем охватывает больший диапазон. Точно так же общий художественный эффект усиливается, если сначала более активно развивается не тот элемент, которому впоследствии предстоит победить или выйти на первый план. Сюда же в некоторых отношениях примыкают и такие контрасты, которые естественно назвать вспомогательными: чтобы ярче утвердить конечное торжество мажора, появляется на короткое время минор; чтобы утвердить в заключении произведения основной его образ, дается один из противостоящих ему образов и т. д. В подобных случаях контрастирующий элемент вводится ради его последующего преодоления, вытеснения. Интереснее и глубже, однако, другие варианты, при которых развитие не меняет направления, а все время идет в одну сторону, но так, что его видимость в чем-то противоречит его сущности. Конечный результат развития наступает при подобных обстоятельствах внезапно и бывает неожиданным, парадоксальным; но он вполне подготовлен, логичен, в высшей степени естествен. Так, человек, лишившийся разума (а вместе с ним обыденных и стандартных представлений, мешающих непредвзятому взгляду на вещи), иногда постигает и высказывает истины, недоступные нормальному человеку. И, например, чтобы возвысить Евгения из “Медного всадника” до способности разговаривать “на равных” с Петром Первым, обращаясь к его памятнику, Пушкин должен был сначала максимально принизить его, заставить его потерять все и сойти с ума. В других случаях, наоборот, восходящее развитие, полное успехов, приводит с внутренней неизбежностью к катастрофе. Простой пример — басня Крылова “Волк и Ягненок” —проанализирован Л. С. Выготским: Ягненок одерживает в споре с Волком одну победу за другой, но именно это и ведет его к гибели [См.: Выготский Л. С. Психология искусства, с. 159—160]. В музыке нечто более или менее аналогичное можно наблюдать, например, в области сопоставления, развития и борьбы тематических элементов. Рассмотрим с этой точки зрения главную партию Molto allegro e con brio из Пятой фортепианной сонаты Бетховена — партию, которая подробно анализируется в третьей части книги (см. пример 77). Первый восьмитакт содержит обычное для венских классиков повторенное сопоставление двух элементов — решительного, активного (forte) и более спокойного (piano). Затем следует развитие (такты 9—21), приводящее к безраздельному торжеству активного начала (такты 22—31). Можно было бы предположить, что развитие основано на постепенном вытеснении второго элемента первым. Такой путь нередко вполне уместен и действительно встречается. Однако это не путь наибольшего сопротивления, и не он избран в данном случае Бетховеном. Развивается, наоборот, только второй, более спокойный элемент. Он ширится, утверждает себя, усиливается. Но тут вступает в действие своеобразное диалектическое противоречие. Ведь второй элемент противопоставлялся первому именно как неактивный, сдержанный. Развиваясь же, настойчиво утверждая себя и активизируясь, он теряет свои основные свойства, подчиняется характеру того элемента, которому призван противостоять, и тем самым подготовляет его победу. Результат такого развития — типично бетховенский внезапный взрыв — fortissimo после pianissimo и пауз (такты 21—22). Вообще у Бетховена forte часто вступает сразу после piano или diminuendo. Такое diminuendo обычно служит, с одной стороны, внешней видимостью, за которой кроется напряженное внутреннее развитие, с другой — важным фактором, не позволяющим напряжению выявиться вовне, загоняющим его вглубь. А это и приводит к взрыву. В рассмотренном случае из Пятой сонаты взрыв имеет значение развязки действия (внутри главной партии). Понятно, что именно в зоне кульминации и развязки парадоксальная противоречивость нередко проявляется с особой силой, но сразу же и предстает как обладающая чертами единственно возможного, то есть наивысшей естественностью. Об этом свойстве развязки уже шла речь в разделе об инерции восприятия, однако там говорилось не о парадоксальной противоречивости, а всего лишь о неожиданности. Ясно, наконец, что сочетание в произведениях искусства парадоксальной противоречивости и высшей естественности служит концентрированным выражением аналогичной диалектики жизненных явлений и процессов. И поскольку самое замечательное и чудесное в жизни состоит во всевозможных диалектических совмещениях противоположностей, превращениях и переходах, неудивительно, что для искусства все это оказывается с давних времен одной из привлекательнейших тем. Здесь не охватываются всевозможные случаи, связанные с различными обликами и вариантами, в которых реализуется описываемый общий принцип художественного воздействия (в аналитических этюдах соответствующие примеры будут встречаться). Мы ограничимся сейчас рассмотрением еще только одного и притом сравнительно частного принципа, который, однако, играет довольно заметную роль в технике искусства и в котором описываемый общий принцип тоже получает отражение. В одной из работ автора он назван принципом парности необычных средств [См. “Заметки о тематизме и форме в произведениях Бетховена...”, с. 48]. Действительно, если какое-либо необычное для характера, жанра, стиля данного сочинения средство — как бы выпадающее из этого стиля — оказывается совершенно одиноким, оно обычно нарушает единство целого и производит впечатление отдельной случайной черты, не имевшей подготовки и оставшейся без последствий. Применение же двух сходных или корреспондирующих средств этого рода делает их более закономерными и способно образовать между ними какую-то арку, связь и тем самым породить их взаимную поддержку: второе средство может восприниматься как до некоторой степени подготовленное первым, а первое — как получающее во втором известное последующее оправдание. Сказанное представляется вполне естественным, но в то же время оно содержит и элемент парадоксального. Ибо ситуация такова, как если бы считалось, что какой-либо один неподобающий поступок (выходящий из стиля поведения, принятого в данном обществе) шокирует сильнее, чем два. Однако этот принцип, иногда оправдывающий себя и в повседневной жизни, находит в искусстве широкое применение. Существенно, что он срабатывает даже при отсутствии между двумя необычными средствами реальной логической связи. Одно средство вовсе не обязательно вытекает из другого в силу внутренней логики сочинения, не является его естественным следствием: здесь действует особая, чисто художественная закономерность непосредственного восприятия, при которой сходные в своей необычности моменты связываются. Тем сильнее действует описываемый принцип, если два необычных средства или приема находятся между собой в определенной зависимости. Вспомним, например, некоторые тональные соотношения в Седьмой симфонии Бетховена. Так, в Presto отношение между тональностями крайних разделов (F-dur) и трио (D-dur) очень необычно для скерцо Бетховена и вообще для быстрых средних частей его циклов, в частности симфоний (трио, как известно, пишется у венских классиков в главной тональности, в одноименной, или же в тональности первой степени родства). Но столь же необычна для форм Бетховена и модуляция начального периода Presto из F-dur в А-dur. И эти два необычных соотношения находятся в связи между собой: D-dur трио служит субдоминантой' для А-dur, в котором заканчивается первый период Presto. А оба неожиданных момента тонального плана Presto, вместе взятые, находятся в зависимости от одной особенности плана всего цикла Седьмой симфонии. Быстрые средние части — скерцозные и танцевальные — написаны в симфониях венских классиков, в частности Бетховена, в главной тональности цикла. Presto же Седьмой симфонии изложено не только не в главной тональности, но даже не в тональности первой степени родства. И необычный тональный план Presto служит компенсацией необычного тонального плана симфонии, образует с ним пару: А-dur и D-dur внутри Presto напоминают о сфере главной тональности симфонии (А-dur). Примеры такого рода (и иных) пар необычных средств еще встретятся в следующей части книги. Текст дается по изданию: Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики. М. 1978, с. 247-252