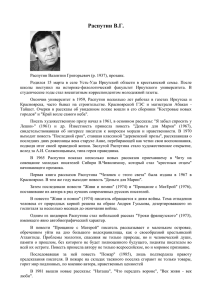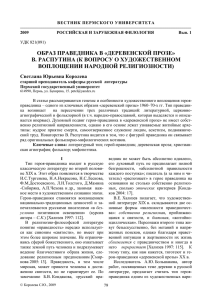- Творчество Астафьева и русская литература XIX
реклама

Н. В. Ковтун Валентин Распутин между традицией и модернизацией 14 марта 2015 года, не дожив нескольких часов до своего дня рождения, умер большой русский писатель – Валентин Григорьевич Распутин. И сразу в прессе, в сети появились отзывы самого противоречивого характера: от суждений о последовательном сталинизме автора, защите им советской идеологии до высказываний, утверждающих особую «слезливость» авторского дара, сентиментальность его поздних текстов, полных обиды на современных женщин, не умеющих хранить домашний очаг, что разрушительно сказалось на стране в целом! Есть и совсем парадоксальные высказывания тех, кто прозу Распутина читал мало или не читал совсем, но полон гнева против писателя-консерватора, ненавидящего все европейское, прогрессивное, зовущего в архаику. Разночтение во мнениях отчасти отражает творческий, идеологический поиск самого автора, отчасти нашу неготовность к непредвзятому анализу его прозы как единого текста со сквозными темами, сюжетами, героями, художественное решение которых порой кардинально менялось (2). В. Распутин один из немногих современных писателей, чье творчество пронизано глобальной идеей о преображении человека и Руси в целом. В контексте постмодернистской эстетики это выглядит странной претензией, анахронизмом, но эта же идея просматривается в основании текстов мировых мастеров от Данте, Гоголя, Достоевского до Л. Толстого и А. Солженицына, ставших свидетелями разрушения прежних культурных парадигм, верующих в силу Слова, ритм как инструмент оздоровления человека и общества. Для отечественной культуры с ее литературоцентричностью подобный пафос вполне объясним. Природа самого положения двойственна: растворение художественного начала во внехудожественных словесных контекстах препятствовало обособлению литературы как самостоятельного вида эстетической деятельности и одновременно это же создавало эффект «всеприсутствия» литературы, ориентировавшей многие социальные практики на книжные образцы. Словесность нередко заменяла на Руси философию, идеологию, историю и даже религию (4). С обретением автономии во второй половине ХХ века литература столкнулась с требованиями рыночной экономики, лишилась статуса пророчества, мигрировала в сферу массовых развлечений, что и вызвало протест традиционалистов, лидером которых стал В. Распутин. Писатель расходится с собственным временем, отсюда глубокий трагизм его текстов. Завершение проекта глобализма, свидетелями чего мы становимся, напротив, актуализирует ностальгические интонации по «своему», национальному, по человеку, укоренному в своей культуре, хранящему память, способному на милосердие. Тоска по уходящему крестьянскому миру, окрашивающая зрелые тексты мастера, соотносит традиционализм с пассеизмом, что внеоценочно, есть признание печального и неизбежного факта невозвратности истории (6). Для сохранения единства культурного процесса здесь вполне достаточно преемственности на уровне эмоционального отклика. Эпоха, идущая на смену игровым стратегиям постмодернизма, обречена перечитывать «деревенскую прозу» заново, решая сложнейший вопрос об эволюционных возможностях традиции. Творчество В. Распутина связано с самоосознанием народа, его потребностью понять собственную судьбу, историю. Традиция понимается как то, за что можно удержаться и уцелеть в исчезающей реальности, поэтому художник так отчаянно за традиции и держится, причем за самые разные: от устоев древнерусской культуры до идеи колхозов и даже апелляции к Сталину в поздней прозе. Важнейшими темами книг автора стали темы памяти, природы (как эманации Бога), недоверия к современной, рационалистической цивилизации. В контексте посткультуры они были очевидно недооценены. Путь В. Распутина вбирает основные перипетии «бунташного» ХХ века. В литературу автор входит на излете «оттепели». Это особенное по своим ожиданиям, утопическим настроениям, некой европоцентричности время, когда «железный занавес» утрачивает абсолютность. Распутин, однако, застает эпоху уже на излете, получая шанс на остраненность взгляда, самостийность исторического опыта. На глазах его поколения сворачивается проект «социализма с человеческим лицом», но и перспектива открывшейся свободы скомпрометирована. Отсюда ощущение неустойчивости бытия, перекрестка, одиночества, преодоление которого обычно и связано с рождением большого замысла в искусстве, призванного вернуть человеку ощущение гармонии с миром, полноты бытия. В это время формируется ряд важнейших направлений отечественной словесности: лагерная проза, исповедальная литература и так называемая «деревенская проза» (позже названная традиционалистской). Представители последней, отталкиваясь от утопического проекта «светлого будущего», реализованного через практику социалистического реализма, устремляются к истокам национальной культуры и веры, в словесности возрождаются модели, образы средневековья, начинается поиск самобытного героя – крестьянина, чудом уцелевшего на обочинах исторического пути. Ценности «мужицкой» России предстояло заново открыть собственному народу, сохранив архетипы крестьянской культуры в романах и повестях, в принципах эстетики, что, собственно, и обусловило ретроспективный характер творчества «деревенщиков» (5). Причем, обаяние самой идеи совершенствования бытия возможностями Слова настолько сильно, что избежать его удалось немногим, прежде всего В. Шукшину, в поздней прозе которого проблема города и деревни принципиально неразрешима; и гениальному миму Л. Петрушевской, утверждающей трагизм как неотъемлемое свойство человеческого бытия в целом, а не той или иной эпохи, нации, культуры… Для понимания сложного взаимодействия различных традиций (язычество, православие, народные верования) в прозе В. Распутина нам придется дать беглый обзор творчества мастера в целом. Уже ранний автор, казалось бы разделяющий оптимизм советских строек (сборники «Костровые новых городов», 1966; «Край возле самого неба», 1966), обращается к истории уходящего народа (тофаларам), открывает нового героя – старуху как хранительницу памяти рода, дара шамана, которые оказываются современному человеку не нужны (рассказ «Эх, старуха»). Здесь же намечена тема победы человека над природой, но одновременно тексты полны восхищением перед той жаждой жизни, что есть у обреченных «самых смелых лиственниц да елей», сопротивляющихся человеческому произволу. За этими образами уже проступают очертания великого Лиственя как Древа мирового на острове Матёра и могучих сосен, что отпевают Аксинью Егоровну в рассказе «В ту же землю…». В 1967 году выходит первая повесть художника «Деньги для Марии», произведение во многом схематичное, однако важное с точки зрения становления авторского мировоззрения: в тексте появляются основные типы героев, характерные для зрелого творчества мастера. В образе Марии, неправедно уличенной в растрате, олицетворена крестьянская Русь, пытающийся ее спасти муж Кузьма не случайно соотнесен с образами богатыря и странника. Причем здесь герой еще надеется найти спасение в городе, автор пытается нащупать общие скрепы деревни и цивилизации. В образе тетки Натальи намечены основные черты так называемого образа «распутинских старух», характеризующихся способностью к прозрениям, интуициям, самостоянию. Повесть «Деньги для Марии» появляется на фоне «Кончины» (1968) В. Тендрякова, «Прощай, Гульсары» (1966) Ч. Айтматова, «Канунов» (1972–1987) В. Белова, романа «Две зимы и три лета» (1968) Ф. Абрамова, рассказов В. Шукшина 1960-х годов. Общей для столь разных произведений является идея разоблачения сталинского курса на коллективизацию деревни, обернувшегося голодом, разрухой, разрушением национального характера. С восстановления в правах самого понятия духовности начинает свой путь зрелого мастера В. Распутин (1). Повесть «Последний срок», опубликованная в 1970 году, по сути является исследованием тайны смерти, явленной глазами умирающей старухи Анны. В иконографическом портрете героини как святой умаляется плоть, отсутствует движение, акцент перенесен с изображения тела на взгляд, отмеченный признаками тайновидения, светоносности, передаваемые через иконографический мотив ассиста. Иконописное пространство дома/мира оформляют мотивы «чудесного света», «звона», «красоты» как мистического свойства, характерные для китежской легенды, подсвечивающей многие тексты автора. После выхода повести очевидно, что в литературу пришел большой художник, в текстах которого происходит открытие разных «уровней реальности», актуализируется поэтика древнерусской словесности. Подлинную славу В. Распутину приносит повесть 1975 года «Живи и помни», удостоенная Государственной премии и вызвавшая многочисленные дискуссии в критике. Текст построен как история предательства, разворачивающаяся на фоне военного лихолетья, что придает повествованию особую остроту. Рассказ о конкретном событии (дезертирстве героя) вписан в абрис вечности, обрамлен сюжетами национальной мифологии и истории, соотнесен с «Повестью временных лет». Структурообразующим выступает архетипический мотив о договоре человека с дьяволом, получающий оригинальное прочтение. «Живи и помни» – единственный текст автора, в котором скрупулезно исследуется природа соблазна, демоническое выдвигается в центр наррации. Нравственное испытание бесовскими кознями проходят Настена и ставший дезертиром ее муж – Андрей Гуськов. Здесь женский образ лишен идеологической заданности, психологически мотивирован, выходит за рамки первоначального замысла. В. Распутин признавался: «надеялся, что как раз у меня покончит с собой Андрей Гуськов, муж Настены. Но чем дальше продолжалось действие, чем больше жила у меня Настена, чем больше страдала от того положения, в какое попала, тем больше я чувствовал, что она выходит из того плана, который я для нее составил заранее, что она не подчиняется уже автору, что она начинает жить самостоятельной жизнью». В финале повести героине открывается легендарный град Китеж как прообраз мистического Иерусалима. Если до этого текста центром писательского мира была мудрая старуха, постигающая тайну судьбы, то Настена суть воплощение женственности и жертвенности. Здесь же автор подходит к сложнейшей теме противоречивости ряда догматов, механически перенесенных в настоящее – Настена скрывает мужадезертира, так и не решаясь на покаяние, буквально становясь жертвой оборотня. О трагическом положении патриархальной женщины в современности, где традиции уже не действуют, блестяще напишет Ф.Абрамов в «Бабилее» (1980). На смену законам рода приходит идея личной ответственности за зло, происходящее в мире. С публикации знаковых текстов В. Распутина начинается его вхождение в европейскую литературу. На исходе 1970-х его произведения анализируются в горизонте традиционалистской прозы. Осмысление мировоззренческих установок автора неоднозначно. Преобладает традиция рассматривать его творчество в контексте христианского мировидения, еще один подход – анализ в рамках мифопоэтического дискурса. Художник постулирует собственное восприятие взаимодействием разных религиозных систем: «если мы до сих пор несем в себе языческие отголоски, так потому именно, что предкам нашим было оставлено для них место, что учение, пришедшее на смену предыдущему, составленному, казалось бы, из одних предрассудков, нашло нужным считаться с его природной укорененностью» (Из глубин в глубины). Дуализм художественного мира писателя, в поздней прозе пришедшего к идее создания новой религиозной системы, практически не исследован. Повесть «Прощание с Матёрой» (1976) безусловная вершина 1970-х. Образ острова Матера воплощает в повести Русь изначальную, подсвечен народными сюжетами о «земном рае» и «обетованных землях». Легенды о «далеких землях» были не просто мечтой о справедливом, праздничном мире, но сами выступали как вариант его осуществления, реализации этой самой справедливости в отношении каждого ищущего. С представлением об избранности острова согласуются семантика его названия: Матера – мать, история освоения («триста с лишним лет назад» – время освоения Сибири первыми старообрядцами), символическая связь с ковчегом и Голгофой одновременно (образ «царского лиственя»). Остров – «родная, самой судьбой назначенная земля» – Божий дар, символ «соборного человечества», «собравшихся земляков», представших единой личностью. Мотивы звона, сияния, песни, креста транспонируют Матеру в вечность. Традиционные крестьянские работы описаны по аналогии с церковной мистерией: сенокос – богомолье, запах от скошенной травы – благовоние. Как сакральное пространство, остров населен избранными – святыми, юродивыми. Этот же мотив «дарованной Богом земли» прослеживается в «Царь-рыбе» (1975) В. Астафьева, однако в этом тексте мотив обретения праведной, «чистой» земли профанируется. Государство, взявшее на себя водительские функции, дает скитальцам холодные, нищие земли, но измученным людям и они кажутся «чуть ли не раем Господним». Прощание с Матёрой. Автор: Сергей Элоян В «Прощании…» показан и трагический раскол мира. Перед гибелью земли оборотни («пожогщики») буквально захватывают Матеру, реализуется архетипический мотив пленения святой Руси варварами. Черты хтонических существ (змей, воронов), нечистых зверей (медведь, волк) угадываются в обликах «орды», пришедшей очистить остров перед затоплением. Поведение «пожогщиков», руководимых «сам-аспид-стансыей», воспринимается как нечеловеческое, они не говорят, но «бранятся», лазят по деревьям. На острове со змеями играют даже дети, только юродивый Богодул (калька с древнегреческого «Богов раб», «Божий посох») оказывается неуязвим для них. Для того чтобы передать непостижимость ситуации, отменяющей все ценности и ориентиры, писатель обращается к парадоксальным образам – ребенок, играющий со змеей. Совокупность эсхатологических признаков – свидетельство того, что время, история пришли к концу. Однако в «Прощании…», как и в повести «Последний срок», героям дано знание иного мира, причем теперь его присутствие осязаемо. Насельники острова наделены визионерскими способностями, они могут вопрошать предков и получают ответ, прозревать человеческие судьбы, предсказывать будущее. В момент наивысшего духовного напряжения Дарья на кладбище слышит указующий голос и обретает покой. Она же пророчески предупреждает внука-прогрессиста: «Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно ж не оне на вас, а вы на них работаете». Прощание с Матёрой. Автор: Алина Гусарова «Прощание с Матерой» идейный гребень и итог целого направления литературы 1960–1970-х годов, текст финализирует искания «деревенской прозы» классического периода. После прозы такого уровня от писателя ждут знаковых текстов, выхода на принципиально новый уровень творчества, но этого не происходит. Критики отметят фатализм «Прощания…», который вызван чувством неизбежности зла в мире, но одновременно указывает на внутреннюю невозможность для русского человека с этим злом смириться. В тексте прерывается традиция поиска земли обетованной в пространстве географическом, поиск перемещается в ирреальные пределы. Отныне не Беловодье за тридевять земель, но мистический Китеж будет ждать сокровенных героев автора. Однако, как финальный текст направления В. Распутин назовет «Пожар» (1985): «Я был “деревенщиком”. Все, что могла сказать “деревенская” литература, она сказала. И “Пожаром” для себя я закончил эту тему» (Прокляты, но не убиты). Повесть вышла после десятилетнего молчания писателя, критики зачастую рассматривают ее как эпилог к «Прощанию с Матёрой». Автор прощается с собственной «иллюзией сельской благодати» и, как следствие, начинает поиск нового героя, наделенного персоналистичным сознанием, развернутого не к постижению внешнего мира, но к внутреннему бытию, самоценность которого и определяет его устойчивость по отношению к хаосу истории. Повесть «Пожар» характеризуют открытая публицистичность, небывалый накал душевного страдания, которого В. Распутин не достигал ни в одном другом произведении (7). Художник здесь очевидно уступает пророку-обличителю. Текст отражает и общую тенденцию кризиса авторства в прозе конца ХХ столетия, сомнения в праве художника «быть вне жизни и завершить ее». Сохраняя пророческие интонации, позиция В. Распутина становится «болезненноэтической», ибо утрачиваются спокойствие, незыблемость. Подчеркнем, идеология, поэтика поздней прозы складываются уже не произвольно, но отражают авторскую концепцию – систему творчества в условиях разрушения всех традиционных ценностей. Выбор темы, героя, манеры повествования передают художественное и нравственное кредо писателя, поэтому так важны итоги, к которым приходят персонажи, логика трансформации устойчивых мотивов и образов. «Пожар» по символическому ряду и настроению сливается с повестью В. Тендрякова «Поденка – век короткий» (1965) и «Печальным детективом» (1985) В. Астафьева. Пожар, война – экстремальные ситуации, где становится очевидной нравственная суть человека. Все основные темы, мотивы предшествующего творчества сведены в повести в единый узел, полемически заострены. Жизнь в леспромхозе проходит «по ту сторону добра и зла»: «Добро и зло перемешалось. Добро в чистом виде превратилось в слабость, зло – в силу». Это существование на грани смерти: в поселке «принялись селиться люди легкие, не обзаводящиеся никаким хозяйством, ни даже огородиком, знающие одну дорогу – в магазин, и чтобы поесть, и чтоб время от работы до работы скоротать». Всегдашнему однообразию городского бытия ранее противостояли гармония природы, память рода и то интуитивное знание неповторимости каждой человеческой судьбы, что было открыто старухам, юродивым. После их ухода противовес утрачивается, поколению детей в ежеминутной борьбе за выживание метафизические искания чужды. На символическом уровне повествования судьба современного мира вписана в историю Содома и Гоморры. Проклятые Богом города традиция соотносит с легендарным Китежем, образ которого ассоциируется в поэтике В. Распутина с исконной Русью. Банальный сюжет пожара на поселковом складе разворачивается в тексте по аналогии с мотивами Апокалипсиса (8) и старообрядческих гарей. Огонь захватывает все большее пространство, пламя становится напористее, агрессивнее, и в этой же динамике меняются люди: черты архаровцев проступают в прежних колхозниках. Конфликт из пространства истории переносится в экзистенциальные пределы человеческой души. Повесть завершает мотив плача – сквозной для творчества В. Распутина в целом. Герои оплакивают прежнюю Русь, жизнь в которой не была легкой, но была понятной, пригодной для следующих поколений. В современном мире, подпавшем под власть пришельцев («пожогщики», архаровцы), «…жизнь, как и везде, из целого числа превращалась в дробь с числителем и знаменателем, где непросто разобраться, что над чертой и что под чертой». Для русской традиционной культуры, структура которой дуалистична, неразграничение добра и зла означает катастрофу. Причитания, плачи становятся единственным звеном между прошлым и будущим, заменяют перспективу подвига. Позже В. Распутин не станет включать «Пожар» в собрания сочинений, чтобы не подчеркивать общий трагический настрой творчества, не закрывать для себя перспективу Исхода. Рассказы 1990-х годов рождаются из авторского восприятия современности как постистории, когда вдребезги разбивается традиционная жизнь Руси. Отсюда и обращение к малому жанру, который позволяет отразить осколочную картину настоящего. Подлинным открытием прозы этого времени стал образ трикстера (как двойника культурного героя, по К. Юнгу), воплощенный в цикле рассказов о Сене Позднякове. Причем, его эстетика отвечает принципам постмодернизма, жестко критикуемым традиционалистами. Время трикстера в мире и литературе приходится на период открытия фиктивности устоявшихся норм, «когда общество перенасыщено цинизмом и сознает это» (3). Через образ трикстера исследуются новые перспективы, его появление – знак потребности в индивидуальности, личности. Молчание, бессилие народа, лишенного возможности не только жить, но и умереть на собственной земле («В ту же землю...»), замкнутость, растерянность интеллектуалов («Новая профессия») рождают потребность в активном герое, готовом на диалог с хаосом, свободном от общинного традиционализма. Прежние богатыри-защитники, надорванные войнами, коллективизацией, стремятся укрыться в пределах «своего», известного мира, и только трикстер принимает вызов времени. Образ трикстера (Иванушки-дурачка) в поздней прозе В. Г. Распутина Уже первое появление Сени в деревне маркировано как необычайное, сродни злой шутке. Героя снимают с «белого парохода», атрибутирующего романтику советских строек, в бессознательном состоянии, без документов, «Не было и рубахи». Тело, «сброшенное мертвяком с парохода», оставляют на берегу. Крестьянский мир облегченно отворачивается, препровождая сироту в баньку под присмотр собак. Однако в кратчайшее время «тело поднялось на ноги», оделось в одежду с чужого плеча, как и положено шуту, «и заявило, что оно – “наш орел”». Так рождается новый герой нашего времени. Сеня не просто воскреснет, но отхватит и лучшую в деревне невесту. Его судьба как серия трюков противоречит судьбе/доле, однако открывает широкие возможности для маневра! Именно Сене автор доверяет спасение ангела – девочки Кати («Нежданно-негаданно»), он же воюет с телевизором – аналогом бездны, изобретает необычные вещи, отправляется в Москву за Правдой… В традиционалистской прозе персонаж В. Распутина имеет прекрасную родословную: от образа деда Щукаря М. Шолохова до Федора Кузькина Б. Можаева, чудиков В. Шукшина и Б. Екимова (9). В поздней прозе В. Распутина архетипическая пара культурный герой – плут решена через дихотомию дева-богатырка – трикстер, сверхзадача последнего – испытание возможных путей спасения нации. Здесь автор близок ключевой идее творчества А. Солженицына, В. Астафьева, обозначенной как «сбережение народа». Русь, пережившую многие модернизации, автор «Прощания…» называет рыхлой, плохо поддающейся управлению страной. Отсюда стремление организовать саму «почву» - народ, наградив ее стойкостью, надежностью, что и символизируют образы баб-богатырок. Не случайно героини унаследуют имена отцов, их судьбы прочитываются в контексте миссии Егория Храброго: Аксинья Егоровна («В ту же землю…») и Егорьевна («Дочь Ивана, мать Ивана»). Актуализация мотива женского богатырства закрепляет фигуры брутальных, физически сильных, решительных героинь, лишенных всех признаков женственности, – таковы дочь Аксиньи Егоровны Пашута, Агафья из рассказа «Изба». Вокруг ног нынешних амазонок и вьются дети-мужчины, шуты. В позднем творчестве художника проблематизируется дискурс национальной идентичности в его основных аспектах: идеологическом, эстетическом, гендерном. Однако, Сеня девочку/ангела не уберег, так в рассказе «Нежданнонегаданно» в свернутом виде уже присутствует основная интрига итоговой повести «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003), где именно женщина встанет на защиту поруганной чести собственного дитя и русской земли в целом, демонстрируя богатырскую силу и великое бесстрашие. Мужчина же, традиционно отстаивающий собственную социальную значимость, оказывается обманутым, потерянным, инфантильным. Тональность повести разительно отличается от настроения классической прозы традиционалистов, это не исповедь-прощание, но призыв к сопротивлению, текст оставляет впечатление предельной жесткости, брутальности, публицистической напряженности, все менее сочетающейся с художественными задачами как таковыми. «Двойственность» произведения – и следствие изменившейся позиции автора, в ком дух бунтарства оттесняет искусство «витийствования». В. Распутин наследует «апостольской» традиции древнего письма, на авторитет Аввакума ссылается и в публицистике (очерки «Сибирь, Сибирь…»). Проблемы будущего Руси для него значительнее литературных, хотя и не отменяют последние. Осознавая собственную судьбу в ореоле мученичества-пророчества, автор в последних текстах «ругается миру», «кричит», стремясь разбудить нравственное чувство сограждан. В тексте совершается переход от Новозаветных истин к Ветхозаветным, актуализируется закон Талиона. Именно поэтому Исход / Воскресение здесь невозможны: отсутствие Христа лишает и перспективы Воскресения. В повести намечен важнейший тип героя будущего – богатыря и философа Ивана, который должен воспринять не только миссию по защите земли от героини-матери, но и дар творчества, переданный ему повествователем. Итак, в позднем творчестве писателя происходит принципиальное изменение картины мира и сокровенного героя. Подлинная Русь как град Китеж обретается в инобытии. Пределы настоящего приращиваются за счет мира смерти, который мыслится в соответствии с древними языческими представлениями как существующий где-то рядом с настоящим, куда можно совершить путешествие, увернувшись из-под колес истории. Фактически демонстрируя остывание духовности и веры, беспомощность культуры перед мировым злом, В. Распутин не отвергает их для себя, его проза сохраняет миромоделирующее содержание, но теперь оно дополняется элементами мистификации. Герой-трикстер, ставший одним из самых устойчивых персонажей конца 1970-х годов, не случайно появляется в некогда идиллическом пространстве деревни, где еще жива остаточная память о богатырском прошлом, значит, сохраняется сама возможность ответа на брошенный историей вызов, с истечением надежды трикстер попадает в трагическое положение, не менее трагическое, чем сам культурный геройизбавитель. В поздних текстах автора основанием, позволяющим выжить, являются уже не вера и традиция, а способность героев на самостояние, внутреннее развитие, однако, вне подчинения хаосу мира. Сам писатель собственной жизнью и творчеством отстаивал это право на самобытность знания, слова, пути… Литература Ковтун Н. В. «Деревенская проза» в зеркале утопии. Новосибирск: СО 1. РАН, 2009. 2. Ковтун Н. В. Русская традиционалистская проза: идеология и мифопоэтика. Красноярск, 2014. 3. Липовецкий М. Трикстер и «закрытое» общество // Новое литературное обозрение. 2009. № 6. С. 244. 4. От редакции // Кризис литературоцентричности: утрата идентичности vs новые возможности. Коллективная монография. Отв. ред. Н. В. Ковтун. М.: Флинта-Наука, 2014. С. 6. 5. Парте К. Русская деревенская проза: светлое прошлое. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004 6. Плеханова И. И. Творчество В. Распутина и философия традиционализма // Время творчество В. Распутина: Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения В. Распутина: материалы. Иркутск: ИГУ, 2012. С. 60-90. 7. Старикова Е. Ищущая душа // Новый мир. 1985. № 12. С. 232. 8. Цветова Н. Эсхатологическая топика русской традиционной прозы второй половины ХХ века. СПб.: Фак. филол. Искусств СПбГУ, 2008; 9. Kovtun N. House-spirit, Master, Pinochet: a Patriarchal Myth in the Late Traditional Prose //Journal of Siberian Federal University. Humanities and social sciences. № 2 (5). 2012. Р. 255-264