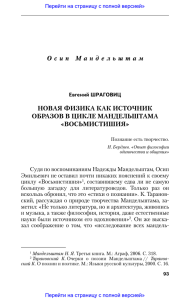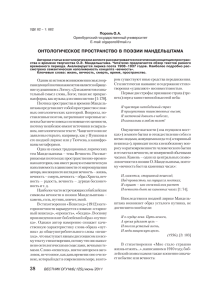Пороль О. А., Пыхтина Ю. Г.
реклама

Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 23 (277). Филология. Искусствоведение. Вып. 69. С. 100–107. О. А. Пороль, Ю. Г. Пыхтина ВНЕВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ В ЛИРИКЕ АКМЕИСТОВ Авторами статьи анализируется поэтическая концепция пространства и времени в творчестве Н. С. Гумилёва, О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой. Читателю предлагается обзор текстов периода Серебряного века. Новым в исследовании является рассмотрение проблемы в онтологическом аспекте. Ключевые слова: пространство, время, вечность, поэтическая концепция. Происходившие в России социально-экономические и социально-культурные процессы на рубеже X������������������������������� I������������������������������ X–���������������������������� XX�������������������������� веков способствовали возникновению ощущения драматизма земного бытия у многих поэтов и писателей. Очутившись в круговороте совершающихся потрясений, приняв или отторгнув изменения мира, культурная элита пыталась обрести себя, найти своё место во времени и пространстве. Обращение к инобытию, к новым преобразованным религиям и, наконец, к Логосу – стало попыткой заполнить возникший духовный вакуум. Каждая литературная эпоха, каждое большое направление (школа) строят своё пространство (по выражению В. Н. Топорова). По мнению П. Флоренского, все основные типы пространств являются многообразными, возможны и бесконечные вариации свойств этих пространств [15. С. 329]. Исследуя природу художественных произведений, глубинные смыслы пространства, Н. Гартман также указывал на специфику организации пространства в художественном тексте, содержащем онтологический аспект: «Всегда созерцание духовного порядка превышает чувственное видение или слышание, всегда художественное произведение является двойственным образованием с двояким способом бытия, но составляющим тем не менее прочное единство» [4. С. 118]. Осознание условности земного пространства и времени, принадлежности себя к инобытию – основные черты поздней лирики акмеистов. Неприятие окружающей действительности («Где я?» и «Кто я?» – вопросы из стихотворений Н. С. Гумилёва «Заблудившийся трамвай» и «Прапамять») – признак совершающейся духовной и земной катастрофы человека рубежа веков. С этой точки зрения, обращение акмеистов к Логосу означает не что иное, как попытку восполнения духовного вакуума, избавления от ощущения надвигающейся пустоты, созда- ния нового «мыслимого» (онтологического) пространства, в котором доминирующим концептом становится «вечность». «Православная мистика энергично отвергает бесконечность во времени, принимая этот бесконечный разрез, доступный только праведным, утверждая вечность как сердцевину времени», – писал О. Э. Мандельштам в статье «Скрябин и христианство» [10. С. 205]. В современном литературоведении рассмотрены философско-эстетические основы акмеизма в работах М. Л. Гаспарова, Л. Г. Кихней, О. Клинга, О. А. Лекманова, Д. Е. Максимова, О. Червинской, Е. Г. Эткинда и др. Особенности пространственного мировосприятия и их отражение в поэзии отдельных авторов исследованы А. Г. Коваленко, Ю. М. Лотманом, З. Г. Минц, П. Г. Пановой, В. Н. Топоровым и др. Однако пространственно-временные формы бытия лирики акмеистов в библейском аспекте до сих пор не изучены. В этой статье впервые предпринимается попытка анализа пространственно-временной организации поэзии акмеистов в аспекте библейского дискурса, выделяются категории индивидуального поэтического пространства и пространства поэтической школы. Для анализа были отобраны поэтические фрагменты из текстов, в которых уровень пространственно-временных отношений (термин З. Г. Минц) был одним из доминантных. Другим условием отбора послужила частотность библейских образов, символов и мотивов в структуре исследуемого текста. Специфика анализа предполагала четыре этапа и включала следующие формы работы над текстом: чтение, наблюдение над языковой стороной произведения (обращение к этимологии слова, выяснение значений церковнославянской лексики – лексики Библии в славяно-русском варианте, поиск ключевых и частотных слов), поиск текстовых параллелей (между художе- Вневременные формы бытия в лирике акмеистов ственными текстами и текстом Библии), смысловое объединение изученных языковых единиц на уровне интерпретации текста. В ходе анализа был выявлен весьма обширный и неоднородный корпус текстов (Мандельштама, Гумилёва и Ахматовой – наиболее ярких представителей школы), содержащих вневременные формы инобытия. Вневременные формы бытия (выражение М. М. Бахтина) в поэзии акмеистов – это вечность, память, пространство, смерть (смертный час), бездна, пустота, пропасть, сон, рай, ад. Рассмотрим результаты анализа (выявленные семантические значения наиболее частотных слов, отражающих картину индивидуального пространства и пространства поэтической школы) и прокомментируем поэтические тексты и фрагменты, требующие определённой дешифровки. Тема вечности – одна из самых традиционных лирических тем Мандельштама. Рассматриваемая поэтом как пространственно-временная категория, она имеет разную семантическую наполняемость в зависимости от мироощущения автора, эволюции его взглядов: вечность – жизнь, вечность – смерть, вечность – образ Христа, вечность – радость, вечность – дурная бесконечность и т. д. Пространство в творчестве поэта – одна из ведущих категорий, содержащих семантический смысл пустотыопустошённости, осознание своей потерянности в нём: Заблудился я в небе – что делать? / Тот, кому оно близко, – ответь… [11. С. 129]. «Поэтическая» концепция пространства и времени Мандельштама насыщена высокими онтологическими смыслами, подчас требующими детальной дешифровки. Пространство: Не отрицает ли пространства превосходство / Сей целомудренно построенный ковчег? [9. С. 111]; Нам ли, брошенным в пространстве, / Обречённым умереть… [9. С. 125]; вечность – У вечности ворует всякий, / А вечность – как морской песок: / Он осыпается с телеги – / Не хватит на мешки рогож [9. С. 112]; и Евхаристия, как вечный полдень, длится [9. С. 343], немногие для вечности живут, / Но если ты мгновенным озабочен – / Твой жребий страшен и твой дом непрочен! [9. С. 329]; Не говорите мне о вечности / Я не могу её вместить [9. С. 303]; смерть – Неужели я настоящий / И действительно смерть придёт? [9. С. 99]; миг – Я вижу дурной сон, / За мигом летит миг [9. С. 98]; Вот дароносица, как 101 солнце золотое, / Повисла в воздухе – великолепный миг [9. С. 343]; бездна – Душа висит над бездною проклятой [9. С. 103]; пропасть (пустота) – И, кажется, старинный пешеход, / Над пропастью, на гнущихся мостках, / Я слушаю – как снежный ком растёт / И вечность бьёт на каменных часах [9. С. 103]; Твой мир, болезненный и странный, я принимаю, пустота [9. С. 94]; Паденье – неизменный спутник страха, / И самый страх есть чувство пустоты [9. С. 329]; И в пустоте, как на кресте [10. С. 54]. Устойчивый повтор символов: пространство, вечность, миг, смерть, пустота (часто в лирике Мандельштама сосуществующих в одном текстовом поле стихотворения) – позволяет прочитать разрозненные фрагменты как единый поэтический текст или метатект (по выражению А. Ханзен-Лёве), в котором можно выделить следующие смыслы, если располагать знанием о библейской символике и перевести поэтический текст на рационально-логический язык: 1. Пространство вне Бога в лирике Мандельштама – это небытие, брошенность, вечная мгла, либо «восхитительная мощь» (если оно сакрально). 2. Антиномия Вечность / миг. Вечность – победа над земным временем («И Евхаристия, как вечный полдень, длится»); вечность вне Бога – «дурная бесконечность». Библейские символы вечности в поэзии Мандельштама – дом и таинство святой Евхаристии (Христос). Рассмотрим их подробнее на конкретных текстах. В финале стихотворения «Паденье – неизменный спутник страха» (1912) возникает библейский образ дома, заимствованный Мандельштамом, вероятно, из Евангелия от Матфея. Проведём текстовые параллели. У Мандельштама: Немногие для вечности живут; Но если ты мгновенным озабочен, Твой жребий страшен и твой дом непрочен! [10. С. 75]. В Евангелии от Матфея: Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; И пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; И пошёл дождь, и разлились реки, и по- 102 дули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое [3. С. 75]. Если кратко проанализировать фрагмент из Евангелия, то получается, что притча о доме, выстроенном на камне, символизирует человека с твёрдой верой. Дом, выстроенный на песке, – жизнь человека без Бога. Мгновение (миг) в поэтике Мандельштама означает суетное, земное, поставленное выше веры в Бога. Миг вне сакрального пространства в поэтике Мандельштама приближает человека к смерти: Я вижу дурной сон, / За мигом летит миг [9. С. 98]. Положительное значение миг приобретает лишь в сакральном пространстве. В стихотворении Мандельштама «Вот дароносица, как солнце золотое» (1915) изображена вершина христианского богослужения: Вот дароносица, как солнце золотое / Повисла в воздухе – великолепный миг … И Евхаристия, как вечный полдень, длится – / Все причащаются, играют и поют, / И на виду у всех божественный сосуд / Неисчерпаемым веселием струится [9. С. 343]. Время не «бежит», «вечный полдень длится», человек не подчиняется земному, разрушающему естественному ходу времени, потому что таинство святой Евхаристии вне времени. Речь идёт о православном греческом богослужении: Здесь должен прозвучать лишь греческий язык: / Взят в руки целый мир, как яблоко простое [9. С. 343]. Подобную семантическую наполняемость категории вечность можно наблюдать в стихотворении Мандельштама «Зверинец» (1916), где мы обнаружили очень сложную пространственно-временную метафору вино времён. Метафора вино времён также восходит к таинству святой Евхаристии. Известно, что в христианской традиции оно даёт человеку бессмертие, т. е. вводит его в вечность. Таким образом, метафора вино времён символизирует образ Христа: А я пою вино времён – / Источник речи италийской – / И в колыбели праарийской / Славянский и германский лён [9. С. 132]. Слово лён в поэтике Мандельштама также относится к образу Христа. В последней строфе стихотворения «Среди священников левитом молодым» (1917) можно найти подтверждение этой мысли: Он с нами был, когда на берегу ручья / Мы в драгоценный лён Субботу пеленали / И семисвещником тяжёлым освещали / Ерусалима ночь и чад небытия [9. С. 141]. Выражение Мы в драгоценный лён Субботу пеленали – реминисценция о погребении О. А. Пороль, Ю. Г. Пыхтина Христа. Метафора драгоценный лён означает полотно для погребения и драгоценную благовонную мазь – состав из смирны и алоэ. Проведём текстуальные параллели с Библией. В Евангелии от Марка (Мар. 15:46, 16:1) написано: «Он (Иосиф из Аримафеи), купив плащаницу (полотно), и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе, который был высечен в скале… По прошествии субботы, Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти – помазать Его (Христа)» [3. С. 59, 60]. Итак, категория вечности в раннем и зрелом творчестве Мандельштама неизбежно ассоциировалась с образом Христа (креста). 3. Пропасть / пустота / смерть в поэтике Мандельштама образуют синонимический ряд и означают безмолвие и мрак, лишение славы, бездну унижения и горечи, оставление всеми: И в пустоте, как на кресте / Живую душу распиная, / Как Моисей на высоте, / Исчезнуть в облаке Синая [9. С. 314]. В поздней лирике символика вечности в сознании автора теряет семантическое значение бытия, «вечной жизни», перерастая в антиномию небытия, пустоты, дурной бесконечности, брошенности в пространстве, обречённости («Нам ли, брошенным в пространстве, / Обречённым умереть…»), вечной мглы. Пространство становится сжатым до точки, но не точкою полноты, вобравшею в себя всё пространство, как в ранней лирике («Большая вселенная в люльке / У маленькой вечности спит»), а точкою опустошения, разорения целостного восприятия мира («Язык пространства, сжатого до точки…»). Лирический герой О. Э. Мандельштама не преодолевает антиномии жизнь / смерть. Для него ощущение собственного физического тела – показатель разъединения пространства реального (термин В. Соловьёва) и пространства инобытия, которое придёт со смертью («неужели я настоящий и действительно смерть придёт?»). В «поэтической» концепции Гумилёва наиболее часто встречающиеся библейские категории: смерть, рай, сон, час. Рассмотрим некоторые из них. Смерть лирическому герою представляется началом понимания, открытия нового знания: А пламя клубилось, / И ждал конквистадор, / Чтоб в смерти открылось / Ему Эльдорадо [6. С. 89]; Только дикий ветер осенний, / Прошумев, прекращал игру, – / Сердце билось ещё Вневременные формы бытия в лирике акмеистов блаженней, / И я верил, что я умру / Не один, – с моими друзьями, / С мать-и-мачехой, с лопухом. / И за дальними небесами / Догадаюсь вдруг обо всём [6. С. 102]. Конец земной жизни неизбежно ассоциируется в сознании поэта с раем: Когда же Смерть, грустя немного, / Скользя по роковой меже, / Войдёт и станет у порога, / Мы скажем Смерти: «Как, уже?» / И, не тоскуя, не мечтая, / Пойдём в высокий Божий рай, / С улыбкой ясной узнавая / Повсюду наш знакомый край [6. С. 189]. Смерть – то событие для поэта, которое даст ему возможность осознать совершенство мира, когда произойдёт средоточие всех времён и всех пространств: О день, когда я буду зрячим / И странно знающим, спеши! [6. С. 85]. Смерть для лирического героя – это необходимое состояние («строгий час»), через которое человек должен пройти, чтобы войти в иное пространство («рай»), когда, наконец, вполне откроется прошлое, когда все времена в сознании человека объединятся: Упаду, смертельно затоскую, / Прошлое увижу наяву, / Кровь ключом захлещет на сухую, / Пыльную и мятую траву [7. С. 103]. Если переложить поэтические фрагменты на рационально-логический язык, то в художественной концепции Гумилёва выделяется следующая семантическая наполняемость слова смерть: 1) открытие нового, сокрытого от «земного» человека знания; 2) возможность войти в рай; 3) ви́дение целостной картины бытия и инобытия: всех времён и всех пространств; 4) освобождение от земных оков бытия. Преодоление земного временного пространства – свершившийся факт в поэзии Гумилёва. Поэту, как многим художникам слова, свыше была дана возможность «узнать» будущее: И я приму – о да, не дрогну я – / Как поцелуй иль как цветок, / С таким же удивленьем огненным / Последний гибельный толчок [7. С. 5]. По воспоминаниям А. А. Ахматовой известно, что час своего «земного суда» Н. Гумилёв встретил спокойно, уходя, взял с собой Библию. С этой точки зрения интересно следующее высказывание Мандельштама: «Смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено» [5. С. 210]. Осознание того, что настоящее – это лишь продолжение прошлого, т. е. нечленение на прошлое и настоящее, чувствование прошлого 103 всегда в настоящем – одна из ведущих мыслей поэта: Всё проходит, как тень, но время / Остаётся, как прежде, мстящим, / И былое, тёмное бремя / Продолжает жить в настоящем [6. С. 117]; А ночью в небе, древнем и высоком, / Я вижу записи судеб моих [7. С. 56]. Мир неземной, духовный начинается не за пределами земного бытия, он присутствует реально и сосуществует миру земному, доступен и виден поэту. Окончательное проникновение в него, по мнению Гумилёва, возможно после смерти, отношение к которой на протяжении всего творчества у поэта менялось, однако неизбежно ассоциировалось в творчестве автора с пространством рая. Рай – одно из самых частотных слов в поэзии Н. Гумилёва, встречающееся на протяжении всего творчества поэта: Светлый рай, что розовее / Самой розовой звезды [4. С. 268]; Пред тобой смущённо и несмело / Я молчал, мечтая об одном, / Чтобы скрипка ласковая спела / И тебе о рае золотом [5. С. 9]; И последнюю милость, с которою / Отойду я в селенья святые [4. С. 12]; Заснув в тюрьме, виденья райские / Наверняка увидишь ты [6. С. 65]; И, не тоскуя, не мечтая, / Пойдём в высокий Божий рай, / С улыбкой ясной узнавая / Повсюду наш знакомый край [6. С. 113]; Мне часто снились райские сады, / Среди ветвей румяные плоды, / Лучи и ангельские голоса, / Внемировой природы чудеса [7. С. 80]. 1. Рай – светлое (святое) место, в котором лирический герой может быть, находясь на земле. 2. Рай – светлый, розовый, золотой. 3. Селенье святых. 4. Рай для лирического героя – знакомый и «родной» локус. Часто проникновение в иные временные сферы даруется лирическому герою во сне. Сон – устойчивый концепт памяти («прапамяти»), онтологического пространства-времени Гумилёва. «Поэтическая» концепция сна Гумилёва представляет собой сложную структуру, состоящую из глубинных слоёв времени и пространства: Зачем он мне снился, смятённый, нестройный, / Рождённый из глуби не наших времён, / Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный, / Такой уж почти и не радостный сон… [7. С. 124]; Когда же, наконец, восставши / От сна, я буду снова я, – / Простой индиец, задремавший / В священный вечер у ручья [7. С. 131]; Я верю в предзнаменованья, / 104 Как верю в утренние сны [7. С. 134]; А весною на крыльях сна / Прилетают ангелы к нам [7. С. 149]. Устойчивый повтор слова сон в лирике Гумилёва позволяет прочитать разрозненные фрагменты как единый поэтический текст, в котором можно выделить следующие смыслы: 1) сон относится к категории вечности; 2) сон – мир инобытия, несущий информацию о прошлом; 3) откровение о будущем возможно лишь в утреннем сне; 4) подлинная реальность – мнимая, истинная реальность – неземная действительность, которая может открыться во сне; 5) сон – граница соприкосновения двух миров: земного и небесного. Параллельный мир в сознании поэта часто видится через сон, состояние, которое способно раздвигать условные грани настоящего времени. Мир, открывающийся поэту во сне, имеет глубинную проекцию во времени. Временная дистанция также, скорее всего, лишь условность. Понятие века не препятствует чувственному, «живому» восприятию лиц и событий далёкого прошлого. Сон, как отражение инобытия в творчестве поэта, проникновения в иные временные пространства и миры – состояние, несущее в себе опасность столкновения с реальным страшным будущим, – пророческая загадка творчества Гумилёва: Мне чудится (и это не обман); / Мой предок был татарин косоглазый, / Свирепый гунн… я веяньем заразы, / Через века дошедшей, обуян. / Молчу, томлюсь, и отступают стены – / Вот океан, весь в клочьях белой пены, / Закатным солнцем залитый гранит, / И город с голубыми куполами, / С цветущими, жасминными садами, / Мы дрались там… Ах, да! Я был убит [6. С. 105]. Лейтмотивом всего творчества звучит мысль о скоротечности земного времени, о раздвижении земных границ после перехода от человека земного к человеку небесному: Есть Бог, есть мир, они живут вовек, / А жизнь людей мгновенна и убога, / Но всё в себя вмещает человек, / Который любит мир и верит в Бога [6. С. 124]. Тленность земного мира, его преходящие радости поэт рассматривает как ложь. Если перевести стихотворение «Об Адонисе с лунной красотой…» на рационально-логический язык, то отчасти текст стихотворения восходит к известной библейской фразе: «Дни лукавы»: Правдива смерть, а жизнь бормочет ложь. / О. А. Пороль, Ю. Г. Пыхтина И ты, о нежная, чьё имя – пенье, / Чьё тело – музыка, и ты идёшь / На беспощадное исчезновенье [7. С. 77]. Твёрдая вера (выражение Н. Гумилёва), что земная реальность не отражает полноты бытия, что существует духовная реальность, которую поэт стремился постичь целостно, составляет основу его поэтической концепции пространства. Не отказ от земного мира, а вера в его небесное преображение: планеты, человека и всего тварного мира, живущего на ней – ведущий лейтмотив творчества Н. Гумилёва. Таким образом, в позднем творчестве поэта линейное пространство – скитание по земле («широкое пространство земное») сменяется изображением вхождения в иное онтологическое пространство – пространство сосуществования нескольких временных сфер, принадлежащее Богу: Я – угрюмый и упрямый зодчий / Храма, восстающего во мгле. / Я возревновал о славе Отчей, / Как на небесах, и на земле [8. С. 90]. Можно утверждать, что онтологическое пространство со всеми его вневременными формами (вечностью, раем, смертью, памятью, часом и другими категориями инобытия) осмыслено А. Ахматовой ещё в раннем творчестве. Соединение духовной и земной реальности, пребывание в ней стало сверхзадачей поэта. В лирике А. Ахматовой не используется активно слово «вечность», как, например, в поэзии О. Мандельштама, но приготовление к вечности, готовность перехода в иной мир, причастность к небесному отечеству – частые мотивы в её творчестве: Уже привыкшая к высоким, чистым звонам, / Уже судимая не по земным законам, / Я, как преступница, ещё влекусь туда, / На место казни долгой и стыда. / И вижу дивный град, и слышу голос милый, / Как будто нет ещё таинственной могилы, / Где день и ночь, склонясь, в жары и холода, / Должна я ожидать Последнего Суда [1. С. 291]. Отчётливое осознание временности существования при векторе вечности – обычное состояние душевного мира героини: В то время я гостила на земле / Мне дали при крещенье имя Анна [1. С. 146]. Может быть, поэтому час – одна из самых частотных временных категорий в лирике поэта (и в сознании всех акмеистов), связанная с онтологическим восприятием времени, получает ценностный вес в поэтической системе А. Ахматовой. Выстраивается временна́я Вневременные формы бытия в лирике акмеистов историческая перспектива, направленная чаще всего на библейский сюжет: О, как сердце моё тоскует! / Не смертельного ль часа жду? / А та, что сейчас танцует, / Непременно будет в аду [1. С. 113]; Смертный час, наклоняясь, напоит / Прозрачною сулемой / А люди придут, зароют / Моё тело и голос мой [1. С. 110]; Отчего же Бог меня наказывал / Каждый день и каждый час? / Или это Ангел мне указывал / Свет, невидимый для нас? [1. С. 97]; И песней я не скличу вас, / Слезами не верну, / Но вечером в печальный час / В молитве помяну [1. С. 319]. Складывается определённое противоречие: принятие акмеистами настоящего времени и неудовлетворённость им одним. Восприятие земной действительности как слишком грубого, материального мира: на земле всё «слишком»: Слишком сладко земное питьё, / Слишком плотны любовные сети [1. С. 114]. Может быть, поэтому герой ранней лирики Н. Гумилёва переживает «исключительно внебытовые события», которые определяются рядом: бытие – небытие, земное – небесное, а переломные события в жизни лирического героя Гумилёва происходят вне быта, часто во сне. В лирике А. А. Ахматовой быт широко развёрнут, детали быта значат очень много. Основные события, потрясения, решение сверхзадач происходит среди быта. Время в таком пространстве носит циклический характер. Оно спроектировано на церковно-библейские события: Рождество, Святки, Крещенье, Благовещенье, Пасху. Так, земное (бытовое) время А. Ахматовой строится по церковному календарю, что роднит её восприятие времени с традициями древнерусской литературы, где отсчёт времени начинался с празднования событий, связанных с каким-либо сакральным именем. Приведём несколько примеров: О нём гадала я в канун Крещенья. / Я в январе была его подругой [1. С. 68]; Какие странные слова / Принёс мне тихий день апреля. / Ты знал, во мне ещё жива / Страстная страшная неделя [1. С. 179]; Выбрала сама я долю / Другу сердца моего: / Отпустила я на волю / В Благовещенье его [1. С. 230]; И милый сон под Рождество, / И Пасхи ветер многозвонный [1. С. 276]; Не верится, что скоро будут Святки, / Степь трогательно зелена [1. С. 279]. В поэзии Ахматовой сильно развито информационное время (термин Е. М. Верещагина). Путь и время часто удлиняются, убыстряются или замедляются в зависимости от переживания героини, фоновой ассоциативности: А дорога 105 до погоста / Во сто раз длинней, / Чем тогда, когда я просто / Шла бродить по ней [1. С. 142]; Он длится без конца – янтарный, тяжкий день [1. С. 109]; Стала забывчивей всех забывчивых, / Тихо плывут года [1. С. 145]; Ты милый и верный, мы будем друзьями … / Гулять, целоваться, стареть… / И лёгкие месяцы будут над нами / Как снежные звёзды, лететь [1. С. 175]. Взаимодействие с сакральным пространством Библии дало память – одну из самых частотных пространственно-временных категорий в лирике акмеистов. «Большая память» (выражение М. М. Бахтина) позволила акмеистам обойти эпоху и по-особому понять и оценить смерть. Память у акмеистов – это победа над земным временем и вхождение во время иное – онтологическое, принятие вечности со всеми её неземными законами: Только память вы мне оставьте, / Только память в последний миг [1. С. 110]. Память у акмеистов – это попытка сохранения себя в вечности. Бережное отношение к прошлому и осознание его ценности, обращение к Логосу дало акмеистам победу над временем. Так, события, происходящие в настоящем времени, в лирике поэта часто представляли собой не что иное, как отголоски глубинного прошлого: Я молчу, молчу, готовая / Снова стать тобой, земля [1. С. 56]. Выражение «Снова стать тобой, земля» – своеобразная параллель (а может, даже некая интерпретация) церковнославянскому тексту панихиды: «Яко земля еси и в землю отыдеши, аможе вси человецы пойдем…» (ты создан из земли и в землю отойдёшь, куда пойдут все люди) [11. С. 92]. В «поэтической» концепции пространства и времени А. Ахматовой сильна укоренённость в онтологическом аспекте, прослеживается изменение (сжатие или расширение) обычного географического пространства для передачи глубинных душевных потрясений. Географическое пространство в таком случае легко преодолевается при достижении высоких целей: Как зачарованная шла / Через моря и реки [1. С. 23]; И когда друг друга проклинали / В страсти, раскалённой добела, / Оба мы ещё не понимали, / Как земля для двух людей мала [1. С. 18]; Я любимого нигде не встретила: / Столько стран прошла напрасно [1. С. 176]. Так сюжетное действие развёртывается на очень широком и разнообразном географическом фоне (моря, реки, страны). 106 Установив основные особенности пространственно-временного мировосприятия и их отражения в поэзии каждого из трёх акмеистов, мы пришли к выводу, что для поэзии А. Ахматовой, Н. Гумилёва, О. Э. Мандельштама характерно эсхатологическое отношение к будущему. Однако будущее мыслится авторами по-разному: – как надвигающаяся катастрофа у Мандельштама; – ожидание преображения земной действительности, вхождение в пространство инобытия у Гумилёва; – приятие всех «закономерных» превращений («снова стать тобой, земля») у Ахматовой. Настоящее не обесценивается ни в творчестве А. Ахматовой, ни в творчестве Н. Гумилёва, ни в творчестве О. Мандельштама («твой мир болезненный и странный, я принимаю, пустота»), несмотря на осознание всей сложности и трагичности происходящего. Можно утверждать, что вектор акмеистов стремится к реальному будущему, которое они считают должным и истинным, приобщённым вечности, противопоставленным действительно настоящему, существующему времени и пространству. И дело даже не в оценочной характеристике настоящего – хорошее оно или плохое, важно, что оно для них не истинное. Отголоски этого будущего находятся в прошлом и настоящем. Они не в отрыве от материальной земной действительности. Так, в поэзии Н. Гумилёва образ будущего способен оказывать влияние на настоящее героя, который становится отважным воином. Сила порыва, решимости на совершение подвига (как духовного, так и физического) не находятся и в отрыве от пространственных размеров и временной длительности. Поэтому велик географический диапазон героя-покорителя и велики его духовные интенции и метаморфозы («проживание» в разных пространственно-временных пластах). Субъективная игра со временем и пространством (или информационное его восприятие) – частый прием в лирике акмеистов: – ощущение затерянности в пространстве (у Мандельштама); – фантасмагорический гиперболизм времени и пространства, тяготение к пространству инобытия (сны и пророчества в лирике Гумилёва); – эмоционально-лирическое растяжение и сжимание его (у Ахматовой). О. А. Пороль, Ю. Г. Пыхтина Наблюдение над вневременными формами бытия, семантический анализ их категорий в лирике каждого из трёх акмеистов позволил обнаружить следующую динамику: 1) у О. Мандельштама – от осознания полноты бытия – к опустошению («твой мир болезненный и странный … я принимаю, пустота»); 2) у Н. Гумилёва – от горизонтального (географического) пространства в ранней лирике до онтологического (целостного) в поздней; 3) у А. Ахматовой – от бытового (церковнокалендарного) пространства до онтологического (гармоничное соединение физической (земной) и духовной реальности) на протяжении всего творчества. Стремление акмеистов к целостному, гармоничному восприятию мира, к сакральному миру Библии дало возможность воссоединения двух миров (небесного и земного), осознания себя, своего назначения, преодоления чувства обычного человеческого страха перед неизбежно приближающимся концом. Зыбкость границ между сферой реальности и ирреальности, «пространственные перенесения», попытка осмысления инобытия, преодоление земного пространства – результат поиска выхода из сложной духовной ситуации, сложившейся в эпоху начала XX века. Список литературы 1. Ахматова, А. А. Собр. соч. : в 6 т. Т. 1: Стихотворения 1904–1941. М. : Эллис Лак, 1998. 968 с. 2. Бахтин, М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 3. Библия. M., 1992. 1220 с. 4. Гартман, Н. К основоположению онтологии. СПб. : Наука, 2003. 640 с. 5. Гумилёв, Н. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 1. М. : Воскресенье, 1998. 502 с. 6. Гумилёв, Н. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 2. М. : Воскресенье, 1998. 344 с. 7. Гумилёв, Н. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 3. М. : Воскресенье, 1998. 464 с. 8. Гумилёв, Н. С. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 4. М. : Воскресенье, 2001. 394 с. 9. Мандельштам, О. Полное собрание стихотворений. СПб. : Акад. проект, 1997. 720 с. 10. Мандельштам, О. Э. Собр. соч. : в 4 т. Т. 1: Стихи и проза 1930–1937. М. : Арт-БизнесЦентр, 1999. 366 с. Вневременные формы бытия в лирике акмеистов 11. Мандельштам, О. Э. Собр. соч. : в 4 т. Т. 3: Стихи и проза 1930–1937. М. : Арт-БизнесЦентр, 1999. 527 с. 12. Минц, З. Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999. 727 с. 13. Молебен. Панихида. М., 2010. 14. Пороль, О. А. Онтологическое пространство и время в поэзии Н. Гумилёва // 107 Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. 2011. № 1. С. 20–26. 15. Флоренский, П. А. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М., 2000. 446 с. 16. Ханзен-Лёве, А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Ранний символизм. СПб., 1999. 512 с.