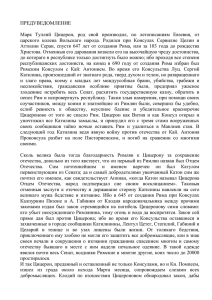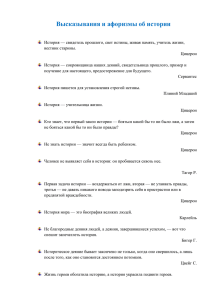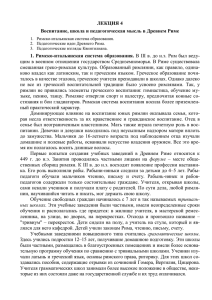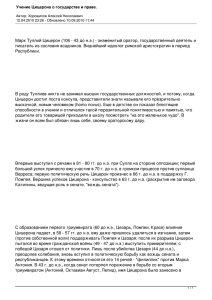практики конструирования социальной памяти в - Host
реклама

Макарова А.В. ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В КУЛЬТУРЕ АНТИЧНОСТИ: РИМ И ЦИЦЕРОН. Ивановский государственный химико-технологический университет Изучение социальной памяти применительно к Античности вскрывает культурные практики, которые ранее могли не восприниматься исследователями как таковые. Статья посвящена вопросу о том, насколько политическая риторика в кризисные моменты истории древнего Рима участвовала в конструировании социальной памяти, сохраняя при этом функцию инструмента политической борьбы. Ключевые слова: социальная память, коммуникация, политическая культура, риторика, символический мир, коллективная идентичность. Конструктивистская концепция коллективной памяти, впервые предложенная в середине 20 века М. Хальбваксом, и развитая позже его последователями, в частности, Я. Ассманом применительно к культурам древности, предлагает культурологическую перспективу для исторического исследования. Прошлое «является социальной конструкцией, формируемой духовными потребностями и контекстами каждого данного настоящего» [1, с.50]. Память общества – это не столько воспоминание о прошлом, сколько процесс конструирования прошлого для воображаемого сообщества через коммуникацию, с помощью которой формируется групповая солидарность. Социальная память, являясь символическим представлением о прошлом, формирует и репродуцирует идентичность общества. Память «представляет группе ее собственный образ», формируя коллективную идентичность как постоянную величину, несмотря на реальные изменения, происходящие с группой, память вписывает их в сознание общества. Группа «естественно воображает себе, что группа остается, и остается одинаковой» [5]. Коммуникативная природа социальной памяти обусловливает значительное влияние канала коммуникации, по которому распространяется информация, влияние особенностей этого канала, уже заранее определяющих отбор тех или иных событий для их последующего сохранения и интерпретаций. Представление о том, что, имея дело с историческими источниками, мы обращаемся к разным версиям излагаемых событий, имеем дело с субъективными трактовками, преломленными через историко-культурный контекст, лежит в основе исторического анализа. Тем не менее, часто бывает так, что историческое исследование в недостаточной степени учитывает закономерности распространения информации, свойственные тому или иному времени, то, что в теории коммуникации называется каналами коммуникации. Так, например, со становлением информационного общества диктат масс-медиа – ведущего канала коммуникации – определяет и презентации прошлого и настоящего, которому суждено прошлым стать. Известная закономерность современного мира заключается в том, что факт, не ставший медиа-фактом, вообще не имеет места быть. И, с другой стороны, событие, которое формируется как медиа-факт, становится реальностью в общественном сознании, даже если ничего не происходило в действительности. В истории, пожалуй, аналогичным влиянием обладали устные каналы коммуникации в те эпохи, когда они были основными. В Античности значение устного канала, его доминирование над остальными, подтверждается невиданно высокой его специализацией, выраженной в риторике. В кризисные моменты античной истории от конструктов ораторов иногда зависел выбор целых обществ. Таковы «Филиппики» Демосфена, которому удавалось в критических условиях консолидировать греческие полисы силой слова и добиться от них противостояния Филиппу Македонскому. Условия были крайне неблагоприятными, и объединение, казалось бы, трудно объяснить чемто иным, помимо логики сохранения коллективной идентичности свободных эллинов. И оценка римским обществом событий конца кризиса Римской республики не в последней степени обусловлена признанием их версии из уст крупнейших ораторов, таких, например, как Марк Туллий Цицерон. Однако оценка его ораторской деятельности далеко не всегда учитывала специфику канала коммуникации. Разработанная культурная практика рассматривалась как комплекс манипуляций, к тому же теряющих свое влияние в период кризиса (например, в работах С.Л.Утченко). Между тем, Цицерон, не только добивался благосклонности слушателей по поводу вопроса, поднимающегося в речи, но предлагал своей аудитории новую концепцию социальной идентичности, основанную на коррекции общего прошлого и условиях тревожного настоящего. Таким образом поддерживалась функция социальной памяти – формирование и воспроизводство идентичности общества – особенно востребованная в переломные периоды для переосмысления событий и преодоления кризиса. Социальная память изначально многовариантна, воспринимает из прошлого лишь то, что актуально для общества [5], она пронизана отношениями власти и зависит от того, кто является ее производителем и признается таковым. В период кризиса Римской Республики традиционные механизмы регулирования полисной политической жизни утрачивали свою эффективность. Мнения и голоса покупались, несмотря на законы против подкупов на выборах, благосклонность народа приобреталась за счет раздач (продуктов, денег, одежды), зрелищ. Применение силовых методов в политической борьбе также перестало быть редкостью – вооруженные отряды, набранные политиками, нередко сталкивались на форуме, а гражданские войны предшествовали установлению диктатур Суллы, Цезаря, а затем и принципата Августа. Эффективным ресурсом политика становится армия. Крупнейшие лидеры периода, такие как Марий, Сулла, Красс, Помпей, Цезарь, Антоний, были «императорами» – успешными полководцами, провозглашенными в качестве таковых армией, готовой поддержать их. Для того чтобы быть политиком, необходимо было обладать реальной властью, которую давали армия, деньги, знатность, социальные связи. Но все это было необходимо не просто для того, чтобы добиться исключительного положения. Единственной традиционной практикой, легитимирующей статус политика, оставалось мнение общества, выраженное в постановлениях Сената и решениях народа. Поэтому реальные ресурсы нужны были не только для захвата власти, а для того, чтобы мирными или силовыми средствами добиться ее признания римским народом, остававшимся единственным источником власти в политической культуре. Действительно, рост индивидуализма и конкуренции внутри элиты Поздней Республики способствовал усилению интенсивности борьбы за внимание народа, но не отменили совершенно традиционных практик такой борьбы [7, p. 21,22]. В политической культуре эпохи нельзя недооценивать и возможность, которую давала риторика, а также другие, вполне традиционные способы воздействия на римскую общественность. В конкуренции за народную поддержку изменение оценки прошлого, конструирование социально значимых событий выступали инструментами политической борьбы. «На коллективном уровне и, в частности, в политической сфере социальные субъекты применяют все возможные приемы для утверждения нового видения социального мира… Наиболее типичный прием создания новой социальной реальности состоит в ретроспективной реконструкции прошлого и приведении его версии в соответствие с требованиями настоящего…» [6, p.145; 4, с.41]. Закрепление в социальной памяти предложенной версии событий прошлого и настоящего, усиление их социальной значимости, означали признание обществом и приобретение символического капитала тем или иным лицом, т.е. имели значение признания за лицом статуса лидера. Я. Ассман выявляет в памяти общества два слоя памяти, память коммуникативную и память культурную [1, с.52]. Первая фиксирует события в течение времени приблизительно укладывавшегося в рамки одной человеческой жизни, недавнее прошлое и уходящее настоящее. Вторая связывает исток общества с настоящим, формализована в ритуальной коммуникации - ритуалах, праздниках, мифах, памятниках. В римской политической культуре существовали коммеморативные практики, позволяющие фиксировать недавнее прошлое в культурной памяти, включать в общую социальную память новые события и их «героев». Это ритуалы, которыми была пронизана вся политическая жизнь, среди них особо можно выделить такие как овации, триумфы, и само прохождение лестницы магистратур cursus honorum, вершиной которой являлась должность консула, право масок. Исследователи отмечают значение для коллективной памяти погребальных обрядов, в том числе шествие масок, представляющих предков нобиля, чей вклад в историю государства признавался таким образом и напоминался [2, с.36-43]. Коль скоро социальная память имеет коммуникативное бытование, ораторская речь политического деятеля – участника социально-значимого события – и являлась первой попыткой фиксации происходящего для социальной памяти. Целью политического (иногда и судебного) красноречия перед сенатом и народом было связать себя со значимыми событиями, таким образом, сделать из тех событий, участниками которых является коммуникатор, образы социальной памяти, приобщив его самого к прошлому. Не было недостатка в лидерах, способных привлечь к себе внимание и даже запомниться, но само конструирование памяти, контроль над дискурсом, были доступны немногим. Политики, способные конкурировать в информационной среде, но не обладающие реальными властными ресурсами (армия, деньги, знатность, социальные связи), и даже по результатам своей жизни потерпевшие поражение в политической борьбе, могли, тем не менее, закрепить свое положение в социальной памяти. С помощью только мастерского использования устного канала коммуникации можно было создать в социальной памяти событие, главным героем которого стал бы сам оратор, или, точнее, сделать то событие, героем которого является оратор, событием, вошедшим в социальную память, и, желательно, придать ему значение символического. В этом отношении ораторская деятельность Марка Туллия Цицерона позволяет вскрыть влияние информационной деятельности на формирование социальной памяти. Цицерону не хватало реальной силы, какой могла бы быть армия для политика, стремящегося к лидерству в элите Поздней Республики. Для него, нового человека, закрепляющегося в политической элите, не было возможности напоминать постоянно римлянам о деяниях своих предков через памятники и маски выдающихся предков. Но, будучи выдающимся оратором своего времени, он располагал преимуществом в одном из наиболее действенных каналов влияния. На основании его речей и сравнения их с другими источниками довольно распространенным в историографии 20 века являлось обвинение Цицерона в самовосхвалении, тщеславии, лицемерии и неустойчивости во взглядах [3, с.355-357], однако, на наш взгляд, содержание его речей представляет собой не столько его личную нравственную проблему, сколько культурные практики переходной эпохи. Работа с социальной памятью в риторике Цицерона происходила в разной форме. Немалое место в ней занимала оценка и символизация происходящих событий, героем которых являлся он сам. Даже напоминаемое прошлое вводилось с переоценкой, и это являлось не только ситуативным приемом. Оратор не просто занимался презентацией прошлого, он наполнял старые символы и образы новыми смыслами, выстраивая их связь с текущей жизнью и попутно придавая значение и масштаб собственным действиям. В таких случаях и напоминание событий, и переоценка прошлого привлекались для того, чтобы конструировать новое событие и нового героя в социальной памяти, закрепить и удержать за ним свое определенное значение. Его консулат (63 г. до н.э.) уже сам по себе включал Цицерона в число исторических лиц res publica. Но, будучи homo novus, он не имел такого символического капитала за счет достижений предков как его политические оппоненты, постоянно указывавшие ему на эту нехватку. Поэтому отправление высшей магистратуры, когда он обладал всей законной полнотой власти, когда внимание общества было обращено к нему, должно было увенчаться победой в каком-либо значительном для государства событии. Событие исторического масштаба могло бы создать ему недостающий символический капитал как политику, претендующему на первые роли. Уже в речи против аграрного законопроекта Рулла, произнесенной на второй день после вступления в должность 2 января 63 г. до н.э., Цицерон искал и представил вариант такого события, сразу определив свою роль лидера не только формально, в качестве консула, но также и реально как лидера в существующем у аудитории представлении о оппозиции народа и знати (Cic., de leg. аgr., 3-9). Речь шла об очередной попытке проведения популистской аграрной реформы в интересах широкого слоя простых малообеспеченных граждан, аналогичной проекту братьев Гракхов, который несколькими десятилетиями ранее завершился гибелью реформаторов от рук знати, составлявшей политическую оппозицию проекту. Проект и в 63 г. до н.э. традиционно выдвигался народным трибуном, защитником интересов широких слоев общества, Руллом, а выступал против него традиционно консул - Цицерон. Речь была обращена к народному собранию, и Цицерон действовал в рамках чужой для него символической модели «народ, трибун versus знать, консул, Сенат». Консул напомнил аудитории борьбу Гракхов, не боясь невыгодных для себя сравнений. Не меняя основных ее символов, консул совершенно ее перестроил, положительно характеризуя Гракхов и предложив аудитории вместо модели противопоставляющей народ и знать, трибунат и консулат, свою модель: «народ, Рим, власть народа, честный консул – децемвиры, Капуя, царская власть, бесчестный народный трибун» (Cic., De leg. Agr., 14). Возможность реализации законопроекта была представлена как масштабное историческое событие - угроза существования Риму, попытка замены Рима Капуей, установления царской власти. Консул выступал защитником отечества и хранителем традиций. В результате законопроект Рулла не прошел. Но заговор Луция Сергия Катилины с целью добиться высшей власти в конце 63 г. до н.э. стал гораздо более ярким событием консулата Цицерона, позволив ему предстать одним из ведущих политических лидеров. Масштаб подвигу героя обеспечил сюжет выраженный в формуле «urbs amissa, urbs restituta» [8, pp.75-87] - «город утраченный – город восстановленный». Уже в речи против законопроекта Рулла Цицерон использовал этот сюжет и представлял себя в качестве спасителя государства: герой открывает истину аудитории, и, вследствие этого, опасность миру устраняется. В Катилинариях, которыми он пересказал события конца 63 г. до н.э., создавалась символическая версия происходящего, вписанная в события римской истории, подкрепленная ими, и уложенная в общую канву социальной памяти. Оратор выстроил символический мир, яркий и запоминающийся, в котором конфликт представляет единоборство участников: Цицерона и его оппонента. Основным приемом оратора было исключение противника. Это упрощало модель для восприятия, способствовало объединению аудитории на стороне Цицерона, придало эпический масштаб событию. Поместив политический конфликт в свою схему «мы-они», оратор из внутреннего сделал его внешним. Вместо конфликта римской внутриполитической жизни заговор Катилины стал угрозой Риму извне, которой один Цицерон противостоял в качестве герояспасителя. Исключение Катилины, намеченное в речи, произошло в реальности. Цицерон добился отъезда Катилины из Рима, превратив его тем самым в явного врага государства и доказав свою правоту в трактовке событий: «...поэтому я и довел дело до нынешнего положения, дабы вы могли открыто бороться с ним, воочию видя в нем врага» (Cic., Cat. II,1;2;4). Цицерон заявил о том, что вокруг него как лидера объединились все силы Рима, все государство, все сословия (Cic., Cat. IV, 15-16,14) и даже бессмертные боги (Cic., Cat. II, 19) против «союза злодейства» под эгидой Катилины, собравшего всех «подонков Рима» (Cic., Cat. II,7,8,18-23). Риму, республике, миру, справедливости, порядку противостоял анти-Рим, царская власть, война, резня, произвол. Причем Республике – абсолютному порядку – противопоставлялось полное уничтожение государственности в ярких картинах разрушения, где Цицерон использовал топ «захваченный город»: «...я воображаю себе лежащие в погребенной отчизне груды жалких тел непогребенных граждан; перед моими глазами встает иступленное лицо Цетега, ликующего при виде того, как вас убивают...» (Cat. IV, 11-12). Эсхатологичность угрозы, исходившей от действий противника, «стремящегося резней и поджогами весь мир обратить в пустыню» (Cic., Cat. I, 3), объяснялась как общими эсхатологическими настроениями, появившимися в обществе Поздней Республики, так и представлением о Риме как о вечной и бессмертной величине, которой если и угрожает разрушение, то – «сравним малое с великим – как бы напоминает нам гибель и уничтожение всего этого мира» (Cic., De rep., III, 23). Не участвуя сам в вооруженных действиях против заговорщиков, Цицерон старался обойти недостаток военной составляющей своего образа, развивая модель героя-«политика форума», предложенную им еще в 66 г. до н.э., когда он занимал должность претора. Такое разделение сфер лидерства в сюжете спасения Цицероном Рима от Катилины на протяжении всех речей сопровождалось близко трактуемыми сюжетами из римской истории, углубляющими значение действий Цицерона: это многочисленные указания на героев древней и, особенно, недавней римской истории. Тогда как другие, традиционные лидерывоеначальники расширили границы Римской державы, Цицерон спас и сохранил ее саму (Cic., Cat. III, 26) «без резни, без кровопролития, без участия войска, без боев» (Cic., Cat. III, 23), он становился носящим тогу императором, по масштабу не уступающим лидерам-полководцам. Масштабы события продемонстрировали и масштабы героя, преодолевшего опасности при спасении государства. Устраненное бедствие приобрело дополнительную значительность и драматичность от того, что оно, по словам Цицерона, было предсказано гаруспиками как «падение Рима и всей нашей державы» (Cic., Cat. III, 19), но по воле и решению богов Рим был спасен действиями Цицерона (Cic., Cat. III, 18; 22). Покровительство богов, особая миссия героя в судьбе государства, удачливость Цицерона должны были в глазах римского общества подтверждать его соответствие римскому мифу и включать в социальную память. Целью оратора было продемонстрировать, что Рим прошел через кризис такой серьезный, что спасение его Цицероном было равнозначно новому началу Города [8, pp.45-49]. На основании этого он получил возможность назвать себя вторым Ромулом, вторым основателем Рима (Cic., Cat. III, 2, 33; Cat. II, 4 ). Закрепление как факта в социальной памяти трактовки Цицерона в отношении события и себя самого должно было осуществиться через подтверждение народом предложенной версии: «я думаю, судьбой назначен один и тот же срок, который, надеюсь, продлится вечно, - и для благоденствия Рима и для памяти о моем консульстве...» (Cic., Cat. III, 26). Цицерон вполне преуспел, получив поддержку народа, на что указывали проводы его как консула домой после казни заговорщиков (формального разгрома), и, конечно, исключительный титул отца отечества, приравнявший его к основателю Города, к Ромулу, причем подобным же образом подвиг Цицерона представляли в своих речах его соратники (App., B. C., II, 7) и даже противники (Cic., Att., I,14,3). Официальное признание сенатом и народом не просто подвига во славу государства, но его спасения (Cic., Cat. IV, 20-24), подтверждало и фиксировало героическую победу над Катилиной в социальной памяти. Цицерон стал субъектом власти, совершенно специфической по отношению к другим ведущим лидерам эпохи, основа ее – контроль над дискурсом, формирующим социальную память. Большое значение имело сохранение информационного контроля над ним и далее: закрепление значений за событиями, ставшими информационным фактом, поддержание и возобновление присутствия их в коммуникативном пространстве. Цицерон отказался от наград и памятников (Сic., Cat. III, 26), его подвиг оставался в информационном поле, которое выдающийся оратор мог легче контролировать при политических изменениях, чем, например, фактическое свержение статуй, которые могли бы воздвигнуть в его честь. Он сам заботился о различных формах существования в социальной памяти своего подвига: в речах с помощью создания символического мира он превратил событие в миф, в письменных произведениях – поэмах, речах – он снова и снова разрабатывал и закреплял трактовку себя как героя в социальной памяти. Бесчисленные самовосхваления и изложения своих достоинств, распространяемые им всеми доступными ему способами, служили этой цели, тем более, что конкурировать ему приходилось в очень насыщенном информационном пространстве с политиками, обладавшими другими возможностями напоминать о себе народу. Так, только представители родов политической элиты могли опираться на символический капитал, аккумулировавшийся из достижений предков и регулярно поддерживавшийся через похоронные процессии членов рода, которые «были поводом для коммуникативной актуализации, оживления истории» [2, с.41]. Легитимность своей версии происходящего Цицерону пришлось отстаивать уже при сложении своих консульских полномочий, произнеся вместо обычной клятвы о честном исполнении обязанностей, клятву в том, что он спас отечество. Борьба за трактовку событий в социальной памяти, которую он старался отстоять, разгорелась особенно ярко в связи с событиями трибуната Клодия, изгнанием и возвращением Цицерона в 58-57 гг. до н.э. Действия по подрыву его политического положения, предпринятые его противниками в 50-е гг., включали попытку переоценки истории, созданной Цицероном. В 58г. до н.э. трибун Клодий попытался дисквалифицировать действия Цицерона против Ка- тилины и его соратников, проведя два закона, признавшие Цицерона преступником, повинным в незаконной казни римских граждан. Ему удалось отправить Цицерона в изгнание, разрушить его дом и поставить на его месте храм Свободы, но в результате эта попытка переоценки не завершилась успехом. Разгорелась борьба за возвращение Цицерона, в ходе которой многие политики, выступая за него по тем или иным причинам, повторяли цицероновский вариант изложения событий (Cic., P. red. in sen., 26;25). Сенат, часть населения Рима и Италия в конкуренции между версиями исторической памяти выбрали версию Цицерона (Cic., de domo suo). Потеря и восстановление контроля над дискурсом закрепляли героя и его событие тем вернее, что подвергали сомнению, лишний раз повторяли и снова соглашались с ним. Цицерон боролся за символический капитал, и успешный результат этой борьбы подтверждался его современниками и потомками. Хотя он не мог конкурировать с другими крупными политиками своего времени в реальности, он внедрил в социальную память свой подвиг как одно из ключевых событий в существовании римской civitas. Социальная память всегда актуальна и предоставляет версию существования и развития общества в контексте тех потребностей, которые общество испытывает. В историографии достаточно полно представлено состояние общественного сознания изучаемого периода как характерное для кризиса состояние ценностной дезориентации, повышенной внушаемости, отмечается наличие эсхатологических и утопистских ожиданий при сохранении у римского общества традиционных республиканских политических стереотипов и установок. С одной стороны, ориентация на традицию, на образец присутствовала в способах конструирования социальной памяти в римской культуре. С другой стороны, сложная ситуация падения республики и общее состояние эллинистического мира актуализировали сотерологические идеи, связывались с деятельностью того или иного вождя. Цицерон дополнил мифический перечень возрождения Рима из кризисов новым, своим циклом, который являлся идеальной моделью, поскольку был сконструирован как почти мирная победа при всеобщем единении и согласии. Важен оказался не столько заговор Катилины как реальное событие, сколько модель героя, выводящего государство из кризиса, останавливающего гражданскую войну путем мира и согласия всех сословий, возвращающего свободу, восстанавливающего утраченный город. Основывалась эта модель на традиционных, римско-италийских идеях харизматического лидерства: представлениях об отце отечества, Ромуле-основателе, спасителе отечества, герое, основу качеств которого составляет virtus. Актуализировалась она с помощью лозунга согласия сословий, дававшего новые возможности для консолидации. Риторика Цицерона не просто была чередой самовосхвалений, но выполняла обосновывающую функцию[1, с.83] исторической памяти – встраивала явления настоящего в римскую историю, придавая им смысл. Цицерон в реальности утратил или, может быть, не имел власти лидера первой величины. Он был убит в 43 г. до н.э. по приказу Марка Антония, потерпев неудачу в реальной политической борьбе, не сохранив республику, будучи предан Октавианом, на которого он возлагал надежды в ее сохранении. Но, в конечном итоге, Цицерон добился того, к чему стремились римские политики, проходившие свой cursus honorum – славы, сохранив власть репрезентаций. Его место в социальной памяти Рима оказалось гораздо важнее результатов его политических деяний и устремлений. Марк Туллий Цицерон не только добился присутствия в социальной памяти римского общества, но его имя стало одним из имен нарицательных для развития коллективной идентичности, не только римской, но и европейской. То, что Цицерону это удалось, позволяет утверждать, что, несмотря на крушение республики и сопровождавшие его изменения, сохраняли значение традиционные культурные практики. В частности, риторика могла выступать в качестве коммуникативного средства, при помощи которого социальная память выполняла свою важнейшую функцию: сохранение идентичности римского народа через модель преодоления кризиса res publica. Список использованной литературы 1. Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 368 с. 2. Дементьева В. В. Историческая память римлян как объект изучения современного антиковедения (новые работы о pompa funebris и imagines majorum) // Известия Саратовского университета. т.9. сер. История. Международные отношения. Вып.2. – Саратов: СГУ, 2009. – с.36-43. 3. Кнабе Г.С. Проблема Цицерона // Избранные труды: теория и история культуры. – М.: РОССПЭН, 2006. – с.349-364. 4. Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 44 с. 5. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. №2-3 (40-41). – режим доступа http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html 22.09.09 6. Bourdieu P. Espace social et pouvoir symbolique // Choses dites. – Paris: Editions de Minuit, 1987. – 229 р. 7. Vanderbroeck P.J.J. Popular Leadership and Collective Behavior in the Late Roman Republic (80-50 B.C.). – Amsterdam: J. C. Gieben, 1987. – 226 р. 8. Vasaly A. Representation Images of the World in Ciceronian Oratory. – LA: U of California P., 1993. – 301 p.