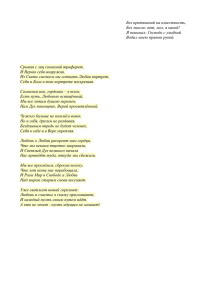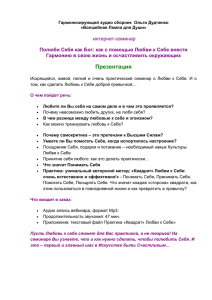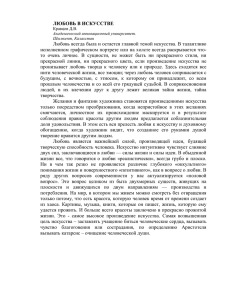ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ ЛН ТОЛСТОГО
реклама
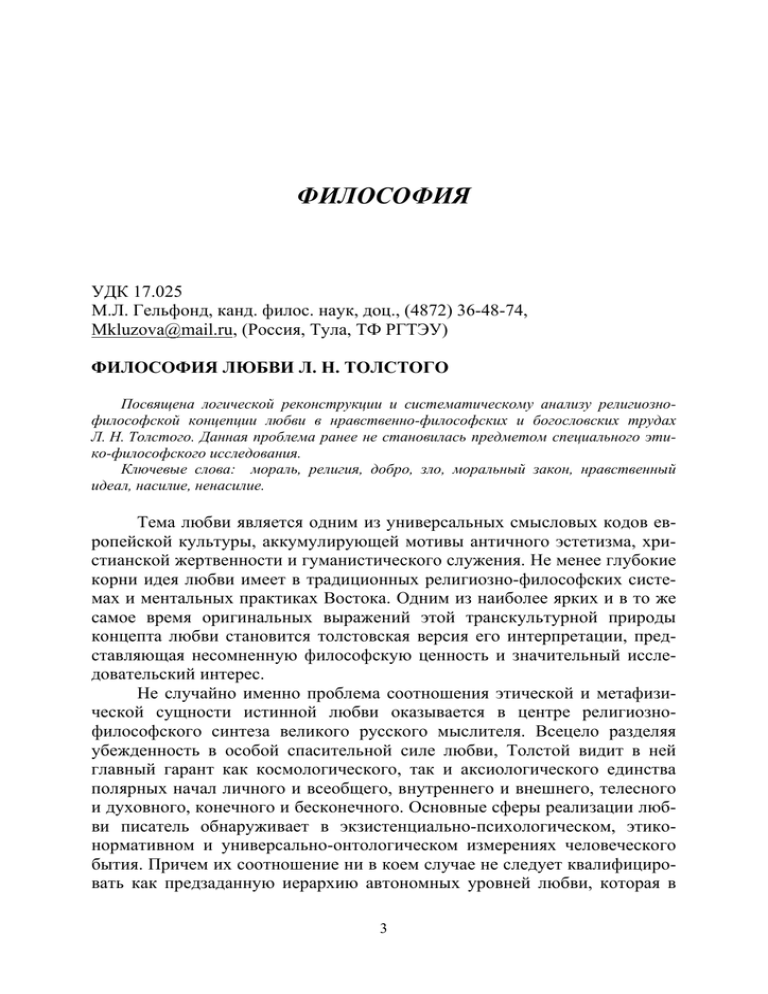
ФИЛОСОФИЯ УДК 17.025 М.Л. Гельфонд, канд. филос. наук, доц., (4872) 36-48-74, Mkluzova@mail.ru, (Россия, Тула, ТФ РГТЭУ) ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ Л. Н. ТОЛСТОГО Посвящена логической реконструкции и систематическому анализу религиознофилософской концепции любви в нравственно-философских и богословских трудах Л. Н. Толстого. Данная проблема ранее не становилась предметом специального этико-философского исследования. Ключевые слова: мораль, религия, добро, зло, моральный закон, нравственный идеал, насилие, ненасилие. Тема любви является одним из универсальных смысловых кодов европейской культуры, аккумулирующей мотивы античного эстетизма, христианской жертвенности и гуманистического служения. Не менее глубокие корни идея любви имеет в традиционных религиозно-философских системах и ментальных практиках Востока. Одним из наиболее ярких и в то же самое время оригинальных выражений этой транскультурной природы концепта любви становится толстовская версия его интерпретации, представляющая несомненную философскую ценность и значительный исследовательский интерес. Не случайно именно проблема соотношения этической и метафизической сущности истинной любви оказывается в центре религиознофилософского синтеза великого русского мыслителя. Всецело разделяя убежденность в особой спасительной силе любви, Толстой видит в ней главный гарант как космологического, так и аксиологического единства полярных начал личного и всеобщего, внутреннего и внешнего, телесного и духовного, конечного и бесконечного. Основные сферы реализации любви писатель обнаруживает в экзистенциально-психологическом, этиконормативном и универсально-онтологическом измерениях человеческого бытия. Причем их соотношение ни в коем случае не следует квалифицировать как предзаданную иерархию автономных уровней любви, которая в 3 своей истинной эйдетической сущности есть величина неделимо целостная и неизменно тождественная самой себе, а любые различения степеней или форм любви искусственно привносятся людьми по причине несовершенства их познавательных способностей. Лишь по мере освобождения от свойственных или навязанных нам иллюзий и заблуждений мы начинаем свое бесконечное восхождение по ступеням постижения абсолютной природы любви. Первую ступень, указывает Толстой, составляет первоначальное и неотрефлексированное душевно-эмоциональное состояние (настроение) отдельного индивида или естественное чувство любви, стихийно побуждающее человека к тому, чтобы «отдать свое существование на пользу других существ» [1, с. 478]. При этом любовь не только приобретает у Толстого форму экзистенциально-психологической мотивации моральной практики, но и становится содержанием самой нравственной деятельности, представляющей собой рационально детерминированную стремлением к достижению блага сугубо человеческую форму активности. Говоря словами самого мыслителя, «любовь есть единственная разумная деятельность человека», имеющая «и целью и последствием благо» [1, с. 478, 483], т.е. оптимальное средство его достижения, а, значит, величина необратимо релятивируемая целью, в качестве которой выступает благо. Однако подобное предположение находит необходимым уточнить сам Толстой. Он вносит в свою исходную дефиницию деятельности любви дополнительное условие: это непременно должна быть «деятельность, направленная на благо других» [1, с. 481]. Очевидность данного утверждения в той его части, из которой с необходимостью следует обязательность исключения самого себя из предметной области деятельной любви, тем не менее, не может снять неизбежно встающего перед любым последовательно мыслящим человеком вопроса о том, существует ли какой-нибудь общезначимый порядок, определяющий адресную приоритетность в реализации этой деятельности, ибо жизненный опыт подсказывает ему, что «условия блага, которого он по своей любви желает различным любимым существам, так связаны между собой, что всякая любовная деятельность человека для одного из любимых существ не только мешает его деятельности для других, но бывает в ущерб другим» [1, с. 480-481]. В результате подобных сомнений в человеческом разуме, находящемся в плену соблазнов и суеверий, рождается серия вопросов, ошибочно кажущихся нам исключительно важными и несомненно имеющими некое непреложно значимое для всех нас решение. К их числу Толстой относит следующие: «…Во имя какой любви и как действовать? Во имя какой любви жертвовать другою любовью, кого любить больше и кому делать больше добра...? … Как, наконец, решать вопросы о том, насколько можно мне жертвовать и моей личностью, нужной для служения другим? Насколько мне можно заботиться о себе для того, чтобы я мог, любя других, служить им?» [1, с. 481]. 4 Нетрудно заметить, что все эти вопросы объединяет одна стержневая проблематика – предметность любви, инициирующая процедуру дифференциации и ранжирования потенциальных адресантов нашего любовного отношения. Безусловная уверенность в том, что по своей природе любовь неизбежно избирательна и иерерхична, свойственная как теоретикофилософским, так и житейским представлениям о ней, служит мишенью наиболее острой критики со стороны Толстого, приводя мыслителя к заключению о ложности всякого понимания любви, которое основано на ее фактическом отождествлении с теми или иными разновидностями предпочтений. Таковых же мыслитель обнаруживает и рассматривает три: «предпочтения одних условий блага своей личности другим» (или «предпочтение одних условий личного существования другим»), т.е. лицемерносознательное или невольное использование избирательности в любви как средства увеличения личного блага; открытое и «страстное» «предпочтение к известным существам… или даже к известным занятиям», а также к своему отечеству, являющее собой ни что иное как «пристрастие»; и, наконец, предпочтение, нередко оказываемое людьми «требованиям самой малой любви настоящего во имя требования самой большой любви будущего», но ввиду объективной ограниченности прогностических способностей человека на деле подменяемое выбором того, что «будет приятно для него» [1, с. 482-483]. Несмотря на то, что первые два вида предпочтений носят условно пространственный, а третий – временной характер, общим для них всех знаменателем служит синтетическая толстовская дефиниция – «предпочтение на время известных условий животной жизни другим», т.е. проявление «того ложного чувства, которое столько же похоже на любовь, сколько жизнь животного похожа на жизнь человека» [1, 483]. Отсутствие безупречного критерия предпочтений в предметной области любви, рассуждает Толстой, заставляет признать: истинной является только такая любовь, которая в своих проявлениях абсолютно исключает какое-либо отклонение от исходного равенства всего неисчислимого множества и неисчерпаемого разнообразия ее потенциальных предметов и полностью лишена любых пространственно-временных ограничений. На этой почве и рождается лаконичная толстовская «формула любви»: «Любовь есть предпочтение других существ себе – своей животной личности» (т.е. можно предположить, что в этот круг автоматически попадает и духовное существо самого любящего индивида, переставшего идентифицировать себя с эмпирической ограниченностью своей «животной личности»), представляющее собой «только деятельность в настоящем» [1, с. 484, 482]. Усиливая стилистическое сходство своего ключевого определения любви с точностью языка математических формул Толстой проводит знаменитую аналогию между процедурами определения величины любви и величины дроби. «Величина любви, – пишет он, – есть величина дроби, которой числитель, мои пристрастия, симпатии к другим, – не в мо5 ей власти; знаменатель же, моя любовь к себе, может быть увеличен и уменьшен мною до бесконечности, по мере того значения, которое я придам своей животной личности. Суждения же нашего мира о любви, о степенях ее – это суждения о величине дроби по одним числителям, без соображения их знаменателей» [1, с. 484-485]. Отсюда следует, что необходимым условием настоящей любви является максимально полное самоотречение. Однако оно – не единственное условие истинности любви. Ее не может породить ни мрачно-мизантропическое отречение от своего я, единственным продуктом которого становится ненависть, ни равнодушномеханическое безразличие к любой, в том числе и собственной, индивидуальности, рождающее лишь унылую серость толпы, ни экзальтированное самоуничижение восторженного адепта, готового дойти до крайности безвозвратной духовной ассимиляции собственной самости, ни воинствующее самоумаление личности во имя отвлеченной идеи коллективизма, оборачивающееся трагедией безраздельного торжества тоталитарности. Только подлинное самоотречение способно, уверен Толстой, без остатка погрузить человека в «самое разумное, светлое и потому спокойное и радостное состояние», которое обнаруживает себя как «состояние благоволения ко всем людям», без каких бы то ни было исключений или персональных преференций [1, с. 484-485]. Эта генеральная установка, всецело уравнивающая права и возможности всех и вся перед лицом истинной любви, позволяет изобличить изощренную провокацию законника, поставившего перед Христом вопрос: «Кто ближний?», и попытавшегося, тем самым, повести людей, не сумевших еще освободиться от власти соблазнов и суеверий, по заведомо ложному пути, встав на который, им неизбежно пришлось бы совершить опасный подлог: подменить истинную любовь «как стремление к благу того, что вне человека», мнимой «любовью к избранным лицам или предметам», движимой диаметрально противоположным стремлением к благу своей ограниченно-отдельной «животной личности» [1, с. 487]. Следовательно, дополняет Толстой перечень дефинирующих признаков истинной любви, «любовь – только тогда любовь, когда она есть жертва собой» [1, с. 486]. Однако приведенная выше афористическая формулировка не делает достаточно прозрачной толстовскую интерпретацию позиции любящего субъекта по отношению к самому себе как гипотетическому объекту собственного благоволения. В фокусе пристального внимания Толстого неизменно остается максимально заостренная им этико-антропологическая дилемма: считать ли, ориентируясь на букву евангельской заповеди любви к ближнему, любовь к себе объективно необходимой мерой любви к другому («возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39)) или окончательно дискредитировать ее нравственную ценность ввиду того, что себялюбие служит главным препятствием к проявлению истинной любви. Напряженный драматизм толстовских размышлений над разрешением данной 6 антитезы обнаруживает себя обилием в текстах и дневниковых записях писателя категорично-полярных суждений на эту тему, содержащих то страстные призывы к крайнему аскетическому максимализму и полной деперсонификации, то вынужденно-примирительные констатации ее невозможности как с житейско-прагматической, так и с морально-психологической точек зрения. Между тем, наиболее приемлемый выход из сложившейся ситуации Толстой видит в том, чтобы кардинально изменить саму постановку вопроса: вместо традиционной оппозиции паритетной субъективности эгоизма (субъект как единственная мера любви) и односторонней интерсубъективности альтруизма (безусловный отказ от собственной субъектности, т.е. от требуемой ею доли любви, ради максимального увеличения любви к другим) как диаметрально противоположных моделей осуществления любви мыслитель указывает на антагонизм телесного и духовного эгоизма. «Отвратителен эгоизм телесный, – говорит Толстой, – и нет ничего выше эгоизма духовного, перенесения своего сознания в духовное, вечное, всемирное я. И перенесение это совершается любовью и дает такое благо, испытывая которое ничего больше не нужно» [2, с. 405-406]. Следовательно, любить себя не только можно, но и должно, все же полагает мыслитель, но только в том случае, когда собой мы признаем не свою индивидуальнодискретную телесность, а то единое во всех духовное начало, наличием которого задается наше тождество универсальной сущности Всего, т.е. Бога. Таким образом, если эгоизм телесный есть самоконсервация собственной животности, т.е. состояние, в котором человек неизбежно ненавидит не только других как соперников в деле достижения личного блага, но и самого себя как никчемное существо, заведомо лишенное возможности одержать победу в этой бессмысленной схватке, то духовный эгоизм – это окончательная эмансипация и подлинное торжество Бога в себе или себя в качестве божественной сущности. Вместе с тем, не следует упускать из поля зрения и то, что все остальные, равно как и мы сами, являются носителями того же универсально-божественного начала, а потому «любовь к ближнему» – не удовлетворение запросов его «животной личности», не потакание ее слабостям или снисхождение к ее порокам, а добровольная и всемерная помощь другому человеческому существу в обнаружении им своего высшего духовного «я» и освобождении из плена низшей телесногреховной природы. А потому, дает совет Толстой, «любить надо и можно не человека, а задавленного, заглушенного Бога в человеке, и любить этого Бога, и стараться помочь ему высвободиться» [2, с. 324]. Столь красноречивая толстовская рекомендация может означать лишь одно – универсальным и, по сути, единственным предметом истинной любви является Бог, независимо от того, кого или что мы идентифицируем в качестве непосредственного предмета приложения нашего любовного чувства и прово7 цируемой им деятельности любви: себя, ближнего или Абсолют как таковой. Эта диспозиция находит свое этико-нормативное выражение в архитектонике евангельских заповедей любви к Богу и к ближнему, которая получает у Толстого следующую характеристику: «Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит ближнего, тот обманывает людей. Тот же, кто говорит, что любит ближнего, но не любит Бога, тот обманывает самого себя» [3, с. 82-84]. Наиболее показательным примером опасности этого самообмана, который, по признанию самого мыслителя, ему далеко не сразу удалось преодолеть, стало истолкование заповеди любви к врагам (Мф. 5:43-44). Толстой не скрывает: изначально требование любить врагов и ему представлялось не только явно преувеличенным в нормативном отношении, но и попросту невыполнимым в условиях реально функционирующего социума. Однако формальная аналогия, проведенная им между остальными заповедями Христа и заповедью любви к врагам, ясно показала: трехчастная структура каждой заповеди отнюдь не случайна. В ней все несет на себе печать особой смысловой важности: как исходная ссылка на древний закон, так и новая, отменяющая его, норма, за которой неизменно следуют необходимые объяснения и обоснования. И пятая заповедь в этом ряду не является исключением, уверен Толстой. Вне свой композиционной целостности требование любить врагов означает для человека «слишком много или ничего», прямо говорит он, ибо житейский опыт настойчиво подсказывает: «можно не вредить своему врагу, но любить – нельзя». Решающий интерпретационный перелом в сознании мыслителя производят те слова Христа, которые, повторяясь у Луки (Лк. 6:33-36), подчеркивают, что «Бог не делает различия между людьми и дает благо всем, и что потому и вы должны быть таковы же, как Бог: … должны всех любить и всем делать добро одинаково…». Максимальная смысловая прозрачность слов Христа становится для Толстого искомым обоснованием «ясного, определенного и важного и исполнимого правила», не имеющего ничего общего с какой бы то ни было иносказательностью или мистической символичностью: «нельзя любить личных врагов», но можно и должно «не делать различия между своим и чужим народом и не делать всего того, что вытекает из этого различия – не враждовать с чужими народами, не воевать, не участвовать в войнах, не вооружаться для войны, а ко всем людям, какой бы они народности ни были, относиться так же, как мы относимся к своим» [4, с. 200-205]. Заметим, что только спустя годы Толстой полностью откажется от всех ограничений своей этикоцентрической трактовки заповеди любви к врагам, окончательно распространив предметность ее обязывающей нормативности не только на чужеземцев, но на всех людей и, даже, на все живое и все существующее в целом, и окончательно провозгласив требование любви ко всем, включая своих личных врагов, «высшим законом жизни, 8 таким, который, не допуская исключений, всегда должен исполняться…» [5, с. 905]. Более того, столь отчетливо выраженная предельная предметная универсальность истинной любви постепенно перерастает у Толстого в некую эйдетическую беспредметность, т.е. по сути повторяет платоновский путь метафизического восхождения человеческой души к подлинному постижению идеи любви самой по себе: идя по этому пути последовательно мыслящий человек неуклонно поднимается от ложного восприятия любви, которая «была необходимостью и приурочивалась к известным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству», к истинному – евангельскому – ее пониманию, в рамках которого «любовь есть не необходимость и не приурочивается ни к чему, а есть существенное свойство души человека», естественно влекущее его к «бесконечному расширению области любви» [6, с. 256]. Именно такую модель любви Толстой считает единственно соответствующей изначально-подлинному духу евангельского христианства, ибо, как особо подчеркивает мыслитель, только в нем любовь, неизменно признававшаяся одной из главных добродетелей почти всеми как восточными, так и западными религиозно-нравственными доктринами, начиная с древнейших времен, возводится в ранг всеобщей основы и высшего закона жизни. «То, что любовь есть необходимое и благое условие жизни человеческой, – излагает свои ключевые доводы Толстой, – было признаваемо всеми религиозными учениями древности. Во всех учениях … любовь признавалась одною из главных добродетелей… Но ни одно из этих учений не поставило этой добродетели основой жизни, высшим законом, долженствующим быть не только главным, но единым руководством поступков людей, как это сделано позднейшим из всех религиозных учений – христианством» [7, с. 146-147]. Таким образом, Толстой прочно связывает фундаментальное преимущество евангельской идеи любви с ее доминирующим этико-нормативным статусом – статусом универсальновсеобщего закона человеческого существования. Подобная «законническая» (номистическая) интерпретация Толстым христианского концепта любви оказывается одинаково неприемлемой для представителей полярных идейных течений и политических лагерей России рубежа ХIХ-ХХ столетий, настойчиво обвинявших мыслителя как в наивном утопизме его моралистических и социально-исторических воззрений, так и в вопиющем теолого-экзегетическом дилетантизме его выводов. Однако само использование Толстым понятия «закон» применительно к учению Христа отнюдь не служит отражением наивного благодушия мечтателя и не несет в себе ветхозаветного или языческого пережитка, напротив, оно максимально акцентирует мысль о том, что вся библейская законность была сконцентрирована Иисусом в содержании заповеди любви, в силу чего закон обернулся любовью, а любовь обрела статус высшего закона жизни. Ввиду этого закон любви конституируется и обосновывается 9 мыслителем в двух основных статусных позициях: в его непосредственном этико-нормативном смысле (как «высший закон взаимного служения») и в качестве естественного преломления закона всемирного духа в жизни разумных существ (в данном значении закон любви выступает в роли объективно-космологического закона бытия). Принципиальное значение для исследователей и критиков Толстого имеет оценка соотношения закона любви и заповеди непротивления в рамках нравственно-религиозного учения писателя. Традиционной для отечественного толстоведения является тенденция к их более или менее категоричному отождествлению, берущая свое начало в отечественной общественно-философской и богословской мысли конца ХIХ – первой четверти ХХ вв. Однако более внимательное рассмотрение данного вопроса показывает: принцип непротивления злу насилием служит у Толстого императивным минимумом закона любви, который, в свою очередь, не может быть всецело редуцирован к негативному требованию отказа от использования насилия. Любовь не может ограничиваться запретом, а потому ненасилие есть только первый шаг к осуществлению требований истинной любви, заключающихся в свободной устремленности к идеалу. Последний, по глубокому убеждению Толстого, заключает в себе два неразрывно связанных между собой измерения: внешнее (социальнонравственное) – в котором идеал выступает в форме всеобъемлющей этической общности людей, добровольно объединившихся в любовный союз и категорически исключивших из своей жизненной практики любое насилие («Царство Божие на земле»), и внутреннее (моральноэкзистенциальное) – в котором идеал всецело отождествляется с абсолютным божеским совершенством, перманентное созидание которого в душе каждого человека становится содержанием бесконечного процесса самосовершенствования индивида как его духовной эманации за пределы своей личностной дискретности и, в онтологическом пределе, достижения окончательного слияния с субстанционально единой сущностью универсума («Царство Божие внутри вас»). Таким образом этико-социальный смысл объединяющей силы любви находит свое органическое продолжение в космологическом принципе бытийного всеединства, утверждающем окончательное тождество внешнего и внутреннего, конечного и бесконечного, человеческого и божественного в благе любви. В этой монолитной целостности нет места какому бы то ни было онтологическому сепаратизму или отпадению от единой основы всего сущего, коей и является истинная любовь. Причем центробежная сила последней столь велика, что именно она служит организующим началом универсума, придавая ему ту высшую упорядоченность и безусловную ценность, вне которых он фатально обречен утратить свою подлинность. Для полноты квалификации толстовской модели истинной любви следует указать на то, что закон любви не есть внешнее дисциплинарное 10 правило, механическое следование предписаниям которого является определяющим критерием оценки нравственного статуса личности исполнителя. Реализация закона любви состоит в поступательном движении человека по направлению к недостижимому в условиях его наличного существования идеалу всеобщего любовного единения со всеми и всем без исключения, т.е. в неограниченной перспективе – с бесконечной универсальностью Всего. С учетом столь очевидной перфекционистской интенции толстовской философии любви исполнить данный закон до конца – значит полностью вынести центр своей духовной жизни за пределы своего я, утратить суверенность своей конечной человеческой личности и раствориться в вечном совершенстве Абсолюта. Здесь обнаруживается своего рода эффект сообщающихся сосудов: чем больше в человеке любви, тем меньше в нем его самого – отдельного индивида, ищущего собственного блага. Этот парадокс придает самоотверженной любви, в глазах прагматика, форму рафинированного антропологического суицида, ибо ведет вступившего на такой путь к неминуемой утрате своей самости, а, значит, и способности оценить результат своих усилий. Отчетливо понимая абсурдность подобной поведенческой логики, Толстой настаивает на том, что истинная любовь лишена пространственновременных критериев: она либо есть, т.е. всемерно проявляется человеком здесь и сейчас (в отсутствии предметной иерархии, вне различения степеней интенсивности или длительности любовного отношения), либо просто отсутствует или, что еще опаснее, подменяется изощренными псевдолюбовными мотивациями поступков. Истинную любовь нельзя испытывать избирательно, равно как ретроспективно или прогностически, т.е. произвольно прекращая любить или планируя полюбить в будущем. Подлинная любовь может существовать только во всевременности настоящего, исключая любые привилегии или консеквенциалистские допущения, убежден мыслитель. В итоге, последовательное постижение человеком сущности любви, как показывает Толстой, неизменно восходит от естественной констатации первоначальной спонтанности и эгоцентричности ее индивидуальнопсихологических проявлений до всестороннего осмысления высшей предельности ее универсально-нормативного постулирования в качестве объективно-всеобщего закона и организующей энергии бытия. В этом контексте становится очевидным и то, что любовь не может быть ни причиной, детерминирующей лишь отдельные поведенческие приоритеты, ни конечной целью, т.е. ожидаемым результатом, человеческой жизни в целом, ибо такая цель неизбежно разрушила бы всякую возможность свободного проявления любви в настоящем, заведомо санкционировав любые способы ее предметного или темпорального ограничения и любые формы ее реализационной избирательности. Между тем подлинной любви неведом любой расчет. Ее движущей силой служит бескорыстная устремленность к недос11 тижимой полноте абсолютного совершенства, а индикатором подлинности – неотвратимость и полнота ответственности за всех и вся, наступающей в момент совершения каждого акта любовного благоволения и благотворения. Не случайно в своих религиозно-философских трактатах и дневниковых заметках, написанных в последние годы жизни, мыслитель все чаще и настойчивее цитирует слова апостола Иоанна: «Дети, любите друг друга», ибо в этом призыве «должна выразиться жизнь человечества, дожившая до известного предела» [3, с. 488]. Его смысл заключает в себе не только очевидную рациональную истину, но и глубочайшее экзистенциальное откровение Толстого как «пророка всеобъемлющей любви», учение которого – уникальная попытка аккумулировать этику и метафизику любви в концептуально единой парадигме самоотверженного служения, обладающей как несомненной теоретической оригинальностью, так и универсальной духовной синтетичностью, которая открывает перед внимательным и заинтересованным исследователем безграничные возможности для обнаружения в ней неисчерпаемой плюралистичности идейных влияний в диапазоне от великих религиозных доктрин Востока до фундаментальных философских систем Запада, не будучи при этом вторичной по отношению к какой бы то ни было из них. Список литературы 1. Толстой Л. Н. О жизни // Л. Н. Толстой. Избранные философские произведения. М.: Просвещение, 1992. 527 c. 2. Толстой Л. Н. Философский дневник. 1901-1910. М.: Известия, 2003. 543 с. 3. Толстой Л. Н. Путь жизни. М.: Высшая школа, 1993. 527 c. 4. Толстой Л. Н. В чем моя вера? // Л. Н. Толстой. Исповедь. В чем моя вера? Л.: Худож. лит., 1991. 412 с. 5. Толстой Л.Н. Неизбежный переворот // Толстой Л.Н. Закон насилия и закон любви: О пути, об истине, о жизни. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. 943 с. 6. Толстой Л. Н. Царство божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание // Л. Н. Толстой. Избранные философские произведения. М.: Просвещение, 1992. 527 c. 7. Толстой Л. Н. Закон насилия и закон любви // Л. Н. Толстой. Избранные философские произведения. М.: Просвещение, 1992. 527 c. M. L. Gel'fond Philosophy of Love in the works of L.N. Tolstoy The article is dedicated to the logical reconstruction and the systematical analysis of the religious and philosophical conception of love in L. N. Tolstoy's moral, philosophical and theological works. The present problem was not the object of special ethical and philosophical study earlier. 12 Key words: moral, religion, violence. good, evil, moral law, moral ideal, violence, nonПолучено 21.02.2011г. УДК 130.122:111:159.923.2 А.А. Зиновьева, аспирант, (910)5574829, rusalisa@rambler.ru (Россия, Тула, ТулГУ) ПРОБЛЕМА «ДРУГОГО» В ФИЛОСОФИИ М.М. БАХТИНА Анализируются особенности рассмотрения проблемы «Другого» в философии М.М. Бахтина. Ключевые слова: Другой, Я, тело, душа, познание другого. Проблема Другого наиболее полно разработана в западной философии. Однако многие философы запада опирались на оригинальную концепцию М.М. Бахтина. Модель Бахтина в сущности экзистенциальна: Я нуждаюсь в Другом, Другой утверждает мое бытие, ценностно завершает его. Без бытия Другого меня в полном смысле слова еще нет. Я, по мнению Бахтина, - это этически действующий и эстетически созерцающий субъект. Я – это субъект, все остальное объекты восприятия, познания, поступка. Так как только Я обладает активностью и субъективностью, то человек не может стать объектом для себя, не может эстетически завершить, полностью познать и осознать сам себя. «Я, как субъект, никогда не совпадаю с самим собою: я – субъект акта самосознания – выхожу за пределы содержания этого акта» [1, с. 147]. Бахтин замечает, что, поскольку человек для себя никогда не является целостным и завершенным, то целостно познать может только Другой. Другой может познать меня, а я могу познать Другого. Эта привилегия, полагает Бахтин, обусловлена избытком видения, который связан с единственностью и незаменимостью моего места в мире. В жизни я занимаю единственное место, единственную точку зрения. Это, по мнению философа, означает быть субъектом жизни. Разница между субъектом в этике, эстетике и познании в том, что субъект познания не имеет единственного и незаменимого места в бытии. Я как субъект жизни занимаю единственное место в бытии. «Это различие в переживании себя и в переживании другого преодолевается познанием, или, точнее, познание игнорирует это различие, как оно игнорирует и единственность познающего субъекта. В едином мире познания я не могу поместить себя как единственное я-для-себя в противоположность всем без исключения остальным людям, прошлым, настоящим и будущим, как другим для меня; напротив, я знаю, что я такой же ограниченный человек, как и все другие, и что вся- 13