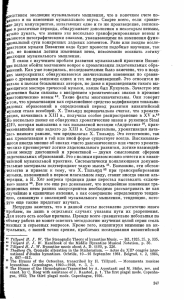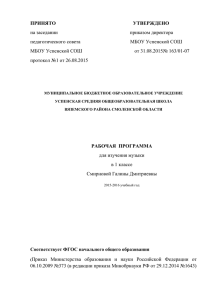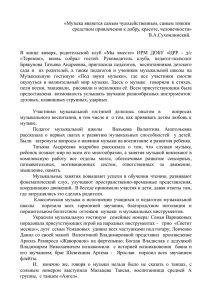доклад (в формате)
реклама
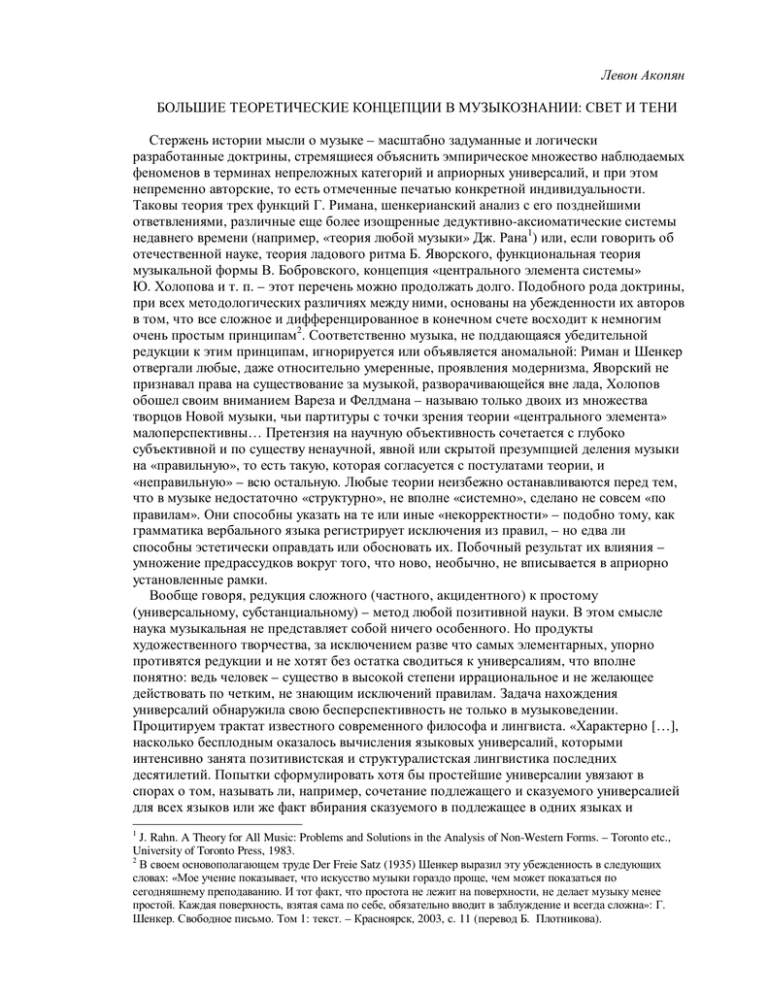
Левон Акопян БОЛЬШИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В МУЗЫКОЗНАНИИ: СВЕТ И ТЕНИ Стержень истории мысли о музыке – масштабно задуманные и логически разработанные доктрины, стремящиеся объяснить эмпирическое множество наблюдаемых феноменов в терминах непреложных категорий и априорных универсалий, и при этом непременно авторские, то есть отмеченные печатью конкретной индивидуальности. Таковы теория трех функций Г. Римана, шенкерианский анализ с его позднейшими ответвлениями, различные еще более изощренные дедуктивно-аксиоматические системы недавнего времени (например, «теория любой музыки» Дж. Рана1) или, если говорить об отечественной науке, теория ладового ритма Б. Яворского, функциональная теория музыкальной формы В. Бобровского, концепция «центрального элемента системы» Ю. Холопова и т. п. – этот перечень можно продолжать долго. Подобного рода доктрины, при всех методологических различиях между ними, основаны на убежденности их авторов в том, что все сложное и дифференцированное в конечном счете восходит к немногим очень простым принципам2. Соответственно музыка, не поддающаяся убедительной редукции к этим принципам, игнорируется или объявляется аномальной: Риман и Шенкер отвергали любые, даже относительно умеренные, проявления модернизма, Яворский не признавал права на существование за музыкой, разворачивающейся вне лада, Холопов обошел своим вниманием Вареза и Фелдмана – называю только двоих из множества творцов Новой музыки, чьи партитуры с точки зрения теории «центрального элемента» малоперспективны… Претензия на научную объективность сочетается с глубоко субъективной и по существу ненаучной, явной или скрытой презумпцией деления музыки на «правильную», то есть такую, которая согласуется с постулатами теории, и «неправильную» – всю остальную. Любые теории неизбежно останавливаются перед тем, что в музыке недостаточно «структурно», не вполне «системно», сделано не совсем «по правилам». Они способны указать на те или иные «некорректности» – подобно тому, как грамматика вербального языка регистрирует исключения из правил, – но едва ли способны эстетически оправдать или обосновать их. Побочный результат их влияния – умножение предрассудков вокруг того, что ново, необычно, не вписывается в априорно установленные рамки. Вообще говоря, редукция сложного (частного, акцидентного) к простому (универсальному, субстанциальному) – метод любой позитивной науки. В этом смысле наука музыкальная не представляет собой ничего особенного. Но продукты художественного творчества, за исключением разве что самых элементарных, упорно противятся редукции и не хотят без остатка сводиться к универсалиям, что вполне понятно: ведь человек – существо в высокой степени иррациональное и не желающее действовать по четким, не знающим исключений правилам. Задача нахождения универсалий обнаружила свою бесперспективность не только в музыковедении. Процитируем трактат известного современного философа и лингвиста. «Характерно […], насколько бесплодным оказалось вычисления языковых универсалий, которыми интенсивно занята позитивистская и структуралистская лингвистика последних десятилетий. Попытки сформулировать хотя бы простейшие универсалии увязают в спорах о том, называть ли, например, сочетание подлежащего и сказуемого универсалией для всех языков или же факт вбирания сказуемого в подлежащее в одних языках и 1 J. Rahn. A Theory for All Music: Problems and Solutions in the Analysis of Non-Western Forms. – Toronto etc., University of Toronto Press, 1983. 2 В своем основополагающем труде Der Freie Satz (1935) Шенкер выразил эту убежденность в следующих словах: «Мое учение показывает, что искусство музыки гораздо проще, чем может показаться по сегодняшнему преподаванию. И тот факт, что простота не лежит на поверхности, не делает музыку менее простой. Каждая поверхность, взятая сама по себе, обязательно вводит в заблуждение и всегда сложна»: Г. Шенкер. Свободное письмо. Том 1: текст. – Красноярск, 2003, с. 11 (перевод Б. Плотникова). 2 подлежащего в сказуемое – в других оставляет схеме “подлежащее–сказуемое” роль отвлеченного мыслительного конструкта, который, конечно, годится на роль универсалии только при условии препарирования соответствующих лингвистических реалий»3. Напрашивается параллель с тем, что хорошо известно по опыту музыкальной науки. Центральная категория упомянутой выше доктрины Шенкера, так называемая первоформа (Ursatz), состоящая из тоники и доминанты – эквивалентов подлежащего и сказуемого, – и выдвинутая знаменитым австрийским теоретиком на роль абсолютной универсалии, оказалась всего лишь исторически преходящим случаем более общей идеи, которую Ю. Холопов обозначил термином «центральный элемент системы» (ЦЭС). По отношению к огромному разнообразию музыкальных реалий прошлого и настоящего синтезирующая категория ЦЭС, в свою очередь, предстает не более чем «отвлеченным мыслительным конструктом», наделенным – именно в силу своей почти всеобъемлющей синтетичности – невысоким объяснительным потенциалом. Продолжим цитату. «Эта опасность – оказаться продуктами нашего представления – нависает над всеми универсалиями. Они и без того обескураживающе скудны. Похоже, язык можно изготовить из чего угодно, в него не входит никаких принудительных моментов. У него нет даже физиологически обязательных констант. Скажем, может показаться, что все языки (универсалия) образуют звуки на выдохе. Но оказывается, что звуки образуются и на вдохе; так современные парижане произносят слово oui […]. В конечном счете “единственной языковой универсалией оказывается сам язык”»4. Здесь напрашивается еще одна параллель с музыкой. Всего несколько десятилетий назад никто не стал бы всерьез спорить с тем, что важнейшей субстанцией любой музыки (универсалия) выступает звук. Но после появления 4’33’’ Кейджа (1952), visible music I и MO-NO Шнебеля (1962, 1969), Pas de cinq Кагеля (1966) стало ясно, что звук может быть для музыки всего лишь несущественной акциденцией. Конечно, названные опусы можно квалифицировать как «не-музыку», но с позиций сегодняшнего дня такое отношение к ним выглядит скорее неадекватно: они заняли твердое место в анналах истории музыки, а их создатели широко известны как квалифицированные композиторы, доказавшие свою способность фиксировать музыкальные идеи также и с помощью вполне конвенциональных знаков нотного письма. Опыт новых течений лишает статуса универсалии и такое свойство музыки, как развертывание во времени от начала через середину к концу (асафьевская формула i:m:t, развернутая В. Бобровским в большое учение о функциональных основах музыкальной формы). Остается присоединиться к процитированному конечному выводу, внеся в него необходимое минимальное изменение: единственной музыкальной универсалией оказывается сама музыка. «Дух дышит, где хочет», – вот, пожалуй, единственное обобщение, которое применимо к любой музыке и, шире, к любому творчеству. Дабы преодолеть сопротивление наличного материала усилиям по его редукции, адепты солидных музыкально-теоретических концепций вынужденно прибегают к мерам по его «укрощению» – с результатами, для характеристики которых очень хорошо подходит одна из записей «Дневника» крупнейшего польского писателя Витольда Гомбровича, сделанная по прочтении книги из другой гуманитарной области: «Текст производит странное впечатление. Абсолютной серьезности и абсолютной детскости. […] Абсолютного знания […] и абсолютного незнания. […] Все та же высшая школа верховой езды, которая заключается в том, чтобы сохранить видимость полной свободы движений – тогда как на самом деле наездник едва держится в седле. […] Когда я читаю [такие тексты], меня интересует не столько мысль сама по себе – она мне, в общем, и так известна, – сколько отчаянная борьба мыслителя с мыслью. Как много тратится на нее 3 В. Бибихин. Язык философии. – М., Прогресс, 1993, с. 43. Там же. В последнем предложении цитируется труд, полемически направленный против одной из влиятельнейших «редукционистских» доктрин в науке о языке – генеративной грамматики Н. Хомского: I. Robinson. The New Grammarians’ Funeral: a Critique of Noam Chomsky’s Linguistics. – Cambridge, 1975, p. 86. 4 3 усилий! А теперь помножьте эти усилия автора на усилия его читателей, вообразите себе, как эти массы логических умозаключений воздействуют на не столь изощренные умы, которые читают с пятого на десятое, дабы понять с десятого на двадцатое, как в каждой из этих голов мысль [автора] расцветает очередным недоразумением. Так где же мы оказываемся? В стране силы, света и точности или в неряшливом царстве недостаточности?»5 Последний вопрос – безусловно риторический. Наука о музыке – в той мере, в какой это действительно наука, то есть систематическая алгоритмизованная деятельность по обнаружению внутреннего устройства объектов путем «снятия» внешних проявлений, – при всей солидности своего интеллектуального обеспечения оборачивается «царством недостаточности», поскольку она имеет дело с ускользающим от «концептуализации» человеческим творчеством. * * * Мне бы не хотелось, чтобы сказанное воспринималось как чистый негативизм по отношению к теоретическому музыкознанию. Наука, занимающаяся выявлением закономерностей музыкального мышления через анализ структуры музыкальных текстов, в своих лучших, подлинно классических «авторских» образцах сыграла неоценимую роль в ориентации нашего восприятия музыки, в формировании нашей системы оценок и приоритетов. Отрицать это было бы бессмысленной неблагодарностью. Но огромный массив позднейшей литературы, развивающей методологические основы классических больших концепций или предлагающей новые концепции, также претендующие на позитивную научность и универсализм, едва ли способен реально помочь читателю – будь то музыкант-профессионал или просвещенный любитель – в восприятии незнакомой музыки и в обнаружении новых смыслов в музыке знакомой. Перерождение науки в «высшую школу верховой езды», о которой говорит Гомбрович, хорошо видно на примере постшенкерианской линии в современном теоретическом музыкознании. Известная доктрина австрийского теоретика Генриха Шенкера (1868– 1935)6 сама по себе обладает бесспорными, можно сказать вневременными достоинствами. Она успешно служит решению дидактических задач, поскольку учит хорошему голосоведению и дифференциации существенного и менее существенного в музыкальной композиции; кроме того, она преодолевает школьную раздробленность аналитических дисциплин и учит видеть в музыкальном произведении прежде всего целое, не сводимое к сумме частностей. Будучи музыкантом широкого профиля, Шенкер пользовался солидным авторитетом и оказывал реальное влияние на музыкальную жизнь. Среди музыкантов, считавших его своим наставником, – сам Вильгельм Фуртвенглер (возможно, своим неповторимым мастерством ведения длительной драматургической линии и склонностью к подчеркиванию басов знаменитый дирижер отчасти обязан 5 W. Gombrowicz. Dziennik I. 1953–1956. – Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1997, s. 117, 139. Напомним ее основные положения: произведение тональной музыки строится как иерархия структурных «слоев»; анализ состоит в последовательном абстрагировании от самого поверхностного слоя (эмпирического нотного текста) и движении вглубь, к «ядру», из которого «выращен» целостный музыкальный организм. Различные детали, составляющие материал каждого данного структурного слоя, трактуются как производные («пролонгации») элементов, принадлежащих более глубинным слоям. По мере редукции («снятия») таких деталей вначале обнаруживается «передний» структурный план композиции, затем «средний» план и, наконец, «задний» план. Самый глубинный из всех возможный структурных слоев представляет собой контрапункт «первичной структуры» (Ursatz) – последования I–V–I в басу – и подчиненной ей «первичной линии» (Urlinie) – нисходящего, направленного к тонике движения в верхнем голосе. Такой контрапункт универсален для всей тональной музыки. Ценность музыкального произведения определяется тем, насколько богато и разнообразно организованы в нем срединные структурные слои, заполняющие воображаемое пространство между Ursatz («ядром», «зародышем») и собственно текстом («организмом»). См. (на русском языке): Г. Шенкер, указ. соч.; Б. Плотников. Очерки и этюды по методологии музыкального анализа. – Красноярск, 2002; Ю. Холопов. Музыкально-теоретическая система Хайнриха Шенкера. – М., Композитор, 2006. 6 4 непосредственному влиянию создателя концептов Ursatz и Urlinie). Можно смело утверждать, что теория Шенкера, несмотря на все присущие ей недостатки7, доказала свою практическую значимость. Боюсь, этого нельзя сказать о продукции многочисленных (по большей части англоязычных) эпигонов австрийского теоретика, занятых дальнейшим оттачиванием его аналитического инструментария и адаптацией его аналитической техники к музыке, созданной до Баха и после Брамса. Опыты такой адаптации в лучшем случае дополнительно иллюстрируют соображения, суть которых в целом ясна и без поддержки шенкерианских диаграмм8, вообще же эта деятельность живо напоминает описанную Гомбровичем «борьбу мыслителя с мыслью», и без того известной читателю. Здесь нет ни возможности, ни необходимости реферировать постшенкерианскую литературу: во-первых, она грандиозна по объему9, во-вторых, в свое время я опубликовал краткий обзор некоторых заметных трудов10. Одной из вершин данной научной парадигмы выступает достаточно широко известная на Западе «генеративная теория тональной музыки» американских исследователей Ф. Лердаля (композитор, музыковед) и Р. Джэкендоффа (лингвист, ученик влиятельного Н. Хомского), объединившая элементы шенкерианства, генеративной грамматики Хомского и когнитивной психологии (психологии познания и творческого восприятия)11. В моей только что упомянутой обзорной статье этой концепции уделено сравнительно много места, здесь я не буду повторяться. Позволю себе лишь некую обобщающую 7 Среди них, помимо исторической и национальной ограниченности (мало того, что Шенкер изучал только тональную музыку от Баха до Брамса, – всю остальную музыку, в том числе творчество любых не австронемецких авторов, за исключением Скарлатти и Шопена, он считал либо второсортной, либо лишенной ценности), следует назвать исключение тематизма и ритма из числа категорий, интересных для анализа, то есть имеющих значение для глубинных уровней структуры. Критику этого и ряда других аспектов теории Шенкера см. в книге: E. Narmour. Beyond Schenkerism. The Need for Alternatives in Music Analysis. – Chicago & London, The University of Chicago Press, 1980. 8 Ряд опытов предпринят в классическом труде ученика Шенкера: F. Salzer. Structural Hearing. Tonal Coherence in Music. – New York, Dover, 1962 (в двух томах). Среди недавних опытов – квази-шенкерианский анализ отрывка из Шостаковича: Д. Фэннинг. Лейтмотив в «Леди Макбет Мценского уезда» // Д. Д. Шостакович. Сборник статей к 90-летию со дня рождения. – Санкт-Петербург, Композитор, 1996, с. 106– 108. Всесторонне разбирая Восьмой струнный квартет Шостаковича, этот же автор неоднократно прибегает к шенкерианской редукции в качестве полезного, но далеко не главного аналитического инструмента: D. Fanning. Shostakovich: String Quartet No. 8. – Aldershot, Ashgate, 2004. В труде ведущего отечественного специалиста по шенкерианскому анализу этот подход, с развернутыми комментариями, применен к «Сказке» Метнера, прелюдиям Шостаковича и прелюдиям Дебюсси: Б. Плотников. Очерки и этюды по методологии музыкального анализа. – Красноярск, 2002, с. 176–249. 9 О динамике количественного роста постшенкерианской литературы можно судить по следующим обзорным публикациям: D. Beach. A Schenker Bibliography // Journal of Music Theory, 13 (1969), 1; id. A Schenker Bibliography: 1969–1979 // Journal of Music Theory, 23 (1979), 2; id. The Current State of Schenkerian Research // Acta Musicologica, 57 (1985), 2; Schenker Studies, ed. by H. Siegel. – Cambridge, Cambridge University Press, 1990; A. Cadwallader, ed. Trends in Schenkerian Research. – New York, Schirmer, 1990; D. C. Berry. A Topical Guide to Schenkerian Literature. An Annotated Bibliography with Indices. – Hillsdale, Pendragon, 2004; Б. Плотников. Монолог о практике содержательного анализа. – Красноярск, 2005, с. 15–16 (со ссылкой на недавний библиографический указатель: B. Ayotte. Heinrich Schenker: A Guide to Research. – New York, 2004). 10 В статье: Л. Акопян. Теория музыки в поисках научности. Методология и философия «структурного слышания» в музыковедении последних десятилетий // Музыкальная академия, 1997, 1–2. 11 F. Lerdahl and R. Jackendoff. A Generative Theory of Tonal Music. – Cambridge, Mass., & London, The MIT Press, 1983. Этой книге предшествовал ряд предварительных публикаций, в том числе: F. Lerdahl and R. Jackendoff. Toward a Formal Theory of Tonal Music // Journal of Music Theory, 21 (1977), 1; R. Jackendoff and F. Lerdahl. Generative Music Theory and Its Relation to Psychology // Journal of Music Theory, 25 (1981), 1; F. Lerdahl and R. Jackendoff. On the Theory of Grouping and Meter // The Musical Quarterly, 67 (1981), 4 (заметим в скобках, что между окончательным текстом книги и некоторыми из этих предварительных публикаций обнаруживаются немалые концептуальные расхождения). См. также: F. Lerdahl. Théorie générative de la musique et composition musicale // Quoi? Quand? Comment? – Paris, Ch. Bourgois, 1985, где некоторые предпосылки и выводы теории распространяются на область современного музыкального творчества. Успех книги побудил авторов развить и уточнить ее положения в ряде еще более поздних публикаций. 5 констатацию. Доктрина Лердаля–Джэкендоффа строится как разветвленная, строжайшим образом формализованная система правил, связывающих глубинные, более или менее абстрактные уровни структуры музыкального текста с конкретным, непосредственно наблюдаемым «поверхностным» слоем. При этом положения доктрины поддаются верификации только на кратких (не больше периода), по преимуществу квадратных отрывках: основными «подопытными» текстами для авторов служат такие достаточно элементарные по структуре образцы, как хорал из «Страстей по Матфею» Баха, хорал «Святой Антоний» и начало главной партии Симфонии №104 Гайдна, тема вариаций из фортепианной Сонаты A-dur Моцарта, начало первой части его же Симфонии g-moll, начало Первой симфонии и «тема радости» из Девятой симфонии Бетховена, Прелюдия Adur Шопена. Более сложные случаи непременно требуют тех или иных оговорок или вообще исключаются из рассмотрения как нетипичные, выходящие за пределы усредненной грамматической нормы. В подтексте теории легко читается следующая идея: участок человеческого сознания, отвечающий за творческое восприятие музыки, не особенно нуждается в стимулах, чреватых нарушением психологического равновесия, способных удивить, поразить, вызвать новые, необычные переживания или, выражаясь современной терминологией, когнитивный диссонанс12. С точки зрения Лердаля и Джэкендоффа (и в этом они, если вдуматься, мало отличаются от Шенкера и его более непосредственных последователей) корректно построенное музыкальное целое предстает аналогом детской сказки с возможными напряженными, драматическими, даже пугающими перипетиями – когнитивными диссонансами, – которые, тем не менее, в конечном счете приводят к «когнитивно консонирующему» итогу. И это – о любой тональной музыке «от Баха до Брамса», безотносительно к эпохе, стилю и жанру. Система, продуманная со всей возможной тщательностью и сконструированная по всем правилам дедуктивно-аксиоматического мышления, вводит нас в «царство недостаточности»: донельзя упрощая многогранную панораму композиторского творчества двух столетий, она не открывает нам ничего особенно нового. В осадке остается главным образом перевод в красивые и изощренно формализованные термины таких понятий и категорий, которыми музыкознание иного типа – развивающееся в фарватере традиционных течений, не озабоченное проблемой собственной безупречности, свободно допускающее всякого рода методологическую эклектику – давно уже оперирует свободно и легко, не тратя усилий на объяснение вещей, изначально ясных любому маломальски мыслящему читателю. * * * Принципиальное (или, во всяком случае, трудно искоренимое) пренебрежение «неудобными» для теории реалиями истории музыки – неизбежная плата за одностороннюю ориентацию на универсалии в ущерб акциденциям. Видимо, этот дефект в той или иной мере присущ любому – не только постшенкерианскому – музыковедческому теоретизированию, стремящемуся во что бы то ни стало удержаться в изначально заданных строгих методологических рамках. Подстригая всю доступную обозрению музыку под одну и ту же методологическую гребенку, «сциентистское» музыкознание неизбежно приобретает черты индустрии, ориентированной, выражаясь языком экономической науки, не столько на потребителя (в данном случае – не столько на имманентную потребность музыкальной науки в обогащении своего идейного багажа ради более широкого и разностороннего осмысления феноменов музыкального творчества), сколько на производителя (иными словами, на воспроизводство 12 Этот термин, введенный Леонардом Фестингером, указывает на расхождение субъективного опыта с восприятием реальной ситуации. Для разрешения когнитивного диссонанса субъект должен в той или иной степени скорректировать свою систему восприятий. См. классическую работу: Л. Фестингер. Теория когнитивного диссонанса. – СПб., Речь, 2000 (оригинал опубликован в 1957). 6 теоретических продуктов, скроенных согласно конкретным методологическим установкам, и на эксплуатацию все более и более широкого круга музыкальных текстов ради решения этой задачи). Таким самодовлеющим теоретизированием переполнена литература, представляющая еще одну достаточно влиятельную в мире парадигму музыкальной науки – так называемую семиотику музыки. Как известно, семиотика, то есть наука о знаковых системах, основана на дихотомии знака (он же означающее, носитель информации о чем-то большем, единица «плана выражения») и этого «большего» – означаемого (совокупность означаемых составляет «план содержания»). Знаки функционируют в составе знаковых (семиотических) систем, в связи с которыми выдвигается еще одна фундаментальная дихотомия – «язык–речь»: под языком подразумевается система как таковая (набор знаков и правил их взаимосвязи), а под речью – реализация этой системы в виде высказываний или текстов. В семиотической методологии утвердился ряд других фундаментальных дихотомий и трихотомий, структурирующих отношения как внутри самих знаковых систем, так и между знаками и внезнаковой реальностью. Среди важнейших – дихотомия парадигматики (отношений между знаками по родству или взаимной ассоциации) и синтагматики (отношений между знаками, соседствующими друг с другом в тексте или высказывании); трихотомия знаков согласно типологии их отношения к означаемым (различаются условные знаки-символы, форма которых никак не детерминирована природой означаемых, знаки-метонимии или индексы, связанные с означаемыми причинно-следственной или иной природной связью, и знаки-метафоры или иконы, похожие на свои означаемые внешне); трихотомия синтактики (внутрисистемных отношений между знаками – сюда включаются как парадигматика, так и синтагматика), семантики (отношений между знаками – будь то символы, индексы или иконы – и их означаемыми) и прагматики (отношений между знаками и теми, кто ими пользуется, то есть участниками семиозиса – процесса порождения значений и интерпретации знаков). С точки зрения семиотики вербальный язык – лишь одна из многих знаковых систем. Музыка, несомненно, также является знаковой системой, поскольку отвечает как критерию знаковости, так и критерию системности: любой музыкальный знак, что бы мы под ним ни подразумевали (мотив, тему, фразу, более или менее законченный фрагмент и т. п.), всегда указывает на нечто «большее», а его связи с другими знаками регулируются определенной совокупностью правил, присущих данному музыкальному языку. Вполне естественно, что в рамках музыкальной науки был осуществлен ряд опытов по адаптации семиотических понятий и категорий. Так, немало усилий было потрачено на то, чтобы выяснить место музыкальных знаков в типологической схеме «символ–индекс–икон»13, однако выводы разных авторов противоречат друг другу, и практический результат этих усилий неясен (в применении к композиторской музыке европейской традиции проще всего было бы решить проблему семиотической типологии примерно так: в общем случае музыкальный знак совмещает в себе все три разновидности, тот или иной аспект выходит на первый план в зависимости от обстоятельств семиозиса, то есть семантика музыкального знака в слишком высокой степени зависит от прагматики; соответственно проблема типологии знака для музыки не онтологична и не представляет 13 См. хотя бы: Р. Якобсон. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствометрия. – М., Мир, 1972; С. Вартазарян. От знака к образу. – Ереван, Издательство АН Армянской ССР, 1973; Б. Гаспаров. Некоторые дескриптивные проблемы музыкальной семантики // Ученые записки ТГУ, 411 (1977); I. Stoïanova. Geste–texte–musique. – Paris, Union générale d’éditions, 1978, p. 22; С. Мальцев. Семантика музыкального знака. – Вильнюс, 1981 (автореферат кандидатской диссертации); R. Monelle. Music and the Peircian Trichotomies // International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 22 (1991); A. van Baest, H. van Driel. The Semiotics of C. S. Peirce Applied to Music. – Tilburg, Tilburg University Press, 1995; В. Холопова. Икон. Индекс. Символ // Музыкальная академия, 1997, 4 (привожу небольшую часть множества чрезвычайно разнообразных по масштабу и научному уровню работ, имеющих отношение к этой теме). 7 самостоятельного теоретического интереса14). Опыты по преодолению главной трудности семиотики музыки – недостаточной определенности, «неуловимости» музыкального означаемого – сплошь и рядом сводятся к вербализации плана содержания музыки (иными словами, к пересказу того, «о чем» эта музыка). Конечно, высокие методологические претензии семиотики воздействуют на стилистику перевода музыкального повествования («нарратива») в понятийные термины и тем самым отчасти защищают музыкальносемиотический дискурс от непритязательной «литературщины», но не устраняют таких последствий подобного подхода, как схематизация музыкального семиозиса и дробление нарратива на моменты, искусственно выхваченные из живого потока музыкальной речи. Как показывает опыт, названные последствия неизбежны при любых попытках систематической трактовки музыкальных оборотов, мотивов, последований и других более или менее ясно очерченных звуковых конфигураций сквозь призму тех или иных устойчивых семантических категорий – будь то «модальность» (как у Э. Тарасти, который применяет к музыкальному нарративу систему лингвиста-«нарратолога» А. Греймаса, включающую модальности «становления», «бытия», «деяния», «господства», «подчинения» и т. п.15), семантическая «тема» или «топик» (как у Р. Хаттена, систематизировавшего семантически отмеченные «топики» у Бетховена16) и др. Возможно, семиотическая методология дает интересные результаты при анализе этнической музыки (в отношении которой существует реальная проблема семантической «дешифровки» единиц плана выражения), но ее полезность в приложении к западной академической музыке не кажется безусловной. Неустранимым дефектом семиотического подхода следует признать отношение к объекту всего лишь как к знаковой системе. В науках о языке и философии языка такой подход утрачивает актуальность: родной язык – не столько знаковая система (он является преимущественно таковой только на самый поверхностный взгляд), сколько нечто бесконечно большее: «форма жизни» (Л. Витгенштейн), естественная среда бытия. Поскольку для музыковеда и читателя музыковедческих текстов западная музыка также, по идее, является родным языком, ее трактовка сквозь призму семиотических категорий неизбежно отмечена печатью схематизации, не компенсируемой обретением подлинно нового, не лежащего на поверхности знания. Представители же незападных культур, желающие приобщиться к западной музыке, едва ли станут обращаться за помощью к перегруженной замысловатыми схемами и терминами семиотической литературе. Однако не все адепты семиотики музыки готовы смириться с тем, что их сфера бесплодна в практических приложениях. Стоит процитировать высказывание влиятельного Э. Тарасти, производящее – вспомним еще раз «Дневник» Гомбровича – смешанное впечатление «абсолютной серьезности и абсолютной детскости»: «…Важнейшая задача семиотики – превращение имплицитных значений в эксплицитные, так, чтобы объяснить их даже тем, кто не принадлежит традиции, в которой создана анализируемая музыка. Например, национальные стили европейской академической музыки содержат такие специфические черты, которые доступны для понимания только тем, кто родился в этих национальных сообществах. Однако все желают наслаждаться европейской музыкой. Поэтому в исследованиях и педагогической практике мы должны объяснить, на чем основываются эти специфические черты»17. Здесь наивно буквально всё. Наивна убежденность в том, что «все желают наслаждаться европейской музыкой» (категорический тон этого заявления я все же склонен отнести на счет неточного перевода 14 Ср.: Л. Акопян. Анализ глубинной структуры музыкального текста. – М., Практика, 1995, с. 12–17. E. Tarasti. A Theory of Musical Semiotics. – Bloomington, Indiana University Press, 1994; Id. Existential Semiotics. – Bloomington, Indiana University Press, 2000. 16 R. Hatten. Musical Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation, and Interpretation. – Bloomington, Indiana University Press, 1994. 17 Цит. по: И. Ханнанов. О знаках и значениях. Международный конгресс по музыкальной семиотике в Риме // Музыкальная академия, 2007, 2, с. 184. 15 8 или пересказа). Еще более наивна вера в возможность сколько-нибудь полного и внятного эксплицирования музыкальных значений. Но особенно, можно сказать по-детски наивна идея, будто понимание того, откуда берутся и на чем основываются «эти специфические черты» (в более строгой терминологии – понимание механизмов музыкального семиозиса) способно обогатить наше восприятие музыки и углубить получаемое от нее удовольствие – между тем индивидуальный опыт каждого из нас, равно как и многовековой опыт всего человечества, не оставляет сомнения, что рациональное понимание не только не способствует удовольствию, но скорее подавляет его. Неудовлетворенность отчуждением семиотики от непосредственного, живого музыкального переживания побудило Э. Тарасти разработать новую концепцию «экзистенциальной семиотики», однако, судя по первым итогам18, она также не свободна от схематизма при систематизации теоретических категорий и от тенденции к искусственной, во что бы то ни стало, вербализации музыкального содержания. * * * Повторим еще раз: редукция и схематизация – неотъемлемые инструменты любой теоретической науки. Особенность нашей науки в том, что названные инструменты слишком часто – и эволюция крупных музыкально-теоретических концепций свидетельствует об этом все более и более наглядно – приводятся в действие всего лишь для дополнительного подтверждения или переформулировки истин, принципов, закономерностей, которые и так хорошо известны, более или менее очевидны и ясны, не особенно дискуссионны и, в общем, не нуждаются ни в подтверждениях, ни в переименованиях. Не значит ли это, что сциентистская парадигма в музыкознании исчерпала себя, и новое, более глубокое и разностороннее знание о музыке должно обретаться на других, не научных (или не вполне научных – по-видимому, скорее литературных, открыто субъективных, свободных от авторитета, не привязанных ни к каким концепциям и системам) путях? По отношению к науке, изучающей музыку от Баха до Брамса (а возможно и до Баха) такое предположение кажется вполне правдопобным: ведь все ее крупные, содержательные обобщения – формулировка законов музыкальной архитектоники, голосоведения и гармонии, систематика стилей и жанров, выявление закономерностей и факторов стилистической эволюции от Баха к Брамсу, а отчасти и далее, – были сделаны не позднее первой трети прошлого века и с тех пор по существу не обновлялись. Что касается музыки XX в., то здесь строгие научные методологии сравнительно эффективно работают разве что при анализе звуковысотных структур серийной музыки (характерен метод так называемого сет-анализа – nec plus ultra сциентизма в современной мысли о музыке). Для высокой теории не осталось понастоящему крупных, достойных задач; их вытеснила игра (род «бриколажа») отвлеченными терминами и концептами, имеющими лишь самое косвенное отношение к музыке как таковой. Похоже, только смена парадигмы сможет вывести музыкальную науку из «неряшливого царства недостаточности», где она вязнет, сама того не замечая. 18 E. Tarasti. Existential Semiotics, op. cit.