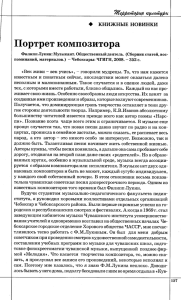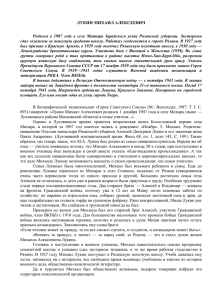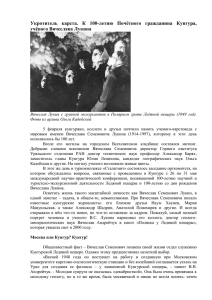Л. А. Трахтенберг (МГУ им. М.В. Ломоносова) ТРАНСФОРМАЦИЯ ОДНОГО СЮЖЕТА
реклама
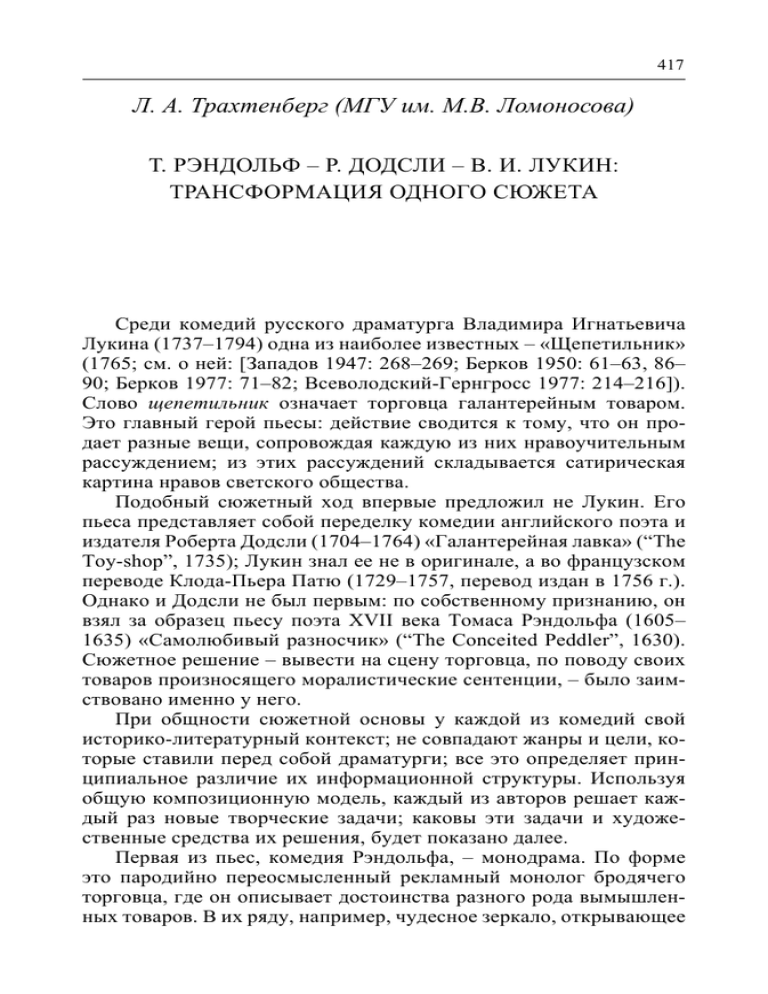
417 Л. А. Трахтенберг (МГУ им. М.В. Ломоносова) Т. РЭНДОЛЬФ – Р. ДОДСЛИ – В. И. ЛУКИН: ТРАНСФОРМАЦИЯ ОДНОГО СЮЖЕТА Среди комедий русского драматурга Владимира Игнатьевича Лукина (1737–1794) одна из наиболее известных – «Щепетильник» (1765; см. о ней: [Западов 1947: 268–269; Берков 1950: 61–63, 86– 90; Берков 1977: 71–82; Всеволодский-Гернгросс 1977: 214–216]). Слово щепетильник означает торговца галантерейным товаром. Это главный герой пьесы: действие сводится к тому, что он продает разные вещи, сопровождая каждую из них нравоучительным рассуждением; из этих рассуждений складывается сатирическая картина нравов светского общества. Подобный сюжетный ход впервые предложил не Лукин. Его пьеса представляет собой переделку комедии английского поэта и издателя Роберта Додсли (1704–1764) «Галантерейная лавка» (“The Toy-shop”, 1735); Лукин знал ее не в оригинале, а во французском переводе Клода-Пьера Патю (1729–1757, перевод издан в 1756 г.). Однако и Додсли не был первым: по собственному признанию, он взял за образец пьесу поэта XVII века Томаса Рэндольфа (1605– 1635) «Самолюбивый разносчик» (“The Conceited Peddler”, 1630). Сюжетное решение – вывести на сцену торговца, по поводу своих товаров произносящего моралистические сентенции, – было заимствовано именно у него. При общности сюжетной основы у каждой из комедий свой историко-литературный контекст; не совпадают жанры и цели, которые ставили перед собой драматурги; все это определяет принципиальное различие их информационной структуры. Используя общую композиционную модель, каждый из авторов решает каждый раз новые творческие задачи; каковы эти задачи и художественные средства их решения, будет показано далее. Первая из пьес, комедия Рэндольфа, – монодрама. По форме это пародийно переосмысленный рекламный монолог бродячего торговца, где он описывает достоинства разного рода вымышленных товаров. В их ряду, например, чудесное зеркало, открывающее 418 истину, – известный в фольклоре мотив: по указателю сказочных сюжетов А. Аарне – С. Томпсона он входит в состав типа 709, «Белоснежка». Трактовка мотива, однако, совсем не сказочная: взяточник, посмотрев в это зеркало, узнает цену своей совести, крючкотворец увидит себя без ушей (предчувствуя наказание у позорного столба), а горожанин – с «украшениями Актеона», то есть с рогами (дело происходит в Кембридже, и Рэндольф намекает на беспорядочный образ жизни студентов) [Randolph 1875: 43]. Другие фантастические товары – оселок, чтобы оттачивать «нож своих способностей» [ibid.: 45], перчатки из цельного куска магнита, притягивающие золото (для юристов), и меховой ночной колпак, исцеляющий от похмелья. Диапазон комической семантики – от юмора до сатиры; предметами насмешек, помимо юристов и взяточников, становятся пуритане, ученые, безземельные лорды, безграмотные олдермены и т. д. Пьеса Рэндольфа, по-видимому, синтезирует целый ряд литературных и фольклорных традиций. Комическую сцену торговли Г. Соломон возводит к Лукиану [Solomon 1996: 42]; это вполне правдоподобная связь, учитывая, что Рэндольф учился в Кембридже, а чтение античных авторов в то время было неотъемлемой частью образования; студент должен был даже делать выписки из них в специальные «тетради общих мест», чтобы украшать собственные сочинения античными мотивами [Costello 1958: 32]. Интерес к театру культивировался в английских университетах, и в Кембридже, видимо, преобладала комедия (а в Оксфорде – трагедия) [Boas 1914: 346–347]. В то же время возгласы разносчиков – так называемые «крики Лондона», «крики Парижа» и т. д. – были важной частью культуры еще средневекового города. Нередко они имели стихотворную форму и могли становиться основой для комической литературы. В отечественной науке они более известны на французском материале благодаря М. М. Бахтину, отмечавшему их влияние на Ф. Рабле [Бахтин 2010: 196–203], однако их значение в английской культуре было не меньшим, и известно, что они находили отражение в комедиях уже с конца XVI века [Hindley 1884]. Пьеса Рэндольфа не чужда фарсового комизма; это мир гротескных образов, если воспользоваться бахтинским выражением. Задачу ввести зрителя в этот мир решает развернутая экспозиция, в которой создается образ главного и единственного героя. Вот ее начало: «Щедрые господа! Такова моя любовь к Фебу и девяноста девяти музам, что ради блага этого королевского университета я геометрически исследовал три земных сферы: Дельфина – Азию, 419 Розу – Африку и Митру – Америку [перечисляются кембриджские таверны – Л. Т.], не считая terra incognita множества пивных <…> заклинаю вас семью смертными науками, которыми вы заняты больше, чем тремя и четырьмя свободными грехами, наградить своими ха-ха-ха и хи-хи-хи мои смехотворные выходки» [Randolph 1875: 37; перевод здесь и далее мой – Л. Т.]. Экспозиция иронична, как и вся пьеса; объектами иронии становятся и сам герой, и зрители. Этот общий иронический тон не оставляет места для дидактики. Хотя в пьесе есть сатирический элемент, автор не стремится преподать зрителям урок нравственности; он показывает, как не надо поступать, но не говорит, как надо. Таков был образец, который через столетие использует Роберт Додсли, чтобы создать произведение совершенно иного рода – моралистическую комедию, а точнее, согласно авторскому жанровому определению, – «драматическую сатиру». Определение это не случайно: оно отражает нетипичную для жанра комедии форму – статичность композиции, отсутствие сюжета, на которые, между прочим, обращали внимание уже современные критики. Этот общий принцип композиции Додсли заимствует у Рэндольфа, но, в отличие от предшественника, ставит перед собой прежде всего именно дидактическую задачу. Большинство образов он заменяет, но те, которые все же сохраняются, переосмысливает. Например, как и у Рэндольфа, в его комедии появляется зеркало. У Додсли оно становится поводом для следующего нравоучительного рассуждения: «Если это зеркало купит щеголь <…> он увидит свою глупость почти сразу вслед за галантностью. Правда, что некоторые не видят в нем своей щедрости, а другие – благотворительности, и тем не менее это очень хорошее зеркало. Некоторые джентльмены не увидят в нем своих хороших манер, а некоторые пасторы – своей веры, и тем не менее это очень хорошее зеркало» [Dodsley 1735: 14]. Додсли меняет по сравнению со своим источником и композиционную структуру. Он вводит дополнительных персонажей, превращая монолог в диалог. Если у Рэндольфа герой обращался непосредственно к зрителям, то в пьесе Додсли у него появляются собеседники и, более того, своего рода зрители на сцене. Все действующие лица его пьесы вступают в диалог с главным героем; но три из них – Джентльмен, 1‑я Леди и 2‑я Леди (все герои у Додсли безымянные) – выступают также в роли слушателей, когда главный герой, Владелец лавки, обращается к другим с нравоучениями. Композиционная структура пьесы Додсли должна решить две основные задачи: выразить моралистическое содержание и моти- 420 вировать это выражение, придав дидактическим сценам художественное правдоподобие – в том смысле, как оно понималось в XVIII веке. Этой цели служит экспозиция. Если в пьесе Рэндольфа экспозиция носила, как и все произведение, монологический характер, то у Додсли в этой функции выступают две сцены – диалог второстепенных героев и монолог главного. У них разные места действия: вступительная сцена – в гостиной, монолог Владельца (как и все последующее действие) – в его лавке. Разные персонажи: в первой сцене Владелец лавки еще не появляется, и зритель узнает о нем с чужих слов, а свой выходной монолог он произносит в одиночестве. Тема уместности нравоучений, с которыми главный герой обращается к покупателям, обсуждается на протяжении всей пьесы. Во вступительной сцене 1‑я Леди, ссылаясь на общее мнение, называет его «дерзким»; Джентльмен отвечает, что он, напротив, «очень забавен» (“very entertaining”) [Dodsley 1735: 10]. Владельца лавки подозревают даже в безумии, но Джентльмен рассеивает эти подозрения. Именно забавой, развлечением мотивируется ситуация «театра в театре», когда одни персонажи слушают, как других главный герой подвергает осмеянию. Та же тема вновь появляется в финале, где Джентльмен спрашивает Владельца лавки, не сказывается ли его поведение на торговле; тот отвечает, что его эксцентричный юмор, напротив, возбуждая любопытство, привлекает покупателей [ibid.: 43]. Итог развитию этой темы подводится в заключающем пьесу стихотворном фрагменте, обращенном к зрителю: здесь говорится о главном герое, что он «нашел способ <…> одновременно развлекать и поучать и придал старой сатире новое очарование» [ibid.: 46]. Идея различия дидактического содержания и художественной формы, которая выступает не более чем в служебной функции, выражена в этом фрагменте особенно ярко. При этом важно, что как противников, так и единомышленников герой находит в светском обществе. В ряду покупателей, к которым он обращается с нравоучениями, не только порочные люди, достойные осмеяния; некоторые, напротив, ему сочувствуют, становясь на его сторону. И это то общество, к которому принадлежат зрители комедии: перед ними одновременно дурной и добрый пример, и, выбрав для подражания нужный, они могут чувствовать, что встают на верный путь. Пьеса Додсли была исключительно популярна; она была много раз сыграна, перепечатана и переведена на французский язык. Именно во французском переводе Патю, как уже было сказано, ее 421 знал Лукин. Перевод этот в целом довольно точен; важнейшие изменения состоят в том, что Патю дает героям, безымянным в оригинале, условные имена – Дорант, Элианта, Хлоя, Оргон, Жеронт, Клитандр и т. д., а также разделяет комедию на тринадцать сцен с номерами от первой до двенадцатой (вступительная сцена – первая экспозиция – номера не имеет); у Додсли нумерации сцен не было. Точность объясняется задачей, которую ставит перед собой Патю: познакомить французских читателей с «высоким искусством английской комедии», как он пишет в предисловии к своему изданию [Patu 1756: ненум. стр.]. Зато Лукин, напротив, не только не стремится сохранить верность оригиналу, но ставит перед собой задачу придать пьесе русский колорит. Это делается с дидактической целью: как он объясняет в предисловии к другой комедии, «Награжденное постоянство», «многие зрители от комедии в чужих нравах не получают никакого поправления. Они мыслят, что не их, а чужестранцев осмеивают» [Лукин 1868: 115–116]. Лукин дает героям русские «говорящие» фамилии: Чистосердов, Вздоролюбов, Легкомыслов, Обиралов, Верхоглядов и т. д. Он последовательно избегает галлицизмов: именно по этой причине главного героя он называет Ще‑ петильником, а не, например, Галантерейщиком, хотя слово щепе‑ тильник, в отличие от синонима французского происхождения, уже в эпоху Лукина звучит как архаизм. Галлицизмы он намеренно сосредоточивает в речи щеголей, которые становятся объектом сатиры. Вопрос о русском колорите Лукин рассматривает в предисловии и примечаниях к пьесе, и потому уже многие исследователи обращали на это внимание. Однако менее заметно и отнюдь не менее существенно то, что Лукин также меняет композиционную структуру пьесы, поскольку основывается, как можно думать, на несколько иной концепции сатиры, нежели его английский предшественник. Прежде всего, трансформируется экспозиция пьесы. Из двух сцен, которые были у Додсли, Лукин перерабатывает одну и заменяет другую, а также вводит третью, не имеющую соответствий в источнике. Переработке подвергается монолог главного героя. В нем меняется мотивировка его поведения. И в оригинале, и в переводе герой дорого продает разные модные безделицы, которые ему самому достались дешево; то, что щеголи готовы дорого за них платить, хотя на деле все эти вещи ничего не стоят, вызывает у него смех и презрение. У Додсли Владелец лавки говорит так: «Благодаря чудачествам и безумию рода человеческого, этими детскими игрушками и позолоченными безделицами я заработаю себе 422 на безбедную жизнь» [Dodsley 1735: 12]. Подобное поведение не казалось Додсли морально сомнительным; сам он происходил из бедной семьи и первые годы в Лондоне был слугой, так что во время работы над пьесой (а это начало его творческого пути) об обеспеченном существовании ему приходилось лишь мечтать. Но Лукин, видимо, считает иначе и потому дополняет монолог Щепетильника важной деталью: треть заработанного он отдает бедным, что и дает ему право на моральное оправдание. Кроме того, он выдвигает аргумент в духе меркантилизма: «Если бы я с них столько не взял, то бы чужестранцы пуще моего ограбили и деньги бы из государства вышли» [Лукин 1868: 199]. Вводная сцена у Лукина иная, нежели в пьесе Додсли, и это, наверное, самое существенное среди всех многочисленных изменений, которым подвергся ее сюжет. У Додсли в этой сцене, как уже было сказано, участвуют три героя – Джентльмен и две Дамы (в переводе Патю это соответственно Дорант, Элианта и Хлоя), которые затем, в третьей сцене комедии (по нумерации Патю – второй), являются в лавку в качестве покупателей; их сюжетная роль, таким образом, двоякая. Лукин разделяет функции: в роли покупателей в соответствующей сцене выступают также три персонажа, получившие имена Полидор, Нимфодора и Маремьяна, которых русский драматург из единомышленников главного героя превращает в достойных осмеяния щеголей. В роли же единомышленников – другие герои: Чистосердов (как видно из фамилии, резонер) и его племянник. Именно они выступают в первой экспозиционной сцене. Племянник приехал в Петербург на службу из Пензы; Чистосердов объясняет Щепетильнику, что привел племянника к нему с нравоучительной целью: «я нарочно привез сюда моего племянника, чтобы он послушал твоих описаний. Они его вразумят к познанию здешних жителей» [там же: 201]. Итак, от мотивировки дидактизма развлекательностью, которая была в пьесе Додсли, Лукин отказывается. Зрелище людских пороков не забавно, а поучительно, нужно оно для воспитания юношества; это мы и видим на сцене. Герои – объекты сатиры и герои – зрители разделены яснее, чем у Додсли. Племянник и Чистосердов чужды светскому обществу: один приехал из провинции, другой – предмет насмешек, конечно несправедливых. Чистосердов говорит Щепетильнику: «Надо мною и так уже многие смеются, что я, приходя в маскарад, проговариваю с вами», а тот отвечает: «Над вами смеются те, которые сами правильное осмеяние заслуживают, и потому ругательствы их вам невредны» [там же]. 423 Наконец, Лукин дополняет экспозицию пьесы третьей сценой. В ней участвуют два работника – Мирон и Василий; они приносят в лавку товары, говорят друг с другом, с Чистосердовым и с Щепетильником. Таким образом, вводится еще одна точка зрения на происходящее. Они смеются и над покупателями модных товаров, и над самим Щепетильником, которого Василий называет шалбе‑ ром (по Словарю Академии Российской, шалбер – «шалун, пустозвяк», шалберю – «пребываю в праздности, без дела; также пустое говорю», с пометой «простонарод.» [САР 1794: 848]). Впрочем, уже их речь, окрашенная диалектизмами, производит комический эффект, заставляя читателей смеяться над ними самими. Переработка источника, произведенная Лукиным, не ограничивается экспозицией. Он меняет порядок эпизодов, некоторые детали, но главное – заменяет образы персонажей. Помимо уже названных замен важны еще две. В пьесе Додсли были сцены продажи очков и весов: очки покупал старик, весы – ученый, который собирался производить с их помощью физические опыты. Оба персонажа оказывались единомышленниками главного героя и сочувственно выслушивали его нравоучительные тирады. У Лукина сходные сцены есть, но в них совсем другие действующие лица. Сцена с очками разделяется на две: некоторые мотивы из нее переходят в уже имевшуюся в оригинале сцену с молодящимся стариком – привычной комической фигурой, а большая часть образует сцену с самолюбивым поэтом Самохваловым, чье тщеславие достойно лишь насмешек; в этом персонаже современники узнавали Сумарокова и критиковали Лукина за недостаток уважения к знаменитому автору. Что касается сцены с весами, то их покупателем оказывается Обиралов – судья-взяточник, который, конечно, не может найти им надлежащего применения. Эффект подобной замены – трансформация системы персонажей в целом. У Додсли на сцену выходили и люди добродетельные, и люди порочные, причем те и другие принадлежали к одному и тому же обществу; зритель или читатель, входя в тот же круг, мог ассоциировать себя с лучшими, а не с худшими. У Лукина добродетельных героев мало, и они противостоят большинству; создается впечатление всеобщей порочности, и этот упрек читателю, видимо, следует принимать на свой счет. По сравнению с Додсли Лукин сгущает краски; сатира на общественные пороки стремится перейти в сатиру на порочное общество, которая должна заставить зрителя и читателя не столько смеяться над чужими недостатками, сколько стыдиться собственных. В этом и состоит концептуальное различие между пьесами английского и русского драматурга. 424 Но Додсли и Лукина объединяет дидактическая установка; она отличает их от Рэндольфа. Его пьеса, соединяющая фарсовый комизм, иногда доходящий до абсурда, с классическими реминисценциями, производит впечатление амбивалентности – в том самом смысле, в каком понимал ее Бахтин. Видимо, это не случайно: Рэндольф синтезирует традиции фольклора и Ренессанса с его рецепцией античности, подобно тому как это делал Рабле, чье творчество стало основой для выводов Бахтина. Семантическая конструкция пьесы Рэндольфа динамична в ее постоянных переходах от юмора к сатире. Этот внутренний динамизм уравновешивает внешнюю статичность композиции. В рамках формально единого монолога единственного героя развертывается внутренний диалог интонаций и интенций. Сатирическая установка Додсли и Лукина означает одновременно упрощение и усложнение информационной структуры текста. Внешне она становится сложнее: расширяется система персонажей, распространяется экспозиция, монолог заменяется диалогом. Но эта внешняя сложность необходима для того, чтобы компенсировать внутреннюю смысловую простоту – ясность дидактической задачи, которую ставят перед собой оба автора. Информационная структура текста разделяется на два уровня: нравоучительное содержание и художественная форма, в которую оно облечено. По этому пути Лукин идет дальше, чем Додсли. У обоих авторов персонажи разделены на два лагеря – «положительные» и «отрицательные», как бы банально это ни звучало; такая расстановка образов выступает как проекция умозрительного разграничения добродетелей и пороков. Но у Додсли эта разграничительная линия проходит внутри единого социального круга, тогда как у Лукина – по его внешней границе. Перестройка системы образов и переработка некоторых сцен приводит к тому, что объектом сатиры становится общество как целое и, следовательно, все потенциальные читатели и зрители без исключения. Додсли не был столь радикален, и для драматурга это была, видимо, более благоприятная позиция. Свидетельство тому – сценическая история пьес. «Галантерейная лавка» Додсли пользовалась исключительным успехом: за первый год после премьеры ее играли тридцать четыре раза [Solomon 1996: 43], а «Щепетильник» Лукина так и не был поставлен [Всеволодский-Гернгросс 1977: 215]. Сопоставление всех этих трех пьес показывает, как на общей сюжетной основе возникает каждый раз новое идейно-композиционное единство. Наряду с динамикой внутри текста – с движением 425 сюжета и развертыванием авторского замысла – оно позволяет увидеть динамику вне текста – литературную традицию, преемственность, соединяющую тексты разных эпох и культур. Так мы можем увидеть в действии механизмы культурной эволюции. ЛИТЕРАТУРА Бахтин 2010 – Бахтин М. М. Собр. соч.: [В 7 т.]. Т. 4(2): «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965). «Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура)» (1940, 1970). Комментарии и приложения. М., 2010. Берков 1950 – Берков П. Н. Владимир Игнатьевич Лукин. 1737– 1794. М.; Л., 1950. Берков 1977 – Берков П. Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977. Всеволодский-Гернгросс 1977 – История русского драматического театра: В 7 т. Т. 1: От истоков до конца XVIII века. Авт. В. Н. Всеволодский-Гернгросс. М., 1977. Западов 1947 – Западов А. В. Лукин // История русской литературы: В 10 т. Т. IV: Литература XVIII века. Ч. 2. М.; Л., 1947. Лукин 1868 – Лукин В. И., Ельчанинов Б. Е. Сочинения и переводы / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1868. САР 1794 – Словарь Академии Российской: [В 6 ч.]. Ч. VI и последняя. От Т. до конца. СПб., 1794. Boas 1914 – Boas F. S. University Drama in the Tudor Age. Oxford, 1914. Costello 1958 – Costello W. T. The Scholastic Curriculum at Early Seventeenth-Century Cambridge. Cambridge (Massachusetts), 1958. Dodsley 1735 – Dodsley R. The Toy-Shop. A Dramatick Satire. London, 1735. Hindley 1884 – Hindley Ch. A History of the Cries of London. 2nd ed. London, 1884. Patu 1756 – [Patu C.‑P.] Choix de petites pieces du théatre anglois, traduites des originaux. T. I. Londres, 1756. Randolph 1875 – Randolph Th. Poetical and Dramatic Works / Ed. by W. Carew Hazlitt. Vol. I. London, 1875. Solomon 1996 – Solomon H. M. The Rise of Robert Dodsley: Creating the New Age of Print. Carbondale (Illinois), 1996.