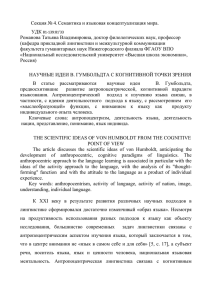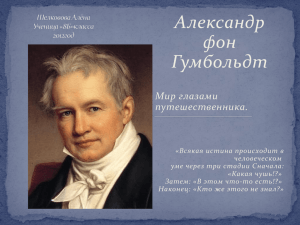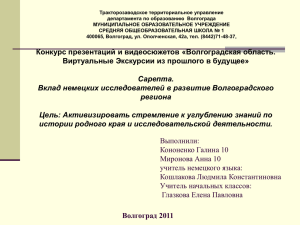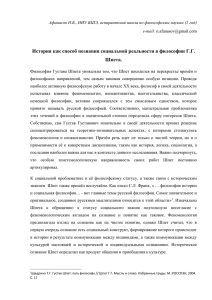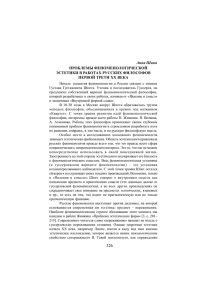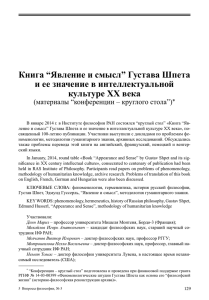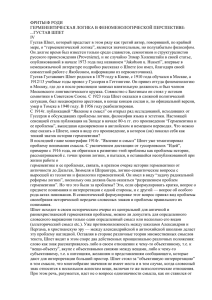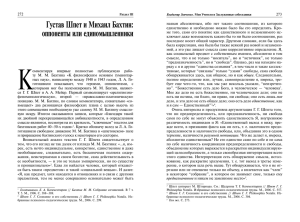I. BEING, LANGUAGE AND TEXT IN INTERDISCIPLINARY DISCOURSE В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
реклама

I. BEING, LANGUAGE AND TEXT IN INTERDISCIPLINARY DISCOURSE К ВОПРОСУ О ФУНКЦИИ СЛОВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ А. Г. Багдасарян Преподаватель, Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, Россия Summary. In this article we observe the functions of a word in a work of art. These functions are examined through the analysis of linguistic works, namely the works in phenomenology and symbolism. In these theories researchers see into a special poetic image expressed by a word, the inner form of a language expressed in the outer one. Keywords: word; functions; linguistics; phenomenology; symbolism; inner form; symbol. Феноменолог Вильгельм фон Гумбольдт определял язык как «возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли» [4, с. 70]. По его мнению, это определение не просто языка, а именно речи, как она произносится в каждом отдельном случае (des jedesmaligen Sprechens), а язык уже представляет собой совокупность таких актов речевой деятельности. Для Гумбольдта язык является работой духа, то есть деятельностью, поскольку существование духа можно представить лишь в деятельности и как деятельность: «Язык есть не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia)» [4, с. 70]. Он также определял язык как «орган, образующий мысль», следовательно, именно с помощью языка осуществляется интеллектуальная деятельность, которая материализуется в речи посредством звука и тем самым становится возможной для чувственного восприятия [4, с. 75]. Рассматривая материю языка (Stoff), Гумбольдт пишет, что она представляет собой звук вообще и «совокупность чувственных впечатлений и непро9 извольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [4, с. 73]. Следовательно, по Гумбольдту, язык, равно как и его элемент слово, является действием по образованию понятий в речи. Описывая восприятие слова, а точнее его звуковой оболочки, Гумбольдт утверждает, что «ухо (в отличие от других органов чувств) через посредство звучащего голоса получает впечатление настоящего действия [выделено нами. – А. Б.], возникающего в глубине живого существа» [4, с. 76], то есть слово воспринимается как действие. Последователь В. фон Гумбольдта А. А. Потебня рассматривал слово как «совокупность внутренней формы и звука», как «средство понимать, апперципировать содержание его мысли» [7, с. 117]. То есть произносимый «членораздельный звук» при восприятии слушающим заставляет вспомнить его собственные звуки, подобные этому, а уже данное воспоминание с помощью внутренней формы вызывает в сознании мысль о самом предмете. То есть если у Гумбольдта слово выступало как действие по формированию понятий в речи, то у Потебни слово, представленное как «членораздельный звук», выступает как действие по пониманию этих понятий. В труде «Мысль и язык» (1862) Потебня, сопоставляя художественное произведение и слово, утверждает, что в обоих случаях присутствуют одинаковые «стихии»: содержание, внутренняя форма и внешняя форма. В слове внешнюю форму составляет членораздельный звук, который объективирует содержание (значение), а внутренняя форма представлена ближайшим этимологическим значением слова, то есть это способ, каким выражается содержание. В художественном произведении содержание (или «идея») соответствует чувственному образу или понятию, развитому из него; внутренняя форма – это образ, указывающий на содержание и соответствующий представлению, а также имеющий значение лишь как символ, как «намек» на содержание; внешняя форма объективирует художественный образ. Определение «внутренней формы» приводит нас к языковому символизму, который, по Потебне, называется поэтичностью слова, а забвение внутренней формы – его прозаичностью. Однако в некоторых случаях утерянная внутренняя форма может развиться из мифов, образованных посредством слова с 10 целью объективного познания мира [7, с. 151–152]. При этом данные «поиски» внутренней формы уже являются предпосылкой для создания творчества. По мнению Потебни, внутренняя форма произнесенного говорящим слова дает направление мысли слушающего, не ограничивая его в понимании слова. В художественном произведении, как и в любом произведении искусства, слово не передает мысль автора, а пробуждает в слушающем его собственную: «слушающий может гораздо лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его произведения. Сущность, сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании», и лишь внутренняя форма является «единственным объективным содержанием слова» [7, с. 163, 165]. Следовательно, слово в художественном произведении, а значит, и в драме выступает как действие, «пробуждающее мысль» у зрителя, отражающее его собственное понимание и впечатление от увиденного и услышанного. Как утверждает феноменолог Г. Г. Шпет, поэтика – это «наука о фасонах словесных деяний мысли» [8, с. 366]. По его мнению, художник слова не творит действительность, а лишь воспроизводит ее. Шпет писал, что слово в его результате является «социально-культурной вещью», а в его процессе – «актом социально-культурного сознания» [9, с. 140]. В работах Шпета внутренняя форма является «формой реализации смыслового содержания» «всякого культурносоциального образования» [9, с. 141]. В труде «Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта» (1927) Шпет сопоставляет поэтический язык с прагматическим и пытается доказать, что они складываются из одних и тех же элементов и противопоставлять их не стоит. Поэтический язык – это «внутренне цельная система», которая проявляется в поэтическом произведении, являющемся продуктом некоторого «целемерного созидания» – словесного творчества. При этом создание словесного творчества обусловлено не прагматической задачей, «а внутренней идеей самого творчества, как sui generis деятельности сознания», что и является основанием для противопоставления поэтического языка другим видам социально-культурного творчества [9, с. 142]. По утвержде11 нию Шпета, с помощью научного анализа вскрыв «целемерные» формы прагматического языка (научный, прозаический, риторический) и раскрыв в нём грамматическую и логическую систематичность, а также «раскрыв однажды его творческую природу и осознав соответствующие интенции», мы приходим к определению прагматического языка как «социо-культурного целемерного созидания и произведения» [9, с. 142]. При этом прагматический язык использует слово прежде всего как средство и лишь затем «побочно сознает его самодовлеющие цели, как культурного феномена», в то время как поэтический язык в первую очередь преследует собственные внутренние цели саморазвития, а после осуществляет прагматические цели [9, с. 143]. Позже идеи о прагматике языка выльются в теорию речевых актов Дж. Остина. Поэтическое искусство, используя поэтический язык как средство выражения, не только служит цели сообщения, но и преследует свои внутренние цели: «сообщение не только понимается, усваивается и ведет к действию, но также производит свое «впечатление», которое может служить и добавочною целью к цели сообщения, добавочною уже потому, что оно подчинено общей цели самого сообщения» [9, с. 145]. По мнению Шпета, поэтический образ, выраженный словом, сообщает и одновременно производит впечатление. То есть можно утверждать, что слово в драме выступает как действие по воздействию на эмоциональную сферу зрителя. Однако автор может и не преследовать такую цель, это продиктовано «внутренними формальными условиями» языка или внутренней формой слова, по Потебне. Таким образом, как отмечает К. Э. Штайн, и Гумбольдт, и Потебня исследовали язык и художественное творчество: «В их работах филологическое знание достигает особой цельности и гармоничности, так как язык во многом определяется как орудие эстетической деятельности, а художественное творчество как творчество языка» [10, с. 50]. Как Шпет, так и Потебня говорят о поэтическом образе, который выражается словом, а также о внутренней форме языка. Более того, у Г. Г. Шпета подходы к исследованию искусства связаны с ономатопоэтической традицией – идеями В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни, – в соответствии с которыми он анализирует «внутренние формы как прояснение сущности слова, значения, предметности в феноменологическом смысле» [10, с. 415, 418]. 12 Всё вышесказанное о языке, весь его потенциал, находит отражение и усиливается в драме через элемент языка – слово. Понятия «образ» и «форма» рассматриваются и символистами. Термин «символизм» впервые был использован Ж. Мореасом в манифесте «Le Symbolisme» (Символизм) (1886), в соответствии с которым символическая поэзия «стремится облечь Идею в чувственно постижимую форму, однако эта форма – не самоцель, она служит выражению Идеи, не выходя из-под её власти»; «символистскому синтезу должен соответствовать особый, первозданно-широкоохватный стиль; отсюда непривычные словообразования, периоды то неуклюже-тяжеловесные, то пленительно-гибкие, многозначительные повторы, таинственные умолчания, неожиданная недоговорённость – всё дерзко и образно, а в результате – прекрасный французский язык – древний и новый одновременно – сочный, богатый и красочный…» [5, с. 54]. Таким образом, язык, а точнее, его представитель слово является той самой формой, необходимой для выражения «Идеи». Как отмечает К. Э. Штайн, слово стимулирует поэтическую энергию благодаря взаимодействию трех компонентов: содержания, внешней и внутренней формы. «Соединение звуковой формы с внутренней образует живой, по существу иррациональный, символизм языка; всякое слово в этом смысле метафора» [11, с. 94]. По В. Гофману, слово как символ – это внутреннее слово в слове внешнем. Слово как символ, по А. Белому, – это «единство содержания и формы во внутренней форме» [2, с. 258]. По утверждению А. Белого, символизм в литературе характеризуется тремя основными принципами: символ отражает действительность; символ – это образ, модифицированный переживанием; форма художественного образа неотделима от содержания. Так как символ является образом, видоизмененным переживанием, символисты отмечают «тройственное начало символа»: он представляет собой триаду «abc», где «a» является неделимым творческим единством, сочетающим в себе «b» – образ природы, который воплощен в звуке, краске, слове, и «c» – переживание, использующее эти звуки, краски и слова для полного выражения данного переживания [3, с. 257]. Следовательно, компонент «b» представляет собой форму, а элемент «c» – содержание, при этом символисты, стремясь к 13 более полному воплощению содержания образа, выдвигают на первое место вопросы формы. То есть форма порождает значение. Творец пытается облечь свои переживания в особую форму, для чего и обращается к звукам, краскам и словам, а тот материал, который получил форму, и является образом. Выбор средств изобразительности зависит от индивидуальности творца, кроме того, и окружающая действительность воспринимается через его духовный мир, то есть искусство символистов изначально субъективно. Следует также отметить, что внешне самые обыкновенные явления, события и предметы бывают максимально насыщены символическим смыслом в произведении искусства. По мнению А. Белого, высшая ступень словотворчества – «стадия аллюзии (намека, символизма)», когда в результате «борьбы» двух элементов образуется новый, который не содержится ни в одном из первоначальных членов сравнения. При этом стадия аллюзии проходит несколько этапов: перенос значения по количеству (синекдоха), перенос значения по качеству (метонимия), замена самих элементов (метафора). «В последнем случае мы получаем символ, т. е. неразложимое единство; средства изобразительности в этом смысле суть средства символизации, т. е. первейшей творческой деятельности, неразложимой познанием» [5, с. 68]. Как отмечает Белый, создание словесной метафоры, то есть символа (хотя Вяч. Иванов выступал против смешения символа с метафорой), является целью словотворчества и приводит к переходу поэтического творчества в мифическое. Таким образом, символизм слова представляет собой средство «идеалистического бегства от действительности в язык, от беспощадного реализма науки и искусства в новоявленное «мифотворчество» [5, с. 70]. По А. Белому, символисты стремились к слову-мифу, поскольку мифотворчество предшествует эстетическому творчеству или следует за ним. Ф. Брюнетьер отмечал, что символ не представляет собой никакой важности, если в нём не заключен скрытый смысл, «если он не передает живописно или пластично нечто само по себе недоступное и заложенное в глубинах мысли» [5, с. 54]. Целью символизма является «загипнотизировать читателя, вызвать в нём известное настроение» [5, с. 55]. По В. Гофману, именно музыка наиболее полно выражает символ, «символ поэтому всегда музыка14 лен... Из символа брызжет музыка. Она минует сознание... Символ пробуждает музыку души... Усилившееся до непомерного музыкальное звучание души – вот магия... В музыке чары. Музыка – окно, из которого льются в нас очаровательные потоки Вечности и брызжет магия» [5, с. 58]. В данном случае речь идет не только о музыке как таковой, но и об особом поэтическом языке, о музыке слова, музыке стиха как способе символического выражения «глубин духа», «внутреннего» опыта, который составляет, по мнению символистов, «сокровенное содержание искусства» [5, с. 58]. По мнению Белого, «самый художественный образ, изваянный в слове, есть мост между миром мертвого материала и красноречиво отразившейся полнотой» [3, с. 258]. Символисты выделяют два вида слова: терминологическое и образное, словопонятие и слово-символ, обыденное и магическое. Именно магическое слово является живым. А. Белый следующим образом характеризует магическую силу слова: «Неспроста магия признает власть слова. Сама живая речь есть непрерывная магия; удачно созданным словом я проникаю глубже в сущность явлений, нежели в процессе аналитического мышления; мышлением я различаю явление; словом я подчиняю явление, покоряю его... И потому-то живая речь есть условие существования самого человечества: оно – квинтэссенция самого человечества; и потому первоначально поэзия, познавание, музыка и речь были единством; и потому живая речь была магией, а люди, живо говорящие, были существами, на которых лежала печать общения с самим божеством. Недаром старинное предание в разнообразных формах намекает на существование магического языка, слова которого покоряют и подчиняют природу...» [1, с. 431–432]. То есть благодаря магическому действию слова можно постичь глубинный смысл явлений, а как следствие – покорить их. Магическое действие слова в символизме напоминает о первоначальных задачах поэзии, а именно: заклинательная магия ритмической речи являлась связующим звеном между божеством и человеком. Таким образом, язык служил средством этой связи, «как система чаровательной символики слова с ее музыкальным и орхестическим сопровождением» [6, с. 130–131]. О магии слова говорил и К. Д. Бальмонт: «символический язык знаменует собою попытку возродить 15 на новой основе магическую, заклинательную роль слова, и в связи с этим звуковая сторона речи и ее образность наделяются самостоятельным содержанием и собственной силой воздействия на мир» [5, с. 63–64]. Следовательно, слово обладает магической способностью воздействия на окружающую действительность и на людей, и здесь на первый план выходит прагматика языка. Итак, слово не только передает сообщение, но и является действием по формированию понятий в речи и по пониманию данных понятий. В произведении искусства, и в частности в художественном тексте, слово пробуждает в слушателе, читателе или зрителе определенную мысль, то есть его собственное восприятие и впечатление от данного произведения искусства. В драме как особом виде искусства слово выступает как действие по воздействию на эмоциональную сферу зрителя. Символическое слово обладает магическим действием, благодаря которому оно приобретает самостоятельное содержание и собственную силу воздействия на окружающую действительность. Библиографический список 1. Белый А. Магия слов // Символизм. – М. : Мусагет, 1910. 2. Белый А. Мысль и язык. (Философия языка А. А. Потебни) // Логос. – М. : «Печатное Дело» Ф. Я. Бурче, 1910. – Кн. 2. 3. Белый А. Символизм как миропонимание / сост., вступит. ст. и прим. Л. А. Сугай. – М. : Республика, 1994. 4. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М. : Прогресс, 2000. 5. Гофман В. Язык символистов // Литературное наследство. Т. 27–28. – М., 1937. 6. Иванов Вяч. Заветы символизма // Борозды и межи. – М. : Мусагеть, 1916. 7. Потебня А. А. Полное собрание трудов: Мысль и язык. – М. : Лабиринт, 1999. 8. Шпет Г. Г. Сочинения. – М. : Правда, 1989. 9. Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. – Изд. 3-е, стереотип. – М. : КомКнига, 2006. 10. Штайн К. Э., Петренко Д. И. Филология: История. Методология. Современные проблемы : учеб. пособие / под ред. д-ра соц. наук проф. В. А. Шаповалова. – Ставрополь : Изд-во Ставропольского гос. ун-та, 2011. 11. Штайн К. Э. Философия слова в метапоэтике символизма // Язык. Текст. Дискурс : межвуз. науч. альманах / под ред. Г. Н. Манаенко. Вып. 3. – Ставрополь : Изд-во ПГЛУ, 2005. 16