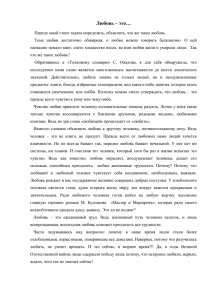ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И хУДОЖЕСТВЕННАЯ
реклама

Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 18 (272). Философия. Социология. Культурология. Вып. 25. С. 69–73. Н. В. Омельченко ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА В статье обосновывается идея, что образы человека в художественной литературе, в которых происходит сущностная фиксация человеческой природы, представляют собой ценный исследовательский материал для философской антропологии. В этой связи подвергается критике концепция Р. Барта о смерти автора и предлагается философско-антропологическая интерпретация художественных образов в романах И. Бэнкса «Осиная фабрика» и П. Зюскинда «Парфюмер». Ключевые слова: философская антропология, художественная литература, природа человека. Вступление Философская антропология изучает сущность и существование человека. При этом всегда будет возникать вопрос: какие образцы человеческого поведения нужно исследовать для получения соответствующих выводов? Данные психологии, физиологии высшей нервной деятельности, биологии, социологии и других конкретных наук? На наш взгляд, таким эмпирическим материалом могут выступать и образы человека в художественной литературе. Здесь уместно привести мнение Б. В. Маркова1: «Однако научный опыт ограничен. Напротив, художественная литература обобщает важный опыт жизни, который не почерпнешь из учебников. Поэтому вместо того, чтобы спорить о том, кто главнее – “физики” или “лирики”, следует искать пути их согласования и сотрудничества. Литература тоже раскрывает важные истины и тем самым вооружает людей знанием о том, как правильно жить. Кроме того, она приобщает к прекрасному, возвышенному, нормализует страсти и желания людей и должна изучаться антропологией [курсив мой. – Н. О.] и этикой, а не только эстетикой, литературоведением и филологией». Философская антропология лучше узнает человека, если обратится к мировой литературе и станет по крупицам собирать знание о человеке, рассеянное в художественных образах. Нередко это знание оказывается гораздо более фундаментальным и значимым, чем индивидуальный жизненный или экзистенциальный опыт. Зачастую в литературных образах выражается типическое и, следовательно, сущностное, философское содержание. Образы человека в художественной литературе представляют собой уникальные антропологические портреты разных эпох и культур. Методология исследования Прежде всего мы хотели бы отклонить идею Ролана Барта о смерти автора. В 1968 году он утверждал, что удаление автора – это не просто исторический факт или эффект письма; ныне текст создается и читается таким образом, что автор на всех его уровнях устраняется. Место автора занимает скриптор, который «рождается одновременно с текстом»; у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом; остается только одно время – время речевого акта, и всякий текст вечно пишется здесь и сейчас. Скриптор, пришедший на смену Автору, несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки. Коль скоро Автор устранен, то совершенно напрасным становятся и всякие притязания на «расшифровку» текста. Присвоить тексту Автора – это значит как бы застопорить текст, наделить его окончательным значением, замкнуть письмо2. Согласно Барту, текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников3. В многомерном письме все приходится распутывать, но расшифровывать нечего; 70 письмо постоянно порождает смысл, но он тут же и улетучивается, происходит систематическое высвобождение смысла. Тем самым литература (отныне правильнее было бы говорить письмо), отказываясь признавать за текстом (и за всем миром как текстом) какуюлибо «тайну», т. е. окончательный смысл, открывает свободу контртеологической, революционной по сути своей деятельности, так как не останавливать течение смысла – значит в конечном счете отвергнуть самого бога и все его ипостаси – рациональный порядок, науку, закон4. Таким образом, у Барта смерть конкретного автора дополняется смертью Бога; философ демонстрирует радикальный нигилизм. По его убеждению, текст слагается из разных видов письма, происходящих из различных культур, вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, спора; однако вся эта множественность фокусируется в определенной точке, которой является не автор, как утверждали до сих пор, а читатель. Читатель – это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо; текст обретает единство не в происхождении своем, а в предназначении, только предназначение это не личный адрес; читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии, он всего лишь некто, сводящий воедино все те штрихи, что образуют письменный текст5. Таким образом, «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора»6. Следуя логике Р. Барта, можно добавить, что смерть автора и Бога как источников смысла означает установление безграничного произвола читателя-комментатора, который сразу же становится и автором, и Богом. Фактически начинает доминировать каприз Читателя как нового абсолютного Автора. При этом следует иметь в виду, что читатель – такой же безликий индивид, как исчезнувший Автор и умерший Бог; что читатель – очередной кандидат в скрипторы, потенциальный скриптор. В отсутствие настоящего Автора и Бога нет и настоящего читателя, мир заполняется механическими скрипторами. Кроме того, диагноз Ролана Барта о смерти автора не достигает нужной цели, поскольку помимо автора-человека любой текст (в том числе и мир как текст) творится еще и объективной сущностью бытия, т. е. на религиозном языке, Богом. Иначе говоря, помимо Н. В. Омельченко субъективного духа автора в тексте проявляется объективная сущность мироздания. Бесконечный Бог-бытие не может умереть, т. е. однажды прекратить свое существование, несмотря на все решительные декларации Ницше или Барта. С этой точки зрения лишь для плохой критики «все творчество Бодлера – в его житейской несостоятельности, все творчество Ван Гога – в его душевной болезни, все творчество Чайковского – в его пороке; объяснение произведения всякий раз ищут в создавшем его человеке, как будто в конечном счете сквозь более или менее прозрачную аллегоричность вымысла нам всякий раз “исповедуется” голос одного и того же лица – автора»7. Во-первых, такая критика напоминает стиль медицинского материализма, о котором рассказывал В. Джемс в «Многообразии религиозного опыта» (1902). Согласно этому материализму, порок и добродетель такие же продукты, как купорос и сахар. К примеру, меланхолическая окраска философии Уильяма зависит от плохого пищеварения. Та отрада, какую находит Элиза в посещении церкви, объясняется ее истеричностью. И Петра меньше мучили бы вопросы о его душе, если бы он побольше упражнялся на чистом воздухе, и т. д. Американский философ отмечал, что сообразно с общим постулатом современной ему психологии нет ни одного состояния сознания – ни нормального, ни патологического, начиная с самых низменных и кончая самыми возвышенными, – которое не было бы обусловлено каким-нибудь органическим процессом. Однако разве этим разрешается вопрос о ценности известных духовных проявлений личности? – риторически вопрошал Джемс8. Во-вторых, упрощенная критика не желает замечать, что в любом произведении находит свое выражение не только субъективный дух автора, но и объективный дух мироздания. Иначе говоря, в наших словах, поступках и действиях светится объективная сущность бытия. Это, в частности, означает, что в тексте высказывает себя не только душа поэта, но также сказывается (объективно, помимо всякого воления и сознания писателя) бесконечная сущность бесконечного Космоса. В этих своих рассуждениях мы исходим из следующей логики Платона и Гегеля. В диалоге «Ион» так описывается творческий процесс. «Все хорошие эпические поэты Философская антропология и художественная литература слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости»9. Поэт (существо легкое, крылатое и священное) может творить лишь тогда, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем более рассудка. Поэты творят и говорят много прекрасного о различных вещах не с помощью искусства, а по божественному определению. И каждый может хорошо творить только то, на что его подвигнула Муза. Бог отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, божественными вещателями и пророками, чтобы мы, слушая их, знали, что не они, лишенные рассудка, говорят столь драгоценные слова, а говорит сам бог и через них подает нам свой голос. Поэты – «не что иное, как толкователи воли богов, одержимые каждый тем богом, который им владеет»10. С этой точки зрения основная задача поэта (творца, автора) заключается в том, чтобы настроиться на ту «волну», на которой говорит Бог, услышать его голос, слова, а затем аккуратно записать, запротоколировать этот божественный текст. Именно потому поэзия Гомера считается божественной, что рукой поэта водил Бог и его устами говорил сам Бог. Следовательно, Гомер передавал не только волнения своей души (не только свои переживания, свой экзистенциальный опыт, как мы сказали бы сегодня), но и «волю богов» как их толкователь. Таким образом, в «Одиссее» отражается не только душа Гомера, но и объективная сущность бытия. Правда, иной автор намеренно не станет слушать вибрации бытия или голос Бога, превознося до небес одну свою наилучшую субъективность. Но и в этом случае в его текстах будут светиться частички реального мира. Пока живы, мы обречены на презентацию (порой совершенно нелепую) нашего бытия в мире. Самая жизнь человека означает его объективную причастность бесконечной сущности бесконечного бытия (на другом языке: Богу). Если хорошая критика будет учитывать это обстоятельство, ей удастся лучше понять Бодлера, Ван Гога и Чайковского. В этой связи напомним, что и Ф. Бэкон11 искренне полагал: «…весьма многим мифам, созданным древнейшими поэтами, уже изначально присущ некий тайный и аллегорический смысл». Гегель, как известно, шел по стопам Вико и Гердера, формулируя «хитрость разума». 71 Божественный разум не только могуществен, но и хитер; его хитрость состоит в том, что своих целей он достигает чужими руками. Живые индивидуумы и народы, по мнению Гегеля, ища и добиваясь своего, в то же время оказываются средствами и орудиями чего-то более высокого и далекого, о чем они ничего не знают и что они бессознательно исполняют. Историческая деятельность человечества слагается из действий людей, вызванных реальными интересами отдельной личности. Каждый индивид преследует свои собственные цели, а в результате из его действий возникает нечто иное. Так, человек, который из мести поджег дом своего соседа, вызвал пожар, уничтоживший целый город. Результат, порожденный действием преступника, вышел далеко за пределы его намерений. Нечто подобное происходит и во всемирной истории12. В свою очередь мы будем говорить о «хитрости духа», полагая, что объективный дух как сущность природы имеет рациональноиррациональный характер. И этот дух также проявляет себя во всех творениях человека (иногда минуя его субъективную волю и сознание). Следовательно, об окончательной смерти автора, как и о смерти Бога (т. е. сущности бесконечного Космоса) говорить не приходится. Поэтому читателю не суждено стать абсолютным Автором и занять место действительного Абсолюта, ему придется вслушиваться в голос бытия, записанный в тексте. Всякий текст все же имеет своего автора. Радикальный нигилизм Ролана Барта не убедителен. Напомним также утверждение М. Хайдеггера о том, что язык есть «дом бытия». Это, в частности, означает, что в языке, в художественном произведении выражает себя, отпечатывается бытие, его сущность. Разумеется, такая объективная логика ничуть не умаляет собственных творческих усилий субъекта; она лишь указывает на то, что в наших творениях (помимо персональных намерений и мастерства) объективно присутствует истина бытия, нечто такое, что независимо от нашей воли проникает в наши сочинения, сказывается в них помимо индивидуального сознания и воления. Кроме того, в художественных текстах происходит объективация человеческого поведения до уровня некоего эйдоса, образца, некой идеи или сущности. Это позволяет вни- 72 мательно и детально изучать поведение индивидов, примерно так, как энтомолог мог бы рассматривать отпечаток насекомого в янтаре. Более того, можно предположить, что само художественное произведение становится классическим, если его образы достигают уровня эйдоса, сущностной фиксации действительности. Субстанция любви Далее мы представим философско-антропологическую интерпретацию художественных образов в романах И. Бэнкса «Осиная фабрика»13 и П. Зюскинда «Парфюмер»14. Эти работы свидетельствуют об одном глобальном факторе, который уничтожает человека, превращает его в больное существо. Позиция автора «Осиной фабрики» выражается фразой ее героя, который признается наедине с собой: «Здесь можно говорить максимально честно и несчастно». Кстати, оба автора – и «Осиной фабрики», и «Парфюмера» – говорят максимально честно и несчастно. Их голос – голос современного мира. Не будет преувеличением сказать, что оба произведения уже стали классикой. Думается, это произошло потому, что во всем мире не хватает того живого свойства, которое зовется любовью. Человек нуждается в любви. А два романа рассказали максимально честно и несчастно об отсутствии этой самой любви. В таком случае напрашивается первый вывод: родители ответственны за своих детей не потому, что они дают им, к примеру, богатство, а просто за свою любовь к ним. Парень из «Осиной фабрики» безмерно презирает свою мать, она рисуется какой-то и где-то порхающей бабочкой; ребенок ненавидит ее адекватно, поскольку она совершенно к нему безразлична. Все его поведение детерминировано этой нелюбовью. Отец же ребенка видит в нем только одно – объект для своих экспериментов. Но ведь это абсурд. Допустим, что весь мир живет по аналогичному рецепту: дети суть лишь объекты наших экспериментов, к примеру, для проверки образовательных технологий. Мы смотрим на живых людей как на предмет экспериментирования. А теперь спросим: как будет относиться ко мне тот объект, на котором я ставлю опыты? Бэнкс показал: когда мы экспериментируем на людях, мы получаем «осиную фабрику». В «Парфюмере» запах человека есть не только некая сущность человека, но и субстан- Н. В. Омельченко ция любви. Представьте, каждый человек имеет что-то в себе, за что его любят и благодаря чему он может любить, а Парфюмер один во всем мире не имел этого качества. Но он пытался любить других, он чувствовал нечто святое, чистое (не от всех людей, все люди «воняют»), идущее от девушек, – именно от них шло что-то уникально свежее, и вот именно это он хотел субстантивировать, увековечить. Какое же это несчастье: человек живетживет, а не может полюбить; человек живетживет, но его не могут полюбить – он в себе не имеет того «запаха», т. е. той сущности, за которую можно полюбить и которая позволяет любить. Это ни с чем не сравнимая беда. Если же мы не хотим согласиться с данным тезисом, – художник нам доказывает, что это действительно беда. Парфюмер в последней сцене выливает на себя флаконы запахов, которые вызывают любовь, т. е. он как бы приклеивает к себе сущность любви, и его сжирают от любви. Здесь любовь понимается как обладание, однако, по Фромму, это ложное понимание любви. Но вот это ложное понимание и приводит к поеданию. Оказывается, любить-то нельзя, одновременно поедая предмет своей любви. Возникает вопрос: а как можно? как можно любить кого-то, чтобы его в то же время не поедать? А Парфюмер поедал. В том смысле, что он убивал девушек и присваивал их запах-сущность. Тем самым он, видимо, полагал, что любит. Кстати говоря, он и не мог «любить» иначе. В этом его несчастье. Он не может любить, и его не могут любить. Парфюмер страдал оттого, что он не рожден с тем, за что его можно было полюбить. Оказывается, для нормального существования человеку требуется субстанция любви, т. е. такие свойства человека, которые позволяют ему любить и которые позволяют его любить. Почему же эта книга столь популярна у нас и на Западе? На мой взгляд, потому, что мало кто может любить, но все хотят знать, чтó значит любить и как следует любить и быть любимым. Очевидно, подавляющее большинство людей в мире не знают, что это такое. Оказывается, мы можем лишь обладать другим, потреблять, пожирать другого и тут же заявлять, что мы его любим. Нищие, сожравшие Парфюмера, признались: «Мы хотя бы одно что-то сделали в этом мире от любви». Философская антропология и художественная литература Так что же нужно сделать, чтобы упразднить личность? Она упраздняется отсутствием любви. Без любви исчезает личность. Оба названных романа можно объединить этой темой. В них несчастье человеческих существ обусловлено отсутствием субстанции любви, там нет уважения к человеку. Оба романа по-своему свидетельствуют: любовь делает человека человеком. Гуманизм есть энтелехия человеческой природы. Две печальных повести по-своему подтверждают этот мой постулат. Если не станем относиться с уважением к человеку, если у нас не будет обыкновенного чувства любви, то мы непременно будем получать уродов по имени Гренуй и пр. Однако любовь – это не обладание, не потребление, не пожирание, а нечто другое. Что значит любить, допустим, геометрию, чтобы лучше ее усвоить? Что значит любить философию, чтобы лучше ее понимать? Что значит любить детей, людей? Теперь мы знаем, что любить человека можно по-разному. Можно его так полюбить, что незаметно для себя его и съешь. Тогда антропофагия приравнивается к любви. Не случайно Эрих Фромм говорит об искусстве любви, когда в отношениях между людьми сохраняется свобода, автономная индивидуальность и в то же время единство между ними. И если сегодня такое искусство отсутствует или составляет величайшую редкость, то мы неизбежно получаем негативные результаты, и не только в художественном изображении. Очевидно, любовь не может и не должна приводить к упразднению другого человека. От любви и из любви не убивают и не предают. Благодаря любви утверждается жизнь, любовь продолжает жизнь и позволяет быть всем людям. Жизненная сила человека – в любви, а не в ненависти. С этой точки зрения Отелло не любит Дездемону, поскольку ее губит. А сожравшие Гренуя якобы от любви просто не ведали, что творили. И если подобная практика имеет широкое распространение, то можно сказать, что весь мир не умеет любить. Мы не знаем метафизики уважения к человеку. Заключение В заключение еще раз подчеркнем: образы человека в художественной литературе представляют исключительно ценный материал для философско-антропологической рефлексии. 73 На наш взгляд, у каждого текста два автора: конкретный индивид и бесконечная сущность бытия, т. е. Абсолют. Одна из задач философской антропологии – проявить голос и слова (если угодно, и волю) Абсолюта, которые писатель сознательно или бессознательно запечатлел в своем творении, которые объективно отпечатались в тексте. Используя религиозный язык, можно сказать, что каждая частичка бытия причастна божественному началу. Эта идея в терминах светской философии будет выражена несколько иначе: в каждой вещи светится сущность бытия. Другими словами, истина бытия открывает себя в самых различных фрагментах мироздания. Истина о человеке также может быть представлена в различных формах сущего, в том числе в художественной литературе. Примечания Марков, Б. В. Язык и человек // Рефлексии : журн. по филос. антропологии. 2011. № 1 (3). С. 37–57. 2 Барт, Р. Смерть автора // Барт, Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М. : Прогресс, 1989. С. 389. 3 Там же. С. 388. 4 Там же. С. 389–390. 5 Там же. С. 390. 6 Там же. С. 391. 7 Там же. С. 385. 8 Джемс, В. Многообразие религиозного опыта. М. : Андреев и сыновья, 1993. С. 24–28. 9 Платон. Ион // Платон. Собр. соч. : в 4 т. Т. 1 : пер. с древнегр. / общ ред. А. Ф. Лосева и др. ; авт. вступит. ст. А. Ф. Лосев; прим. А. А. Тахо-Годи. М. : Мысль, 1990. С. 376. 10 Там же. С. 377. 11 Бэкон, Ф. О мудрости древних // Бэкон, Ф. Сочинения : в 2 т. 2-е изд., испр. и доп. Т. 2 / сост., общ. ред. и вступит. ст. А. Л. Субботина. М. : Мысль, 1978. С. 237. 12 Гулыга, А. В. Гегель. Вехи творческого пути // Гегель. Работы разных лет : в 2 т. Т. 1 / сост., общ. ред. и вступит. ст. А. В. Гулыги. М. : Мысль, 1972. С. 36. 13 Бэнкс, И. Осиная фабрика : Роман / пер. с англ. А. Гузмана. СПб. : Азбука-классика, 2004. 256 с. 14 Зюскинд, П. Парфюмер : История одного убийцы. СПб. : Азбука-классика, 2006. 304 с. 1