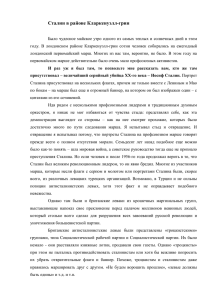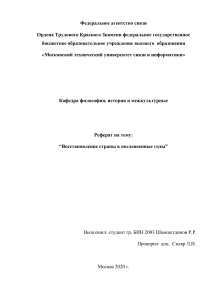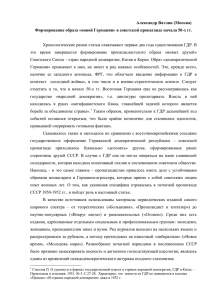Петер Руггенталер. Большой блеф Сталина. История
реклама
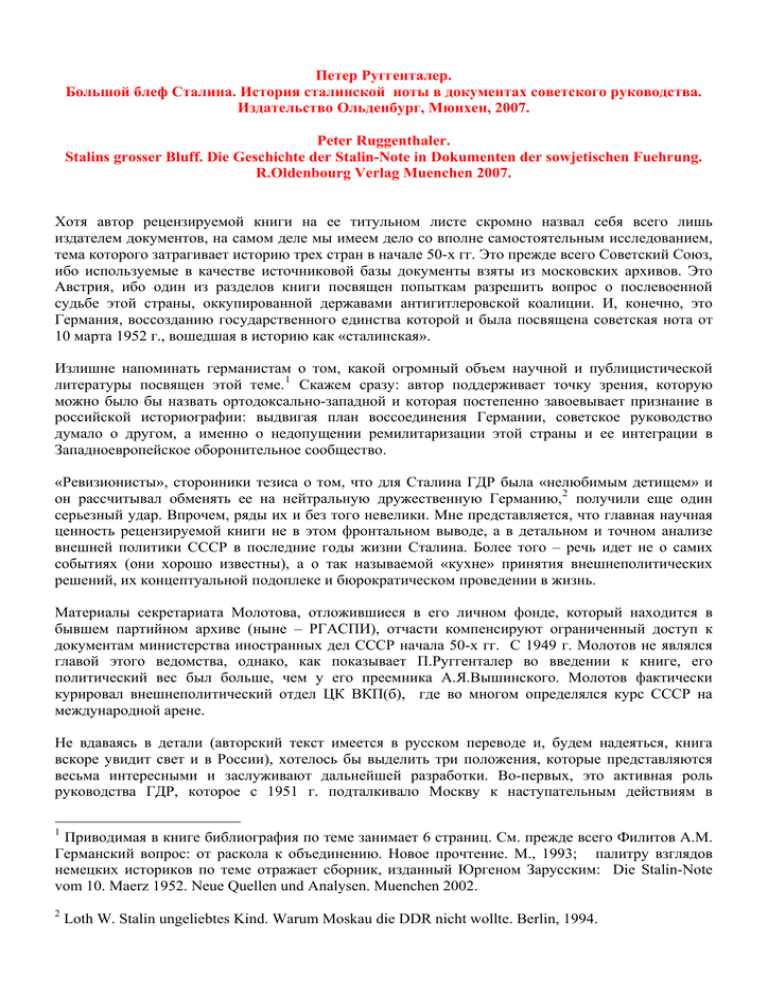
Петер Руггенталер. Большой блеф Сталина. История сталинской ноты в документах советского руководства. Издательство Ольденбург, Мюнхен, 2007. Peter Ruggenthaler. Stalins grosser Bluff. Die Geschichte der Stalin-Note in Dokumenten der sowjetischen Fuehrung. R.Oldenbourg Verlag Muenchen 2007. Хотя автор рецензируемой книги на ее титульном листе скромно назвал себя всего лишь издателем документов, на самом деле мы имеем дело со вполне самостоятельным исследованием, тема которого затрагивает историю трех стран в начале 50-х гг. Это прежде всего Советский Союз, ибо используемые в качестве источниковой базы документы взяты из московских архивов. Это Австрия, ибо один из разделов книги посвящен попыткам разрешить вопрос о послевоенной судьбе этой страны, оккупированной державами антигитлеровской коалиции. И, конечно, это Германия, воссозданию государственного единства которой и была посвящена советская нота от 10 марта 1952 г., вошедшая в историю как «сталинская». Излишне напоминать германистам о том, какой огромный объем научной и публицистической литературы посвящен этой теме. 1 Скажем сразу: автор поддерживает точку зрения, которую можно было бы назвать ортодоксально-западной и которая постепенно завоевывает признание в российской историографии: выдвигая план воссоединения Германии, советское руководство думало о другом, а именно о недопущении ремилитаризации этой страны и ее интеграции в Западноевропейское оборонительное сообщество. «Ревизионисты», сторонники тезиса о том, что для Сталина ГДР была «нелюбимым детищем» и он рассчитывал обменять ее на нейтральную дружественную Германию, 2 получили еще один серьезный удар. Впрочем, ряды их и без того невелики. Мне представляется, что главная научная ценность рецензируемой книги не в этом фронтальном выводе, а в детальном и точном анализе внешней политики СССР в последние годы жизни Сталина. Более того – речь идет не о самих событиях (они хорошо известны), а о так называемой «кухне» принятия внешнеполитических решений, их концептуальной подоплеке и бюрократическом проведении в жизнь. Материалы секретариата Молотова, отложившиеся в его личном фонде, который находится в бывшем партийном архиве (ныне – РГАСПИ), отчасти компенсируют ограниченный доступ к документам министерства иностранных дел СССР начала 50-х гг. С 1949 г. Молотов не являлся главой этого ведомства, однако, как показывает П.Руггенталер во введении к книге, его политический вес был больше, чем у его преемника А.Я.Вышинского. Молотов фактически курировал внешнеполитический отдел ЦК ВКП(б), где во многом определялся курс СССР на международной арене. Не вдаваясь в детали (авторский текст имеется в русском переводе и, будем надеяться, книга вскоре увидит свет и в России), хотелось бы выделить три положения, которые представляются весьма интересными и заслуживают дальнейшей разработки. Во-первых, это активная роль руководства ГДР, которое с 1951 г. подталкивало Москву к наступательным действиям в 1 Приводимая в книге библиография по теме занимает 6 страниц. См. прежде всего Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение. М., 1993; палитру взглядов немецких историков по теме отражает сборник, изданный Юргеном Зарусским: Die Stalin-Note vom 10. Maerz 1952. Neue Quellen und Analysen. Muenchen 2002. 2 Loth W. Stalin ungeliebtes Kind. Warum Moskau die DDR nicht wollte. Berlin, 1994. 2 германском вопросе. «Союзники не могли проводить свою германскую политику без участия самих немцев» (Манфред Вильке). Этот очевидный факт получает в книге солидное документальное подтверждение и ставит крест на рассуждениях тех историков и публицистов, кто продолжает видеть в лидерах СЕПГ «бессловесных марионеток Кремля». Руггенталер начинает предысторию сталинской ноты с 1951 г., когда в Москву из разных стали поступать сообщения о том, что американцы начинают планомерную ремититаризацию Западной Германии. В поисках противодействия эксперты в МИДе и ЦК ВКП(б) обратили внимание на движение против ремилитаризации, игравшее заметную роль в общественной жизни ФРГ. Руководство ГДР считало, что это движение может оказаться союзником социалистического лагеря. Вальтер Ульбрихт, с которым поддерживали тесный контакт руководители Советской контрольной комиссии, предлагал в беседах с ними, чтобы Советский Союз выступил в поддержку нейтрализации Германии (с.24). В феврале 1951 руководители ГДР конкретизировали свои предложения, с их точки зрения представлялось целесообразным обратиться к Бундестагу, чтобы вместе с ним потребовать от держав-победительниц скорейшего заключения мирного договора с Германией (с.67). Через несколько месяцев Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт и Отто Гротеволь в своей беседе с маршалом В.И.Чуйковым и политсоветником В.И. Семеневым 30 июля 1951 г. предложили новый план внешнеполитического наступления в германском вопросе. Через месяц вопрос обсуждался в Политбюро ЦК ВКП(б), механизм подготовки пропагандистского наступления был запущен. Уже 30 сентября Вышинский отправил Молотову проект мирного договора (С.37). В книге детально разбирается согласование внешнеполитических акций руководства ВКП(б) и СЕПГ накануне появления «ноты Сталина». Второй момент книги, на который стоит обратить внимание специалистам – та роль, которую придавали в советском руководстве западногерманскому движению против ремилитаризации страны. От разведки и по дипломатическим каналам Молотов получал информацию о том, что акции этого движения серьезно беспокоят западные державы. Документы свидетельствуют о том, что пацифисты ФРГ отнюдь не были «пятой колонной» Москвы, более того, западногерманских коммунистов постоянно ругали за неспособность возглавить это общественное движение. Отталкиваясь от опыта прошедшей войны и отстаивая гуманные ценности, противники ремилитаризации объективно противодействовали военно-политической интеграции Запада. И плохи были бы внешнеполитические эксперты Сталина, если бы они не предложили использовать предоставившийся рычаг давления на глобального противника. Наконец, один из трех разделов книги посвящен австрийскому вопросу. Спустя три дня после появления «ноты Сталина» западные державы неожиданно предложили Советскому Союзу план его решения, подразумевавший нейтрализацию страны. Предложение осталось без ответа – Вышинский посоветовал Сталину не реагировать на него, ибо это отвлекло бы внимание международной общественности от германской проблематики. Однако через пару лет об этой идее вновь вспомнили и в 1955 г. с Австрией был подписан Государственный договор. Таким образом, планы мирного урегулирования, включавшие в себя обязательства нейтралитета страны, которые не были реализованы применительно к Германии, «сработали» в отношении ее юго-восточной соседки. Итогом «войны нот», продолжавшейся до осени 1952 г., стало резкое увеличение трещины, разделявшей два германских государства. Отныне – и в Кремле это справедливо записали на собственный счет – можно было говорить о том, что ГДР твердо встала на путь построения социализма по советской модели. В свою очередь Аденауэр утвердился во мнении, что решение германского вопроса находится вне его компетенции и западногерманскому правительству следует целиком положиться на США как признанного лидера свободного мира (с.169). 3 При всей тщательности проработки отдельных сюжетов книга дает только советский взгляд на пред- и пост-историю мартовской ноты. Реакция Запада представлена в комментариях Петера Руггенталера достаточно фрагментарно. Пожалуй, можно поставить в упрек автору и то, что он концентрирует свое внимание на внутригерманском аспекте событий, отводя на второй план, например, тот пропагандистский эффект, на который рассчитывала нота Сталина. Так или иначе, комплексный анализ новой ситуации в германском вопросе, возникшей в марте 1952 г., выходит за рамки авторского замысла. Однако кто бы за него не взялся, ему не пройти мимо сборника документов, подготовленного молодым историком из австрийского Института исследования последствий войны (г. Грац). А.Ю.Ватлин