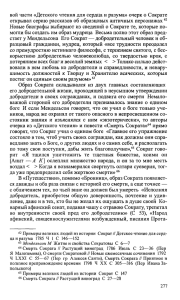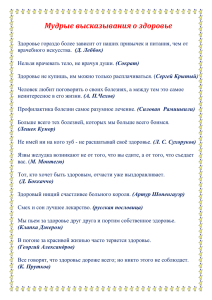ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ
реклама

ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ УДК 1 (091) К. П. Шевцов* ГРАНИЦЫ ПРИПОМИНАНИЯ. ПАМЯТЬ В ПОЗДНИХ ДИАЛОГАХ ПЛАТОНА В статье показано, как изменяется понимание памяти в поздних диалогах Платона. Концепция анамнесиса связывает память с определенной практикой души и мыслится по образцу речи в диалоге или вдохновенной ораторской речи. Если в «Федре» такая память противопоставлена записи на память, то в «Теэтете» сама память мыслится именно как запись оттисков внешних чувств на восковой дощечке памяти. При этом припоминание больше не рассматривается как путь познания, а лишь как сохранение узнанного, сопряженное с возможностью ошибки. Причиной новой трактовки памяти, как показано в статье, становится то, что прежний интерес к познанию идей самих по себе сменяется задачей познания связи идей. Место памяти оказывается теперь не на вершине познания, а наоборот, на самом нижнем уровне — на границе тождественного и иного, в связи с которой Платон рассуждает об особой мере иного, выделяя и соответствующий этому уровню вид удовольствия — удовольствие памяти («Филеб»). Ключевые слова: припоминание, знание, письмо, знак, оттиск, забвение, мнение, связь идей. K. P. Shevtcov The boundaries of the anamnesis. Location memory in later dialogues of Plato The article shows the change in understanding of memory in the late dialogues of Plato. The concept of anamnesis connects the memory with specific practice of the soul and the memory conceived on the model of speech in dialogue or inspirational oratory. «Phaedrus» opposes such memory artificial memory of writing, but in the «Theaetetus» memory itself is conceived as a record impressions of the senses on a wax tablet of memory. So memory is no longer seen as a way of knowing, but only as the preservation of images. The reason for a new interpretation of memory, as shown in the article, it is that the former interest in knowing the ideas themselves replaced by the task of knowledge of connection of ideas. Memory location is no longer on top of knowledge, but rather on the lowest level — on the border of the identity and other, in connection with which Plato talks about a particular way, and highlighting the appropriate level of this kind of pleasure — the pleasure of memory («Philebus»). Keywords: recall, knowledge, oblivion, writing, sign, stamp, opinion, connection of ideas. * Шевцов Константин Павлович — кандидат философских наук, старший преподаватель Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, shvkst@gmail.com. Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2015. Том 16. Выпуск 1 11 Платоновская концепция анамнесиса предполагает возможность определенной практики души, ее заботы о себе, собирании в неделимое единство из рассеянности чувственного мира, его влечений и удовольствий. В этой внутренней собранности душа обретает речь, и с этим связано противопоставление припоминания, которое осуществляется именно в диалоге («Менон») или вдохновенной ораторской речи («Федр»), и памяти, ориентированной на письменные знаки, критику которой дает в знаменитом платоновском мифе из «Федра» египетский царь Тамус (275ab). По его словам, письмо вселяет в душу праздность и невнимание, ἀμελετησία, отвлекая от заботы о душе, ἐπιμέλεια. Письмо не забывает, но и не служит памяти, представляя собой не восходящий к знанию анамнесис, а нисходящий гипомнесис, простое напоминание, которое держится не мудростью, а ее отражением, не речью, а отголоском. Жак Деррида указывает, что письмо противопоставлено памяти как мнимость истине, поскольку движение aletheia от начала и до конца является развертыванием mneme… Силы Леты расширяют одновременно регионы смерти, не-истины, не-знания. Вот почему письмо — по крайней мере, поскольку оно делает «души забывчивыми» — поворачивает нас в сторону неодушевленного, в сторону не-знания [1, с. 130]. Письмо является фармаконом, снадобьем, которое и помогает, и отравляет, восполняет недостаток памяти и одновременно лишает душу чистоты присутствия в себе, изымает из ее знания истину. Такими внешними знаками и эмблемами знания, цитатами, генеалогиями, мнемотехниками, одним словом, не памятью, а «мемуарами» [1, с. 132], привыкли заниматься софисты, но подлинная речь памяти не должна полагаться на подпорки письма, более того, как полагает Деррида, мечтой Платона является вообще «память без знака» [1, с. 136], непосредственное присутствие души при истине. Разделение анамнесиса и гипомнесиса дает повод для такой интерпретации, но Платон не исключает полностью использование письма, оставляя место записи для себя, т. е., собственно, — на память (276d), ведь в этом случае записанное представляется не внешним знанием, а внутренним совершением и накоплением души. Как пишет Мишель Фуко, современные интерпретаторы видят в критике hupomnēmata в «Федре» критику письма как материального основания памяти. Но по сути hupomnēmata имеет совершенно конкретное значение: это тетрадь, записная книжка. Как раз во времена Платона данный тип записной книжки начинает широко применяться для личных и административных нужд. Эта новая технология была столь же революционной, как сегодня — проникновение компьютеров в частную жизнь [3, с. 151]. Более того, Платон не только не исключает из памяти знаки, но, напротив, в «Теэтете», а затем и в «Филебе» толкует саму память как способ записи внешних впечатлений. Здесь, впрочем, есть важный нюанс, который, возможно, объясняет платоновскую критику письма. В «Федре» речь идет о доверии к внешним знакам, ἀλλοτρίων τύπων, и хотя слово τύπος означает в этом месте просто знак, отпечаток, необходимо помнить, что в списке его значений есть и такие, как форма, образец, тип. В платоновской критике письма эти значе12 ния позволяют подчеркнуть тот факт, что отпечаток делается не в расчете на собственное знание и, скажем так, качество самой души, но привносится внешним образом, по чужому образцу. В «Теэтете» отпечаток на восковой дощечке памяти будет назван ἐκμαγεῖον, что переводится как оттиск и означает не только оставленный печатью знак, но и то, как этот знак изменяет форму материала, выявляя его качество, т. е. чистоту, глубину, пластичность. Очевидно, как и всякое лекарство, письмо вредит одним, но приходится впору другим, и поэтому главный недостаток письма состоит в том, что оно само не знает, с кем ему должно говорить, а с кем молчать, кто способен воспринимать только внешние знаки, а кто готов взращивать в себе способность к познанию (275е — 276b). Во вступлении к «Теэтету» мы узнаём, что диалог представляет собой не только воспоминание о давней беседе Сократа, Теэтета и Феодора, но и своеобразную ее реконструкцию, закрепленную с помощью записи «на память». Эвклид, повстречавшись с Терпсионом, рассказывает, что ходил в гавань встречать корабль, на котором доставили раненого Теэтета, а затем вспоминает о беседе Теэтета с Сократом, записанной им некогда со слов философа. Поскольку память подводит Эвклида и ему не удается сразу же запомнить и записать рассказ Сократа, он вынужден уточнять у последнего детали беседы и дополнять свою запись (142а — 143с). В этой игре памяти и записи, которая пытается удержать знание, представленное в образе Сократа, намечается новый путь интерпретации памяти, заметно разнящийся с известной по «Федону» и «Федру» концепцией анамнесиса, а вместе с тем и с пониманием коллизии письма и памяти у Деррида. Концепция анамнесиса позволяла разрешить парадокс перехода от незнания к знанию, при этом решение состояло в том, что в действительности нет совершенного незнания, есть лишь обманчивое незнание забытья, готовое пробудиться к припоминанию или же скатиться к еще большему невежеству и забвению. Парадоксальным образом сама память, которая гарантировала возможность знания, оборачивалась также и препятствием для него, поскольку именно в памяти и совершалось изначальное отступление от прямого усмотрения истины. Возможно, по этой самой причине в «Теэтете» память исключается из рассуждения о знании, зато теперь она оказывается условием уже не мнимого, а вполне реального незнания, в той мере, в какой реальным может быть сама мнимость и небытие чего бы то ни было. Это поясняется сравнением памяти с восковой дощечкой. Поводом для него становится гипотеза, что знание есть правильное мнение. Сократ показывает, что в этом случае мы попадаем в тупик, не имея возможности определить, что есть ложное мнение, ведь оно было бы равносильно ложному знанию, т. е. совершенной бессмыслице. Ошибаться — значит мыслить от имени знания и при этом не знать того, о чем мыслишь, и не знать даже того, что чего-то не знаешь, — все это противоречит самой идее знания. Впрочем, из «Менона» мы знаем, что кроме знания и незнания возможны различные промежуточные позиции: например, признанию своего незнания может вполне предшествовать ложная убежденность в собственном знании. Одно может выдавать себя за другое, и это происходит не тогда, когда каждое из этих двух точно определено или же, наоборот, когда и то, и другое 13 неизвестны; так бывает, когда одному или другому не хватает полной определенности, когда, скажем, вещь пропала из поля зрения и приходится обращаться не к ней самой, а к помощи памяти. Приступая к рассмотрению памяти, Сократ мельком касается меноновской проблемы познания, однако мы сразу же замечаем, что вместо прежнего припоминания сущностей и причин память занята теперь исключительно регистрацией чувственных впечатлений: Смотри же, дело ли говорю. Может ли тот, кто прежде чего-то не знал, научиться этому впоследствии? Теэтет. Конечно, может. Сократ. А затем и другому, и третьему? Теэтет. Почему бы и нет? Сократ. Так вот, чтобы понять меня, вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка (ἐκμαγεῖον); у кого-то побольше, у кого-то поменьше, у одного — из более чистого воска, у другого — из более грязного или из более жесткого, а у некоторых он помягче, но есть у кого и в меру. Теэтет. Вообразил. Сократ. Скажем теперь, что это дар матери муз, Мнемосины, и, подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск (ἀποτυποῦσθαι) того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими нами придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки перстней (ἐνσημαινομένους). И то, что застывает в этом воске (ἐκμαγῇ), мы помним и знаем, пока сохраняется изображение этого, когда же оно стирается или нет уже места для новых отпечатков (ἐκμαγῆναι), тогда мы забываем и больше уже не знаем (191с-е, пер. Т. В. Васильевой). Отпечатки на воске служат знаками (σημεῖα) впечатлений, но когда впечатления отсутствуют, или недостаточно отчетливы (193с), или память удерживает их размытыми и спутанными друг с другом (194е — 195а), легко может возникнуть ошибка, состоящая в том, что знаки будут соотнесены не с теми впечатлениями. Мы видим, что разум вводится в заблуждение памятью, но ошибка при этом оказывается делом не знания и даже не самой памяти, а следствием соединения разнородных элементов — впечатлений и знаков, событий телесного мира и представленных метафорой восковой дощечки качеств познающей души. Сопоставление новых впечатлений и знаков памяти соответствует прежнему сопоставлению земных имен и забытых сущностей, а ошибка обращенной к чувствам памяти соответствует незнанию забывшей себя души («Федр»); различие состоит в том, что в памяти есть только знаки «ощущений и мыслей», и в ней больше нет места для идей и их имен. Это становится еще очевиднее во втором сравнении, которое предлагает Сократ, чтобы объяснить ошибку в вычислении. Подобная ошибка возникает не из сопоставления памятных знаков и ощущений, а из сопоставления знаний, которыми мы обладаем, но не держим постоянно в уме, а вызываем по мере необходимости. Если представить душу как своего рода клетку, в которую новые знания запускаются, как голуби, то ошибка возникает, когда мы промахиваемся и выхватываем из стаи вместо нужного голубя того, который попадется первым (197е — 199b). Хотя Сократ в конечном итоге признает подобное объяснение никуда не годным, для нас важен тот момент, который не подвергается ни сомнению, ни последующему опровержению: по словам Сократа, в детстве клетка 14 знания пуста (197е), и это значит, что сколь бы открытой познанию ни была душа, никакими прирожденными знаниями она не обладает, а поиск и получение нового знания не является припоминанием. При всем внешнем сходстве с опытом припоминания из «Менона», майевтика, о которой говорится в «Теэтете», лишь очищает душу, придает ей рассудительность, но отнюдь не претендует на поиск спрятанных в ней идей. Продолжением «Теэтета» является диалог «Софист», и, возможно, нам стоит поискать именно в нем ответ на вопрос, почему Платон вдруг отказывается от теории припоминания, или, по крайне мере, предпочитает ее замалчивать. Помимо охоты на неуловимого софиста, предметом исследования «Софиста» является, собственно, чистое знание, представленное в знаменитой диалектике пяти категорий. Чтобы раскрыть это новое учение, Платон прибегает к фигуре Чужеземца, которого Феодор, по словам Сократа, приводит на встречу как «некоего бога» (216а). Блонделл «обращает внимание на то, что Сократ и Феодор говорят здесь о Чужеземце как о третьем лице, Сократ его не приветствует, его не представляют по имени, в разговор он вступает только после того, как Феодор и Сократ обменялись своим мнением о нем, и Сократ задал ему вопрос. Всё это подчеркивает странность Чужеземца, его “нездешность”» [2, с. 376]. И, действительно, искусство самого Сократа — это искусство незнания, оно целиком принадлежит земной мудрости и может лишь смиренно ожидать некоего бога или вестника богов, способного приобщить к подлинному знанию. При том, что последние слова «Теэтета» обещают новую встречу тех же участников и тем самым перебрасывают мост к «Софисту», явление Чужеземца все же разрушает формальное единство двух диалогов, ведь, как мы помним, «Теэтет» записан Эвклидом, и чтение его навеяно встречей с раненым Теэтетом и воспоминанием о Сократе. Таким образом, переход к «Софисту» совершается как бы вне записи, а тем самым и вне памяти, как если бы возможности припоминания были исчерпаны поисками первого дня и на смену им должно было прийти чистое и беспримесной знание. Этот разрыв припоминания и знания на уровне повествовательной рамки диалога является усилением похожего приема, использованного в «Пармениде». Как мы знаем, этот диалог начинается с истории пересказов некогда состоявшейся беседы Сократа, Зенона и Парменида. Саму беседу со слов присутствовавшего при ней Пифодора запоминает наизусть и пересказывает Антифонт, а его пересказ в свою очередь доходит до читателя в пересказе Кефала (126а — 127а). Такое вступление должно убедить нас в аутентичности события, но при этом совершенно очевидно, что запоминание наизусть и воспроизведение по памяти не имеют ничего общего с самой беседой и тем сложнейшим исследованием, которое предпринимается Парменидом в отношении одного и иного. Вступление к диалогу соединяется с диалектикой одного и иного посредством критической части, в которой сначала Сократом излагается теория идей (129а-е), а затем приводятся аргументы Парменида, которые не оставляют от этой теории камня на камне (130b — 135c). При этом набросанная в общих чертах теория Сократа почти полностью соответствует теории идей из «Федона», связанной с концепцией анамнесиса. Отделяя этим фрагментом с критикой идей анамнесис вступления от исследования, которому 15 посвящена основная часть диалога, Платон фактически указывает на границы памяти и противопоставляет припоминанию идей диалектику, в которой идеи определяются не сами по себе, а через отношение друг с другом и в конечном итоге — через отношение со своим иным. Диалектика пяти категорий в «Софисте» и есть не что иное, как знание отношения идей. Чужеземец определяет это отношение следующим образом: тождественное и иное полностью противоположны друг другу, и именно их смешение приводит к путанице и ошибке; но в своем разделении они тем не менее соотнесены друг с другом посредством бытия, в котором соучаствуют на равных, и различные формы этого соотнесения задаются второй оппозицией — покоя и движения, каждый из членов которой определяется и через тождество, и через иное (254d — 259d). Таким образом, речь, которая соединяет существительные и глаголы, утверждение и отрицание, следует этому ядру всех значимостей и всякого знания, но поскольку это ядро сформировано вокруг изначального разделения тождественного и иного, забвение этого разделения превращает речь в мнимость, которая, как оказывается, и есть пристанище софиста, скрывающее его от света знания (259е — 264е). Софист рассчитывает на невнимание и беспамятство своих слушателей, и потому Платон сохраняет для памяти место в познании, но, как мы видели, это всего лишь место точной фиксации и сохранения полученных знаний. Впрочем, стоит отнестись внимательнее к рассуждениям Сократа в «Теэтете» и Чужеземца в «Софисте». Ведь сама по себе диалектика тождественного и иного не допускает путаницы, повсюду сохраняя нерушимость разделяющей их границы; раз ошибка все-таки происходит, значит тождественное и иное каким-то образом допускают смешение, даже если речь идет об их простом и мгновенном соприкосновении (как это предполагается, скажем, во второй гипотезе «Парменида»). Таким образом, память, в которой взаимная инаковость ощущения и отпечатка, телесности чувства и божественного воска души допускает возможность как правильного, так и ложного узнавания, оказывается не просто неким нижним уровнем регистрации знания, но фактически выносится на самую границу тождественного и иного, в точку их соприкосновения и разделения, внутрь развилки истины и обмана, знания и не-знания. Определенное прояснение этой специфической позиции памяти дает «Филеб». Поставленный в нем вопрос об удовольствии ведет Сократа к выделению четырех родов сущего: предела, беспредельного, меры их смешения и причины этого смешения (23cd). Мы видим здесь, что оппозиция предела и беспредельного, соответствующая тождественному и иному «Софиста», допускает не только некое внешнее соотнесение посредством категории бытия, но и действительное смешение, которое осуществляется как количество, т. е. определенная мера движения и покоя, звучания и тишины, например, как музыкальная гармония или членораздельность речи (17b). Разум, устанавливающий эту меру становления и бытия, выступает четвертым родом, т. е. причиной смешения, однако в самом смешении есть и свой тип порядка, который позволяет уравновешивать противоположное и находить удовольствие в соединении различного. Этот тип удовольствия, с одной стороны, несравненно ниже спокойной бесстрастности предела или блаженства разума как причины 16 смешения, но с другой — только он приходит в непосредственную близость с чистым наслаждением становления. Это — удовольствие памяти, которое в каждый момент наслаждения помнит предшествующий момент и ожидает следующий: испытывая жажду, помнит о возможности ее утоления, а в момент утоления жажды наполняет радостью благодаря воспоминанию о ее утолении (35c). Удерживаясь на границе прошлого и будущего, память оказывается мерой предельного погружения души в безмерность становления, именно это и делает ее нижним уровнем познания, источником как правильного мнения, так и ошибки, то есть тем своеобразным местом души, отправляясь от которого она только и может предстать пред светом божественного знания. Л И Т Е РАТ У РА 1. Деррида Ж. Диссеминация. — Екатеринбург: У-Фактория, 2007. — 608 с. 2. Протопопова И. Сократ и тень (к драматической интерпретации «Софиста») // Платоновский сборник I. Приложение к Вестнику Русской христианской гуманитарной академии (Т. 14. 2013). — М.; СПб.: РГГУ — РХГА, 2013. — С. 367–404. 3. Фуко М. О генеалогии этики: обзор текущей работы // Логос. — № 2 (65). — 2008. — С. 135–158.