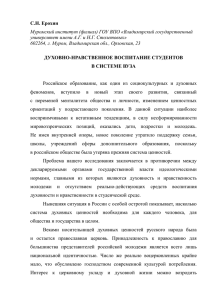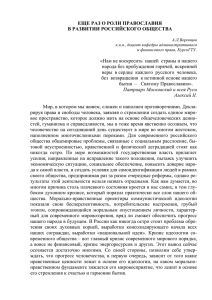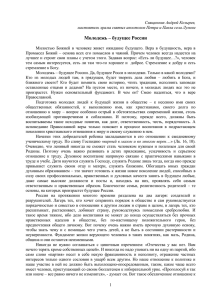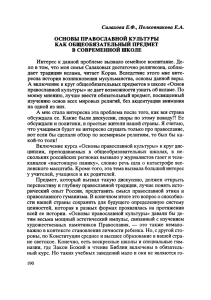Православие в системе современной российской культуры
реклама

Силантьева М.В. Православие в системе современной российской культуры / М.В. Силантьева // Православие: миссионерство и дипломатия в Сибири. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - УланУдэ, 2010. – С. 24-31. Православие в системе современной российской культуры Силантьева Маргарита Вениаминовна Доктор философских наук, профессор МГИМО (У) МИД России, г. Москва, silvari@mial.ru Сегодня одной из самых востребованных стратегий философско-гуманитарного исследования является философский компаративизм, изучающий «аксиоматику» культур, ее «базы» - смысловые поля и ценностные «фундаменты». Существует довольно обоснованная позиция (восходящая к античности и через Гегеля воспринятая современной философией культуры), согласно которой подобная аксиоматика может приравниваться к «духовному измерению» культуры, совпадая с разумным ее основанием. Таким образом постулируется пересечение объемов понятий «духовные основания культуры» и «религиозная составляющая культуры». При этом религиозность оказывается аспектом, через который раскрываются структурные компоненты духовных оснований, - но не сводится к ним, выходя за пределы смысловых определенностей в более широкое теоретическое и практическое пространство культа и т.д. Равно как и духовная аксиоматика культуры не совпадает с религиозностью как таковой, раскрывая свою содержательную основу также в моральных, эстетических и, возможно, иных аспектах восприятия смысла. Действительно, вне зависимости от того, принадлежит исследователь к «прайду» религиоведов-позитивистов, или же, напротив, к ученым богословам, - научная добросовестность, как правило, заставляет его согласиться с особой ролью религии в жизни общества. Наиболее распространена точка зрения, согласно которой религиозность раскрывает древнейшее ядро культуры, особым образом организующее окружающее человека пространство, делающее это пространство антропологически соразмерным, «обжитым», за счет соотнесения его «координат» с высшими и низшими слоями бытия – «верхним» и «нижним» мирами. Итак, одной из функций духовной аксиоматики явно выступает социальноорганизующая. Помимо единства территории, языка, исторической судьбы и прочих признаков нации, важнейшим основанием общественного единения выступает исторически конкретная форма духовной аксиоматики, задающая исходные смысловые ориентиры и высшие цели деятельности. В религиозных конфессиях такая аксиоматика сакрализована. Транслируя «наработанные способы обращения» с ней (Т.А. Кузьмина), конфессии вместе с тем сохраняют особое отношение к смысловой аксиоматике как сверх-ценности, имеющей непреходящее значение для каждого члена данного общества, задавая ему и собственно человеческие (на индивидуальном уровне), и социально значимые (на групповом уровне) параметры ориентации и поведения. Не удивительно, что подобные сверхценности в своем реальном бытовании в культуре нередко «сползают» к исключительно внешним способам регуляции, переводя на язык ценностных ориентаций властные стратегии того или иного типа. Соответственно, идеологизация религиозно-конфессиональных смыслов – «родимое пятно» (если воспользоваться метафорой Маркса) социализованного человека; та неизбежная тень, которая следует за освоенным человеком – «инкультурированным» - смыслом. Не стоит, разумеется, обольщаться: идеологизация не только оттеняет духовную аксиоматику культуры, она ее еще и искажает. Иногда – настолько, что культуру буквально накрывает тень идеологии (народы нашей страны знают о подобных эпохах не понаслышке). Иногда – напротив, идеология удерживает баланс структурно-оформленного саморазвития культуры, 1 более-менее успешно оптимизируя процессы управления, координируемые со смысловым ядром культуры через ее ценностные пласты. Проблема заключается еще и в том, что духовна аксиоматика, претендуя на адекватное выражение в культурных формах «тайны бытия», в значительной мере остается лишь ее репрезентацией в личном и общественном сознании. При этом уверенность в полном совпадении аксиоматики и духовных истоков культуры оказывается тождественной их идеологизации и частичному (либо полному) омертвению. Напротив, развитые религиозные формы стремятся к удержанию «памяти о разрыве» культуры и ее духовного источника. Отсюда – постоянное внутреннее сопротивление религиозных структур обмирщению. И дело здесь вовсе не в том, что (как иногда полагают) конфессии стремятся каким-то образом сохранить свою «маркетинговую нишу» в культуре, удерживая на достигнутом уровне свою респектабельность и материальное положение в обществе. Дело в том, что обмирщенная религиозная структура теряет свою специфику, превращается в рядоположенную всякой другой управленческой структуре. В то время как ее главная задача – поддерживать «вечный огонь» сакральной связи со смыслом, систематически разводя очаг, который позволяет дикой природе превратиться в дом человека. Итак, религиозная компонента системы культуры, по сути, представляет собой не отдельный ее сегмент, а способ, которым удерживается духовно-смысловая аксиоматика – «арматура», на которую конкретные локальные культурные формы наращивают «текстуру» иных символических форм, вторичных по отношению к исходным – аксиоматическим – формам (включающую в определенной мере и культовую «своеобычность). Надо особенно подчеркнуть, что конкретным своеобразием (хотя и разного уровня) в рамках определенной локальной культуры отличаются как собственно аксиоматика, так и сопряженная с ней «текстура». Подобная «индивидуализация» рецепции смысла человеческим сообществом неизбежна в силу самой своей рецептивности. То общее, универсально-смысловое, что раскрывается в аксиоматике и обрастает артефактами культурно-значимой деятельности, если и осваиваемо, то – все же – никоим образом не присваеваемо культурой, хотя культура обладает парадоксальным свойством творить новые культурные формы как имеющие самостоятельное значение варианты смысла. При этом освоение универсального может происходить только сквозь призму особенного. Уровни особенного, в свою очередь, имеют определенную градацию. Очевидно, аксиоматика занимает здесь более высокие этажи, чем «текстура», хотя ее «общезначимость» говорит все же на разных языках. Одновременно на определенном уровне восхождения к предельным основаниям культуры как таковой наблюдается синхронизация смысловых и ценностных параметров, принимаемых разными локальными культурами в качестве «своих». Примечательно, что нередко источниками сведений о более высоких уровнях ценностно-смысловой иерархии становятся для локальных культур другие - более «развитые» - культуры. Это не значит, что смыслы и ценностные ориентации просто заимствуются у них и транспонируются на чужую почву, - таким образом они бы никогда на ней не прижились. Дело, по-видимому, в том, что в определенный момент культуры «дозревают» до открытия этих высших смыслов, оказываются готовы к их принятию. Здесь выступает на первый план удивительная особенность смысла – его принципиальная сообщаемость, если не сказать – коммуникативность… Именно таким образом русской культуре в 9 веке открылись новые горизонты, обозначившие смысловые уровни, принесенные болгарскими и византийскими ветрами из греческих пределов [7, с. 75-98]. В свою очередь, для многих народов России русская культурная матрица оказалась таким «трансформатором», способным «переключить» смысловое «напряжение» на другой «энергетический уровень». Исходя из сказанного, становится возможным несколько по-новому взглянуть на роль православия в указанном процессе трансляции смысловых и ценностных ориентаций. 2 Вопреки (а может быть, в дополнение) к традиционному «линейному» пониманию роли этой мировой религии, сводящему значение православия к простому расширению количества людей и культур, разделяющих определенный набор ценностей и исповедующих конкретные практики культово-обрядового характера, - православие может трактоваться иначе. Например, как «ускоритель» движения вверх по смысловой оси. Или - как «усилитель четкости изображения» той ценностной «картинки», которая выступает в нашем сознании в качестве карты-схемы – «знака-образа» в терминологии классической семиотики Ч. Пирса – духовного пути [7, с. 96]. Итак, всамом общем виде роль православия в системе российской культуры можно рассматривать, во-первых, как идеологический рычаг управления, доказавший свою относительную эффективность на протяжении довольно длительного исторического времени. Во-вторых, можно углубить понимание его роли до указания на способность «форматировать» общее поле базовых культурно-значимых смыслов, принятых в данной культурной матрице в качестве «своих». Первая трактовка представляет собой политизированную интерпретацию православной конфессии, предстающей с этой точки зрения как идеологический рычаг управления обширными территориями из единого центра. Гомогенизированные способы социально значимого поведения, опирающиеся на гомогенизацию (и «нормализацию») нравственных, эстетических и иных аспектов ценностных ориентаций, позволяют оптимизировать управление обществом, обретающим в таком случае предсказуемые социально-значимые параметры. Это, несомненно, заметный «плюс» православной идеологии как скрепляющей субстанции единого национально-культурного и государственного пространства. «Минусом» православной идеологии как политизированной версии восточного христианства является неизбежная стандартизация духовного уровня ориентации личностей, составляющих данное национально-культурное сообщество, «сбривание» собственно религиозного, т.е. сакрализованного, уровня обращения с теми ценностями, которые признаются основополагающими. В известном смысле такая идеологизация всегда сопряжена с десакрализацией и обмирщением духовной аксиоматики. А значит, с постепенным вырождением смысловой ориентации в управленческое усилие [Ср.: 7, с. 83-87, 104]. Однако, теряя на этом пути свою специфику, религиозная идеология любого типа (и православие в частности) рискует не просто превратиться в дублера государственных структур. Значительно более опасной видится релятивизация духовной ориентации, утрата устойчивых представлений о направлении «к должному». В самом деле, если государственно-конфессиональная идеология – «лишь» ориентация по азимуту «годности» в управленческом смысле, тогда имеет смысл все, что соответствует интенции власти. Власть, следовательно, определяет смыслы, - а не смыслы определяют сверхцели власти [3, с.87-99]. Как известно, русское государство некоторое количество раз отчетливо переживало периоды кризиса сходным образом интерпретированной роли власти, в том числе и власти Православной церкви. Один из последних эпизодов (имеющих прямое отношение в миграции части населения из центральных районов России в Забайкалье) – это, конечно же, церковный раскол. Альтернативой политизированному православию, вырождающемуся исключительно в свою идеологическую проекцию, выступает идея «симфонии властей», раскрывающая роль Православной церкви как хранительницы основополагающих смыслов и государственнополитических сверх-целей. Думается, однако, что сегодня реальной исторической альтернативой политизации является сознательный выбор Церковью значительно более скромной роли – роли просветителя, хранителя «общего языка» культуры, сокровищницы тех общезначимых смыслов-аксиом, которые позволяют говорить о возможности взаимопонимания (и развития 3 диалога, включая политический) с самыми разными культурами, составляющими обширное поле глобализирующейся поликультурной палитры современности. Нередко при этом православие трактуется в качестве системы глобальных ориентаций целой группы национально-государственных образований, представляющих собой отдельную цивилизационную модель, или цивилизационный тип. В частности, именно таким образом интерпретировал православие выдающийся теоретик современной философии политики А.С. Панарин. Он, как известно, противопоставлял глобализации западного и восточного образцов – православную цивилизационную модель. В последние годы жизни ученый вернулся к размышлениям более раннего периода творчества, в которых пытался рассмотреть возможности конвергенции восточных культур и русского православия на базе общей «истории смыслов», связанной с глубокими корнями исторического и культурного родства. Данное исследование не было завершено, однако постановка проблемы позволяет продумывать возможные варианты ее решения. Напомню вкратце суть идей Александра Сергеевича по данному вопросу. «Русский мир» как национально-культурная парадигма противополагается в этой модели так называемой «атлантическому глобализму», включающему в себя Западную Европу и США. В качестве ведущего основания сравнения, позволившего выделить и противопоставить данные цивилизационные типы, избрана аксиологическая составляющая культуры, - то есть, если вернуться к принятой ранее терминологии, моральный аспект ее аксиоматики в качестве основы религиозного аспекта. Различие аксиологических ориентаций в каждой из анализируемых моделей определяется по предпочтению одного из полюсов бытия - материального либо духовного [5, с. 121-137 ]. «Атлантизм», как полагают критики «западного образа жизни» (включая самих представителей этого общества), опирается на предпочтение материального в ущерб духовному. Он выступает синонимом гедонизма, привязывающего человека к преимущественному потреблению материальных благ. Даже духовные искания рассматриваются здесь в качестве специфических «потребностей». «Русский мир», напротив, предстает носителем ценностей аскетизма, (или по крайне мере умеренности в потреблении), как цивилизационная альтернатива, сохраняющая для человечества отношение к духовным основаниям как наиболее значимым, определяющим. При несомненной системности данной бинарной глобально-цивилизационной модели, в ней присутствует целый ряд дискуссионных положений. 1) В частности, данная модель опирается на оппозицию «Восток» - «Запад», географическое прочтение которой не всегда корректно. Названную оппозицию точнее интерпретировать в смысле аллегорическом (оставляя возможность вернуться к региональной специфике с учетом выявленных аллегорией культурно-исторических констант). В этом случае «Запад» становится отчетливо выраженной метафорой завершения очередного культурного цикла, «смерти», иссякающей жизненной силы. Для современных культурологических изысканий последнее синонимично «сухой рационалистичности». «Восток», напротив, - метафорическая квинтэссенция жизненной силы, рождения, эмоционально окрашенной устремленности к новым вершинам. Однако подобную двойственность можно при желании найти в любом культурном типе, равно как и в любой отдельно взятой душе. Относительно русской души и русской культуры наиболее подробное описание оппозиции «двух начал» в свое время, как известно, осуществил Ф.М. Достоевский. Таким образом, однозначное сведение России к «Востоку», а Западной Европы и Америки – к «Западу», по меньшей мере, требует уточнения. Так, Восток «восточной России» во многом отличен от ее «западного» Центра. Имея в системе культуры те же (принципиально!) бинарные контр-потоки цивилизационного движения, восток России в аксиологическом ключе столь же неоднороден, как и ее запад. При этом, разумеется, нельзя не учитывать географическую и, следовательно, историко-культурную близость цивилизационных потоков российского востока (в частности, Забайкалья) к цивилизационным матрицам восточных соседей России, отнюдь не являющихся 4 православными. Термин «трансграничье», удачно употребляемый рядом современных отечественных авторов, передает лишь часть проблематики, актуализируемой этими политико-географическими особенностями существования и развития культуры российского востока. 2) Второе замечание, связанное с современной интерпретацией идей А.С. Панарина относительно «альтернативного глобализма», исходит из того, что данная теория сочетает в себе элементы строго цивилизационного (теория «локальных цивилизаций» ДанилевскогоШпенглера, «цивилизационные разломы» Хантингтона и т.д.) и формационного подходов. В самом деле, речь идет, фактически, о ценностном конфликте разных цивилизационных групп. Суть его - не в утверждении преимуществ «здоровья» и «молодости» той или иной локальной культуры-«организма» (и, соответственно, ее большей «силы» по отношению к более «слабым» и «старым» культурам), - как это выглядело бы с точки зрения «отдельно взятой» классической теории «локальных цивилизаций». Напротив, теория «православного альтернативного глобализма», опираясь на аксиологический подход, указывает на принципиальную несовместимость поляризованных ценностей «Запада» и «Востока» (и в буквальном, и в аллегорическом прочтении), определяя их перспективность по азимуту прогрессивного развития всего человечества, - как это раскрывает теория общественно-экономических формаций (и, между прочим, мировые религии). «Русский мир» в этом контексте выступает в качестве хранителя ценностей традиционной христианской культуры, где «истинные ценности» связаны с психосоциальной установкой на аскезу (в противовес западному гедонизму). Данная «картинка», в определенной мере являясь оправданной научной проекцией, тем не менее, нуждается в серьезном уточнении. 1.Прежде всего, следует различать известный нам гедонизм «импортный», ввозимы в Россию с простейшей целью расширения рыночных отношений за счет «вербовки потребителя». Этот гедонизм существенно отличается от гедонизма, представленного на «площадках» самих США и западной Европы, - прежде всего, значительно более низким уровнем «запроса на качество» тех товаров, потребление которых осуществляется за счет формируемых потребностей. Преобладание низкопробных форм релаксации, апеллирующих к примату растительной души над всеми остальными душевными проявлениями; заведомо заниженный интеллектуальный уровень книжной, аудио- и видео- продукции, предлагаемой российскому потребителю, агрессивные стратегии рекламной деятельности, - все эти и целый ряд других факторов показывают, что новейшая рыночная «гедонизация» российского общества строится по модели предельного снижения требований к критериям качества того, что в принципе может стать предметом «удовольствия». К слову, отсутствие за перестроечное и постперестроечное время продуманной, последовательной государственной политики (а скорее, ее наличие в крайне неблагоприятной для страны форме) – фактор также немаловажный. В свою очередь, страны-«экспортеры» гедонизма у себя дома такую политику выстроили давно и добились на этом поприще заметных успехов. Достаточно вспомнить отвоеванное европейским потребителем право не созерцать рекламу по телевизору более 3 минут (и то – исключительно в перерывах между передачами). Иное дело в США, но нельзя забывать, что история этой страны насчитывает менее 250 лет, и «клипированность» сознания ее представителей связана с некоторым социально-государственным «тенэйджерством». Успехи этих стран в социальной области несомненны: так например, несмотря на кризис в экономике, американца не могут выселить из дома за долги (включая астрономические долги по жилищному кредиту), если у него нет в собственности другого жилья. Не могут также отключить телефон на входящие звонки, равно как не отключают исходящие вызовы служб спасения. При всех недостатках социальной системы «Запада» ей нельзя отказать в достижении тех целей, о которых «Восток» еще только мечтает. Нельзя забывать также, что общества с низким прожиточным минимумом становятся добычей гедонизма по крайней мере не реже, чем общества с высокими жизненными 5 стандартами [6, с. 42-88]. Идеи А.С. Панарина относительно создания в России социального государства, перекликающиеся с позиций многих видных деятелей культуры, литературы и политики, включая А.И. Солженицына, в этом ключе получают дополнительный вес и значение. Если аскеза на личном уровне в традиционном сознании опирается на идеи примата духовности над голым материальным интересом и вызывает если не всеобщее сочувствие, то, по крайней мере, позволяет считать такую позицию личным делом, - то на уровне государства объявление аскетизма главным принципом социальной политики допустимо с большими оговорками. Такого рода политику в свое время проводила, например, Великобритания, где до 1953 года действовала карточная система получения продуктов питания. Цель была понятна и сравнительно быстро в масштабах истории достигнута – восстановить подорванную войной (но при этом до Второй мировой войны высоко развитую) экономику страны. Народ понимал, «за что терпит». В России лимит апелляции государственных структур к народному долготерпению на сегодняшний день близок к критической отметке. Нельзя не считаться с тем фактом, что именно подобный статус российской государственности сегодня не только до предела обострил социальноэкономические проблемы регионов и вызвал к жизни древнейшие формы социальной самоорганизации, опирающиеся на авторитет духовно-религиозных лидеров. По сути, речь сегодня идет об усилении центробежных тенденций и последовательной регионализации страны, смягчить которую может только грамотно построенная социальная политика, - а вовсе не идеологизация и «православизация», как это полагают нерадивые чиновники. При этом реальные успехи экономики «периода Трубы», ориентированной в основе на добывающие отрасли (чего не делает сегодня даже Китай), создают свои – особые – проблемы. В частности, стоит обратить внимание на тревожную тенденцию девальвации ценности образования. В общественном сознании «субстратом» этой тенденции стало не только «потерянное поколение» 90-ых гг., выращенное СМИ и партикуляризирующейся школьной системой - в то время, пока родители «вкалывали» (кто – пытаясь выбиться в олигархи, кто – стремясь не дать семье умереть от голода). В конце концов, поколение 90-ых, «поколение пепси», - с его особым «ценностным кретинизмом», взращенным беспринципным гедонизмом наивного потребительства, - не единственное активное поколение на сегодняшний день. Новые проблемы затронули и другие генерации. Так, возникла особая социальнопсихологическая проблема, связанная с внедрением гедонистических ценностей в сознание представителей среднего поколения, в считанные секунды оказавшихся владельцами сравнительно небольшого, но тем не менее заметного капитала, основанного на приватизации социального жилья. Сюда же следует отнести «зашлакованность» ценностных пластов сознания некоторого количества одиноких пожилых людей продукцией книжного масскульта и телевизионных программ, особенно – сериалов. «Активный возраст», в свою очередь, оказался перед «поли–леммами» выбора (часто – надуманного) между продукцией различных фирм, производящих «предметы не первой необходимости», мало чем реально различающиеся между собой, - ароматическое мыло, косметика, мобильные телефоны и т.д.. Спектр «не-необходимых» товаров и услуг здесь чрезвычайно широк – от формы каблучка модной женской обуви до марки престижной машины, от организации семейного отдыха в дачном сарае до Куршевеля... Стимулируя так называемое «престижное потребление», агенты рынка грамотно создают «ножницы цен», позволяющие стимулировать интерес к подобным товарам в различных социальных слоях, имеющих к тому же несопоставимые уровни дохода. Однако «престижно зависимые люди» (в группу риска, по мнению психологов, входят одинокие молодые женщины, ориентированные на карьеру, - а также все лица с неустановившимися ценностными ориентациями) находятся во всех слоях. 2.Аскеза, о которой идет речь в теории «альтернативного глобализма», также выявляет неэквивалентность гипотетических схем и их эмпирических проявлений. 6 Сегодня аскеза российского общества, очевидно, во многом держится на интересе наших сограждан к возрождению духовных традиций русского народа, включая православие. Необходимо отметить, что собственно традиционализм «народного уклада» равняется православию только в идеализированном сознании той части советской интеллигенции, которая была далека от знания исторических реалий и действительных событий. Подменяя фантазией историческое исследование, легко расценить русское революционное движение 19 – первой четверти 20 вв. в качестве происков небольшой (но феноменально сильной!) национальной группы; или говорить о необычайной «богоносности» всего русского (или великорусского - это уж кому как нравится) народа, - словно не было «Окаянных дней» Ивана Бунина с их зарисовкой о «бесах больших» (большевиках) и о «бесах маленьких» («белых»)… А ведь данное сравнение принадлежит русскому офицеру, - тому, кто отступал с Белой армией и знал ее изнутри…. Отступал, унося с собой остаток «русского мира», создавшего новый мощный континент - Русское Зарубежье. Возможно, то «немногое», что удалось сохранить этому «континенту» – даже там, где теряли честь и расставались с достоинством, - это совесть. Но можно ли реэкспортировать из Русского Зарубежья систему ценностей, включая православную аскезу? И можно ли утверждать, что возможен такой вывоз ценностей за рубеж, при котором «местное население» остается носителем исключительно злой «негативной духовности»? Заметим: статистика (причем еще дореволюционная!) демонстрирует рост революционных настроений в период вполне благополучный с точки зрения «православности» России. В любом случае, здесь есть, о чем задуматься. Нельзя забывать также, что традиционализм сегодня его реальные сторонники в России сводят не только к проекту «православизации всей страны». Есть множество националистических движений, движений «исторических» или экологических традиционалистов. Многие из них (даже объявляя себя «ортодоксами») на деле исповедуют различные формы язычества. Иные – откровенно борются с православием как системой ценностей и устремлений. Иные – остаются в числе «нейтралов» или «сочувствующих». Однако не только интерес к традиционализму определяет эмпирическую составляющую аскетики современного россиянина. Во многом она связана с реальной невозможностью «добыть» желаемое. В отличие от советских времен, эта невозможность для оценивающего ее сознания упирается не в отсутствие товара или услуги на рынке, а в материальную трудность их обретения. Понятно, что подобная, с позволения сказать, аскеза - очевидная «изнанка» гедонизма. Сказанное, тем не менее, не отменяет тот факт, что сегодня действительность функционирования «православной цивилизации» на бескрайних просторах России в качестве «продвинутой» культурной матрицы – не утопия, а реальность. Матрицы, более общей по отношению к множеству матриц составляющих Россию локальных субкультур. Вместе с тем локальные культуры имеют неповторимую специфику собственных аксиоматик и весьма развернутый уровень культурной «текстуры», включающий, как уже отмечалось, практики религиозного плана. Это, между прочим, помогает более-менее внятно объяснить феномен «двое-» и «трое-верия», широко распространенный в тех регионах России, куда православие пришло вначале как идеология, и лишь затем – как культурно-форматирующая матрица. Стоит обратить внимание на тот факт, что в силу ослабления социальноэкономических (а иногда и политических) связей с Центром, восточные регионы России имеют дополнительный импульс устремленности к освоению смысловых (и, возможно, в дальнейшем идеологически и политически спроецированных) аксиоматик сопредельных культурных пространств и цивилизационных моделей. В частности, определенные мутации такого рода имеют место в Приморье и Забайкалье под влиянием Китая, Монголии, стран Восточной Азии [1, с.68-79]. При этом китайцы, живущие в России, изучают русскую философию и культуру, спонсируют открытие кафедр православной теологии (как это было в ДВГУ ряд лет назад), объясняя это желанием знать страну, в которой живут. Напротив, жители российского Дальнего Востока, вне зависимости от этнической принадлежности, 7 стремятся дать своим детям возможность изучить китайский и другие восточные языки. Ведь это, наряду с европейскими языками, - языки перспективного сотрудничества во всех областях. Налицо дивергенция встречных цивилизационных потоков, раскрывающая мощный потенциал глобализационных взаимовлияний, связанных с гетерогенизацией идеологических пластов локальных культур и даже цивилизационных типов. А что же пласты духовной аксиоматики? Еще раз подчеркнем: идеологии разных цивилизационных моделей, активируя собственный «аксиоматический компонент» этносов сопредельных территорий, опираются, разумеется, на древние традиции тесных культурных связей между этими регионами и народами, их населяющими. Связи эти, как известно, не были безоблачными в политическом смысле. Не были они идеальными (и даже нейтральными) и в смысле конкуренции религиозных практик [2, с. 30-55]. Думается в данной связи, что сделанный в своей время этими народами цивилизационный выбор в пользу русской культуры (а значит, и православия со всеми его «плюсами и «минусами»), имеет исторически оптимальные параметры. Вместе с тем подлинный смысл православия, как отмечалось ранее, коренится в повышении отчетливости понимания смысловых парадоксов, усилении творческой самобытности раскрывающихся культурный форм и, таким образом, в активизации моральной ответственности соборной социумной личности за тот способ, которым она живет. Если угодно, речь идет о духовном освобождении социализованного человека, реализующего себя в культурно-значимом поле деятельности [4, с.73-86] Православие, понимаемое как освобождение от пут смутно проявленных долженствований и сомнительных социокультурных проектов – путь, действительно, «узкий», хотя и достаточно демократичный. «Узость» его определяется немассовым характером того ига, которое возлагает – прежде всего, на самого себя - принявший православие человек. «Широта», в свою очередь, опирается на раскрытие подобной возможности для каждого лишь при условии пробуждения к осмысленной жизни всех. Этот недостижимый идеал – та «благая весть», которую несет миру христианство, с его общезначимыми ценностями и смыслами, для которых нет различия между иудеем и эллином, великороссом и бурятом, китайцем и англичанином. При этом важно, что, стирая смысловую обособленность народов и культур, более высокие порядки духовной организации не стирают их исторической уникальности. Там, где нет ни иудея, ни эллина, – только там по-настоящему есть и эллин, и иудей, и всякий другой человек. Литература ПРАВОСЛАВИЕ.RU 1. Арзуманов И.А. Трансформация пространства религиозной культуры Байкальского региона в трансазиатском контексте (20-21 вв.).- Иркутск, изд-во Иркутского государственного университета, 2008. 2. Бейдина Т.Е. Региональная социально-политическая безопасность Читинской области. Чита, Изд-во ЧитГТУ. - 1999. 3. Доброхотов А.Л. Культура и христианство / Избранное. М., 2008. 4. Доброхотов А.Л. Философия и христианство / Избранное. М., 2008. 5. Панарин А.С Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2003. 6. Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в 21 веке. М., 2003. 7. Шамшурин В.И. Политическая наука: византийское наследие / Духовная и политическая власть.М., 2009. 8