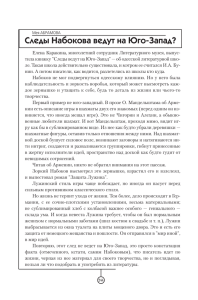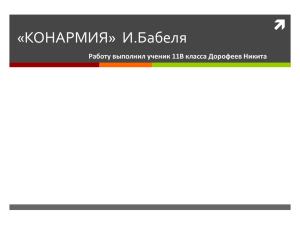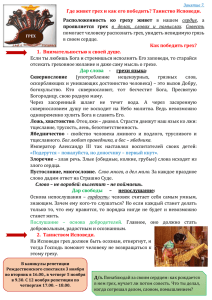Спор традиций в новелле И. Бабеля "Иисусов грех"
реклама
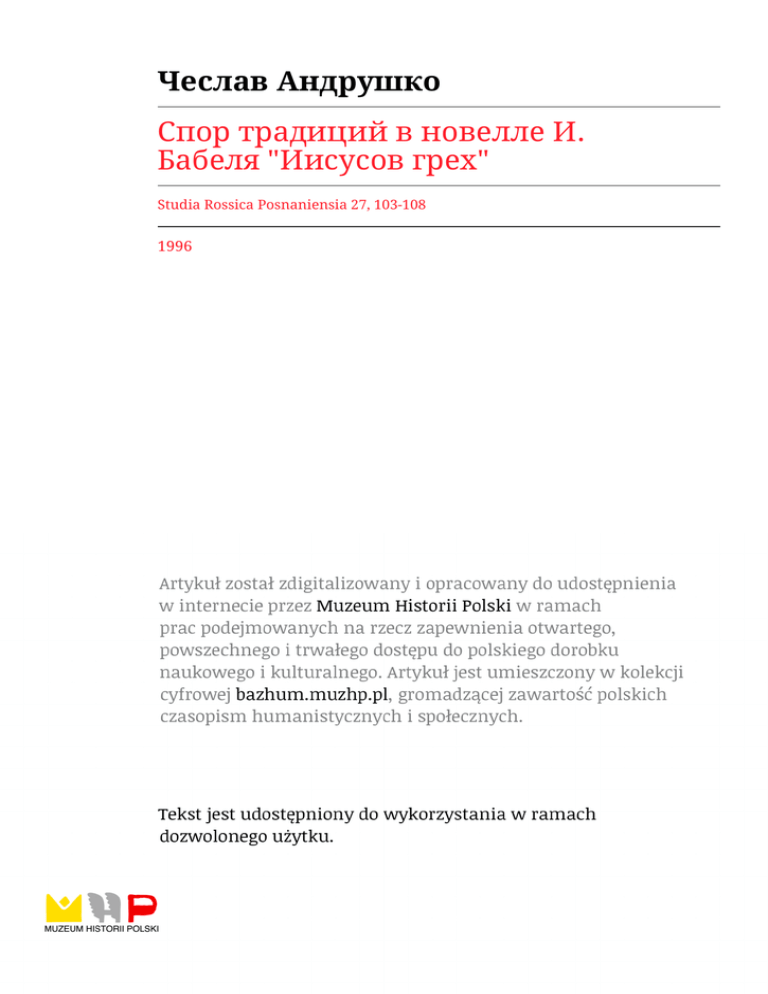
Чеслав Андрушко Спор традиций в новелле И. Бабеля "Иисусов грех" Studia Rossica Posnaniensia 27, 103-108 1996 STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, vol. XXVII: 1996, pp.103-108. ISBN 83-232-0729-1. ISSN 0081-6884. Adam Mickiewicz University Press, Poznań С П О Р Т Р А Д И Ц И Й В Н О В Е Л Л Е И. Б А Б Е Л Я И И С У С О В Г Р Е Х C L A S H O F T R A D I T I O N S IN I. B A B E L S S H O R T S T O R Y J E S U S 'S S IN ЧЕ С Л А В А Н Д Р У Ш К О This article examines the relationship between religion and literature in B a­ b e l’s short story and presents an analysis o f double-coded parody o f D o s to y e v s k y ’s „Christian naturalism” . A b s tra c t. Czeslaw Andruszko, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Rosyjskiej, al. N ie p o d le g ło ś ci 4, 61-874 Poznań, Polska - Poland. С к азо в а я новелла Иисусов грех, опубликованная в 1924 году, возни кла на базе появившейся в печати годом раньше Сказки про бабу. В ней в утрированн ой форме рассказывается о том, как одна и та же „ б а б а ” - в первом случае Ксения, во втором Арина - пол у­ чила о т Иисуса Христа „на четыре года в мужья” ангела, которого же в первую брачную ночь и задавила „брюхом раскаленнны м, ш естим есячным ” 1. Рассказы не дифференцируются по содержанию, однако новое заглавие и несколько видоизмененный и разверну­ тый финал придаю т второму варианту бабелевской „сказки” четко вы раженную религиозную направленность. В творчестве И саака Бабеля этого периода, когда была уже закончена р а б о та над циклом Одесских рассказов, новелла Иисусов грех является самым наглядным примером того, как религиозная идея, пройдя через стадию скрытых межфразовых п р е о б р азо в а ­ ний, выливается в свою открытую „образную” противоположность. В динамичном пространстве бабелевского творчества каждое из о т­ дельных произведений занимает „промежуточное” и только ему присущее место, умножая внутренние циклические связи и образуя „переходы ” к и нтерпретации их смысла в пределах нескольких произведений. Н есомненно, Иисусов грех своей религиозной п р о б ­ л е м ати к ой обязан одесскому циклу, состоящему из четырех р а с ск а ­ зов, и четы рехкратно повторяющееся в сжатом тексте этого р а с ­ 1 И. Б а б е л ь , И збранн ое, М осква 1964, с. 206. Все последующ ие цитаты п р и ­ водятся по этому изданию в тексте, страницы указываются в скобках. 104 Ч. А н д р у ш к о сказа число „четыре” настойчиво эту связь подчеркивает. Рассказ соотносится со своим циклическим первоисточником как внешнее выражение скрытой в нем темы христианства, имеющей, здесь о д ­ нако, принципиально иную творческую установку и ее м ы слитель­ ную реализацию . Она начинается уже с заглавия новеллы Король, откры ваю щ ей одесский цикл, которое в сочетании с определением „иудейский” , следующим из контекста, создает емкую исходную метафору образа Иисуса Христа. Но если в Одесских рассказах христианство вы растает из сложных противоречии греческо-иудей­ ского симбиоза, показы вая собой самую радикальную попытку п олного сведения биологических и духовных аспектов бытия, то в рассказе Иисусов грех та же проблема представлена уже в м н о го ­ слойном культурном освещении, придающем ей разруш ительны е апокриф ические оттенки. Писатель Евгений Замятин назвал бабелевскии Иисусов грех лучшим примером сказа в советской литературе2, а Вячеслав П о ­ лонский - литературны й критик и приятель автора - увидел здесь пародию на Д о с т о ев с к о го 3. Замечания эти сохраняют свою а к ту ­ альность и вместе с тем требуют существенных модификаций. О с о ­ бенно следует подчеркнуть, что сказ как характернейш ая для рус­ ской литературы форма реализации принципа народности л и ш а ­ ется в творчестве Бабеля интеллектуального содержания, оставляя от себя лиш ь чувственно-биологическое, деформ ированное восп ри ­ ятие бытия. Бабелевскии сказ обретает совершенно новое в этой литературе аллегорическое звучание и служит „переходом” к мнем онико-сакральном у, жертвенному сознанию, стоящему у начала каж д ого нового цикла исторического времени. В этом плане с к а з о ­ вого изложения такж е и почвенничество Д остоевского, удачно н а з ­ ванное „христианским натурал изм ом ”4, уходящим в глубь н а р о д ­ ного духа, в стихию народного религиозного сознания, было воз­ вращением к религиозному пониманию истории. Что же касается самого характера связей Бабеля с Достоевским, то они на много принципиальнее, чем считает В. Полонский, и не имеют ничего общ его с мнением о том, что якобы в „Бабеле есть кое-что от Д остоевского, от его мучительства, от сладости самоистязания, от безж алостного экспериментаторства над душой человека”5. 2 См.: Е. З а м я т и н , О сегодняш нем и о соврем енном . В: Е. З а м я т и н , Л ица, Н ь ю -Й ор к 1955, с. 225. 3 См.: В. П олонски й, О лит ерат уре, М осква 1988, с. 67. 4 В. 3 е н ь к о в с к и и, И ст ория русской философии, т. I, ч. 2, Л ен и н гр ад 1991, с. 223. 5 В. П о л о н с к и й , О лит ерат уре, Москва 1988, с. 67. Спор традиций в новелле И. Бабеля „Иисусов гр е х " 105 Линия Д остоевского начинается у Бабеля со сказовой новеллы Письмо из конарм ей ского цикла, показывающей, что страдания, которы м автор Преступления и наказания придавал глубокий р е ­ ли ги озн ы й смысл, отнюдь не обл агораж иваю т человека а, н а о б о ­ рот, делаю т его безразличным к судьбе ближних. И стория к р о в а ­ вой семейной распри между отцом и сыновьями стирает границу между палачом и жертвой и вызывает их подмену, смысл к о т о р о й может интерпретироваться только в категориях Д ан това А да. Т о т же тип к а р н а в а л ьн о й безысходности распространяется и на и с то ­ рию ,,рабы б ож ьей ” Арины, не имеющей „ни свету, ни вы ходу” от того, что ей предписано рож ать „за четыре года, мало-мало, а т р о и х ” (204). П овторенная здесь пародия пародией уже не я вл я­ ется и становится явлением совершенно противополож ным тому, что вы зы вает смех. Смешным может быть только то, что не нуж ­ дается в сочувствии, а страдания бабелевской бабы, чью предначертан ность судьбы даже милостивый Бог не был в состоянии о б ­ легчить от „серьезности” (205), аппелирует и к пониманию, и к со­ чувствию. Б л агод аря своему фантастическому сюжету, по к а зы в а ю ­ щему мир перевернутый, реально невозможный, Иисусов грех м о ­ жет служить уже только однозначно негативистским ком ментарием к ка р н а ва л ьн о м у методу Д остоевского, способному свободно пере­ скакивать через биологическое время человека, не считаясь при этом с жесткими требованиям и рассудка. Д ля Бабеля мир Д остоевского полон разруш ительных и зи яю ­ щих противоречии, где столкнувшиеся друг с другом „христианс­ кий натурализм” и неверие в „естественную” природу человека в со­ стоянии разрешаться только эсхатологически. Николаи Бердяев в из­ д а н н о й в 1923 году книге Миросозерцание Достоевского, которая не могла не быть известной Бабелю, увидел в этой а п о к а л и п ти ­ ческой несведенности не только главное достоинство всего т в о р ­ чества писателя, но и главную черту русского национального х а ­ рактера. Несколькими годами позже Михаил Бахтин попытался о т ­ делить Д остоевского-худож ника от Д остоевского-идеолога, п ред­ л а гая считать обособленным то т факт, что „Достоевский-публицист вовсе не был чужд ни ограниченной и односторонней серьез­ ности, ни догм атизм у, ни даже эсхатологизму”6. Но удар, н ан о с и ­ мый Иисусовым грехом Достоевскому, более чувствителен и н а ­ правлен в самое интимное место его записных книжек, не пред ­ назначенных для публикации. В частности, пытаясь хоть в общих чертах определить ту будущую гармонию , к которой столь бес­ 6 М. Б а х т и н , 285. П роблем ы поэтики Д ост оевск ого, изд. 3-є, М осква 1972, с. 106 Ч. А н д p у ш к о ко м п ром и ссн о - π через преступление, и через наказание - д в и ж у т­ ся его герои, Д остоевский записал: „Мы знаем только одну черту будущ ей п рирод ы будущего существа, которое вряд ли будет и н а ­ зы ваться человеком (след., и понятия мы не имеем, каким и будем мы существами). Эта черта предсказана и предугадана Х ристом великим и конечным идеалом развития всего человечества - п ред ­ ставш им нам, по закону нашей истории, во плоти. Эта черта: „Не женятся и не посягают, а живут, как ангелы б о ж и и ” - чер­ та, глубоко знаменательная. 1) Не ж е н я т с я и не п о с я г а ю т , - ибо не для чего; р а з ­ виваться, достигать цели, посредством смены поколений уже не н адо и 2) Ж ен итьба її посягновение на женщину есть как бы величай­ шее оттолкн овени е от гуманизма, совершенное обособление пары о т в с е х (мало остается для всех)”7. У язвим ость этой мысли Достоевского, особенно во второй ее части, столь очевидна, что одно ее „повторение” в и н о сказател ь­ ной форме Иисусова греха было уже созданием развенчаю щ его тв орческого двой ни ка. На бабелевскую бабу „посягаю т” все „хучь еврей, хучь всякий” (205) - и автор посылает ее с теми за ­ просам и в духе Д остоевского к Иисусу, приятие которы х о зн а ч а ­ ло бы для Христа противопоставление своей „плотской” сущности. А как резонно замечает рассказчик по этому поводу - „В ухо себя не поцелуешь, это и богу вед ом о” (205). Здесь же и формулируется осн овн ой упрек, адресованны й Достоевскому, в творчестве к о т о ­ р о г о атроф ируется женское начало, и, как уже отмечалось кр и т и ­ кой , в его последнем ром ане „отец вырастает до полнеба, полмира , а мать сведена на нет - в ветошку Елизаветы С м ердящ ей”8. А в то р Иисусова греха гипертрофирует биологическую м атери н ­ скую функцию бытия в противовес Достоевскому и п ридает ей а л ­ легорическое значение, предполагающее значимую связь чувствен­ н ого со сверхчувственным. Без учета этого трансцендентного ф ак­ то р а , изначально залож енного в основу бытия, мышление мира те­ ря е т у Бабеля свое субстанциальное качество и уходит в ф ан тасти ­ ческое п ространство российских „небылиц” и „перевертыш ей” . Конечно, к арн авал ьн ая ф амильярность отношений человека и Б ога, расп ростран яю щ аяся на фантастический сюжет Иисусова греха не является простым следствием еврейского происхождения 7 Л и т ерат урн ое наследст во. Н еизданный Дост оевский. Записные книж ки и т ет ­ р а д и 1860-1881, т. 83, М осква 1971, с. 173. 8 Г. Г а ч е в , К осм ос у Д ост оевск ого. В: П роблем ы истории и поэт ики лит е­ р а т у р ы , Саранск 1973, с. 113. Спор традиций в новелле И. Бабеля „Иисусов грех" 107 его автора, не приемлющего христианства. Рассказ определенно вы ­ держ ан в духе развенчания-увенчания „короля иудейского” из к а ­ нонических евангелий, а автор не выходит за рамки о б щ еп ри н ято­ го ф а к то р а , что христианская литература, кроме античной мениппеи, п о д вергал ась также прямой карнавализации, вершиной к о т о ­ рой стала эпоха европейского Ренессанса. М ногообразие воп л ощ е­ ний ц е н трал ьн ого евангельского образа - от прямых под раж ании до проти в оп оставл ен и й - было здесь в первую очередь афирм ацией творческой свободы личности. Открытую попытку осмысления этого всеобъемлю щ его опыта искусства Ренессанса предпринял Б а ­ бель в об ш ирн ом рассказе Пан Аполек из конарм еиского цикла. А м плиф иц ируя ту же возрожденческую традицию на почве русской л и те р а ту р ы , Иисусов грех с новой остротой и драматичностью с т а ­ вит п роблем у отнош ений искусства и религии, ставшую причиной р асп ад а ренессансовой эстетики. Из русских писателей только Лев Т о л сто й до конца, как кажется, осознавал - и творчески, и и с то ­ рически - внутренний конф ликт между культурой и религией. Д о с ­ тоевский же, н аоб орот, до конца оставался уверенным в во зм о ж ­ ности их п ол н ого слияния. Как бы мимоходом оброненная в р о ­ мане Идиот фраза о том, что „красота спасет мир” , взрывает в бабелевском рассказе эту своеобразную эстетическую утопию Д о с т о ­ евского. Безграничная вера в единство красоты и д об ра не ос та в­ ляет места для этического начала, которое у Бабеля ближе все­ го рел и ги озн ом у чувству человека и от отсутствия к оторого с т р а ­ дает вся историческая и биологическая сфера его произведе­ ний. Д о с тато ч н о сопоставить свернутое содержание Иисусова греха с одной из адских сцен Конармии, где пулеметчик Кудря „осторож­ н о ” п од р е зы ва е т горло старому еврею, чтобы не забры згаться (91). В этой разруш ител ьной устремленности человеческого духа к з а ­ просам эстетики - за пределами этики, установившей м оральны й п оряд ок бы тия, - нельзя не увидеть влияния Ф ридриха Ш и ллера с его культом эстетического начала в человеке. Х арактерное для немецкой культурной традиции имя Альфред, которы м наделяет Бабель своего небесного ангела, так и не сумевшего удовлетво­ рить простую русскую бабу, такую непродуктивную „чужеродн о с т ь ” в русской литературе фиксирует. Тем самым и бунт бабы в ф инале рассказа, что сродни бунту Ивана К арам азова, не п р и н и ­ мающего мир, построенный на слезах и насилии, направлен в сущ­ ности не против Б ога, как казалось бы на первый взгляд, а против культуры, выдаю щей свой эстетический идеализм за реальность. В озм ож ность преодоления конф ликта между этикой и эстети­ кой, возн и кш его на базе повествовательного искусства, р а зв и в а ­ 108 Ч. А н д р у ui к о ется творчеством Исаака Бабеля в двух направлениях. П ервое из них связано с французской тематизациен его новеллистики и у к а ­ зы вает в целом на романскую литературную традицию, ко то р ая пройдя через разруш ительны й позднеренессансовыи раб лезианский опыт, показы ваю щ ий человека как экскремент, научилась не сме­ ш ивать высокое с низким, чтобы избежать пародии. Видимым п о ­ казателем такого отношения искусства к жизни является рассказ Бабеля Пои де Мопассан, где биологическое время писателя, о т я г о ­ щенное, как известно, неизлечимой венерической болезнью, о тд е­ лено от просветленного чувства любви между мужчиной и ж енщ и­ ной из новеллы Признание, богато цитируемой в тексте „п о вто ­ р е н н о й ” бабелевскои лю бовной истории. Но более существенным в целом для творческого метода И саака Бабеля является второе направление, связанное с энергетическим восприятием явлении б ы ­ тия, трансцендентный смысл к оторого приближается к м ет а ф о р и ­ ческой функции поэтически оформленного текста. С казовы е д е ­ ф орм ации бабелевских новелл нуждаются в процессе „п овторен ­ н о й ” м етафоризацни, а их разбитое во времени н пространстве с о ­ держание требует аллегореза, чтобы мог реализоваться м ы слитель­ ный „переход” в глубину скрытых значений. И вся сущность этого творческого движения не сводится к тому, чтобы столкнуть вос­ принимаю щ ее сознание с апокалипсисом, как это делает Д остоев с­ кий, а, наоб орот, позволит ему лишь прикоснуться к вечно живой тайне, скрытой под оболочкой бытия. Глубинная творческая связь человека с Богом является у Бабеля актом одномоментной и н и ц и а ­ ции, непревзойденным поэтическим образцом которой остается для него „сокровенный смысл Песни песней” (344). И это единст­ венный и для Б абеля-прозаика, и для Бабеля-драм атурга способ приближения искомого везде и постоянно смысла, дающегося че­ ловеку как „легкая молитва, как песня” (205). С этой точки зрения также и сказовая новелла Иисусов грех, представляющая собой „перевернутый” в ар и ан т Песни песней, умещается в основном русле бабелевского творческого поиска, поддерживающего неиссякаемую „божественную” энергию бытия.