Ю.А. Изумрудов
реклама
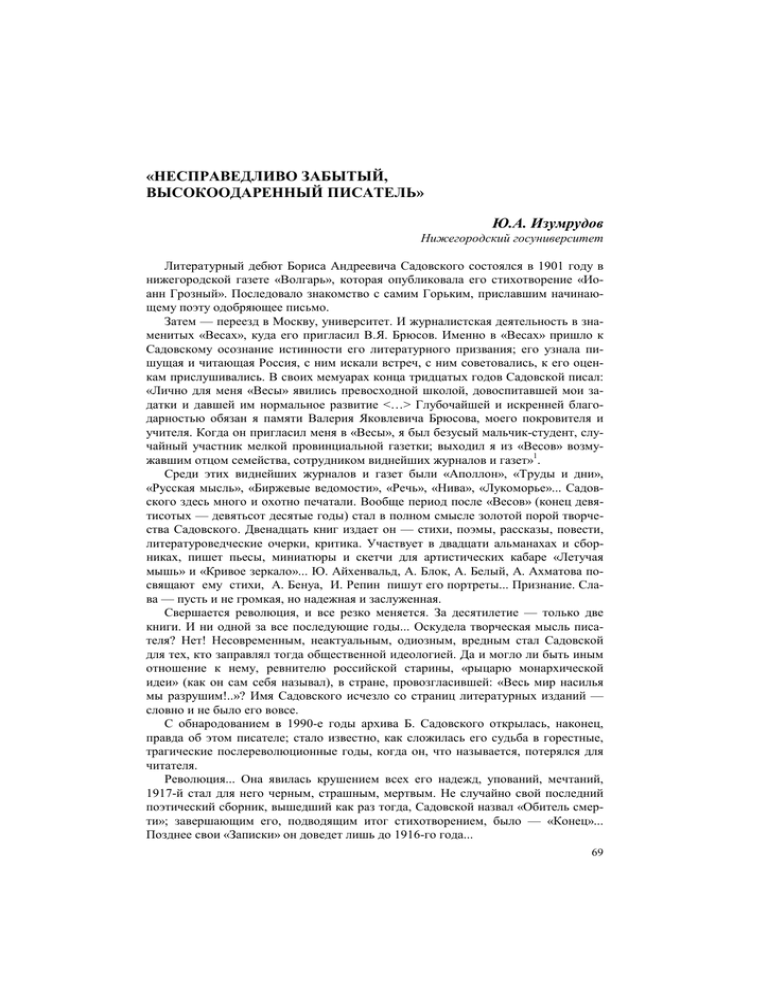
«НЕСПРАВЕДЛИВО ЗАБЫТЫЙ, ВЫСОКООДАРЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ» Ю.А. Изумрудов Нижегородский госуниверситет Литературный дебют Бориса Андреевича Садовского состоялся в 1901 году в нижегородской газете «Волгарь», которая опубликовала его стихотворение «Иоанн Грозный». Последовало знакомство с самим Горьким, приславшим начинающему поэту одобряющее письмо. Затем — переезд в Москву, университет. И журналистская деятельность в знаменитых «Весах», куда его пригласил В.Я. Брюсов. Именно в «Весах» пришло к Садовскому осознание истинности его литературного призвания; его узнала пишущая и читающая Россия, с ним искали встреч, с ним советовались, к его оценкам прислушивались. В своих мемуарах конца тридцатых годов Садовской писал: «Лично для меня «Весы» явились превосходной школой, довоспитавшей мои задатки и давшей им нормальное развитие <…> Глубочайшей и искренней благодарностью обязан я памяти Валерия Яковлевича Брюсова, моего покровителя и учителя. Когда он пригласил меня в «Весы», я был безусый мальчик-студент, случайный участник мелкой провинциальной газетки; выходил я из «Весов» возмужавшим отцом семейства, сотрудником виднейших журналов и газет»1. Среди этих виднейших журналов и газет были «Аполлон», «Труды и дни», «Русская мысль», «Биржевые ведомости», «Речь», «Нива», «Лукоморье»... Садовского здесь много и охотно печатали. Вообще период после «Весов» (конец девятисотых — девятьсот десятые годы) стал в полном смысле золотой порой творчества Садовского. Двенадцать книг издает он — стихи, поэмы, рассказы, повести, литературоведческие очерки, критика. Участвует в двадцати альманахах и сборниках, пишет пьесы, миниатюры и скетчи для артистических кабаре «Летучая мышь» и «Кривое зеркало»... Ю. Айхенвальд, А. Блок, А. Белый, А. Ахматова посвящают ему стихи, А. Бенуа, И. Репин пишут его портреты... Признание. Слава — пусть и не громкая, но надежная и заслуженная. Свершается революция, и все резко меняется. За десятилетие — только две книги. И ни одной за все последующие годы... Оскудела творческая мысль писателя? Нет! Несовременным, неактуальным, одиозным, вредным стал Садовской для тех, кто заправлял тогда общественной идеологией. Да и могло ли быть иным отношение к нему, ревнителю российской старины, «рыцарю монархической идеи» (как он сам себя называл), в стране, провозгласившей: «Весь мир насилья мы разрушим!..»? Имя Садовского исчезло со страниц литературных изданий — словно и не было его вовсе. С обнародованием в 1990-е годы архива Б. Садовского открылась, наконец, правда об этом писателе; стало известно, как сложилась его судьба в горестные, трагические послереволюционные годы, когда он, что называется, потерялся для читателя. Революция... Она явилась крушением всех его надежд, упований, мечтаний, 1917-й стал для него черным, страшным, мертвым. Не случайно свой последний поэтический сборник, вышедший как раз тогда, Садовской назвал «Обитель смерти»; завершающим его, подводящим итог стихотворением, было — «Конец»... Позднее свои «Записки» он доведет лишь до 1916-го года... 69 Революционный кошмар застает его в Нижнем. Словно по какому-то сатанинскому произволению именно в это время с особой силой обрушивается на него давний физический недуг. Были отчаяние, смятение, обреченность, запредельная тоска, мысли о смерти. И все-таки он не сломался, не пал духом, нашел в себе силы жить — и не только для себя. Парализованный, прикованный к постели, читает лекции нижегородским студентам, занимается с молодыми литераторами, пишет рассказы, стихи, философское эссе... Скольким здоровым людям он, больной, внушил веру в жизнь! О том, какая воля, внутренняя мощь, сознание самоценности были у этого человека, свидетельствует вот эта лаконичная, но очень емкая дневниковая запись: «Земля, обтачиваясь в беге вместе с моим телом, оставляет цельным мой дух. Дух сильнее солнца, ибо он бессмертен, а оно нет. В духе заключены и солнце, и земля, и движение, и бесконечность, и он сам. Поэтому он — гений»2. 1929 год ознаменовался для Садовского новым, причудливым зигзагом судьбы. Он переезжает из Нижнего в Москву и поселяется... в подвальной комнате («келье», по его словам) под алтарем Красной церкви Новодевичьего монастыря. И надо ж такому случиться — прямо против могилы Дениса Давыдова, одного из героев своей книги «Русская Камена»! Еще одна ниточка связала имена этих талантливых поэтов, прозаиков, историков, оригинальнейших личностей, истинных патриотов, радетелей земли русской. Если вчитаться, вдуматься в произведения того и другого, можно обнаружить немало общего. Не вдаваясь в подробности на этот счет (они в данной статье ни к чему), приведу лишь два суждения. Первое — Садовского о Давыдове: «В Давыдове слишком чувствуется дыхание быта, в котором нет и не может быть ничего эпического»3. Второе — Г.П. Блока, писателя, издателя, о Садовском (из письма к последнему): «Вы, конечно, знаете, в чем Ваша главная, только Вам принадлежащая и у других невиданная сила — лирика определенной обстановки, где запах такого-то момента истории, такого-то места, такой-то области представлений»4. В 1939 году в одной из часовен монастыря была устроена выставка, посвященная 100-летию со дня смерти Дениса Давыдова; среди прочего экспонировался и экземпляр «Русской Камены». И вряд ли кто из посетителей мог предполагать, что автор книги живет совсем рядом, через аллейку, у могилы поэта–партизана. И более того, может, тоже присутствовал на выставке... И он действительно присутствовал. Хоть и был парализованным калекой, но выбирался-таки иногда из «кельи» своей на свет божий: верная и преданная жена вывозила его в кресле-коляске для прогулок по кладбищенским аллейкам. Мог ли он остаться безучастным к такому событию?! Можно представить, с каким волнением рассматривал он выставленные реликвии, каким гордым чувством полнилось его больное, измученное, исстрадавшееся сердце: его очерк о Денисе Давыдове, что называется, прошел проверку временем, мало кому из дореволюционных критиков, писавших о поэте-партизане, он, Садовской, уступит, — разве что самому Белинскому. Да и в советской литературе удачных, стоящих работ — раз-два и обчелся: статьи В.Н. Орлова, Б.М. Эйхенбаума... Лишь частично советскими учеными осуществлено то, о важности и необходимости чего писал он сам еще почти три десятка лет назад: «Сочинения Давыдова заслуживают быть изданными Академией Наук в полном объеме, с приложением многочисленных портретов, автографов, иллюстраций, планов и писем автора»5. Изданы лишь стихотворения — в авторитетной горьковской серии «Биб70 лиотека поэта» — красный матерчатый том с черным силуэтом автора на обложке: он тоже экспонировался на выставке в Новодевичьем монастыре. Интересно и поучительно перечитывать «Русскую Камену» — не только давыдовский, а и другие ее очерки. Лучшие из них, на мой взгляд, — о Веневитинове и Фете. С блеском проявилось здесь умение обобщать, смотреть в корень, подчеркивать злободневное, актуальное. Подумать только, очерк о Фете, гениальном лирике, начинался сразу с этого вот очень жесткого, хлесткого, задиристого, даже обидного для искушенного читателя тезиса: «Вот поэт, о котором русская художественная критика и не умела, и не хотела ничего сказать. Сам по себе тот факт, что Россия целиком прозевала Фета, страшен: он заставляет усумниться в праве нашем на национальное бытие»6. Излишне эмоционально, может быть, но ведь верно же по сути. Невозможно удержаться, чтобы не привести еще одно суждение из очерка о Фете — может быть, и небесспорное, но какое яркое, эффектное, поэтичное! — «Поэзия его в противоположность человеческой пушкинской — стихийна, и как поэзию Пушкина хочется сравнить с красотою цельного в своей самобытности старорусского быта, так поэзию Фета можно уподобить морю. Если исторически сложившийся огромный быт внешне легко упрекать и даже осмеивать за своеобразие некоторых его явлений, то как и за что порицать море? За необъятность ли синей его дали, за влажность ли соленых ветров, за бурю ли, за тишину ли?»7. Художник (а Садовский был им прежде всего) остается верен себе и в жанре историко-литературного очерка. Очень высоко оценил «Русскую Камену» А.А. Блок — сразу же по ее прочтении — в обстоятельном доверительном письме к автору: «...эта книга настраивает душу лучше многих прекрасных стихов тем именно, что возвращает чистейшие юношеские переживания любящим поэзию, в частности — русскую. Вы как бы нашли фарватер среди мелей русской литературы и литературной истории. Для этого мало любви к истории только или любви к архивам и библиографии, но необходима живая любовь. Потому я думаю, что Ваша книга, при всей своей целомудренной сдержанности (или, скорее, именно потому, что она этим целомудрием исполнена), — входит прямо в жизнь; оценки Ваши в большинстве случаев должны стать «классическими». Меня эта книга и научила, и вдохновила, и многое мне напомнила. Ее свойство — напоминать не страшные песни «про древний хаос, про родимый», но шевелить те струны, которые поют: «О нет, нам должно жить! Лучом и светлой пылью...» <...>; за это последнее хочу поблагодарить Вас специально. Очень запоминаются отдельные афоризмы и замечания (аналитически острые)...»8. Похвала Блока дорогого стоила. Для Садовского было важным узнать именно его мнение, отчего сразу же по напечатании книги выслал ему экземпляр. Блок вообще значил весьма много в творческой судьбе Садовского. В воспоминаниях о вдохновенном певце «Прекрасной Дамы» черпал он для себя утешение и успокоение в одинокие затворнические монастырские годы: словно бы оживали встречи, беседы, общие надежды и мечты, споры об искусстве... Блок был в числе тех, кто поддержал его самую первую книгу — поэтический сборник «Позднее утро». «Читаю «Позднее утро», многое полюбил, особенно — деревенское»9, — кратко, но ёмко известил он автора осенью 1910-го года. А таким было мнение о книге статей «Озимь»: «Может быть, еще многое придется сызнова переоценивать Вам самому. Вероятно, для окончательных оценок еще не настало время; но то, что Вы пишете о деревне русской, останется незыблемым»10. В 71 книге, изруганной многими, Блок увидел то, что и следовало увидеть, — действительно достойное, нетленное — идущую от самого сердца сыновнюю любовь к России, неподкупную пламенную веру в нее — истинную, исконную, патриархальную. Блоку, до мозга костей человеку города, рожденному и воспитавшемуся в условиях, воспринимавшихся им как «страшный мир», были по-особому близки заветные мысли Садовского, что великая их родина всегда держалась и будет держаться деревней, провинцией, ценностями старорусского быта, традиционной культуры. Вот поистине вещие, пророческие строки «Озими» (из обращения к «господам футуристам» в статье «Футуризм и Русь»): «Там, за вашими столицами, где родились и выросли вы, как корабельные крысы в трюме, за миром редакций, кабачков, кулис, авансов, бульваров, за эстрадами, где плюете вы в великих художников и выкликаете свои дырбулщуры, — там стелется и шумит хлебным океаном старая, святая, великая наша Русь, которая вас не знает и знать не хочет. Ведь это вы к нам пойдете, в нашу родную глушь, в трущобы наши лесные, в провинцию, к уездным лампадкам, к монастырским колоколам, к прадедовским могилам, в Михайловское, на Светлое озеро, в Ясную Поляну, туда, где Всю землю, грустно-сиротлива, Считая родиной скорбей, Плакучая склоняет ива Везде концы своих ветвей. И не дай бог, лопнет вдруг шина на моторе или бензину не хватит, что тогда? Ведь Гоголевская тройка вас перегонит <...>. Там где-то, в деревенской глуши, в городках уездных, на постоялых дворах, на родительских погостах, сидят те, кому дано двинуть, обновить Россию и освободить ее искусство и язык. Добро пожаловать, дорогие гости! На плечах своих благоговейно принесете вы из заповедного захолустья те самые древнего письма дедовские иконы, что похваляются здесь побросать в воду столичные авиаторы и шоферы»11. В подобном же духе было выдержано и вступление ко всей книге. Сообщая, что пишет его «в деревенском глухом затишье, средь занесенных снегом полей, в глубинах чистейшей тишины и легкого одиночества», «в родных дебрях», где первейшие ценности — «старорусская культура и здравый смысл», автор демонстративно отсекал себя от всех этих футуристических «авиаторов и шоферов» и показывал, что он всем сердцем с теми, кто «там, во глубине России», вершит неброскую, но такую нужную подвижническую работу, за кем Будущее. Вдумчивые читатели, давно следившие за произведениями Садовского, — среди них и Блок, — конечно же, видели и в нем самом одного из таких подвижников. Живительной стихией старорусской жизни повеяло на Блока со страниц таких разных книг — «Озими», «Позднего утра», «Русской Камены». В последней, среди прочего, в давыдовском очерке, ему особенно запомнились размышления «о творцах эпохи, эпиграфом жизни которых служит: «береги честь смолоду»12. Блок в данном случае имел в виду вот эти проникновенные строки Садовского: «Великолепна была сама внешность событий: Бородино, Москва, Париж, гром оружия, орлы, лавры, живописные герои, имена которых сразу сделались народными. А в сущности, главными деятелями великой эпохи были скромные Белкины и Гриневы, повесть жизни которых начиналась эпиграфом: «Береги честь смолоду». Вос72 питанные в здоровых условиях подлинного, еще не тронутого, старорусского быта, Гриневы и Давыдовы воспринимали настоящую, нормальную жизнь, не подмененную никакими теориями <...> Давыдов был одним из ростков этого старого культурного быта, умершего вместе с ним, с Пушкиным, с романтизмом, с «преданьями простонародной старины» <...> В своей удивительно написанной «Автобиографии» Давыдов <…> рассказывает о своем воспитании <...> Так или почти так воспитывался и пушкинский Гринев, находясь в постоянном общении с природой, развивавшей свободно и широко все его духовные свойства. И из пухлого дворянского недоросля выходил человек долга, для которого «беречь честь смолоду» являлось высочайшим заветом жизни»13. Блок был внимательным читателем Садовского, ценил его не только как поэта, литературоведа и критика, но и как незаурядного прозаика. Так, рассказ 1911 года «Стрельчонок» его просто заворожил; в кругу своих близких Блок заинтересованно обсуждал его, восхищаясь художественным мастерством автора, мудростью и взвешенностью его исторической концепции. Само прошлое как бы заговорило. И что-то исконное опять, старорусское почувствовалось... Блок посчитал важным в подробностях перенести свои впечатления на страницы дневника: «Нас застал за чтением <...> Кузьмин-Караваев. Он прочел за чаем вслух последний рассказ Садовского (о Петре, очень сильно). «Пушкин, Достоевский, Мережковский — закапывают Петра. Ключевский и Садовский — первый еще бессознательно — его откапывают: лицо, а не демона. Но и не совсем так, ибо Петр — и жертва и демон (как Чацкий). Пьяный Петр, заставляя восьмилетнего сына рубить голову стрельчонку зазубренным топором, действует и как стоящая выше окружающего или владеющая демоническая сила и как жертвенное лицо, принесшее «службу» (он еще Москва; «окно», в которое он высунулся, — там воздух отравленный, воздух белых ночей, а не в нем самом отрава) свою, всего себя, для будущей цивилизации». В кавычках — мысли Кузьмина-Караваева, мной воспринятые, взаимное согласие»14. Блок на всю жизнь остался для Садовского примером истинного служения искусству, «поэтом в полном значении слова», необычайным эрудитом, человеком редкого обаяния — «обаяния высшего разряда». Одно время он даже обдумывал роман о Блоке, записывал разговоры с ним, оригинальные мысли его. В общении с Блоком — и не только литературном, но и бытовом — неизменно ощущал заботу его, искреннее участие, какую-то особенную предупредительную нежность. В наиболее горестное для себя время, парализованный, именно к нему обращался за содействием в исходатайствовании заграничной поездки для лечения. Блок, увы, сам тогда был смертельно болен и помочь уже ничем не мог... Тоже нуждался в лечении за границей, однако большевистская власть не удосужилась принять нужных для этого мер... Спустя три месяца Блока не стало... В 1946-м, в тридцатилетнюю годовщину со дня встречи с Блоком, Садовской написал специальные воспоминания о нем. Мечтал увидеть в печати. Увы... Не было особой надежды и на публикацию других воспоминаний. Однако они — вопреки всему — писались: затворническая жизнь побуждала. О Брюсове, кумире молодости, и счастливой и веселой поре «Весов». О нижегородских встречах с Горьким. О Репине, с которым познакомился у Чуковского в Куоккале: художник симпатизировал автору нашумевшего «Самовара», написал его портрет, который знатоки считают настоящим шедевром. 73 Сколько любопытного в этих полубеллетристических воспоминаниях! Известное и неизвестное. А как великолепны портретные миниатюры! Вот каким, к примеру, увиделся автору Андрей Белый: «Темно-русое руно пышных, едва начинающих редеть кудрей; детский прерывистый голос и наивный смех; нервно дрожащие пальцы; слегка приседающая походка. Алкоголь и никотин еще не успели обесцветить чудесные глаза, погасить вдохновенный пламень «очей божественнопустых». Таков Борис Николаевич Бугаев — Андрей Белый — сын знаменитого профессора математики. В поэтической внешности Белого какое-то детское вахлачество; так и ждешь: вот-вот начнет он сосать леденец или собственный палец. Странно видеть на этом ребячьем лице усы. Стихи свои Белый не читает, а поет высоким приятным тенором, упираясь ладонями в колени и закрывая глаза. Одеваться он не умел. Щеголял то в потертой студенческой тужурке, то в мешковатом неуклюжем сюртуке, должно быть, перешитом из отцовского, то в какой-то кургузой курточке. Страшную школу прошел Андрей Белый: он вырос в профессорской среде. Я думаю, если бы Пушкина или Льва Толстого засадить с пеленок на Арбат в квартиру профессора Бугаева, в общество Стороженок и Веселовских, они бы или кончили самоубийством, или сошли с ума. Белый остался жив и здоров, но... Конечно, художнику все на пользу, и Достоевский только по милости каторги сделался Достоевским, зато такие метаморфозы даром не проходят. Несомненно, Белый страдал циклотимией. Разговаривать с ним тяжело. Он слушает только себя, причем избегает смотреть в глаза собеседнику, не отвечает, часто забывается. О чем и зачем говорить с человеком, над которым только что прошел курьерский поезд, которого сняли с эшафота за секунду до казни? Еще можно сравнить Белого с астрономом, открывающим новую планету. Пусть за стеной у него умирает сын, пусть жена изменяет тут же на глазах: он не отойдет от телескопа. Талант Белого колеблется на грани гениальности. Без пяти минут гений»15. В своих мемуарах 30-х годов Андрей Белый сделал как бы ответный жест — нарисовал портрет Б. Садовского, также весьма выразительный, хотя и несколько шаржированный: «Часто являлся к нам в «Весы» поджарый, преострый студентик; походка — с подергом, а в голосе — ржавчина; лысинка метилась в желтых волосиках, в стиле старинных портретов причесанных крутой дугой на виски; глазки — карие; съедены сжатые губы с готовностью больно куснуть те две книги, которые он получил для рецензий; их взяв, грудку выпятив, талией ерзая, локти расставивши, бодрой походкой гвардейского прапорщика — удалялся: Борис Садовской, мальчик с нравом, с талантами, с толком, «спец» в технике ранних поэтов и боготворитель поэзии Фета...»16. Здесь, помимо всего прочего, особенно интересно упоминание о Фете: многие, когда писали о Садовском, выстраивали подобный контекст. Фет был для Садовского знаковой фигурой в литературе. Он писал о нем многократно — не только в «Русской Камене», но и в «Ледоходе», литературоведческом сборнике 1916 года (Г. Иванов, к примеру, включил его в число лучших современных книг подобного рода), в журнальных статьях, изучал рукописи его, собирал биографические материалы, предполагал издать «Летопись жизни и творчества Фета»... Если бы не болезнь, не позволившая в дальнейшем систематические научные занятия, отечественное литературоведение, без сомнения, обогатилось бы капитальнейшим, во многом итоговым для того времени исследованием творческого пути гениального русского лирика. Но и то, что успел сделать Садовской, дает основания навсегда включить его в число первопроходцев фетоведения. 74 В монастырские и предмонастырские годы Садовской, помимо мемуаров, писал и художественную прозу (повести «Амалия», «Императрица Евгения», «Кровавая звезда», «Табакерка», «Александр Третий», романы «Шестой час», «Пшеница и плевелы»), а также стихи, эссе, дневник... Постперестроечная, первая, публикация всего этого стала откровением для читателей: многие ведь совершенно не ведали о существовании такого писателя; впрочем, многие не ведали об этом и тогда, когда он хоть и с трудом, но здравствовал и на полном серьезе строил планы издания семитомного (!) собрания сочинений; более того, даже близкие Садовскому люди, прежние знакомцы, приятели, зачастую ничего не знали о нем (к примеру, В. Ходасевич, один из преданнейших друзей, в 1925 году опубликовал в одной из парижских газет... поминальный очерк о нем, хотя земной путь писателястрадальца закончился лишь в 1952-м). Ныне творчество Садовского с полным основанием осознается как самобытнейшее, уникальнейшее явление в отечественной словесности XX столетия. Стоит прислушаться к суждению самого авторитетного из современных его исследователей — С.В. Шумихина: «Его яркое дарование выделяется даже на фоне блестящей плеяды литераторов «серебряного века». Числить Садовского в категории полузабытых, второстепенных писателей, как продолжалось на протяжении нескольких десятилетий, — позорное расточительство и пренебрежение талантом, которыми в другой стране законно бы гордились»17. Что же касается «другой страны» — вот мнение известного немецкого слависта, профессора Кельнского университета, автора «Лексикона русской литературы XX века» Вольфганга Казака: «Садовской — несправедливо забытый, высокоодаренный писатель»18. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Садовской Б.А. Весы (Воспоминания сотрудника) // Минувшее: Исторический альманах. Т. 13. М.; СПб., 1993. С. 37. 2 Садовской Б.А. Заметки. Дневник. (1931–1934) // Знамя. 1992. № 7. С. 181. 3 Садовской Б.А. Лебединые клики. М., 1990. С. 340. 4 Письмо Г.П. Блока Садовскому от 22 октября 1921 г. // РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед.хр. 55. 5 Садовской Б.А. Лебединые клики. М., 1990. С. 357. 6 Там же. С. 379. 7 Там же.С. 380. 8 Блок А.А. Собр. соч.: В 8-и т. Т. 8. М.; Л., 1963. С. 322. 9 Переписка А.А. Блока с Б.А. Садовским // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 1–5: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 2. М., 1981. С. 309. 10 Там же. С. 313. (курсив мой. — Ю.И.). 11 Садовской Б.А. Озимь. Статьи о русской поэзии. К. Бальмонт. А. Блок. В. Брюсов. И. Северянин. Футуристы. Пг., 1915. С. 25–26. 12 Блок А.А. Собр. соч.: В 8-и т. Т. 8. М.; Л., 1963. С. 322. 13 Садовской Б.А. Лебединые клики. М., 1990. С. 342–343. 14 Блок А.А. Собр. соч.: В 8-и т. Т. 7. М.; Л., 1963. С. 81–82. 75 15 Садовской Б.А. «Весы» (Воспоминания сотрудника) // Минувшее: Исторический альманах. Т. 13. М.; СПб., 1993. С. 25. 16 Белый Андрей. Начало века. М.; Л., 1933. С. 384. 17 De visu. 1993. № 4. С. 15. 18 Казак Вольфганг. Лексикон русской литературы XX века. М., 1996. С. 360. 76
