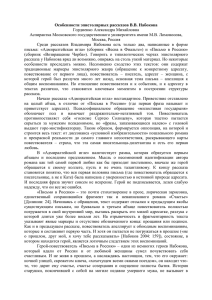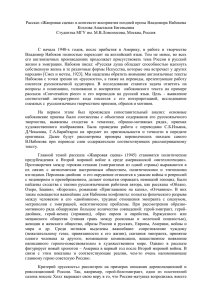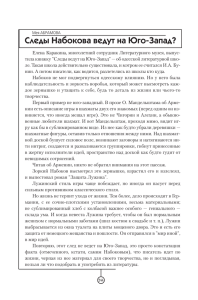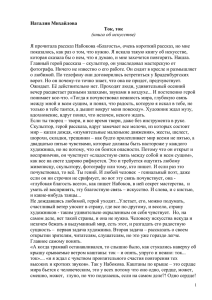технически и идеологически организованного мира. ... ратура эмиграции (особенно третьей волны) не представля
реклама

технически и идеологически организованного мира. По­ этому литературу второй половины века делали не только художники нового поколения, но и прошедшие через вой­ ну (А. Солженицын, В. Астафьев, А. Тарковский). Важно одно; вместо дробной периодизации по десятилетиям, по историческим ситуациям предлагается более крупная, ос­ нованная на изменении кардинальных представлений о бытии и существовании человека в нем. Судьба литературных течений показывает научную ложность разделения двух потоков русской литературы в XX веке: метрополии и диаспоры. Идеологически разде­ лённые, они представляют существование разных версий реальности в русской культуре. Первая эмиграция развивала оттфьпия начала века, сде­ ланные в России (как русский реализм, так и русский аван­ гард), третья эмиграция лучщее создала на родине, до роко­ вого 1974 года, открывшего период вьшужденной эмигра­ ции, да и созданные за пределами генетической культуры произведения вписываются, соотносятся с теми художест­ венными системами, которые развивались в СССР. Будучи единой субкультурой внутри чужой культуры русская лите­ ратура эмиграции (особенно третьей волны) не представля­ ет эстетического единства: в ней представлены и религиоз­ ный экзистенциализм, и социальный гротеск, и модернгом, и количественно весомый постмодернизм. По эстетическим критериям ближе окажутся писатели, разделенные социаль­ ными границами, чем эстетическими: Б. Можаев и А. Сол­ женицын ближе, чем А. Битов и В. Белов, С. Довлатов и Е. Попов - ближе, чем В. Максимов и А. Синявский. Обратим внимание и на историко-литературный факт - «на встречу» двух волн эмиграции. Пожалуй, лишь В. Набоков подал руку новому поколению в лице Саши Соколова, но это уже другой Набоков, поздний, в чьём творчестве проявились принципы постмодерни­ стской поэтики, автор «Лолиты». В целом же первая эмиграция не приняла в писателях третьей эмиграции не только их «советскость», но и новую эстетику, так как сохраняла почти музейно эстетику начала века. Факт этот свидетельствует о верности выделения в ли­ тературном процессе XX в. двух периодов, что не про­ тиворечит тезису о единстве литературы XX в. как цикла литературного развития. ЛИТЕРАТУРА и ПРИМЕЧАНИЯ 1. Вопросы литературы. 1987. X®9; 1996. К® 3; 1997 X® 2; 1998. X® 1,2, 2. Знаменательно название работы В. Паперного «Культура Два» (М., НЛО, 1996), воскрешающее идею столь антипатичного автору В. Ленина о двух культурах в одной национальной культуре. 3. Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Феноменология. Герменевтика. Философия языка. М.: Гнозис, 1993. Статья представлена кафедрой теории литературы и русской литературы XX века филологического факультета Томского государственного университета, поступила в научную редакцию 25 мая 1999 г. УДК 82.09 Е.В. Антошина РАННЯЯ ПРОЗА В. НАБОКОВА В КОНТЕКСТЕ ХРИСТИАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВА Ранняя проза в. Набокова рассматривается в контексте христианской философии искусства, а также в контексте философии искусства, представленной статьями А Белого и О. Машюльипама Набоков воспринимает протведения искусства как преображающее мир от­ кровение. Читатель же (или герой) не способен воспринимать спасительную весть, содержащуюся в слове или тексте. «... Он заполнял собою всю комнату, всю гостини­ цу, весь мир. Правое крыло согнулось, опираясь углом в зеркальный шкаф... Бурая шерсть на крыльях дыми­ лась, отливала инеем. Оглушенный ударом, ангел опи­ рался на ладони, как сфинкс», - так описывает появле­ ние невероятного небожителя герой рассказа В. Набо­ кова «Удар крыла» (1923). В этом описании поражает нетрадиционный подход автора к изображению обита­ теля рая. Вообще описания ангелов в светской литера­ туре встречаются сравнительно редко. О пушкинском ангеле (стих. «Ангел», 1827), например, можно сказать очень мало: «ангел нежный», сияющий «главою по­ никшею». Нежность и сияние «духа чистого» вызыва­ ют «жар невольный умиленья» у демона, т.е. Пушкина интересует прежде всего воздействие ангельской свет­ лой печали, помогающей демону преодолеть презрение к миру и ненавиаь к небу, но не облик ангела. Для по­ эта образы ангела и демона символизируют состояния духа, поэтому изображения почти схематичны. Замеча­ тельно, что у Пушкина с человеком «общается» именно демон (если исключить шестикрылого серафима, кото­ рый пересоздает пустынного странника в пророка), «злобный гений> из стихотворения 1823 г. Сюжет о взаимоотношениях ангела, демона и человека получает продолжение в лирике Лермонтова. Лермонтов создает образ ангела поющего, и эта деталь оказывается почти единственно ноюй. Зато в поэмах «Ангел смерти» и «Демон» представлены глубины демонической «психо­ логии». Демон Лермонтова похож на «вечер ясный; Ни день, ни ночь, - ни мрак, ни свет!» Демонов Пушкина и Лермонтова с героем рассказа Набокова о^ед и н яет одно и то же состояние духа («дух отрицанья, дух со­ мненья» - у Пушкина, «Печальный Демон, дух изгна­ нья» - у Лермонтова, «Библейский Бог. Газообразное позвоночное... Не верю» - у В. Набокова). Сюжет на­ боковского рассказа напоминает сюжет поэмы «Де­ мон»: ангел прилетает к соседке Керна по гостинично­ му номеру, в то время как сам он собирается застре­ литься. В конце ангел ударом крыла убивает Изабель, летящую на лыжах с трамплина. Главным элементом ангельской природы для Лермон­ това и Пушкина является свет («блистающее чело», «венец из радужных лучей» у ангела-хранителя Тамары и т.д.). Ангел Набокова издает звуки, похожие на лай, а когда ему прищемили крыло - «вопль зверя, раздавленного коле­ сом». Постоянно подчеркивается звериное начало в нем; «звериный запах», крылья покрыты «сырой пахучей шер­ стью», Керн предполагает, что ангел «живет на вершине, где ловит горных орлов и питается их мясом». Ангел вы­ зывает отвращение и «тошный ужас», что передается че­ рез описание осязательных ощущений Керна; <о(олодные, липкие плечи», «бледные и бескостные ноги». Герой рассказа находится в состоянии юкзистенциального отчаяния», он все потерял в земной жизни и стоит перед искушением самоубийства. Однако, прежде чем ре­ шиться на это, он поднимается в горы (дейстеие рассказа 73 происходит на горном курорте), чтобы убедиться в пустоте небес. Здесь Керн встречает своего искусителя, некоего Монфисфи, который говорит о Боге, но скорее о Боге Вет­ хого Завета:«... Дело в том, что Он не один, много их, биб­ лейских богов... Сонмище... Из них мой любимый...», «От чихания его показывается свет, глаза у него, как ресницы зари». С другой стороны, он хочет присутствовать при са­ моубийстве Керна. Можно предположить, что и ангел На­ бокова - ветхозаветный. Он неубедителен для Керна, по­ скольку не приносит вести, может быть, спасительной во­ преки своему предназначению. Надежда героя ртссказа На­ бокова на восстановление онтологического единства «тва­ ри» и (лвориа» рушится. Но для автора ситуация поиска такого единства не прекращается. Упоминание о рассказе «Удар крыла» не случайно. Описанная в нем ситуация представляет собой вариант изобличения «неистинной» реальности и выхода из нее и является одной из ключевых для новейшей литературы. «Недоверие» к реальности стало одним из моментов в становлении философии нового искусства. Замысел всеобщих эстетических преобразований нашел свое во­ площение в практиках «стиля модерн», а складывался он постепенно в художественном опыте поэтов-символистов Франции, в «новой драме», в живописи, в му­ зыке Скрябина и Вагнера, в философских трудах Берг­ сона и Ницше, Соловьева, Бердяева и др. Обобщенно и схематически программа «стиля модерн» сводится к идее «преображения реальности», поскольку только в мире искусства «создается (а не воссоздается, вопло­ щается, отражается) истинная красота, прикосновение которой озаряет собой неэстетическое бытие» [1]. Твор­ ческая деятельность понимается как «художественная фантазия, уподобленная творящим силам природы», художник выступает в роли творца, преобразующего «материю» в эстетическую субстанцию, соединяющую духовное и вещное бытие. В поэзии и литературе «ма­ терией» является слово, язык. На русской почве, в опыте поэтов-символистов и пре­ жде всего в творчестве А. Блока идея эстетичекого преоб­ ражения реальности в 1900-е гг. накладывается на по­ черпнутые из философии В. Соловьева идеи явления Со­ фии. Художественным воплощением этого синтеза идей является, как известно, цикл «Стюсов о Прекрасной Да­ ме», парадоксальность которого К. Мочульский видел в том, что «в центре этого романа в стихах (...) стоит мисте­ рия богоявления. Так же, как и В. Соловьев, Блок верит, что история кончена, что наступает Царство Духа и пре­ ображения мира» [2]. Однако мир Блока, создавшего в 1906 году пьесу «Балаганчик», несет отпечаток апокалип­ тических видений. Судьба Блока, таким образом, как и действие его пьесы, строится вокруг отсутствия собьпия, вокруг «пустоты» (метафизической). «Мистерия богоявления», с одной стороны, и образы «пустоты», с другой, - эти два полюса блоковского поэти­ ческого мира создают «силовое поле», в котором протека­ ет развитие русской литературы первой трети XX в. и тех произведений, которые «по духу» связаны с этой эпохой (роман Б. Пастернака «Доктор Живаго»). Будучи мистиком и «духовидцем» Блок почти лишен рефлексии по поводу «материала» творчества, по поводу слова. Однако проблема диалога, вызревавшая подспудно в поэзии бесплодных ожиданий Прекрасной Дамы и снежных вихрей, где кружатся маски, существовала, и у поздних символистов вылилась в создание особой фило­ софии письма. Философия письма и представления о ста­ тусе слова в позднем символизме содержатся в трудах А. Белого, одного из теоретиков направления. Для него 74 статус слова тесно связан с представлением о творчестве, которое существует «прежде сознания», как внелогиче­ ская форма познания мира Слова «образной речю>, по Белому, способны выразить «логически невыразимое впе­ чатление мое от окружающих предметов» [3], то есть при­ рода слов осмысливается вне их принадлежности системе языка, точнее - исходя не только из этой принадлежности. Слово у символистов является выражением «сокровенных тайн природы»; прежде всего улавливается, устанавлива­ ется связь слова с внешним миром. И для слов мир не яв­ ляется «внешним», поскольку они - живые сущности, со­ ставляющие основу бытия: «Если бы не существовало слов, не существовало бы и мира» («Магия слов»). Осо­ бенностью слова является то, что «оно есть сущность, об­ леченная в звук». И звуковая «протяженность» слов играет посредническую роль между «я» и «миром». «Я» и «мир» спиваются в звучащем слове, (уществуют друг для друга в слове, то есть, в сущности, слово является сры тием. Зву­ ковая оболочка слова является одновременно и символом, знаком, в котором внеположенная сознанию данность ми­ ра соотносится с «бессловесным, бессмысленным миром, который роится в моей личности». Звучащее слово для Белого является моментом воссоздания события мира: «...в слове воссоздаю я для себя окружающее меня извне и изнутри, ибо я слово и только слово» («Магия слов»). Слово как символ является событием особого рода Оно рассматривается как событие пространства и времени, воплощенное, явленное в звучании: <авук есть объектива­ ция времени и пространства». Соприкосновение про­ странства и времени порождает причинность, именно это позволяет символистам заявить, что «слово творит при­ чинные отношения, которые уже потом познаются». На­ звать явление адекватным словом, отражающим его при­ роду, - значит вызвать в реальности «отклик», событие названного предмета или явления. Отсюда происходит метафора магии словесного творчества. Более понятным станет учение Белого о слове, ко­ гда мы попытаемся создать целостный образ филосо­ фии письма. Уже в статье 1909 г. «Настоящее и буду­ щее русской литературы» А. Белый определяет буду­ щее литературы как религии жизни. Актуальна для не­ го также и идея преображения: «Русская литература XIX столетия - сплошной призыв к преображению жизни». Еще более ярко и явно эта идея прозвучала у Н. Бердяева в его работе «Смысл творчества», где го­ ворится об антропологическом откровении творчества: «религиозная эпоха творчества есть третье откровение, откровение антропологическое, следующее за открове­ нием Ветхого и Нового Завета» [4]. Творчество в дан­ ном случае рассматривается как обретение нового ре­ лигиозного опыта, в котором произошло бы слияние Бога и мира, претворение культуры в бытие. «Путь к красоте, - пишет Бердяев, - как сущему, к космосу, к новому небу и новой земле есть путь религиоз­ но-творческий» [5]. Художественным воплощением этого комплекса идей можно считать роман Б. Пастернака. Примечательно, что Пастернак, вошедший в литературу впервые как поэт-футурист, экспериментирующий со сло­ вом, эволюционировал к идее религиозного искусства, где отдельная человеческая жизнь становится (по определе­ нию юрятинского «философа» Симы Тунцевой) «Божьей повестью» и «наполняет своим содержанием пространство вселенной». Заметим еще, что слово в религиозном искус­ стве определяется Бердяевым как «плоть». В свете перечисленных эстетических и философских концепций начала века рассказ В. Набокова «Удар крыла» можно считать попьпхой разрешить проблему религиозно­ го опыта в искусстве. Попытка была не единственной. Тема общения с «потусторонним» тесно связана у Набокова с гфоблемой оправдания творчества, самой его возможности. сЬеюда - тема «забытых слов» (например, в «Приглашении на казнь»), когда письмо оказывается невозможным. Впер­ вые эта тема возникает в рассказе 1923 г. «Слово». Существует мнение, принадлежащее немецкому ис­ следователю Aage А. Hansen-Love из Мюнхена, что На­ боков был по складу своему художником, очень близким акмеистам, акмеистом, пишущим прозу. Общеизвестным является тот факт, что акмеисты, как представители другой (по сравнению с символистами 900 - 10-х гг.) исторической и культурной эпохи, «преодоле­ вая символизм», пытались выразить собственное ощуще­ ние жизни и перестроить символистскую «картину мира» на собственный лад. Статья О. Манделышама «Утро ак­ меизма» (1919 г.) стала манифестом нового движения, где автор пытается отграничить акмеизм от символизма как мироощущения и системы художественных средств. Вопервых, он говорит о необходимости нового подхода к произведению искусства. Отказываясь от идеи жизнестроительства, пересоздания жизни по законам искусства, Мандельштам говорит о самоценности творчества и его результата: «Для огромного большинства произведение искусства соблазнительно лишь поскольку в нем просве­ чивает мироощущение художника. Между тем мироощу­ щение для художника орудие и средство... и единственное реальное - это само произведение» [6]. Известно, что в многочисленных интервью В. Набоков отвечал приблизи­ тельно так же на вопросы, связанные с его «мировоззре­ нием» как основой творчества. Речь идет о принципиаль­ но ином подходе к результатам творчества, подразуме­ вающем особый статус произведения искусства, его само­ стоятельное бытие, «онтологию», вне связи с биографией или «мировоззрением» автора. Можно сказать, что для Мандельштама и Набокова произведение предстает как <(текст», «созданное», обладающее особым бытием, от­ дельным от бытия автора. Но это не означает, что <пекст», однажды созданный, теряет связь с создателем. Он явля­ ется особой формой существования, отличной от действи­ тельности. «Существование» и «действительность» не то­ ждественны для Мандельштама: «Существовать - высшее самолюбие художника. Он не хочет другого рая, гфоме бытия, и когда ему говорят о действительности, он только горько усмехается, потому что знает бесконечно более у^дигельную действительность искусства». Действитель­ ность «неу^дительна» для акмеистов. Что это означает? Никому из акмеистов не могла явиться Прекрасная Дама, никто из них не мог бы служить «Вечной Женственности» или Софии в лице земной женщины. В акмеизме начался процесс деонгологизации реальности, разрушение причинночщедственных связей постепенно привело к поэтике абсурда - у Хармса, например. Однако сам акмеизм, ко­ нечно же, далек от деструктивного отношения к реально­ сти, она просто «неубедительна», то есть ее бытие пред­ ставляется более случайным, чем бытие произведения искусства. Если спроецировать опыт акмеистов на фило­ софские построения Бердяева, то акмеизм оказывается как бы запертым в гробнице культуры, вследствие чего у Мандельштама находим: «Я слово позабыл, что я хотел сказать» (1920 г.), тему невошющенных слов, забытых: «А смертным власть дана любить и узнавать. Для них и звук в персты прольется. Но я забыл, что я хочу сказать, И мысль бесплотная в чертог теней вернется». Реальность уподобляется «аду», «слепку», «негати­ ву», «кинопленке», в то время как произведение ис­ кусства обладает «чудовищно уплотненной реальнос­ тью» и уподобляется «раю», т.е. наделяется статусом бытия вне времени. Отсюда проистекает такая компо­ зиционная черта набоковского романа, как «ускольза­ ние» от реальности, враждебной, деструктивной, пу­ гающе бессмысленной, в пространство творчества, об­ ладающего «подлинным бытием», как и воспоминание. У Даниила Хармса в повести 1939 г. «Старуха» дейст­ вительность предстает еще более страшной, чем у На­ бокова. Дело в том, что у Хармса в «Старухе» сама возможность письма, словесного творчества еще более тесно сопряжена с проблемой выхода в пространство диалога с Богом. Говоря словами М. Бахтина, «отрица­ ние здешнего оправдания переходит в нужду в оправ­ дании религиозном, он (герой) полон нужды в проще­ нии и искуплении, как абсолютно чистом даре (не по заслугам), в ценностно сплошь потусторонней милости и благодати» («Автор и герой в эстетической деятель­ ности»). Герою Хармса не удается «доказать свое alibi в событии бытия», конкретно - избавиться от мертвой старухи. Старуха в данном случае является следующим (и завершающим) образом деонтологизированной ре­ альности по сравнению с набоковскими «манекенами» и «мрачными идиотами», символом тотальной, законо­ мерной, «окончательной» смерти. Не случайно герой пытается выяснить, верит ли кто-нибудь в бессмертие. В статье 1913 г. «О собесед нике» Мандельштам решает проблему диалога и «оправдания» в творчестве несколько иначе, чем Хармс. Поэт не говорит с «ближними», не гово­ рит он и с Богом, т.е. его поэзия не есть ответ на «божеств венный призыв». Вслед за Боратынским, Мандельштам ищет читателя в отдаленном будущем. «Поэт связан только с провиденциальным собеседником», с тем, кого он не зна­ ет, с провиденциальным Другим, если пользоваться терми­ ном Бахтина. Это обращение к неизвестному Другому, вре­ мя которого - будущее, выдает гпубо1у ю потребность по­ этического слова в событии прочтения, которое не может бьпъ осуществлено современниками: «Расстояние разлуки стирает черты милого человека. Только тогда у меня возни­ кает желание сказать ему то важное, что я не мог бы ска­ зать, когда владел его обликом во всей его реальной полно­ те» («О собеседнике». В данном случае речь вдет скорее об умершем, недосягаемом Другом, и этот непроизвольный сдвиг в рассуждении Мандельштама о будущем читателе знаменателен В обратной перспективе читатель представ­ ляется ум^)шим в настоящем (или не рожденнымХ и ему предстоит воскреснуть в будущем в сры тии прочтения, понимания. Проблема выхода из «гробницы культуры» к бытию решается через восгд)есение в слове - событии про­ чтения. Примечательно, что и читатель воспринимается как «воскресший Другой». Проблема онтологического оправдания творчества ре­ шается акмеистами с помощью представления о «божест­ венной сложности», целесоофазной организованности ми­ ра. Набоков естественно вписывается в круг акмеистских представлений, если вспомнить его увлечение бабочками, в которых его прежде всего привлекало многообразие «бес­ цельной сложности», не имеющей практического значения. Именно в «бесцельности» прекрасного и сложного в мире Набоков усматривает некоторый «божественный из­ быток смысла». В упоминавшемся выше рассказе «Слово» есть образ, иллюстрирующий цдею слияния избыточно гфекрасного и божественного: «Я видел огненные паутины, брызги, уз(фы на гигантских, рдяных, рыжих, фиолетовых крыльях, и надо мною проходили волны г^тиистого шеле­ ста... Крылья, крылья, крылья! Как передать изгибы их и оттенки? Все они были мощные и мягкие - рыжие, багря75 наконец герою даруется слово спасения. Но в момент пробуждения слово забывается. В этом маленьком раннем рассказе В. Набокова можно рассмотреть некоторые чер­ ты более поздних представлений автора. Так, уже говори­ лось о слиянии образом бабочек и ангелов, с одной сторо­ ны, что продиктовано идеей о божественной природе пре­ красного. С другой стороны, ангелы равнодушны, да и общение с ними возможно лишь в пространстве сна. Ге­ рой остро ощущает свою «нищету», свое «несчастье», и у него нет молитвы, на которую ангелы могли бы отклик­ нуться, диалога не возникает, чем страдания героя усугуб­ ляются. И наконец, милосердный серый ангел, который все-таки выслушивает «молитву» и являет собою образ абсолютного понимания и принятия, выглядит так, будто «слились в единый чудесный лил изгибы, лучи и прелесть всех любимьк мною лиц - черты людей, давно ушедших от меня», а в голосе звучат «все любимые, все смолкнув­ шие голоса», т.е. слово спасения приходит из воспомина­ ния о людях, «воскресших» в райском ангеле. Его слово это откровение воскресших. Позже герои Набокова будут заняты припоминанием «чужих слов», забытых, непроиз­ несенных. ные, густсхиние, бархатно-черные с огненной пылью на фуглых концах...» [6]. Эго описание не бабочек, как может показаться, а шествия ангелов в райском саду. В статье 1992 г. «О природе слова» Мандельштам го­ ворит о языке как о <авучащей и говорящей плоти», как и Бердяев. Особая полнота бьггия русского языка обуслов­ лена его «эллинистическим» происхождением. «Эллини­ стическую природу русского язьпса, - говорит Мандель­ штам, - можно отождествить с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть плоть деятель­ ная, разрешающаяся в событие». В основе сюжета рассказа В. Набокова «Слово» лежит отсутствие события особого рода - откровения, данного в слове. Герой во сне попадает в рай и видит ангелов, иду­ щих на райский праздник. Ангелы в данном случае игра­ ют роль посредников, поскольку о Божестве герой «не смеет помыслить». Правда, большинство ангелов прохо­ дят равнодушно мимо, в то время как герой рассказа пы­ тается произнести молитву: «... рассказать, что на пре­ краснейших из Божьих звезд есть страна - моя страна, умирающая в тяжких мороках». Даже отблеск рая, прине­ сенный на землю, способен воскресить души людей. И вот ЛИТЕРАТУРА 1. Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. М.: Искусство, 1991. С. 35. 2. Мочульский К. В. А. Блок. А. Белый. В. Брюсов. М.: Республика, 1997. С. 50. 3. Белый А. Магия слов // Белый А.; Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994 4. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. М.: Искусство ИЧП «Лига», 1994. Т. 1. С. 116. 5. Мандельштам О.Э. Утро акмеизма // Мандельштам О.Э. Слово и культура. М.: Советский писатель, 1987. С. 68. 7. Набоков В.В. Дар. Роман. Рассказы. М., 1997. 391 с. Рассказ «Удар крыла» см. в журнале «Звезда». 1996. К® 11. Статья представлена кафедрой теории литературы и русской литературы XX века Томского государственного университета, поступила в на­ учную редакцию 23 апреля 1999 г. УДК 82 (091К4/9) ПИСЬМА Ф.П. ЛИТКЕ К В.А. ЖУКОВСКОМУ Публикация, научный комментарий и примечания Н.Б. Реморовой Впервые в научный оборот вводятся хранящиеся в рукописном собрании ИРЛИ письма известного русского мореплавателя, президента Императорской Академии наук, создателя Пулковской и физической обсерваторий, основателя и первого прези­ дента Русского Географического общества Ф.П. Литке, бывщего в течение 16 лет воспитателем великого князя Константина, к В.А. Жуковскому. Письма обнаруживают внутреннюю близость жизненных и нравственных принципов, взглядов Литке и Жу­ ковского на многие события, на цели и задачи своей воспитательной деятельности. I Переписка В.А Жуковского - одно из интереснейших явлений русской литературы перюй половины XIX в. Ее уникальность опреде­ ляется и необыкновенным разнообразием тематики, и редкостной вариагтивностью форм внутри самого эпистолярного жгвтра, и удиви­ тельным количеством адресатов, в числе которых множество деятелей русской и европейской культуры. Публикация отдельных частей эпистолярного наследия Жуковского началась еще в прошлом веке, но и до сего дня множество писем и самого поэта, и особенно его кор­ респондентов продолжает покоиться в архивах При этом в ряде случаев даже при наличии в архиве двусторонней переписки опублаосованными оказываются лишь письма поэта. Подобная односторонность в некоторой степени объяснима, поскольку именно письма Жуков­ ского представляют особый интерес для изучения его творчества, его эстетических, общественных, философских, политических взглзщов. Однако отсутствие в научном обороте писем ряда его корреспондентов неоправданно лишает нас возможности до конца понять и сиеннгь смысл и значение писем самого поэта; не позволяет углубить представление о его корреспоцаете и в достаточной степени уяснить харак­ тер взаимоотношения между ними; наконец в ряде случаев только через ознакомление с двусторонней перепиской можно в полном объе­ ме представить волззующие авторов проблемы, значение которых порой вькодит далеко за р>амки их личных взаимоотношений. С этой точки зрения особое место занимает переписка В.А. Жуковского с Федором Петровичем Литке. Письма (14) Жу­ ковского к Литке (1838-1848) были опубликованы в 7-м номере «Русского архива» за 1887 г. (С. 327-340). Относящиеся к этому же периоду письма его корреспондента (10) до сих пор широкому читателю неизвестны. II Федор Петрович Литке (1797-1882) - известный русский мореплаватель, совершивший Четырехкратное путешествие в Северный Ледовитый океан (1821-1824) и кругосветное плавание (1826-1829), президент Императорской Академии наук, создатель Пулковской и Физической обсерваторий, основатель и президент Русского Гео1рафического Общества, объединившего лучшие умственные силы России во всех областях науки, почетный член ряда университетов и академий как в России, так и за рубежом - был не просто неординфной, но вьшаюшейся личностью своего времени. Не получив никакого систематического образования, он явил со ^ й замечггтельный пример самообразования и самовоспитания, став одним из образованнейших людей не только России, но и Европы. Младший из пяти детей коллежского советника, Ф.П. Лнгке в течение 4 лет посещал пансион Мейера, о котором в его душе опались лишь «смутные воспоминания». В 11 лег мальчик остался круглым сиротой.' Детей разобрали родственники. Федора взял дядя Федор Иванович Энгель, не уделявший ему никакого внимания, не пригласивший ему ни одного учителя, не определивший ни а какой корпус. Учителя были взяты позднее (в 1810 г.) для осиротшших племянников Панкратьевых, и Федор переписывал для них загокски, дешл чер­ тежи, учил задаваемые им стихи, читал книги их библиотеки. Сп)астная любовь к книге и умение работать с ней сопровождши Лнпсе всю 76