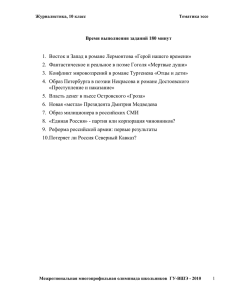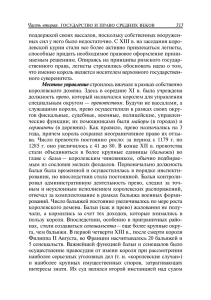Н.Т. Пахсарьян ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВО
реклама
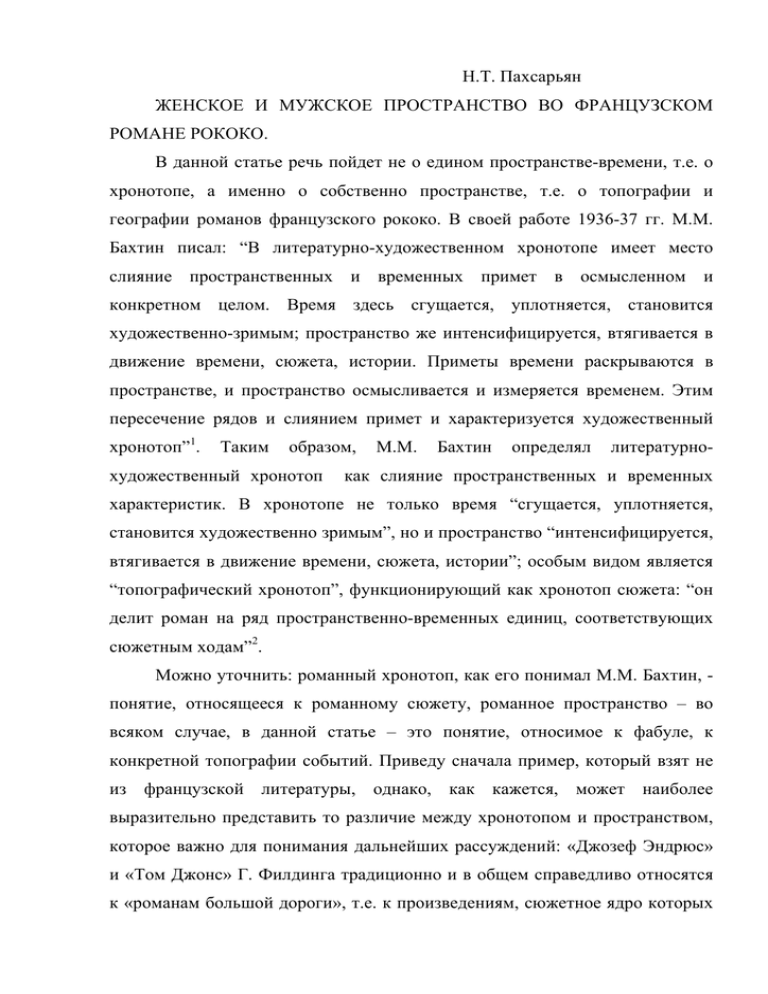
Н.Т. Пахсарьян ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ВО ФРАНЦУЗСКОМ РОМАНЕ РОКОКО. В данной статье речь пойдет не о едином пространстве-времени, т.е. о хронотопе, а именно о собственно пространстве, т.е. о топографии и географии романов французского рококо. В своей работе 1936-37 гг. М.М. Бахтин писал: “В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечение рядов и слиянием примет и характеризуется художественный хронотоп”1. Таким образом, художественный хронотоп М.М. Бахтин определял литературно- как слияние пространственных и временных характеристик. В хронотопе не только время “сгущается, уплотняется, становится художественно зримым”, но и пространство “интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории”; особым видом является “топографический хронотоп”, функционирующий как хронотоп сюжета: “он делит роман на ряд пространственно-временных единиц, соответствующих сюжетным ходам”2. Можно уточнить: романный хронотоп, как его понимал М.М. Бахтин, понятие, относящееся к романному сюжету, романное пространство – во всяком случае, в данной статье – это понятие, относимое к фабуле, к конкретной топографии событий. Приведу сначала пример, который взят не из французской литературы, однако, как кажется, может наиболее выразительно представить то различие между хронотопом и пространством, которое важно для понимания дальнейших рассуждений: «Джозеф Эндрюс» и «Том Джонс» Г. Филдинга традиционно и в общем справедливо относятся к «романам большой дороги», т.е. к произведениям, сюжетное ядро которых связано с этим хронотопом. Но если конкретно исследовать, есть ли в этих романах изображение дороги, происходят ли события романов в пространстве дороги, мы получим отрицательный ответ: практически все событийные эпизоды оказываются интерьерными, происходят в закрытых пространствах, и, более того, рассказчик неизменно «пропускает» дорогу («В дороге не произошло ничего интересного» - часто повторяющаяся фраза филдинговских романов), изображая, а, точнее, называя (практически не описывая) комнаты в домах сквайров и священников, трактиры, кухни, спальни, светские салоны и т.п. Такой же «пропуск дороги» тем более естествен в «Жизни Марианны» Мариво, представляющей собою скорее «городской роман», нежели «роман дороги»: «Итак, мы – сестра кюре и я – отправились в путь; вот мы и в Париже»3. Здесь так же, как у Филдинга, главные события происходят в интерьерных пространствах: даже ушиб ноги героини, чуть не попавшей под карету, хотя и происходит на улице, но, прежде всего, становится поводом перенести ее в дом (спальню) Вальвиля, где развитие сюжетной коллизии становится гораздо более подробным и психологически нагруженным. Проблема романного пространства в XVIII в. исследуется сегодня весьма активно. По крайней мере, французские, английские ученые в 90-е годы прошлого века опубликовали несколько весьма солидных трудов на эту тему4. Кроме того, год назад, в марте 2007 г. в Университете Париж-3 состоялась конференция «Espace/Objets du roman”5. В работах по этой проблеме было выделено достаточно много различных единиц художественного пространства, не только собственно топографических (скажем, пространство «встречи» и «разлуки», «публичное» и «приватное» пространства6), но и нарративно-«психологических»: пространство «желания» или пространство «соблазнения»7, пространство «душевных переживаний» и пространство «жестокости», и т.п. Представлены и топосы «городского» и «деревенского», «близкого» и «далекого» пространства и.т.п. В то же время кажется, что специалисты недостаточно дифференцируют пространственные параметры романов в зависимости от их жанровостилевой принадлежности: роман барокко, классицистический, рокайльный или сентименталистский романы дают нам, конечно, не абсолютно непохожие, противостоящие, несопоставимые пространственные образы, однако по-разному рисуют различные виды пространств, и это помогает ощутить оттенки различий между их художественными мирами, а значит – и между поэтологическими приемами. Так, очевидно различие между подробным пространственным описанием в барочном романе (напр., в романе М. де Скюдери «Ибрагим, или Знаменитый паша»: «Принцесса провела их затем в открытый с четырех сторон кабинет, стены которого были сверху донизу сделаны из прозрачного хрусталя…они устроились в эбеновые кресла, украшенные алой и серебристой парчой…»8) – и своего рода «дематериализацией» пространства9 в романе XVIII столетия, где место действия обычно фиксируется, но не описывается, а пространственное положение персонажей указывается весьма приблизительно или не отмечается вовсе (Кребийон-сын, «Танзаи и Неадарне»: «Едва забрезжил рассвет того дня, который позволял Танзаю остаться наедине с принцессой, он, подгоняемый движениями сердца, поспешил под ее окна, где и ожидал прекрасного мига свидания»10). Очевидно, что описание пространства в романистике эпохи Просвещения переживает процесс «натурализации», детеатрализации: место действия как бы не описывается, а рассказывается, «устно» обрисовывается не автором, а персонажем с «обычной» степенью подробности и точности. Еще А. Лафон заметил, что в романах XVIII в. происходит редукция пространства, когда, например, салоны или театральные залы не описываются целиком, как бы не охватываются одним взглядом, а представлены «кусками», соответствующими «направлению взгляда» персонажа-рассказчика11, и это также можно рассматривать как способ «натурализации» пространственных описаний. Но не менее очевидно, что внутри романа XVIII столетия есть, тем не менее, различие между романом сентиментализма, в котором формируются и развиваются принципы пейзажного нарратива, так что, по крайней мере, описание «природного места» дано достаточно подробно и в некоем противостоянии «искусственному» неприродному пространству, и романом рококо, в котором преобладает, во-первых, город как место действия, а, вовторых, в котором природные топосы сопровождают, порой – функционально дублируют и никак не противостоят топосам архитектурным, рукотворным. Недостаточно, как кажется, исследована и топография мужского и женского пространств в романах рококо. Насколько известно, есть лишь одна работа, прямо поднимающая эту проблему, но она касается только женского пространства: Martin Chr. Espaces du feminin dans le roman français du dixhuitième siècle. P., 2002. Впрочем, такой акцент на женском в образах пространства XVIII в. понятен и соответствует не только общей репутации этого столетия как феминистического. Анализ топографии в романах Прево («Мемуары и приключения знатного человека, удалившегося от света» (17281731), «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731), «Кливленд» (1736), «История одной гречанки» (1740), в романах Мариво «Жизнь Марианны» (1731-1741), «Удачливый крестьянин» (1734-1735), в романах «Софа» (1742), «Танзаи и Неадарне» (1734), «Заблуждения сердца и ума» (1736 – 1738) Кребийона, «Исповедь графа де***» (1741) Дюкло показывает, что в них безусловно преобладает или даже исключительно представлено, так сказать, женское пространство: не поле военных действий, или военный лагерь, не какое-либо служебное помещение, функционально предназначенное для мужчин – например, суд, и т.д., а либо женские спальни, будуары, либо некие общие пространства для мужчин и женщин – гостиничные комнаты, придорожные харчевни, салоны, церкви, театры, домашние библиотеки. Однако последовательное разделение здесь, конечно, условно: если речь идет о Франции или другой европейской стране, то четкого разделения нет, имеется в виду обиход, практика, а не запрет на проникновение лиц того или иного пола в другое пространство; понятно, что представление об исключительно «женском» или «мужском» в пространстве появляется лишь тогда, когда описывается инонациональная, восточная действительность – скажем, турецкий сераль – но конкретные ситуации романов описывают такие события, которые предполагают своеобразный «заход на чужую территорию»: так, героя романа А. Прево «Истории одной гречанки», французского посла в Турции пускает в свой сераль дружески настроенный турецкий паша; именно здесь он и знакомится с Теофеей. В данном случае Прево наследует тенденции галантной новеллистики конца XVII в., где по наблюдениям М.-К. Пьоффе, с одной стороны, пребывание героинь в серале соответствует символической смерти, где они практически недоступны, за исключением супруга-султана или паши, «мужскому» миру живых12, с другой – порой в сералях случаются любовные приключения и галантные истории. Но описание женских апартаментов сераля как своеобразной галантной утопии13 остается невостребованным автором «Истории одной гречанки»: любовная история его персонажей разворачивается не в укромных уголках сераля, а в доме посла, куда переселяется жаждущая освобождения из гаремного плена Теофея, а затем – в других, европейских интерьерных пространствах. Даже публичные, официальные пространства (приемные дворцов) обрисованы в названных романах в их приватной функции: в парадном зале дворца Танзаи, герой романа Кребийона, выбирает невесту (а не принимает послов и ведет переговоры, например). Если в романе появляется европейское чисто женское или чисто мужское пространство – они тоже оказываются проницаемы; например, в «Жизни Марианны» Мариво, когда героиня находится в женском монастыре, то внимание сосредоточено на визитах к ней ее жениха, Вальвиля, а когда знатный человек Прево наконец «удаляется от света» в мужской монастырь, то не может быть избавлен от визитов женщин и т.п. В особой функции используется кабинет «английского философа», т.е. Кливленда, он уединяется там с мадам Лаллен – и это вызывает ревность его жены Фанни. Общим для мужчин и женщин оказывается пространство блуждания: это блуждание представлено в первую очередь между полюсами интимного и публичного, между жизнью в свете – и «уединением от света». Конечно, в ситуации «уединения» женский или мужской персонаж более изолирован от противоположного пола (Марианна у Мариво пишет подруге о том, что в свои пятьдесят лет она уже не блистает остроумием в свете и не имеет толпы поклонников), но сама ситуация «retraite» доступна и тому и другому полу. Блуждание – один из популярнейших фабульных маршрутов в рокайльном романе: не только в кребийоновских «Заблуждениях сердца и ума». Опятьтаки может показаться, что есть существенное топографическое, географическое различие между романами, в основе которых – путешествие персонажа по разным странам или хотя бы городам (городам и деревням). У Лесажа, например, Жиль Блас движется из испанской провинции в Мадрид, а затем – обратно14; персонаж Ш. Дюкло, граф де*** покоряет сердца дам в Испании, Италии и Франции; знатный человек у Прево путешествует не только по Испании, Франции, Англии и т.п., но волею судеб попадает в Турцию, где некоторое время пребывает в плену. В то же время Мелькур у Кребийона остается в пределах Парижа, Марианна и Жакоб у Мариво, очень быстро попав из провинции в Париж, также блуждают лишь в пределах этого городского пространства. Однако следует сказать, что на двух из трех перечисленных первыми писателей (на Лесажа и Прево), несомненно, оказывает достаточно весомое воздействие барочная романная традиция, и тем не менее в сравнении с нею пространственные образы меняют характер и структуру: нет географической экзотики, описаний дворцов, памятников архитектуры, городской или природной топографии вообще – подробных описаний пространства (подобно тому, как описана долина Линьона или Изурский дворец в «Астрее» д'Юрфе). В этом смысле можно сказать, что главы в «Сентиментальном путешествии» Л. Стерна – произведении, соединяющем поэтологические свойства сентиментализма и рококо, – примечательны не только тем, что уже в своих названиях останавливают внимание на мелочах – пребывая в Версале, Йорик рассказывает о перчатках, но и тем, что Версаль не описан как особое топографическое пространство. Метонимическая редукция пространственных описаний делает их однородными: Франция или Турция, Испания или Америка представлены, прежде всего, в серии схожих друг с другом психологизированных топосов: встречи, соблазнения, нарушенного уединения, интимной беседы и т.п. Не случайно исследователи говорят о том, что у Лесажа, скажем, невозможно установить, изображена ли в «Жиль Бласе» Испания – или Франция. Испанский романист XVIII в. Франсиско Хосе де Исла был уверен, что это вообще плохо переведенный французом испанский роман – и принялся делать исправленный, верный его обратный перевод. А ученые XIX в. считали, что здесь испанское – только внешняя оболочка, что сюжет соткан из аллюзий на Францию. Кажется, что для Лесажа характерна принципиальная образно-пространственная амбигитивность, связывающая поэтику его романа с рококо. В творчестве наиболее показательного рокайльного романиста Мариво есть романы – это его зрелые сочинения «Жизнь Марианны» и «Удачливый крестьянин», - в которых достаточно последовательно выдержан принцип «мужского» и «женского»: первое произведение написано от лица женщины, второе – от лица мужчины. Соответственно, прежде всего, тут отмечают женское и мужское повествовательные пространства (развертывающееся более динамично в «Жизни Марианны», более медленно – в «Удачливом крестьянине»; более прихотливо – в «женском» нарративе, более последовательно – в «мужском»; однако уже приходилось отмечать: если Марианна болтлива как женщина, то и Жакоб любит поговорить15), пишут о разных маршрутах Марианны и Жакоба16, но если сопоставить топосы – они те же – дома, гостиницы, церкви, театры, улицы, где даже обстоятельства знакомства женщины и мужчины похожи (Вальвиль оказывает помощь поранившей ногу Марианне, Жакоб – спасает от дурноты и обморока мадемуазель Абер). В результате создается единый образ социокультурного пространства, в котором женские и мужские топосы наделяются амбигитивностью, смешиваются, переходят друг в друга. Исследователь живописного рокайльного пространства убежден, что оно «рельефно выделяет различие ролей: женщина в нем – изображение, а мужчина – созерцатель»17. Не оспаривая этого положения в отношении к живописи рококо, уточню, что в литературе, во всяком случае, в романе подобная дифференциация приглушается: у женщин обнаруживается, по крайней мере, одна «мужская» способность – способность к рефлексии (Марианна, по характеристике самого Мариво, «женщина, которая мыслит»; мать Кливленда, а не его отец, Кромвель, обучает сына философии); у мужчин важной формой социализации оказывается «женская» черта – кокетство. Например, Мелькур или Жакоб оказываются объектами созерцания и соблазнения не реже, чем персонажи-женщины, а мужская способность покорять дам в любом из романов рококо обеспечивается внешней привлекательностью и галантными манерами кавалера. «Женское» начало выступает как смягчающее, пастельное, игривое – т.е. как собственно рокайльное, поэтому органическое единство романного пространства рококо (П. Брэди) создается, прежде всего, посредством феминизации «мужской» сферы. Феминизация романного пространства рококо, стирающая границы «женского» и «мужского», придающая каждой из этих сфер амбигитивность, разумеется, не должна отождествляться с феминизмом в его сегодняшнем понимании18, хотя бы в силу того, что этот процесс носил в рассматриваемый период скорее этико-эстетический, чем социально-политический характер. Очевидно также, что следует отдавать отчет в символическом содержании понятий «féminin» и «masculin», имеющих помимо «простой» биологической дифференциации социокультурный смысл19, порой значительно эволюционирующий во времени. Однако нельзя не признать, что долгий и сложный путь становления новых взаимоотношений мужчин и женщин в социокультурном пространстве и новых форм их литературной репрезентации в своих истоках пролегает через художественный опыт французского романа рококо. 1 Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.. 1986. С. 121. Малышева Л.Р., Ибатуллина З.Р. Особенности портретных описаний реализма // Вестник ОГУ. 2004. № 11. С. 176-177. 3 Marivaux. Oeuvres choisies. 2 vol. P., 1887. T. I. P. 16. 4 См.: Henri Lafon. Espaces romanesques du XVIIIe siècle. De Madame de Villedieu à Nodier (1997), номер журнала Eighteenth Century Fiction. Vol. 10 N 4, July 1998, озаглавленный “Романный жанр и пространство», и «Locus in fabula. La topique de l’espace dans les fictions françaises d’Ancien Régime» (2004). 5 См. программу, опубликованную на сайте университета Новая Сорбонна. 6 Lafon H. Espace privé, espace public dans le roman du XVIIIe siècle // Littérature et architecture / Sous l’éd. De Ph. Hamon. Rennes : Presses univ. de Rennes II, 1988. N 16. P. 65-73. 7 Saisselin R.G. The Space of Seduction in the Eighteenth-Century French Novel and Architecture // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. 1994/ N 319. P. 417-431. 8 Scudéry M. De. Ibrahim, II, II, 108. 9 Подобная «дематериализация» происходит и в портретах персонажей: вместо строгой последовательности портрета в барочном романе (физические черты, моральные свойства, темперамент) возникает фиксация общего впечатления, эмоционального воздействия внешности, лишенной подробностей. Как верно заметил Ж. Пруст, мы никогда не узнаем ни цвета глаз, ни лица Манон Леско (Proust J. Le corps de Manon // L’Objet et le texte. Genève : Droz, 1980. P. 112). А исследователь романа Ш. Дюкло «Исповедь графа де***» считает нужным подчеркнуть «отсутствие физической реальности и в образе графа и. особенно, в образе города» (Del Prado J. Séduction codifiée – séduction imprévue // Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses. 2004. N 19. P. 149). 10 Кребийон-сын. Шумовка, или. Танзаи и Неадарне. Софа. М.: Наука, 2006. 11 Lafon H.Espaces romanesques du XVIIIe siècle. P. : PUF, 1997. P. 84. 12 Pioffet M.- C. L’imagerie du sérail dans les histoires galantes du XVIIe siècle // Tangence. 2001. N 65. P. 11. 13 Ibid. P. 15-16. М. Пьоффе сравнивает топографический образ сераля в галантных новеллах с барочным лабиринтом, эмблематически воплощающим перипетии любовных отношений (р. 22). В поэтике романа Прево барочная поэтика эмблемы сохраняет лишь отдельные, «стертые», бледные следы. 14 Однако, как верно заметил Ж. Вагнер, «Жиль много перемещается, но мало путешествует, не пересекает ни одной границы» (Wagner J. L’Orient voilé de Raphael dans Gil Blas // Tangence. 2001. N 65. P. 33). 15 Пахсарьян Н.Т. Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690 – 1760-х годов. Днепропетровск: Пороги, 1996. С. 166. 16 Deloffre F. De Marianne à Jacob : Les deux sexes du roman chez Marivaux // L’Information littéraire. P., 1959. N 5. P. 185-192. 17 Bryson N. Word and Image. French Painting of the Ancient Regime. Cambridge: Cambridge univ.press, 1995. P. 98. 18 Думается, именно такое отождествление заставляет одного из современных литературоведов с жаром опровергать идею «феминизма Мариво» (Gaudry-Hudson C. L-absence du féminin ou le statut de la femme marivaudienne // Etudes françaises. 1991. Vol. 27. N 2. P. 36). 19 См. об этом: Hubert O. Féminin/Masculin: l'histoire du genre // Revue d'histoire de l'Amerique française. 2004. N 4. Vol. 57. P. 474. 2 XVIII век: женское / мужское в культуре эпохи – XVIIIe siècle : féminin / masculin dans la culture de l’époque. Научный сборник / Под редакцией Н. Т. Пахсарьян. М.: Экон-Информ, 2008. С. 278 – 283.