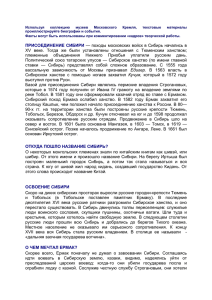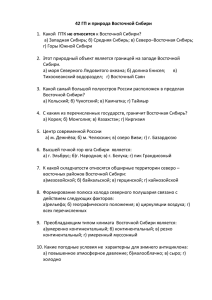- Творчество Астафьева и русская литература XIX
реклама
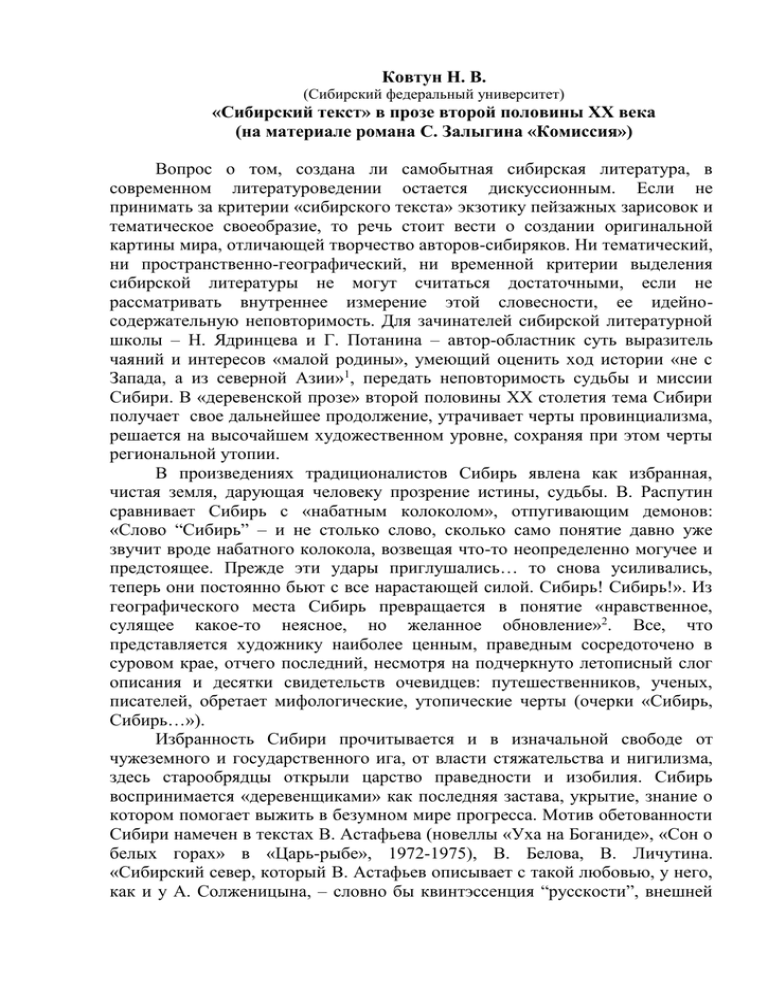
Ковтун Н. В. (Сибирский федеральный университет) «Сибирский текст» в прозе второй половины ХХ века (на материале романа С. Залыгина «Комиссия») Вопрос о том, создана ли самобытная сибирская литература, в современном литературоведении остается дискуссионным. Если не принимать за критерии «сибирского текста» экзотику пейзажных зарисовок и тематическое своеобразие, то речь стоит вести о создании оригинальной картины мира, отличающей творчество авторов-сибиряков. Ни тематический, ни пространственно-географический, ни временной критерии выделения сибирской литературы не могут считаться достаточными, если не рассматривать внутреннее измерение этой словесности, ее идейносодержательную неповторимость. Для зачинателей сибирской литературной школы – Н. Ядринцева и Г. Потанина – автор-областник суть выразитель чаяний и интересов «малой родины», умеющий оценить ход истории «не с Запада, а из северной Азии»1, передать неповторимость судьбы и миссии Сибири. В «деревенской прозе» второй половины ХХ столетия тема Сибири получает свое дальнейшее продолжение, утрачивает черты провинциализма, решается на высочайшем художественном уровне, сохраняя при этом черты региональной утопии. В произведениях традиционалистов Сибирь явлена как избранная, чистая земля, дарующая человеку прозрение истины, судьбы. В. Распутин сравнивает Сибирь с «набатным колоколом», отпугивающим демонов: «Слово “Сибирь” – и не столько слово, сколько само понятие давно уже звучит вроде набатного колокола, возвещая что-то неопределенно могучее и предстоящее. Прежде эти удары приглушались… то снова усиливались, теперь они постоянно бьют с все нарастающей силой. Сибирь! Сибирь!». Из географического места Сибирь превращается в понятие «нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление»2. Все, что представляется художнику наиболее ценным, праведным сосредоточено в суровом крае, отчего последний, несмотря на подчеркнуто летописный слог описания и десятки свидетельств очевидцев: путешественников, ученых, писателей, обретает мифологические, утопические черты (очерки «Сибирь, Сибирь…»). Избранность Сибири прочитывается и в изначальной свободе от чужеземного и государственного ига, от власти стяжательства и нигилизма, здесь старообрядцы открыли царство праведности и изобилия. Сибирь воспринимается «деревенщиками» как последняя застава, укрытие, знание о котором помогает выжить в безумном мире прогресса. Мотив обетованности Сибири намечен в текстах В. Астафьева (новеллы «Уха на Боганиде», «Сон о белых горах» в «Царь-рыбе», 1972-1975), В. Белова, В. Личутина. «Сибирский север, который В. Астафьев описывает с такой любовью, у него, как и у А. Солженицына, – словно бы квинтэссенция “русскости”, внешней грубости, соединенной с внутренней чистотою, незащищенностью», – считает Ж. Нива3. Для В. Распутина Сибирь – пуповина Земли, «прародина», откуда Бог начал сотворение мира, «и повел его широко, броско, не жалея материала, и оттого уж после, спохватившись, что его может не хватить, принялся выкраивать и мельчить»4. Это самодостаточный и замкнутый универсум, органически вписанный в систему мироздания. Здесь «два столетия подряд искали русские люди таинственное Беловодье, легендарную страну, устроенную как рай земной, где они могут жить в полном счастье. Быть может, наши предки и нашли здесь эту легендарную страну» 5. Посещение Сибири приравнивается к паломничеству: «гордятся одним лишь быванием в Сибири, подобно тому, как прежде гордились и обольщались походом в святые места». Возвращение к Сибири – истине – дарует надежду на будущее: «В сознании россиянина Сибирь представала континентом будущего»6. В традициях народного утопизма социальный идеал свободы, равенства, процветания развивается писателем в религиозных категориях. Избранным героем патриархальной утопии «деревенщиков» и становится носитель «древлей веры». Астафьева, Распутина, Личутина привлекает в старообрядчестве проповедь самоограничения, черты аскетического бытия и суровой преданности «своей», «правильной» вере. Жители Севера, Сибири – люди с цельным, волевым, брутальным характером. Этой энергии, уверенности особенно не хватает современной культуре, считает Распутин, поэтому возрождение Руси начнется с пробуждения «народной воли», которая «не результат голосования… а энергетическое и соединенное действие в защиту, в конце концов, своего права на жизнь»7. В собственных упованиях на сибирский реликтовый характер писатель остается верен северорусской житийной традиции, где святой представлен не «государственным деятелем, не подвижником веры, а простым человеком со сложной судьбой»8, он не ищет подвига – судьба ведет его. На сибирской земле и должно продлиться чуду, когда неуемность души русского человека совмещается с «природным духом» величественного края, укрепляется им, транспонируясь в Вечность: «Некоторые черты русского человека – в силу отдаленности, свободного хозяйничанья, обособленности и жизни в природе – в прошлом сохранились в Сибири лучше, чем в коренной России, придавленной крепостничеством», – считает автор «Прощания с Матерой»9. Апелляция к внутреннему духовному порыву, волевому акту совмещается в творчестве «деревенщиков» с мистическим знанием - старообрядческими доктринами. Избранность сибирской земли свидетельствуют, по В. Распутину, в том числе ее исключительные богатства: «сказочно богатая земля», чудо-озеро с «живой водой», названое «мерой щедрот» господних, «которой мерил, чему сколько быть от него» (очерк «Байкал, Байкал…»). Тайна озера постоянно влечет к себе автора и его героев, вызывая ассоциации с легендарным Китежем, «иным» пространством и временем: озеро, словно дар другой планеты, «более радостной и богатой». Если Распутин в поздней публицистике идет к мифологизации Сибири, описанию утопического пространства Сибири, вопреки ее реальному состоянию, столь обострённо воссозданному в художественных текстах мастера, то В. Астафьев, С.Залыгин более трезво, критически оценивают пространственнокультурную мифологию Сибири. Литературоведы считают, что в творчестве Залыгина, в повести «На Иртыше» (1964), романах «Комиссия» (1975), «После бури» (1988) «жизненный материал был не просто прикреплен к Сибири, не только породил проблематику, как в “Соленой пади”, но породил картину мира, вариант культурной модели национального и человеческого бытия, то, что может быть обозначено “сибирским текстом о национальной и человеческой истории”»10. Писатель признает важность природной основы человеческого бытования, но идея циклического развития, неизменности повторения золотого века, возвращения к истокам крестьянской цивилизации, столь важная в миропонимании В. Белова, В. Распутина, ему принципиально чужда. Сокровенный герой автора – умный мужик, способный оценить дар жизни, мудрость мироустройства, осуществить «разумное хозяйствование», даже вопреки царящему окрест хаосу: войне, революции. Роман «Комиссия» не случайно посвящен А. Твардовскому, по общему признанию, сочетающему в себе черты мужика и высокого интеллектуала. Жизнестойкость сибирского крестьянства Залыгин видит не в особой его религиозности, богоизбранности, на чем настаивают славянофилы, почвенники (в статье «Два провозвестника», 1995, писатель подчеркнет утопизм Ф. Достоевского), Солженицын и Распутин; не в стихийной силе, укорененности в природном бытии, как полагают Белов и Астафьев, – для него ценно поступательное движение мужицкой цивилизации: «Народ тоже не есть что-то однородное. И со временем эта неоднородность сказывается. В какой-то критический момент все построились в одну колонну, все воюют, героизм проявляют. Но проходит время, и разнородность человеческая начинает сказываться»11. Художник признается: «современного крестьянина я уже не знаю. И мне надо будет не только его писать, но и долгое время изучать. А времени нет. И я думаю, что наша так называемая “деревенская” литература современного крестьянина уже не напишет. Должны написать следующие поколения наших писателей. Ни Белов, ни Распутин, ни Астафьев – никто не напишет. Уже только потому, что они прошли другой жизненный путь и другую историю прихватили на своем веку, чем те люди, которые могут сейчас все это увидеть и прочувствовать»12. Крестьянин С. Залыгина органично сочетает в себе пахаря и философа, автор ратует за возрождение «умственного народного потенциала», в его любимых героях: Степане Чаузове, Мещерякове, Николае Устинове «присутствует этот момент возрождения, восстановления нравственного и духовного потенциала». В романе «Комиссия» много споров, диалогов, связанных с обсуждением судьбы деревни, мужицкой культуры в целом. Писатель отстаивает право и способность деревенского жителя постигать самые сложные социальные, экономические, политические проблемы современности, размышлять о высоком: «Интересно, как крестьяне говорили о Шекспире, о Пушкине. Они судили очень своеобразно, но умно. У них не было каких-то отклонений от содержания, и они судили о книгах по их существу, угадывали саму суть этих авторов»13. Отличие народной культуры от интеллектуальной тогда в чуждости умозрительности (о книгах судят по существу), недоверии к отвлеченным планам реорганизации наличного, живого мира. Только в головах людей, далеких от реального труда на земле, могут родиться «неразумные проекты», подобные идее переброса северных рек для того, чтобы напоить степи Кубани. Залыгин оценивает эти прожекты как пример «чисто ведомственного и антинародного дела»14. Слово и поступок для крестьянина-труженика неразрывно связаны, даже церковная служба, обряд привлекают своей целостностью, председатель Лесной Комиссии – Петр Калашников признается: «почему мне церковный-то обряд полюбился тогда? А вот почему: мне воплощение слова в действии человечества полюбилось. Сказано было: “Мысленное солнце правды, Христос явился с Востока”, и вот уже в действии люди молятся на Восток! И так во всей службе. Ну, а когда так – может, и в жизни это тоже доступно – обойтись без действий бессмысленных и незначащих? Соединить слово с делом?»15. История деревни Лебяжка, составившая сюжетную основу романа «Комиссия», восходит к временам первотворения – это история обретения и утраты мужицкого «рая на земле». Автор, выстраивая идеалистическую модель крестьянской ойкумены, словно испытывает ее на прочность. Лебяжинская хроника дана в сказочном ключе (сказки о женитьбе кержаков на полувятских девках), идея природного обетования сочетается здесь с идеей аскетической преданности старообрядческой вере. Объективизируя историю первопоселенцев, художник вводит символические, «немые» тексты, опирается на язык вышивок, зодчества, иконописи. Реальные события и сакральные сюжеты естественно взаимопроникают друг в друга, обращение к мотивам Священной истории раскрывает смысл происходящего на земле: «Икона была такая в Устиновой избе: Иисус Христос, толькотолько непорочно народившись, голенький лежит в корытце, и все на него глядят – и мать-богородица, и святые в сиянии вокруг головы, и обыкновенные, уже без сияния, люди, и даже разная скотина, коровушка одна в том числе. И очень жалел Устинов, что иконописец не видел его телочку: вот бы с кого перенести портрет на ту икону». Само имя телочки – Святка – авторское подтверждение правомерности подобного сближения. Единство «неба» и «земли», «верха» и «низа» в картине Лебяжки дано как своеобразный монтаж того и другого. Описание событий, поступков героев прерывается свидетельствами о вмешательстве «высшего» мира, о его участии в делах земных. Земля, открывшаяся первопоселенцам, обильна, красива, предназначена для жизни человека: «бугор травяной зеленый, озеро глубокое, бор синий, а далее – пашенная, цельная земля без краю. И не икона эта картина, а все равно как лик Христов». Здесь всем хватает места: кержакам и вятским, зверю и птице – у всего свой резон. В северорусской иконописной традиции сохранились «пейзажные» иконы. На известной олонецкой иконе предстает Соловецкий монастырь, где лики Савватия и Зосимы, будто погруженные в Белое море, на волнах – три белых лебедя («Зосима и Савватий Соловецкие», XVIII век). «Лебединая» тема обретает в романе С. Залыгина особое значение. Название деревни – Лебяжка – указывает и на времена основания славянской государственности, рождение лебяжинского рода соотносится с рождением страны и наоборот. В «Повести временных лет» читаем: «И быша 3 братья: единому имя Кий, а другому Щекъ, а третьему Хоривъ, и сестра их Лыбедь»16. Птица, творящая мир – устойчивый образ древнерусской культуры. Девица с птичьим именем – Царевна-Лебедь – выполняет функцию демиурга: творит космос, осуществляет связь «высшего» и «низшего» начал. С ней ассоциируются женская красота и верность. В христианстве лебедь символизирует ангельскую чистоту, непорочность, за праведной душой умершего прилетают лебеди. В залыгинском варианте сказания о заселении и освоении избранного места обнажена его «свадебная» основа. Вятские девки, выполняя наказ старейшин, движимые жаждой продления рода, женят на себе молодых кержаков. Шесть бесстрашных девок – невест-лебедок – выступают в роли языческих первопредков-тотемов (число 12 знаменует плероматическое единство, абсолютную полноту бытия). Имена основательниц родовых вервей почитают в деревне свято, передают из поколения в поколение: «первым правилом завелось, что все младенцы женского пола нарекались только именами знаменитых и как бы даже святых тех девок, а больше никакими другими». Лебяженские бабы именуются автором «царицамипавами», отличаются исключительной красотой, в их облике подчеркнуты лебединые атрибуты: у красавицы Елены, что первой вышла за старовера, «косы – белы, глаза – голубы, сама – чуть румяна» и «вышивальщица была великая»; необычайно белое лицо у Домны – жены главного героя Николая Устинова: «ни у одной лебяжинской женщины не было такой же белизны лица», ее руки «пушистые», словно лебединые крылья. Кержаки, отвоевав право на брак с «иноверками», проходят испытания, завоевывают не просто женщин, но саму Русь выводят из варварства. В фольклорных текстах главенство мужчины «символизирует новую историю: становление патриархальной семьи, государственности и христианизации России»17. Идиллический образ дома – деревни – ковчега (изба «как вроде Ноев ковчег или маленький островок людской жизни среди самого разного скотского и птичьего мира») развивается через мотивы единения человека и природы, человека и зверя: в самые тяжелые дни «Устинов со скотиной только имел дело и разговоры». Гармония, утраченная в социальном бытии, явлена в «строгом природном порядке», человеку стоит прислушаться к биологическому ритму существования, чтобы в запальчивости и суете не потерять главное – чувство ответственности за живое, жизнь: «Давно пора было бы людям понять природный резон, в нынешнее время он особенно пригодился бы, нужен был позарез, но как раз нынче-то все ошалели, каждый помешался на своей гордыне, каждый учил жизни всех, все – каждого». Избранные герои писателя избегают учительствовать, наставлять, даже если к этому их вынуждают: от роли духовного наставника отказываются крестьянин-офицер Смирновский, умнейший лебяжинский мужик Устинов, ибо в смутные времена каждое необдуманное, легковерное слово влечет за собой тяжелые последствия. Отдельность, следование патриархальному завету позволяет лебяженцам до времени крепить мир. Деревня была «сама по себе – со своим укладом, со своею привычкой, со своими корнями, погруженными в лесостепные почвы» (воплощение идеи родовой земли как фатума), перед соседями и «всем остальным миром умела за себя постоять». Лебяжинская община сохраняет целостность, только здесь и возможно создать орган крестьянского самоуправления – Лесную Комиссию. Исключительность события манифестируется автором: «Наверное, только в Лебяжке это и могло случиться, больше нигде, ни в одной другой деревне, ни в одном селении», осознается поселенцами: «Старцы убеждали друг друга, доказывали, что Лебяжка деревня особая – мирская, дружная. Возьмется за общее дело – гору своротит, нету больше таких деревень вокруг, нету и нету». В полном соответствии с мифологией избранничества здесь сбываются сказки, за образами крестьян угадываются черты богатырей, святых. Преодолевшие деревенскую границу преображаются: судьба Зинаиды Панкратовой; ученый из столицы, описавший преимущества сибирской породы коров, крестьянину Устинову кажется святым: «с бородкой под святого Глеба, покровителя домашней скотины». Деревню до времени обходят бродяги и конокрады – маргиналы, даже пьяные лебяжинские мужики не остаются без догляда и сочувствия. Крестьянское общество оказывается способно не только хранить наказы предков, но утверждать собственные законы созидания, лебяжинский «рай» – и дар земли, и личная заслуга поселян, потому и вера не самоценна, важна как часть общественного служения: «попика держали скромного, обществу послушного и при малой деревенской церквушке». Автор четко прорисовывает контур иконографического пространства (деревня отделена от «прочих земель» «ленточными борами»), что свидетельствует и условность повествования: история Руси выстраивается с первоистоков до революции, дан шанс осознать ошибки, но повернуть время вспять не дано никому. Образ Николая Устинова представлен в неразрывной связи с образом деда его Егория, что любил за плугом нагишом ходить: «во многих культурах половой акт часто уподобляется полевым работам»18. В древней культуре возделывание поля символизирует брак крестьянина с Землей-Невестой. Падеж пашенных лошадей в хозяйстве Устинова грозит бесплодием земли, в восточнославянском фольклоре конь ассоциируется с фаллом19. Любовь к книгам, желание постоять за дело крестьянства («для мужиковства пользы ищу») указывают на близость героя избранным народным святым – Николаю Чудотворцу и Егорию Храброму (раненый Устинов опирается на посох деда Егора). Особая преданность, тяга крестьянина к животным не случайна – Николай Чудотворец почитается покровителем скота. Сама кончина главного героя романа описана в соответствии с фольклорным сюжетом о судьбе святого. Икону Николая или его мертвое тело наказывают нехристивзаимодавцы: «…волокут на дровенках образ Николы и хлыщут его»20. Убитого и положенного в гроб Устинова начальник отряда колчаковцев требует: «Под шомпола! Туда же, мерзавца». С именем святого Николы связан фразеологизм «русский бог», «русский Христос»21 – заступник Руси-Богородицы. Зинаида Панкратова обращается к Устинову в поисках любви-веры, как некогда обращались к староверам деревенские красавицы: «Сделай ты меня верующей, Николай Левонтьевич! Один ты можешь – более никто! Иисусу Христу и то не всякий раз удавалось сделать, тебе – удастся, только пожелай!», но миссия вне сакрального пространства невыполнима, деревня обречена. Попытки крестьян осмыслить резко меняющуюся жизнь через дедовские заветы, открыть универсальный закон мироздания: «закон жизни. Чтобы как ровно пару рабочих коней запречь его да и поехать на ем куда надо», равно иронически оценены повествователем. Пределы, за которыми начинается власть истории, в романе отнюдь не безусловны. С. Залыгин, в отличие от В. Распутина, В. Белова, признает неизбежность внедрения технических достижений в патриархальный уклад, насущность связи малого и большого миров. В Лебяжке «не степная была и затерянная жизнь, не лесная глухоманная», «не вдали от всего света, но и не жалась, не лепилась к большакам», достичь деревни не трудно, трудно завоевать ее доверие. Прошедшие испытания, особенно дорожат «своим» пространством, лебяжинским порядком. Зинаида Панкратова впервые является деревенскому миру несчастной юродицей и вырастает в настоящую красавицу. Автор подчеркивает связь судеб Устинова и Зинаиды, что совпадают «след в след». Общество, проявляя сострадание к нищим переселенцам – семье Панкратовых – вновь осознает собственные доброту, силу как источники жизни. Путь-испытание, который проделывают вернувшиеся с войны мужики, юродивые, соединяет разные части мироздания, обогащает новыми впечатлениями, и только так возможно приблизиться к истине, постигнуть ценность части (крестьянский быт) как неизменной составляющей целого (мира). Перспективность дороги, ухода и определена возможностью возвращения, необходимостью возделывания души-дома, обретением собственного удела в пространстве истории. Начав становление России с Сибири, где жизнь отличается большей органикой, ориентирована на национальные ценности, писатель проверяет ведущие исторические идеи с точки зрения их устойчивости в новом мире. Идея замкнутости, верности патриархальному укладу не спасает деревню от гибели, но и надежда революционеров всю землю переустроить заново представляется мужикам наивной, выдуманной, не имеющей оправдания: кровопролитие нельзя искупить ничем. Николай Устинов не без иронии рассуждает: «Все без конца переделывают жизнь, а поглядеть бы хоть раз на человека, мастера этого дела… И чтобы он показал бы свой продукт: “Вот как я произвел, вот как я сделал! Ну не загляденье ли?! Ну где на моем продукте хотя бы один огрех, одна царапина?” Нет, не встречал такого мастера Устинов. Ни разу в жизни». Идея аскезы, следования жесткому старообрядческому уставу отвлекает человека от задачи сохранения и преображения жизни, важнейшей для С. Залыгина. Юродивый с разбойничьим именем Кудеяр, пророчащий скорый Апокалипсис, и белогвардейцы, осуществившие «апокалипсические» действия в пределах покоренной деревни, уравниваются в своей опасности для жизни. Сама перспектива отречения от «грешного» мира, побега к неведомым, чистым землям уже неосуществима, прогресс освоил карту мира. Фанатичный старец Лаврентий, в свое время уведший паству от царицынемки в «дальнюю даль, за море Байкал» еще не знал подобной конкуренции, земли хватало, чтобы разойтись им с Самсонием Кривым – основателем Лебяжки. Лаврентий открыл праведникам лобное место: «камень округ, речка прозрачна, небо – сине-пресине, воздух чист и хладен. Место молебственное. Божье. Палестинское», он заботился об укреплении духа, его единоверец Самсоний Кривой – о сбережении дара Божьего, жизни, но собственный выбор осознавал как греховный, слабость души, отчего и прозвище получил – Кривой. Судьба Лебяжки как будто являет оправдание отступившему от завета старцу («лучший человек» деревни – Иван Иванович Саморуков – и внешне напоминает Самсония Кривого: «он уже и на одно плечо спал, правая половина была в нем выше левой»), однако для мира договорной деревенский устав оказывается не нужен. История сметает хрупкие иконные рамки, вернувшиеся из военных походов лебяжинские мастера, богатыри в новом мире не находят места. Муж Зинаиды, Кирилл Панкратов, дивное крыльцо к дому ладит, но саму избу поднять ему уже не по силам. И, напротив, среди активных устроителей новой жизни оказываются те, кого лебяжинская община сторонилась: переселенцы, искатели наживы, иностранцы. Автор, фабульно утверждая возможность создания крестьянами осмысленного и справедливого дома-мира, завершает сюжет катастрофой, гибелью Лесной Комиссии от рук колчаковцев. Бичевание, к которому приговариваются лучшие лебяжинские люди – вариант распятия: «К мучениям Христа есть и народные дополнения: таково бичевание у столпа»22. Старец Самсоний, дорожа замыслом Божьим о мире, увел народ с Голгофы, современный человек в стремлении пересоздать мир творит Голгофу повсюду, но воскресение не происходит. Сокровенные герои писателя остаются поборниками идеи Самсония Кривого, однако авторский замысел масштабнее: ценность возвращения к крестьянскому уделу отчетлива в сравнении с монашеским подвигом старца Лаврентия, давшим образец. Силу лебяжинской общины, семьи, дома Зинаида понимает, испытав страннический удел, и потому осуждает Алексея Божьего человека, одинокого в своей гордой святости, приходит к Николаю Устинову, открывающему святость в повседневном. Ценность «ухода», необходимого для молитвы, очищения души, обнаруживает перспектива «возвращения» как поддержания, развития, совершенствования условий жизни применительно к любым внутренним и внешним потрясениям, иначе и сама истина бесполезна. Вне процесса самовосхождения человека, постижения уроков «творения» не только на уровне заповедей, но и практически, на уровне возделывания каждого участка обитания, история всякий раз замыкается на Голгофе. С. Залыгин демонстрирует в романе жизнестойкость, самостояние сибирского крестьянства, способного создать свой мир на основах взаимоуважения, взаимовыручки и добра. Лебяжинские мужики не приспосабливают бытие к некой умозрительной идее, как революционеры, не отрекаются от «грешного мира», как последователи старца Лаврентия, но пытаются вывести законы сохранения и продолжения жизни из самой жизни. Однако духовный опыт лебяжинской общины оказывается в современной истории лишним, что и определяет безусловный трагизм повествования. Примечания: Казаркин А.П. Проза Сибири в ХХ веке // Сибирь в контексте мировой культуры. Опыт самоописания: Коллективная монография. – Томск, 2003. С. 98. 2 Распутин В. Собр. соч.: В 3 т. – М., 1994. Т. 3. С. 7-9. 3 Нива Ж. К вопросу о «новом почвенничестве»: моральный и религиозный подтексты «Царь-рыбы» В.Астафьева // Одна или две русские литературы? Международный симпозиум, созванный факультетом словесности женевского университета и швейцарской академией славистики. 13-14-15 апреля 1978. – Женева, 1978. С. 141. 4 Распутин В. Сибирь без романтики // Сибирь. 1983. № 5. С. 145. 5 Там же. С. 44. 6 Распутин В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 278. 7 Распутин В. Мой манифест // Аврора. 1997. № 3/4. С. 44. 8 Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятник литературы XIII–ХVII вв. Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. – Л., 1973. С. 11. 9 Распутин В. Что в слове, что за словом? – Иркутск, 1974. С. 205. 10 Рыбальченко Т.Л. Версия национальной истории в романе С.П. Залыгина «Комиссия» // Сибирский текст в русской культуре. – Томск, 2002. С. 97. 11 Залыгин С. За или против биографии? (Из встречи в Концертной студии Останкино, 1986) // 15 встреч в Останкине. – М., 1989. С. 175. 12 Там же. С. 189. 13 Там же. С. 177. 14 Там же. С. 182. 15 Залыгин С. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1990. С. 239. Т. 6; далее цит. по этому изданию. 16 «Изборник». Сборник произведений литературы Древней Руси / Примеч. Л.А. Дмитриева. – М., 1969. С.30. 17 Маркова Е.И. Творчество Николая Клюева в контексте севернорусского словесного искусства. – Петрозаводск, 1997. С. 275. 18 Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость: Пер. с фр. Е. Морозова, Е.Мурашкинцева. – СПб., 1998. С. 24. 19 Там же. С. 31. 20 Сказки Заонежья / Сост. Н.Ф. Онегина. – Петрозаводск, 1986. № 64. С. 172. 21 Кушелев-Безбородко Г. Памятники старинной русской литературы. – СПб., 1860-1862. Вып. –. С. 72. 22 Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. – М., 1991. С. 42. 1