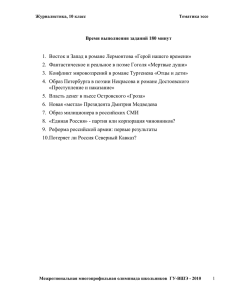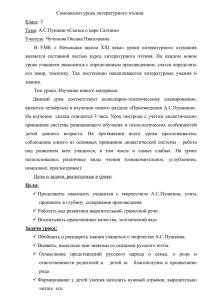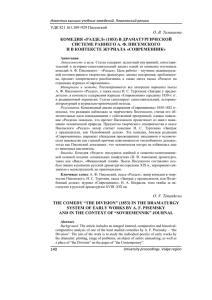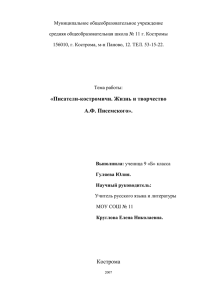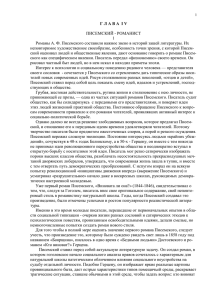"ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕАЛИИ" В РОМАНЕ А.Ф.ПИСЕМСКОГО
реклама
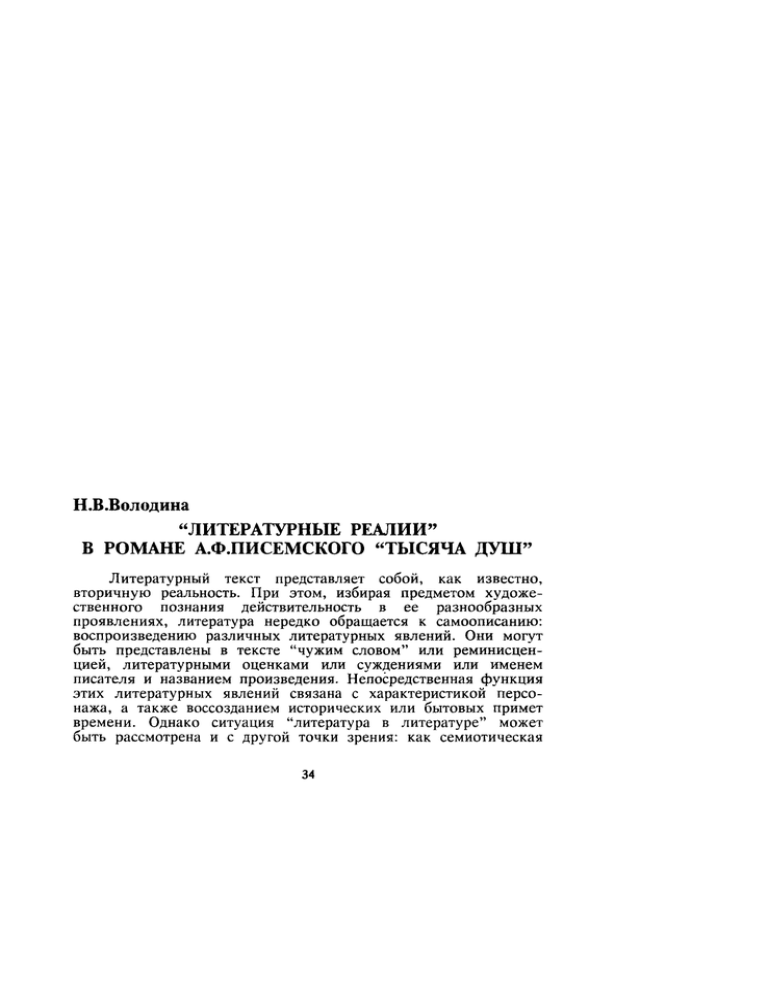
Н.В .Володина
"ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕАЛИИ"
В РОМАНЕ А.Ф.ПИСЕМСКОГО "ТЫСЯЧА ДУШ"
Литературный текст представляет собой, как известно,
вторичную реальность. При этом, избирая предметом художественного познания действительность в ее разнообразных
проявлениях, литература нередко обращается к самоописанию:
воспроизведению различных литературных явлений. Они могут
быть представлены в тексте "чужим словом" или реминисценцией, литературными оценками или суждениями или именем
писателя и названием произведения. Непосредственная функция
этих литературных явлений связана с характеристикой персонажа, а также воссозданием исторических или бытовых примет
времени. Однако ситуация "литература в литературе" может
быть рассмотрена и с другой точки зрения: как семиотическая
34
модель аудитория-текст. "Художественный текст, — как определяет Ю.М.Лотман его прагматические возможности, — до тех
пор, пока он сохраняет для аудитории активность, представляет
собой динамическую систему" . Отношения между текстом и
аудиторией оказываются двунаправленным процессом, где не
только читатель открывает в произведении-авторе новые значения, но и литература формирует поведение читателя. Рассмотрим
с этих позиций роман А.Ф.Писемского "Тысяча душ".
Действие первой, второй и третьей частей романа происходит, очевидно, во второй половине 1840-х годов. Об этом
свидетельствуют, прежде всего, "литературные приметы" времени. В первой части упоминается о том, что Пушкин и Лермонтов
умерли, а Белинский "так много теперь пишет, в "Отечественных
записках" , причем пушкинский цикл статей им уже опубликован. Следовательно, события не могут происходить ранее 1843
года (начало публикации) и позднее 1846 года (последнего года
работы критика в "Отечественных записках"). Однако характер
эпохи, изображенной в романе, скорее напоминает время
создания произведения — преддверие 1860-х годов (роман был
напечатан в "Отечественных записках" за 1858 год).
Сохраняя бытовые и исторические реалии конца 1840-х
годов, в характеристике духовно-нравственной атмосферы эпохи
Писемский явно приближается к современности, тем более, что
историческая дистанция невелика. Это чувствуется и в автокомментарии к роману, данном в письме А.Н.Майкову от 1 октября
1854 года: "Не знаю, писал ли я тебе об основной мысли
романа, но во всяком случае, вот она: что бы про наш век
ни говорили, какие бы в нем ни были частные проявления,
главное и отличительное его направление — п р а к т и ч е с к о е :
составить себе карьеру, устроить себя покомфортабельнее,
обеспечить ... будущность свою и потомства — врт божки,
которым поклоняются герои нашего времени..." . Очень близкая
к этому характеристика эпохи появится и в тексте произведения.
"Практическое направление" — один из достоянных
типологических признаков 1860-х годов, возникающий в
суждениях разных представителей эпохи. Сошлемся в качестве
подтверждения на замечание В.П.Боткина: "В наше время
(цитируется статья 1856 года) вошло в обыкновение говорить,
что мы живем в веке практическом..."4 Практический характер
времени, изображенного в романе, наиболее отчетливо проявился
в личности главного героя произведения — Якова Васильевича
Калиновича.
В первой части романа Калиновичу двадцать семь лет. Три
года он служит в провинции, затем уезжает в Петербург и
через десять лет возвращается назад. Следовательно, в четвертой
части романа, действие которой приближается ко времени
завершения произведения — концу пятидесятых годов, Калиновичу около сорока лет. К этому моменту он окажется
35
человеком старшего поколения, близким по возрасту, например,
Николаю Петровичу Кирсанову. Однако если для Николая
Петровича время его юности, учебы в Московском университете
(он окончил его в 1835 году) определило характер его
дальнейшей жизни, тип мироощущения, то Калинович имеет
лишь некоторое внутреннее родство с интеллигенцией сороковых
годов.
Прежде всего это дух анализа, рефлексии, порывы к идеалу.
В откровенном разговоре с приятелем он скажет: "Я теперь
живу в какой-то душной пустыне! Алчущий сердцем, я знаю,
где бежит свежий источник, способный утолить меня, но нейду
к нему по милости этого проклятого анализа, который, как
червь, подъедает всякое чувство, всякую радость в самом еще
зародыше, и, ей богу, составляет одно из величайших несчастий
человека" [281]. Подобное отношение к собственной рефлексии
в сочетании с романтической фразеологией, несомненно,
наследие "идеализма" тридцатых годов, влияние атмосферы
Московского университета этого периода.
Сохранившиеся многочисленные воспоминания о Московском университете, прежде всего его воспитанников, рисуют его
как "университет, весь полный трагических веяний недавней
катастрофы и страшно отзывчивый на все тревожное и
головокружительное, что носилось в воздухе под общими
именами шеллингизма в мысли и романтизма в литературе" .
Таким помнит университет времен его юности автобиографический герой литературных воспоминаний Ап. Григорьева. Не
случайно критик Григорьев выскажет сомнение в том, что такой
герой, как Калинович, мог выйти из университета: "... таковые, —
считает он, — могут образовываться только под влиянием
резонерства теорий, а не под влиянием философии и более или
менее, но всегда энциклопедического образования"6. Григорьев
соотносит Калиновича с историческим и культурным типом
человека 30—40-х годов. Однако доминанту его натуры
определило другое время, точнее, — переходная эпоха, в
которую еще живы ценностные ориентиры прошлого, но
настойчиво вторгаются в жизнь новые нормы и правила.
Сам Калинович основу своего характера видит в том, что
он "страшно честолюбив" [128]. как он признается самому
близкому для него человеку, Настеньке, и, уже оставив ее, в
письме, написанном почти по-онегински, объяснит: "Я истерзал
бы тебя обидным раскаянием, своими бесполезными жалобами
и, быть может, даже ненавистью своею. Что делать! Я не
рожден для счастия семейной жизни в бедной доле. Честолюбие
живет во мне, кажется, на счет всех других страстей и чувств,
как будто древний римлянин возродился во мне" [282].
Возможно, это неосознанное следование хорошо известному
Калиновичу литературному образцу. Но, сохранив форму
онегинского объяснения с Татьяной и даже отчасти мотивировку
36
своего "отказа", главную причину расставания с Настенькой
Калинович назовет иную. Он попытается облагородить свое
честолюбие, замечая, что оно в нем "не безрассудное" [82].
Действительно, бескорыстная и даже мужественная деятельность
Калиновича на посту генерал-губернатора докажет это. Однако
на путь карьеры Калиновича влечет не только забота об общем
благе, но и желание оказаться среди сильных мира, получить
комфорт и благополучие, даже если это потребует некоторых
нравственных компромиссов.
Такое стремление к комфорту автор рассматривает не
только как индивидуальное свойство героя, но и как отличительную особенность "практической эпохи", в которую он живет.
Создавая общественный портрет поколения, Писемский подчеркивает в нем именно это качество: "И для кого же, впрочем,
из солидных, благоразумных и образованных людей нашего
времени не имеет он (комфорт — Н.В.) этого значения? Автор
дошел до твердого убеждения, что для нас, детей нынешнего
века, слава... любовь... мировые идеи... бессмертие — ничто
перед комфортом" [137].
Комфорт как жизненный принцип определяет не только
многие поступки Калиновича, но и характер его творчества.
Это сразу чувствует Зыков, профессиональный литератор,
бывший университетский товарищ Калиновича, ныне редактирующий серьезный журнал: "Твоя повесть — очень умная вещь. —
И боже мой! разве ты можешь написать что-нибудь глупое? —
воскликнул Зыков. — Но, послушай, — продолжал он, беря
Калиновича за руку, — все эти главные лица твои — что же
это такое?... У нас и в жизни простолюдинов, и в жизни
среднего сословия драма клокочет... ключом бьет под всем
этим... страсти нормальны... протест правильный, законный; кто
задыхается в бедности, кого невинно и постоянно оскорбляют...
кто между подлецами и мерзавцами чиновниками сам делается
мерзавцем, — а вы все это обходите и берете каких-то
великосветских господ и рассказываете, как они страдают от
странных отношений (так называется повесть Калиновича —
Н.ВЛ. Тьфу мне на них! Знать я их не хочу! Если они и
страдают — так с жиру собаки бесятся. И, наконец: лжете вы
на них! Нет в них этого, потому, что они не способны на то
ни по уму, ни по развитию, ни по натуришке, которая давно
выродилась; а страдают, может быть, от дурного пищеварения
или оттого, что нельзя ли где захватить и цапнуть денег или
перепихнуть каким бы то ни было путем мужа в генералы, а
вы им навязываете тонкие страдания!" [245].
Зыков видит в Калиновиче тип литератора, достаточно
распространенный в современной литературе. Это тип писателя,
которого еще Белинский упрекал в литературном аристократизме. Нравственная позиция художника оказывается при этом
напрямую связана с его эстетическими принципами.
37
Зыков упрекает Калиновича в отсутствии не только истинно
реалистического взгляда на действительность, но и во внутренней
холодности по отношению к своим героям, в отстраненности
авторской позиции. Демократизм убеждений Зыкова не делает
его сторонником тенденциозного искусства. Любой предмет
изображения не будет, с его точки зрения, оправдан, если он
не становится подлинно художественным явлением. Такой
вершиной, неизменным идеалом художественного творчества для
него остается Пушкин. Именно на него будет ссылаться Зыков
в разговоре с Калиновичем: "А я вот теперь, умирая, сохраняю
твердое убеждение, что художник даже думает образами.
Смотри, у Пушкина в чисто лирических его движениях: "В час
незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой" —
образ! "Но от горького лобзанья свои уста оторвала" — опять
образ! Или, наконец, бог с ней, с объективностью! давай мне
лиризм — только настоящий, не деланный, а как у моего
бесценного Тургенева, который зайдет ли в лес, спустится ли
в овраг к мальчишкам, опишет ли тебе бретера-офицера, под
всем лежит поэтическое чувство. А с одной, брат, рассудочной
способностью, пожалуй, можно сделаться юристом, администратором, ученым, но никак не поэтом и романистом — никак!"
[246]. Пушкинский текст, который цитирует Зыков, для него,
конечно, случаен, но для автора, возможно, нет. Строки
Пушкина соотносятся с реальной ситуацией разрыва Калиновича
и Настеньки, но освобожденной от компрометирующих героев
обстоятельств, драматичной и поэтичной одновременно.
Объясняя семиотическое значение подобных литературных
явлений, Ю.М.Лотман пишет: "Двойная закодированность определенных участков текста, отождествляемая с художественной
условностью, приводит к тому, что
основное пространство текста
воспринимается как реальное"7. В этом случае как бы
обнажается знаковая природа самого текста: "С одной стороны,
текст прикидывается самой реальностью, прикидывается имеющим самостоятельное бытие, независимое от автора, вещью
среди вещей реального мира. С другой, он постоянно
напоминает, что он — чье-то создание и нечто значит" .
Если Зыков оценивает Калиновича как профессиональный
литератор, то Белавин, светский, образованный, гуманно настроенный человек, — с точки зрения влияния писателя на общество,
участия в его духовной жизни. "Вам особенно, как литератору, —
скажет он, — грех поддерживать это мертвящее направление,
которое все, что не представляет на ощупь осязательной пользы,
все это окрестили донкихотством. И, поверьте мне, бесплодно
проживет поколение, потому что оно окончательно утратило
романтизм, — тот общий романтизм, который, с одной стороны,
выразился в сентиментальности, а с другой, слышался в лице
Байрона и сказался открытием паров. Да-с, не коммерция ваша,
этот плут общественный общечеловеческий, который пожинает
38
теперь плоды, создала и изобрела дорогу и винт: их создал
романтизм в науке" {280]. Романтизм как нравственно-психологический комплекс и тип поведения, обладающий устойчивыми
признаками, накануне шестидесятых годов воспринимается
массовым сознанием как явление архаическое. Не случайно
Ап.Григорьев скажет о себе как о "последнем романтике"...
Яков Васильевич Калинович не пережил крушения романтических идеалов, как это произошло, например, с Александром
Адуевым. Он прагматичен изначально, хотя не лишен некоторых
романтических устремлений. Полная утрата их связана с его
расставанием с литературой, творчеством, которые оказываются
в одном ряду с интересом к науке и молодой влюбленностью:
"В его помыслах, желаниях окончательно стушевался всякий
проблеск поэзии, которая прежде все-таки выражалась у него
в стремлении к науке, в мечтах о литераторстве, в симпатии
к добродушному Петру Михайловичу и, наконец, в любви к
милой, энергичной Настеньке" [310].
"Литературное поприще" героя не удалось, и поэтому
первая повесть Калиновича осталась его единственным произведением. Однако, не состоявшись как писатель, Калинович,
несомненно, состоялся как читатель, чьи литературные вкусы,
очевидно, характерны для интеллигенции эпохи. Это тип
читателя, для которого литература — необходимый элемент
образования, культуры, в гораздо меньшей степени — элемент
эмоционально-нравственного воздействия. Человек рационального склада ума, Калинович воспринимает литературу несколько
отвлеченно, почти "профессионально", внешним зрением. Но
определенное нравственное воздействие литературы он все же
испытывает, сознательно или неосознанно ориентируясь на
какие-то литературные тексты и закрепленные в них нормы и
правила поведения. Так, идеал гражданского деятеля, к
осуществлению которого он стремится на посту вице-губернатора, возник в сознании героя, несомненно, и при "участии"
литературы. Правда, в романе нет развернутых литературных
суждений Калиновича. Они возникают в диалогах, где собеседниками являются, прежде всего, Петр Михайлович Годнее и
его дочь.
Это люди иного уровня образованности и культуры, но
возможность "литературного" общения между ними есть. Все
любят литературу, по-разному, но знают ее; наконец, каждый
из них пробовал писать. В разговорах о литературе, которые
ведут герои романа, как правило, противопоставляется литература прошлого и настоящего. Прошлое — это литература конца
XVIII — начала XIX века. Пушкин и Лермонтов в прошлое
не включаются, хотя они и вне современного литературного
процесса. Это уже классика, вершина, причем рядом с
Пушкиным и Лермонтовым появляется и ныне живущий Гоголь.
Для Петра Михайловича Годнева образцом, вершиной
художественного творчества и сейчас является литература XVIII
века, главным образом, творчество писателей-классицистов.
Именно так он воспринимает Державина: "Прежде, — продолжал Петр Михайлович, — для поэзии брали предметы как-то
возвышеннее: Державин, например, воспевал императрицу,
героев, их подвиги, а нынче дались эти женские глазки да
ножки... Помилуйте, что это такое?" [52]. Петр Михайлович
ждет от литературы воплощения некоей идеальной нормы
поведения, нравственного образца, примера для подражания.
Очевидно, именно так, глубоко лично, он сам воспринимает
литературу. И его несколько старомодные литературные вкусы
в значительной мере проясняют внутренний облик этого
человека, с его устойчивыми нравственными представлениями о
долге, чести, порядочности.
Дочь Петра Михайловича, Настенька, совершенно иначе
относится к литературе прошлого. "Я этих од решительно читать
не могу", — заявляет она и спорит с мнением отца: "Или вот
папенька восхищается этим Озеровым. Вообразите себе: Ксения,
русская княжна, которую держали взаперти, едет в лагерь к
Донскому — как это правдоподобно5" [52]. Настенька судит
литературу классицизма по законам современного реалистического искусства, и Петр Михайлович, понимая это, сразу сдается
под напором дочери: "Я своего мнения за авгоритет и не выдаю, —
начал он, — и даже очень хорошо понимаю, что нынче пишут
к чувствам, к жизни нашей ближе, поучают в форме
сатирической повести — это в своем роде хорошо" [52]. В
качестве самой авторитетной в этом разговоре всеми присутствующими воспринимается точка зрения Калиновича, тоже
противопоставляющего литературу прошлого и настоящего: "За
нынешней литературой остается большая заслуга: прежде
риторически лгали, а нынче без риторики начинают понемногу
говорить правду, — проговорил он и мельком взглянул на
Настеньку, которая ответила ему одобрительной улыбкой" [52].
Естественно, что среди современных писателей Калинович
выделяет Гоголя, хотя общее направление его творчества считает
односторонним. В ответ на поверхностное замечание Петра
Михайловича "Превеселый писатель!" [53] — он скажет:
"Гоголь громадный талант <...> но покуда с приличною ему
силою является только как сатирик, а потому раскрывает одну
сторону русской жизни, и раскроет ли ее вполне, как обещает
в "Мертвых душах", и проведет ли славянскую деву и
доблестного мужа — это еще сомнительно" [53].
Суждение Калиновича напоминает оценку творчества Гоголя Дружининым, стремившимся увидеть всесторонность художественного мира Гоголя, не ограниченного задачею сатирического изображения действительности. Однако у Калиновича
причины подобного отношения к Гоголю иные, не столько
40
эстетического, сколько этического характера. Отдавая должное
Гоголю-сатирику, Калинович, может быть, интуитивно отстраняется от него, ибо, подобно гоголевскому герою, пытавшемуся
сделать себе состояние покупкой "мертвых душ", он устраивает
карьеру с помощью приданного в тысячу душ его жены. Эту
неприятную для Калиновича близость заметит Белавин: "Вы
давеча говорили насчет Чичикова, — что он не заслуживает
того нравственного наказания, которому подверг его автор,
потому что само общество не развило в нем понятия о чести;
но что тут общество сделает, когда он сам дрянь человек?"
[345]. Любопытно, что этот разговор, свидетелем которого
становится Калинович, происходит в светском салоне, среди
гостей, которых трудно считать любителями серьезной литературы (за исключением Калиновича и Белавина). Тем более
очевиден общественный резонанс поэмы Гоголя.
Умение поддержать разговор о литературе обыденным
сознанием воспринимается как признак хорошего тона, как одно
из непременных правил поведения светского человека. При этом
серьезное знание литературы, внутренняя реакция на нее
оказываются необязательными. Не случайно распространенным
типом эпохи, изображенной в романе Писемского, является тип
литературного дилетанта, как скажет о нем автор. В романе
это князь Иван Раменский, пятитидесятилетнии помещик,
приятный и легкий в общении человек, и одновременно —
человек без чести и совести. Князь, несомненно, имеет
представление о современной литературе и происходящих в ней
процессах, с иронией отзывается не только о литературе
классицизма как явлении прошлого, но и произведениях
романтизма: "Он хвалил направление нынешних писателей,
направление умное, практическое, в котором благодаря бога не
стало капли приторной чувствительности двадцатых годов;
радовался вечному истреблению од, ходульных драм, которые
своей высокопарной ложью в каждом здравомыслящем человеке
могли только развивать желчь; радовался, наконец, совершенному изгнанию стихов к н е й , к л у н е , к з в е з д а м ; похвалил
внешнюю блестящую сторону французской литературы и
отозвался с уважением об английской — словом, явился в
полном смысле литературным дилетантом" [134]. Очевидно,
оценки и суждения князя являются широко распространенными,
едва ли не общим местом. Литература, о которой говорит князь,
не имеет для него никакого внутреннего значения; более того,
из откровенной беседы с Калиновичем ясно, что он считает
литературу, вместе с гуманитарным образованием, чуть ли не
социальным злом. Пытаясь погасить остатки совестливости в
своем собеседнике, князь заметит: "... и скажу вам, что все
зло лежит в вашем глупом университетском образовании, где
набивают голову разного рода великолепными, чувствительными
41
идейками, которые никогда и нигде в жизни не приложимы
[326,327].
Князь Иван Раменский — это не только известный во все
времена тип литературного дилетанта, но и отчасти —
хлестаковский тип. Близость к гоголевскому персонажу наблюдается именно в рассуждениях князя о литературе, в сочиненных
им бытовых ситуациях с участием литераторов. Подобно
гоголевскому герою, князю важно доказать, что он "с Пушкиным
на дружеской ноге". В ответ на вопрос Калиновича, был ли
знаком князь с Пушкиным, тот с готовностью отвечает: "Даже
очень. Мы почти вместе росли, вместе стали выезжать молодыми
людьми в свет: я — гвардейским прапорщиком, а он, кажется,
служил тогда в иностранной коллегии... в полном смысле этих
слов. Он, Баратынский, Дельвиг, Павел Нащокин — а этот
даже служил со мной в одном полку, — все это были молодые
люди кружка" [130]. И тут же сочиняет историю о том, как
он подсказал Пушкину сюжет его "Импровизатора" ("Египетских ночей").
Ю.М.Лотман, исследуя исторический и культурный феномен
хлестаковщины, приходит к выводу, что она "связана с высокой
знаковостью общества. Только там, где разного рода социальные
отчуждения, "мнимости" играют доминирующую роль, возможно
то отчуждение деятельности от результатов, без которого
хлестаковская морока — мороченье себя и окружающих как
форма существования — делается невозможной" .
"Хлестаковский пассаж" князя в отношении к Пушкину
автор рассматривает как характерную для изображаемой эпохи
типологическую ситуацию. Пушкину, как заметит автор, "как
известно, в дружбу напрашивались после его смерти не только
люди совершенно ему незнакомые, но даже печатные враги его,
в силу той невинной слабости, что всякому маленькому
смертному приятно стать поближе к великому человеку и хоть
одним лучом его славы осветить себя" [134].
Иное, документальное подтверждение и объяснение этого
явления мы находим в "Материалах для биографии А.С.Пушкина", подготовленных П.В.Анненковым. Говоря о петербургском периоде жизни поэта, после окончания лицея, биограф
Пушкина приходит к выводу, что "он был в это время по
плечу каждому — вот почему до сих пор можно еще встретить
людей, которые сами себя называют друзьями Пушкина..." . И
биограф, и художник разными путями приходят к одному
заключению: уже в конце сороковых — начале пятидесятых
годов создается своего рода мифология Пушкина, — к
сожалению, не всегда сочетающаяся с живым интересом и
любовью к его творчеству. Однако у Пушкина, полагает
Писемский, и сегодня есть истинные читатели и почитатели. В
романе это прежде всего Настенька Годнева.
Чтение играет в ее жизни особую роль. Настенька — это
тот тип читателя, о котором, очевидно, мечтает каждый автор.
Она образованный и мыслящий читатель, с достаточно сфор42
мированным литературным вкусом и одновременно — воспринимающий литературу сердцем. Литературное образование
Настеньки — это результат ее собс*венного читательского опыта.
Семейное чтение и обсуждение прочитанных книг — примета
домашнего быта Годневых. Строгого отбора в выборе книг в
семье Годневых, очевидно, не было. "Все, я думаю, помнят, —
замечает Писемский, — в каком огромном количестве в
тридцатых годах выходили романы переводные и русские,
романы всевозможных содержаний: исторические, нравоописательные, разбойничьи; сборники, альманахи, и, наконец, журналы. Из всего этого в каждый вечйр что-нибудь прочитывалось"
[23]. Среди писателей, которые ей нравятся, Настенька называет
широкий круг имен. Это Загоскин, Лажечников (роман "Ледяной
дом" она пять раз прочла), Соллогуб (его "Аптекарша" и
"Большой свет" ей ужасно нравятся), Кукольник, Вельтман,
Даль, Основьяненко [54]. Настенька ориентируется в этом
литературном потоке. Она читает серьезные журналы ("Отечественные записки"), что несколько удивляет Калиновича;
разбирается в процессах, происходящих в современной литературе, понимает меру ценности художника. Так, она убеждена,
что "нынче есть великие писатели... это трое: Пушкин,
Лермонтов, Гоголь" [52], и собственное представление об этих
писателях соотносит с оценками критики, прежде всего критики
Белинского. Важно, что чтение для Настеньки не только
привычное и любимое занятие, но и "сердечное" общение с
писателем, непосредственно влияющее на ее внутренний мир.
Автор, несомненно, симпатизирует такому типу читателя, хотя
считает его, очевидно, несвойственным современной эпохе.
Склонный к типическим построениям, Писемский создает
обобщенный портрет "уездной барышни", с которым сопоставляет свою героиню. "Настенька была в полном смысле то, что
называется у е з д н а я б а р ы ш н я . . . " , — однако сразу же
уточняет: "Но, бога ради, не подумай, читатель, чтоб она была
уездная барышня настоящего времени. Тут есть громадное
различие" [19]. Облик уездной барышни прошлого и настоящего
создается автором прежде всего через обозначения круга ее
чтения и отношение к литературе. "Милые уездные барышни"
времен юности автора любили Карамзина, Бестужева-Марлинского, зачитывались Пушкиным. Литература играла огромную
роль в их жизни, определяя нравственные идеалы и воспитывая
чувства, подсказывала тип поведения. Сам быт уездных
барышень, с чтением вслух любимых книг, переписыванием в
заветные альбомы стихов, знанием и цитированием их наизусть —
насквозь литературен. Они были способны к эмоциональной
реакции на книгу, подчас проливая над ней горькие слезы, а
в собственной жизни стремились повторить какие-то литературные, как правило, романтические ситуации: безрассудную
страсть, бескорыстие в выборе героя, бегство с любимым
43
человеком и т.д. "Романтические тексты, — отмечает Ю.М.Лотман, — воспринимаются
читателем как непосредственные
11
программы поведения" . Поэтому нравственно-психологические
особенности внутреннего облика уездных барышень прошлого
автор напрямую связывает с воздействием книги,. чтения. Едва
ли не главное в них — "мечтательность и чувствительность,
которую некогда так хлопотал распространить добродушный
Карамзин" [21]. Эти же качества автор видит и в Настеньке:
"Добрая, отчасти сентиментальная и чувствительная..." [21]. В
полном согласии со своей натурой она ведет себя в жизни:
оказывается способной на удивительно самоотверженную любовь, навсегда сохраняет преданность любимому, пусть и не
очень достойному человеку.
Современная барышня явно проигрывает в глазах Писемского своей благоразумностью, переходящей в меркантилизм,
осторожностью, абсолютной "нелитературностью". "Почти положительно можно сказать, — заключает он, — что прежние
барышни страдали от любви; нанешние — от того, что у
папеньки денег мало... Прежде з а в е т н ы й , о н казался
полубогом, а нынче з а в е т н ы й , он —будущий генерал или
владелец пятисот душ" [21].
Одним из главных показателей иного духовного и
нравственного облика современной барышни является для автора
ее отношение к творчеству Пушкина: "Наш великий Пушкин,
призванный, кажется, быть вечным любимцем женщин, Пушкин,
которого барышни моего времени знали всего почти наизусть,
которого Татьяна была для них идеалом, — нанешние барышни
почти не читали этого Пушкина..." [20]. Настоящую литературу
им заменили "целые сотни томов Дюма и Поля Феваля" [20].
Итак, Настенька Годнева, с ее любовью к литературе,
бескорыстием и постоянством, несомненно, не в духе времени,
но одновременно и дитя своей эпохи, несущей человеку чувство
внутреннего раскрепощения, свободу в выборе поступков.
"Литературные реалии" в реалистическом произведении
выполняют традиционную роль типических обстоятельств. Однако эти обстоятельства особого рода, моделирующие отношения
"текста" и "аудитории". Обладая повышенной семиотической
значимостью, ситуация "текст в тексте" дает возможность для
выводов общего характера о нравственной, эстетической и
социальной роли литературы в духовной жизни нации, людей
конкретного поколения. Статус литературы — это и статус
читателя, который далеко не всегда поднимался в русской
культуре до высот отечественной литературы. Очевидно, именно
этим обстоятельством вызван горький вывод Иосифа Бродского:
"...русская трагедия — это именно трагедия общества, литература
в котором оказалась прерогативой
меньшинства: знаменитой
русской интеллигенции"1 .
44
Примечания
I
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С.27.
Писемский А.Ф. Тысяча душ / / Писемский А.Ф. Собр. соч.: В
5 т. М., 1983. Т.З. С.53. Далее цитируются в тексте по тому же изданию
с указанием страниц.
3
Писемский А.Ф. Письма. М.; Л., 1936. С.77—78 (здесь и далее в
цитатах разрядка автора).
Боткин В.П. Стихотворения А.А.Фета / / Боткин В.П. Литературная
критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С.192.
Григорьев А.А. Воспоминания. Л., 1980. С.36.
6
Григорьев А.А. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т.2. С.155.
7
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С.112.
8
Там же. С.116—117.
9
Лотман Ю.М. О Хлестакове / / Труды по русской и славянской
филологии. XXVI. Литературоведение / Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. Тарту,
1975. С.50.
10
Анненков П.В. Материалы для биографии А.С.Пушкина. М., 1984.
С.66.
II
Лотман Ю.М. О Хлестакове. С.52.
Бродский И Нобелевская лекция / / Бродский И. Стихотворения.
Таллин, 1975. С.13.