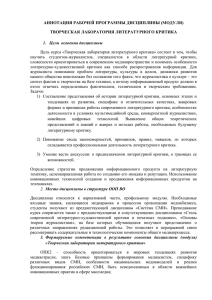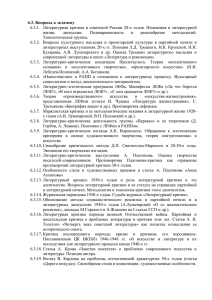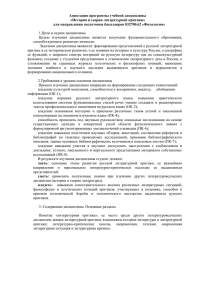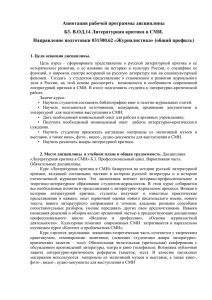Хрестоматия по истории русской литературной
реклама

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет» ХРЕСТОМАТИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ $ Часть первая (XVIII–XIX вв.) Иркутск 2007 1 Хрестоматия по истории русской литературной критики УДК 882.09 ББК 83.3(2Р) Х 91 Рецензенты: Х 91 канд. филол. наук Сацюк И. Г., канд. филол. наук Мельникова С. В. Хрестоматия по истории русской литературной критики. Часть первая (XVII–XIX вв.) : учеб. пособие / авт.-сост. Н. Н. Подрезова. – Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2007. – 423 с. ISBN 978-5-9624-0191-1 Учебное пособие включает в себя литературно-критические тексты, отражающие основные проблемы отечественной литературной критики XVIII–XIX веков, историко-культурологические комментарии к представленным источникам и блок вопросов, направленных на проверку качества усвоения предложенного материала. Для студентов, обучающихся на филологических факультетах вузов. УДК 882.09 ББК 83.3(2Р) ISBN 978-5-9624-0191-1 © Подрезова Н. Н., составление, 2007 © ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 2007 2 Н. Н. Подрезова Оглавление Подрезова Н. Н. Русская литературная критика XVIII–XIX веков ……...………………………………………………… 6 Тема 1. РУССКАЯ КЛАССИЦИСТИЧЕСКАЯ КРИТИКА XVIII ВЕКА 22 В. К. Тредиаковский Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю .……………… 22 Письмо к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии ..… 32 О древнем, среднем и новом стихотворении российском ...………. 34 М. В. Ломоносов Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии ......................………………………………………………. 40 Предисловие о пользе книг церковных в российском языке……… 46 А. П. Сумароков Ответ на критику ...................………………………………………… 51 Наставление хотящим быти писателями ................……………….... 53 К несмысленным рифмотворцам ....................………………............. 59 Тема 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КОНЦА XVIII ВЕКА 64 Н. И. Новиков Статьи из «Трутня». Лист V и Лист VIII ....................……………… 64 «Пустомеля». То, что употребил я вместо предисловия ...............… 67 3 Хрестоматия по истории русской литературной критики Опыт исторического словаря о российских писателях .................… 72 <О критическом рассмотрении издаваемых книг > ...................…… 85 И. А. Крылов Похвальная речь Ермалафиду, говоренная в собрании молодых писателей .....................…………………………………………... 87 Н. М. Карамзин <О Шекспире и его трагедии «Юлий Цезарь»> ….................……… 96 Что нужно автору? .................………………………………………... 99 < Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону> …….................................................................................. 100 Отчего в России мало авторских талантов? ……...................……… 102 Тема 3. СТАНОВЛЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ 109 В. А. Жуковский О критике ……………..................……………………………………. 109 Рафаэлева Мадонна ………..................………………………………. 117 К. Н. Батюшков Речь о влиянии легкой поэзии на язык ……....................…………… 121 Нечто о поэте и поэзии ………………...................……....………...... 126 П. А. Вяземский О «Кавказском пленнике», повести соч. А. Пушкина ...................… 133 Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова ……...................…………………. 138 В. К. Кюхельбекер О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие ……….........................……………………………… 144 А. С. Пушкин О поэзии классической и романтической ……...................………… 151 <Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»> ….............. 154 4 Н. Н. Подрезова Тема 4. ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Н. В. ГОГОЛЯ 160 Н. В. Гоголь Несколько слов о Пушкине ……...................………………………... 160 Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ» …........ 165 В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность ………………………..……………………………... 178 Тема 5. ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ СУЖДЕНИЙ В. Г. БЕЛИНСКОГО 221 В. Г. Белинский О русской повести и повестях г. Гоголя ….................……………… 221 Горе от ума …………………………………...................…………….. 245 Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая. Евгений Онегин……….................................................................................. 259 < Письмо к Н. В. Гоголю > ……………...................………………… 300 Тема 6. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА «ПОСЛЕ БЕЛИНСКОГО» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 313 Н. А. Добролюбов Что такое обломовщина? ………....................………………………... 313 А. В. Дружинин «Обломов». Роман И. А. Гончарова ………....................……………. 354 Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения ……………………………...........................…………. 373 5 Хрестоматия по истории русской литературной критики Русская литературная критика XVIII–XIX веков Литературная критика XVIII–XIX веков в России, несмотря на разнообразие имен, направлений и выработанных программ, имеет черты целостности, которые особенно явно различимы из сегодняшнего дня. В литературно-критическом процессе точки отсчета и завершения эпохальных периодов не совпадают с календарными границами веков. Так, выделение критики в самостоятельную область словесности принято соотносить с творчеством классицистов 1740–1770-х годов, выразивших дух петровских реформ в литературной сфере. Нижняя граница обозначенного литературнокритического процесса приходится на 1880–1890-е годы, упираясь в серебряный век русской литературы, которая, взяв разбег в XIX веке, характером художественного сознания принадлежала уже веку XX. Литературно-критическая мысль XVIII века формируется в русле классицистического направления, в характере которого было стремление к экстенсивному расширению знаний, рационализму и максимальной упорядоченности. Самосознание литературы в творчестве М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова имело свои специфические черты, обусловленные как художественным сознанием эпохи, так и самой историей России, развитием русской литературы. Отсутствие интереса к теоретическим вопросам литературы в отечественной культуре предшествующего периода заставило обратиться к освоению европейского багажа знаний. Тредиаковский знакомит русского читателя с такими образцами литературоведческой мысли, как «Эпистола к Пизонам» Горация, «Искусство поэзии» Буало; Ломоносов, составляя первую российскую риторику «Краткое руководство к красноречию» или разрабатывая языковую теорию трех стилей («Предисловие о пользе книг церковных в российском языке»), ориентируется на риторики античности; Сумароков в основу эпистолы «О стихотворстве» кладет уже упомянутый труд Буало. Ориентация на образец – характерный признак литературно-критического сознания 40–80-х годов XVIII века. Круг вопросов, над которыми работала литературная критика раннего этапа, в первую очередь касался вопросов стиля, формируя нормы литературного словоупотребления. Интерес к жанровым 6 Н. Н. Подрезова формам произведений имел описательный характер и стремился предельно упорядочить жанрообразующие ресурсы того времени. Категории стиля и жанра в художественной системе классицистов имели иерархическую организацию, т. е. существовали высокий, средний и низкий «штили», а также – в прямой зависимости от стилевого «наполнения» – высокие, средние и низкие жанры. Иерархичность литературно-критического сознания классицистов проявляется и в том, что место писателя в литературном процессе мыслилось исключительно по модели Парнасской горы, которая имела подножье и вершину. Немало копий было сломано литераторами того времени в попытке соотнести заслуги каждого с легендарной ценностной шкалой. Благодаря трудам Тредиаковского и Ломоносова в зоне реформаторства оказалось русское стихосложение1. Переход от силлабической системы стихосложения к силлаботонической определил дальнейший путь развития отечественной поэзии. В последнюю треть XVIII века литературно-критический процесс лишился начальной однородности и в своем центростремительном движении расширял границы компетенции критики. Творческая деятельность таких литераторов, как Н. И. Новиков, Д. И. Фонвизин, И. А. Крылов и др. совпала с бурным развитием сатирических журналов (1769–1775), начало которому было положено Екатериной II, видевшей в литературе помощницу в исправлении нравов и в избавлении от старомодных предрассудков. Уйдя от теоретических вопросов литературы, критика пробовала свои силы в жанрах сатиры, которая принимала форму писем, разговоров, словарей, остроумных объявлений, эпитафий и эпиграмм, часто метивших в конкретные явления и имеющих определенного адресата. Этот интерес к происходящему в социальной действительности, наполненность бытовыми подробностями, дидактическая стратегия позволили некоторым исследователям говорить о направлении сатирического, или просветительского реализма в литературной критике последней трети XVIII века2. 1 В 1735 году В. К. Тредиаковский опубликовал «Новый и краткий способ к сложению российских стихов». Более последовательно внес изменения в систему стихосложения М. В. Ломоносов в «Письме о правилах российского стихотворства» в 1739 году. 2 Кулешов В. И. История русской критики XVIII – начала XX веков. М., 1991. С.49–63. 7 Хрестоматия по истории русской литературной критики Выдающимся явлением сатирической критики стала деятельность Н. И. Новикова, издававшего такие журналы, как «Трутень» (1769–1770), «Пустомеля» (1770), «Живописец» (1772–1773), «Кошелек» (1774). В изданиях принимали участие известные писатели того времени: В. И. Майков, А. О. Аблесимов, М. А. Попов, Ф. А. Эмин и др. Не только литературный талант выделял издания Новикова из ряда многих, но и концептуальность его критических выступлений. Это не были разрозненные замечания по поводу, а последовательное проведение системы идей, которая в дальнейшем определила творческий путь автора, обратив его к таким формам просветительской деятельности, как собирание и издание материалов по истории отечества, составление «Опыта исторического словаря о Российских писателях» (1772), выпуск «Санктпетербургских ученых ведомостей» (1777) – периодического издания, посвященного вопросам литературы, истории и географии России. Новая литературно-критическая программа вызревала в творчестве Н. М. Карамзина, который, отталкиваясь от дидактики, нормативности как обязательного компонента рефлексии о литературе, оценивал художественное творчество на основании «суждений вкуса». Знакомство с эстетикой – новой областью гуманитарного знания, интенсивно осваиваемой в Германии в конце XVIII века (Баумгартен, Зульцер, Кант), – позволило Карамзину утверждать самоценность художественного слова и обратить внимание на связь литературы с эмоциональной сферой человека. Способность проникнуть в «человеческое естество», изобразить «отличительность» каждой страсти, показать сложность характера – это отмечалось Карамзиным как достоинство писателя в предисловии к отдельному изданию перевода трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (1787). Также, отвечая на вопрос «Что нужно автору?» в одноименной статье 1794 года, писатель напрямую связывает личность творца с его значимостью как художника: «… я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором»1. Ореол гуманистического пафоса окружает и сам образ критика, чьи статьи отличались интонацией собеседования, уважением к читателю, которого не поучали, а призывали поразмышлять об «изящных науках». 1 На произведения, помещенные в данном томе, ссылки не даются. 8 Н. Н. Подрезова На фоне предшествующей критической литературы статьи Карамзина выделяются языковой манерой, которая получила название «нового слога». С этим понятием принято связывать тенденцию сближения литературного языка с разговорным языком образованного человека, которая выражалась в стремлении интонировать письменную речь, придании новых семантических оттенков старым книжно-славянским словам (образ, развитие, потребность), привлечении иностранных слов для обозначения новых понятий. «Новый слог» получил широкое распространение в средних жанрах художественной литературы: дружеских посланиях, элегиях, повестях, письмах и т. д., расширяя ряды читателей литературы на родном языке. Дискуссия о путях развития русской литературы в 1810–1811 годах вызвала на арену литературной политики две противостоящих силы – общества «Беседы любителей русского слова» и «Арзамас». Если формирование «Беседы» связано с именем адмирала А. С. Шишкова как неустанного обличителя карамзинских новшеств в литературе, то душой арзамасцев станет убежденный карамзинист Василий Андреевич Жуковский, который, редактируя журнал «Вестник Европы» (1808–1809), основанный Н. М. Карамзиным в 1802 году, дал новое направление рефлексии о литературе. Литературная критика В. А. Жуковского прочно связана с идеями романтизма. В программной статье «О критике» (1809) Жуковский противопоставил Стародуму «нового критика» на основании многих признаков, среди которых обращает на себя внимание утверждение о том, что последний «знает все правила искусства, знаком с превосходнейшими образцами изящного; но в суждениях своих не подчиняется рабски ни образцам, ни правилам; в душе его существует собственный идеал совершенства, <…> идеал возможного, служащий ему верным указателем для определения степеней превосходства». Акцентирование субъективного, ненормативного, идеального начала в осознании искусства станет ключевым моментом в формировании романтической критики. Принцип погружения в себя как способ восприятия откровений художника описан в письме Жуковского из Дрезденской галереи, которое войдет в фонд литературной критики под названием «Рафаэлева мадонна». 9 Хрестоматия по истории русской литературной критики Идеи, созвучные размышлениям Жуковского, прозвучали в статьях К. Н. Батюшкова, который, утверждая проницаемость жизни и поэзии друг для друга, создавал «пиитическую диэтику» – науку быть поэтом («Нечто о поэте и поэзии» (1815)). Мысли об искусстве, «требующем всего человека», о благодати нескольких плодотворных минут «деятельной чувствительности», к которым приготовляет себя поэт всей своей жизнью, о первичности переживаний и необходимости их выражения в слове, ибо «где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши?» формировали эстетику русского романтизма. Несмотря на утверждение первичности сердечного чувствования, Батюшков высоко ценил искусство выражения, видя в нем залог бессмертия свидетельств человеческой духовности. «Речь о влиянии легкой поэзии на язык», прочитанная в 1816 году на заседании Общества любителей российской словесности, стратегически намечала тенденции развития отечественной поэзии. Опираясь на мнение Вольтера о равноправии жанров, Батюшков приводит собственные доводы в защиту таких жанров, как дружеские послания, мадригалы, баллады, басни, анакреонтические стихотворения, связывая с ними идею «людскости», широкого проникновения искусства в жизнь людей. Кроме того, обращение к «легкой поэзии», по мнению критика, развивало языковое чутье, повышало чувство стиля, так как в этих жанрах поэт относится внимательнее к выбору слова, ведь читатель, не увлеченный перипетиями сюжета, «тотчас делается строгим судьею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается». Романтическая критика не была однородной, интерес к новой школе в литературе порождал острые споры о природе романтизма, его истоках и составляющих элементах. В дискуссиях о романтизме 20-х годов XIX века выделяется голос Петра Андреевича Вяземского, литератора, на которого А. С. Пушкин возлагал большие надежды: «ты один бы мог прикрикнуть налево и направо, порастрясти старые репутации, приструнить новые и показать нам <?> путь истины…»1. Обращаясь к таким поэмам А. С. Пушкина, как «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» Вяземский пытается осмыслить феномен романтизма как универсальное 1 [Письмо от 4 ноября 1823 г.] П. А. Вяземскому // Пушкин–критик / [сост. и примеч. Н. В. Богословского]. М., 1950. С.43. 10 Н. Н. Подрезова явление движения литературы, принцип поиска новых форм. Рассмотрение романтизма сквозь призму новаторства близко позиции А. С. Пушкина, который считал, что «если вместо формы стихотворения будем брать за основание только дух, в котором оно написано, – то никогда не выпутаемся из определений». Нарушение триединства, мечтательное настроение, обращение к небылицам не составляют суть романтической поэзии, она заключена в новизне «родов» стихотворений, которые не были известны древним, а также «в коих прежние формы изменились или заменены другими». С именем Вяземского в историю русской литературной критики вошло понятие народности, которое будет активно осмысляться на протяжении всего XIX века. В предисловии к пушкинскому «Бахчисарайскому фонтану» (1824) критик отмечает народность как достоинство, которое еще отсутствует у отечественных писателей, но присуще античным авторам. Соотнеся категорию народности со спецификой национального чувствования и отражением местности, Вяземский задаст вектор понимания новой «фигуры», отсутствующей в поэтиках Аристотеля и Горация, А. С. Пушкину, Н. В. Гоголю, В. Г. Белинскому и др. литераторам. Именно «печать народности» будет считать признаком романтической поэзии В. К. Кюхельбекер, оспаривая это звание у литературной школы Батюшкова и Жуковского. В самой известной статье критика «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», опубликованной в альманахе «Мнемозина» в 1824 году, прозвучит суд над мнимым романтизмом, что принес с собой в литературу, благодаря распространившимся жанрам элегии и дружеского послания, унылость интонаций, посредственность предмета, бесплодное самосозерцание и «тощий, приспособленный для немногих язык». Недуг новой литературы Кюхельбекер видит в подражательности, считая, что только «свободную», выражающую самобытность народа, поэзию можно назвать романтической. Утверждая позицию гражданина в словесности, свободу в литературе Кюхельбекер связывал не только с отказом от иноземных влияний, патриотической направленностью, но и с гражданским вольнолюбием. Тенденция сближения литературы с общественно-политической жизнью страны окрепнет в кругах литераторов-декабристов (К. Ф. Рылеева, А. А. Бестужева, О. М. Сомова), к которым будет принадлежать и В. К. Кюхельбекер. 11 Хрестоматия по истории русской литературной критики Н. В. Гоголь вошел в литературную критику 30-х годов XIX века под знаком Пушкина. Его голос в пушкинском «Современнике» выделялся из общего потока журнальной критики острой полемичностью, живостью высказывания. На активизацию процесса самосознания отечественной журналистики нацелена его статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», где отчетливо прозвучало требование программы, выбора направления, или генеральной линии как главного компонента в формировании журнала. Это положение о концептуальности и ответственности критического высказывания отражало позицию не только Гоголя, но и в целом журнала «Современник». На протяжении всего творческого пути Гоголь решал вопрос о месте поэта и поэзии в мире и их значении в обществе. Прогрессивная идея выражения национальной самобытности в литературе, отчетливо прозвучавшая в статье Гоголя 1832 года «Несколько слов о Пушкине», получит свое дальнейшее развитие в самой одиозной книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847). Некоторые письма из этой книги станут восприниматься читателями как программные критические статьи писателя. В самой крупной статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» Гоголь рассмотрит историю отечественной поэзии сквозь призму ее «самородности», выявляя по крупицам признаки ее укорененности в национальной, народной стихии. Констатируя оторванность словесности от жизни русского общества, Гоголь поставит перед ней задачу выразить «русского человека вполне», показать, «что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью». Сложившаяся в 40-е годы литературно-критическая концепция Гоголя синтезирует в себе элементы романтизма, критического реализма и традиции святоотеческой литературы. Эти три составляющих особенно очевидны в главе «Четыре письма разным лицам по поводу «Мертвых душ». Здесь знаком романтизма отмечена жизнетворческая установка, требующая от автора безоговорочного воплощения в собственной жизни тех идей, которые выражены в его творчестве, а также наделение искусства мистической силой преображения человека и мира, где художник оказывается мессией. С другой стороны, искусство черпает свой материал из реальности, включая факты общественной жизни, стремясь к правдивости изо12 Н. Н. Подрезова бражения. Христианская составляющая лишает искусство автономии, определяя абсолютную точку отсчета за его границами, мотивирует дидактичность высказывания. Особое место в литературном процессе XIX века принадлежит Виссариону Григорьевичу Белинскому (1811–1848), чье имя стало символом принципиальной, полемически заостренной, социально злободневной критики. Первое громкое выступление Белинского произошло в 1834 году на страницах издания Н. И. Надеждина, редактора журнала «Телескоп», в еженедельном приложении к которому («Молва») была опубликована объемная статья «Литературные мечтания», в которой строго оценивалось творчество писателей от Кантемира до тех, кто обслуживал интересы книгопродавца Смирдина. Ревизионистский пафос статьи объяснялся утверждением, что у нас нет литературы, так как литература есть выражение жизни народного духа, а не образованного общества, которое пошло вразрез с традициями собственной нации. Эта работа продемонстрировала сильные стороны дарования критика: независимость от конъюнктуры своего времени, стремление к системному рассмотрению материала, включению его в социальный, политический, исторический контексты. Через год в журнале «Телескоп» была опубликована статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород»)», в которой автор, обладая незаурядным литературным чутьем, выделил из текущего литературного процесса судьбоносные для русской словесности явления. Выход в свет повестей Гоголя был оценен критиком как создание эпоса нового времени. Дух современности повестей Гоголя был осознан как ориентация на «реальную поэзию», которая не пересоздает «жизнь по собственному идеалу», а стремится ее воспроизвести объективно. Выделяя такие признаки гоголевской художественности, как «простота вымысла», «истина жизни», народность и оригинальность, Белинский их распространяет на все произведения искусства, увязывая воедино литературно-теоретические установки с материалом произведений. В этой работе была сформулирована задача критики, которая должна определить как характер разбираемых сочинений (найти их отличительные признаки, составляющие ядро оригинальности автора), так и место автора в литературном процессе, соотнеся его творчество со всем предшествующим опытом словесности. 13 Хрестоматия по истории русской литературной критики Следующий этап творческой биографии критика был связан с работой в журнале «Московский наблюдатель», который выходил под редакцией Белинского и М. А. Бакунина в 1838–1839 гг. Интересы журнала были направлены на распространение философии Гегеля, которая в тот момент активно осваивалась интеллигенцией России. Наследие немецкого философа отразилось в критической практике Белинского в ряде таких положений, как установка на объективное постижение действительности, существующей вне субъекта; поиск закономерности, обусловленности любого существующего явления факторами настоящего и прошлого; требование целостного и автономного рассмотрения художественного произведения. В истории русской литературной критики этот период деятельности Белинского принято называть «примирительным»1, так как автор искал закономерность и отстаивал правомерность существования любого явления действительности, невзирая на его оценочную значимость. Например, в цикле из трех статей «Гамлет. Драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838) история духовного становления Гамлета прочитана сквозь призму гегелевской диалектики, где герой драмы приходит к примирению с существующим порядком вещей, предварительно пройдя стадии бессознательного приятия жизни и дисгармонии с ней. И хотя в июне 1839 года журнал «Московский наблюдатель» прекратил свое существование, такие статьи Белинского, как «Бородинская годовщина В. Жуковского» (1839), «Горе от ума… А. С. Грибоедова» (1840), напечатанные в петербургском журнале «Отечественные записки», продолжают развивать установки «примирительного периода». Недостатки произведения А. С. Грибоедова, по мнению критика, проистекают из довлеющего в пьесе сатирического начала, тогда как сатира по своей природе лишена художественности, потому что нацелена на исправление действительности, а не развитие «замкнутой в себе» идеи. Это вытекало из методологической предпосылки Белинского-критика, который противопоставлял художественное произведение как «целого единого, особного и замкнутого в себе мира», которое «само себе цель», ми- 1 Кулешов В. И. История русской критики XVIII – начала XX веков. М., 1991. С.129; История русской литературной критики / под ред. В. В. Прозорова. М., 2002. С.102–106. 14 Н. Н. Подрезова ру авторских страстей и негодований, выражению «своей субъективности». Самым значительным явлением критической мысли Белинского в журнале А. А. Краевского («Отечественные записки») стал цикл из одиннадцати статей «Сочинения Александра Пушкина» (1843–1846), написанный по поводу выхода в свет первого посмертного собрания сочинений поэта. Принцип историзма послужил методологическим фундаментом данной работы. Творчество Пушкина рассматривается как закономерный результат предшествующих тенденций развития русской литературы. Самыми известными статьями пушкинского цикла стали восьмая и девятая, посвященные анализу романа «Евгений Онегин». Соотнося типы героев с реальностью исторической эпохи, Белинский утверждает историческое и общественное значение произведения, указывая на него как на «энциклопедию русской жизни». Рассматривая образы Онегина и Татьяны, критик погружается в психологические нюансы их переживаний, достраивая недостающие звенья, исходя из затекстовых знаний о жизни. Этот принцип неразделения художественного образа и реальности в сфере анализа приводит Белинского к суду над героями. Так, критик судит Татьяну за отказ от свободного проявления чувства к Онегину в сцене их последнего свидания, упрекая героиню в патриархальной неразвитости. В 1847 году благодаря стараниям Н. А. Некрасова и И. Панаева на арену активной литературной жизни вышел бывший пушкинский журнал «Современник», сотрудником которого стал В. Г. Белинский. Усиление революционно-демократических настроений критика отразилось в его взглядах на литературу. В таких обзорных статьях, как «Взгляд на русскую литературу 1846 года» и «Взгляд на русскую литературу 1847 года», критиком последовательно утверждается приоритет «натуральной школы» в отечественной литературе. Новое направление Белинский связывает как с выбором самого предмета изображения (социальных низов, униженных и обездоленных), так и с принципом изображения – демократизмом, подразумевая уважение и сочувствие к предмету своего изображения. В этот период деятельности незыблемой остается установка на верность «действительности». Связывая натуральную школу с именами таких писателей, как Тургенев, Герцен, Гончаров, Некрасов, Достоевский и другие, ее 15 Хрестоматия по истории русской литературной критики начало критик увидел в прозе Н. В. Гоголя. Публикация «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя неожиданно открыла глубокие противоречия в понимании задач современного художника между Белинским и автором книги. Документом искреннего негодования явилось написанное в 1847 году из Зальцбрунна «Письмо к Н. В. Гоголю» Белинского, в котором открыто прозвучало требование активного участия писателя в общественнополитической жизни страны. И это участие связывалось Белинским с пропагандой революционно-демократических настроений в обществе. Идеи петербургского «Современника» в 40-х годах вызывали активное неприятие московских литераторов, выступивших на страницах журнала М. П. Погодина «Москвитянин» со статьями, в которых прослеживалась идейная солидарность авторов. Имена С. П. Шевырева, А. С. Хомякова, братьев Киреевских, К. С. Аксакова вошли в историю русской литературы как создателей славянофильской теории. В ее основе лежит противопоставление исторической судьбы России западной цивилизации, где последняя негативно оценивалась как рациональная, индивидуалистическая, несущая в себе неизбежно зародыш революций. Положительная программа славянофилов строилась на идее национального единения поверх классовых барьеров благодаря единству вероисповедания. Не принимая в литературе «натуральную школу» как ориентированную на западный образец, где пафос отрицания доминирует над утверждением позитивных начал, славянофилы искали в современной русской литературе положительные образы, отмеченные национальной спецификой. Яркой страницей спора стали критические отклики на выход в свет поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души», которая была прочитана в свете поиска «великорусского элемента» К. С. Аксаковым. В своей работе «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождение Чичикова, или Мертвые души» Аксаков настраивает читателя на видение древнеэпической традиции в произведении Гоголя, выраженной во всеохватывающей созерцательности, допускающей появление действующих лиц без внешней связи, изображение явлений и предметов как несущих в себе тайну русской жизни. Белинский в одноименной рецензии на брошюру Аксакова высмеивает тенденциозность прочтения, приведшую к преувеличению значения Гоголя (как продолжателя традиций го16 Н. Н. Подрезова меровского эпоса), и настаивает, что Гоголь «не может быть выше века и страны», и «Мертвые души» его – тоже только для России и в России имеют бесконечно великое значение», потому что он «поэт социальный», «поэт в духе времени»1. Для Белинского ценность произведения заключалась в его критической составляющей. Влияние идей Белинского на последующее поколение литераторов было неизгладимо. Диапазон его литературно-критических взглядов был широк: система идей одного периода зачастую опровергала представления о литературе и методологические установки другого, что позволяло литераторам разных ориентаций апеллировать к авторитетному имени. Так, продолжателями дела Белинского видели себя литераторы, дебютировавшие в журнале «Современник» уже после смерти критика. В конце 1855 года журнал начал публикацию «Очерков гоголевского периода русской литературы» Николая Гавриловича Чернышевского, в которых была четко выражена позиция литературного критика как общественного трибуна, растолковывающего социальный смысл художественных явлений. Сравнивая и оценивая с этих позиций творчество Пушкина и Гоголя, автор утверждает современную значимость последнего благодаря пафосу отрицания всего «низкого, пошлого и пагубного». Апологетика натуральной школы в поздних работах Белинского развилась в революционно-демократическую идеологию в статьях Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, осознававших себя критиками «реального» направления. В статье «Темное царство» (1859), посвященной пьесе Островского «Гроза», Добролюбов формулирует программу «реальной критики», исходя из понимания литературы как служебной силы, значение которой состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует. Отсюда мерою значимости писателя или отдельного произведения становится степень выражения «естественных стремлений известного времени и народа». Методологическая установка Белинского – соотнесение литературы и действительности – превратилась в принцип жесткой подчи- 1 Белинский В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвыве души» // Критика 40-х годов XIX века. М., 2002. С. 78. 17 Хрестоматия по истории русской литературной критики ненности художественного творчества решению насущных социальных проблем. Не единственными, но главными оппонентами «реальной критики» выступили бывшие соратники Белинского, которые до середины 1850-х годов работали в «Современнике»: А. В. Дружинин, В. П. Боткин, И. С. Тургенев, П. В. Анненков – те, кого впоследствии определили как представителей «эстетической критики». Так, на публикацию Чернышевского («Очерки гоголевского периода русской литературы») ответил Александр Васильевич Дружинин работой «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения», напечатанной в 1856 году в журнале «Библиотека для чтения», редактором которого на тот момент он являлся. Отличая вклад Белинского в развитие русской словесности от литературно-критической профанации его рьяных последователей, Дружинин видит плодотворность тех идей Белинского, которые рождались в процессе освоения гегелевской эстетики. Обосновывая два разнонаправленных подхода к литературе в виде «дидактической» и «артистической» теории, Дружинин связывает первый вариант со стремлением «действовать на нравы, быт и понятия человека через прямое его поучение», в то время как второй вариант исходит из суждения, что «искусство служит и должно служить само себе целью». Программы литературных критиков оттачивались в процессе оценки современных им писателей. Ожесточенные споры велись о значимости поэзии А. А. Фета, о характере конфликта пьес А. Н. Островского, о критериях оценки героев И. С. Тургенева, об авторском отношении Гончарова к своему герою в романе «Обломов». Политизация литературно-критического движения 60–80-х годов свидетельствовала о том, что дидактические тенденции в критике начали превалировать над ее эстетическими установками. Разрешение вопросов общественного и государственного устройства становится первостепенным в деле размежевания литературных сил. Среди них судьба крестьянства в свете реформы 1861 года, оценка духовного, политического потенциала русского народа, а также прогнозы будущего России являются ключевыми для понимания направлений в журналистике и критике рассматриваемого периода. 18 Н. Н. Подрезова В первой половине 60-х годов в Петербурге братьями Достоевскими (Федором Михайловичем и Михаилом Михайловичем) издаются один за другим журналы «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865). Курс на примирение сословных противоречий русского общества привлек к журналам Достоевских таких самобытных критиков, как Аполлон Аполлонович Григорьев (1822–1864) и Николай Николаевич Страхов (1828 –1896). Комплекс идей этого круга мыслителей получил название «почвенничества» благодаря ориентации на национальную специфику русской культуры и истории, а также утверждению естественности, органичности искусства самой жизни. Если первое положение роднило позицию почвенников с идеями славянофилов, то из второго вытекало их своеобразие в трактовке целей художественного творчества и его значения в обществе. Критикуя современный рационализм и нигилизм как болезни человеческого духа, сами почвенники видели в искусстве силу, способную участвовать в деле совершенствования человеческой природы и облагораживания человеческих отношений. В статье «Г. – бов и вопрос об искусстве» Ф. М. Достоевский, споря с Добролюбовым, чей псевдоним был «Господин – бов», утверждает нравственность эстетики, не благодаря, а вопреки тенденциозности и злободневности. Образцом органического, народного, актуального вне временных рамок, целительного искусства для почвенников стало творчество Пушкина. Емкая формула А. Григорьева: «Пушкин наше все» из статьи «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859) будет развернута в знаменитой речи Ф. М. Достоевского на открытии памятника Пушкину в Москве 8 июня 1880 г. Литературно-критическая программа «Современника», базирующаяся на революционно-демократических взглядах Чернышевского, Герцена, Добролюбова, после закрытия журнала правительством в 1866 году была взята на вооружение народнической литературной теорией. В статьях П. Л. Лаврова («Письма провинциала о задачах современной критики»), Н. К. Михайловского («Что такое прогресс?», «Герои и толпа»), П. Н. Ткачева («Беллетристыэмпирики и беллетристы-метафизики») складывается система народнических понятий, таких как «прогресс», «хождение в народ», «сила личного идеала» и др. Николай Константинович Михайловский, с 1868 сотрудничая, а в дальнейшем и входя в состав обнов19 Хрестоматия по истории русской литературной критики ленной редакции журнала «Отечественные записки» (Н. А. Некрасов, М. Е. Салтыков-Щедрин), придал морализаторский характер литературной критике народников, призывая в своих статьях к изображению нового героя времени (разночинца), к художественному осмыслению современных социальных конфликтов, сочувственному отношению к народу, к нацеленности на его политическое просвещение. Высоко оценивая писательскую деятельность таких авторов, как Г. И. Успенский, В. А. Слепцов, Н. Н. Златовратский, М. М. Щедрин, критик выявлял противоречия Л. Н. Толстого («Десница и шуйца Льва Толстого» (1875)), отождествляя взгляды персонажей произведений со взглядами его автора, упрекал в антигуманном пафосе и пристрастии к патологии Ф. М. Достоевского («Жестокий талант» (1882)), в безыдейности А. П. Чехова («Об отцах и детях и о творчестве Чехова» (1890)). Те, о чьем творчестве горячо спорили на страницах журналов, нередко сами включались в литературно-критический процесс, желая донести до читателя собственное мнение о литературе. Интересную страницу в истории русской литературной критики второй половины XIX века представляют выступления в печати таких писателей, как И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой и др. Отличительной особенностью писательской критики является то, что каждый автор исходит из опыта собственной художественной практики. Например, в замечательном документе критической рефлексии художника «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского оценка творчества Некрасова, Толстого, Пушкина позволяет, прежде всего, понять собственные творческие установки писателя. Другой пример можно увидеть, обратившись к критике Л. Н. Толстого. В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» (1894) Толстой перечисляет три составляющих художественности: нравственное отношение автора к предмету; ясность изложения; искренность. Исходя из этих критериев, критик говорит о нарушении художественности в произведениях Мопассана, потому что его романы пестрят «грязными, чувственными описаниями», что свидетельствует о неправильном отношении автора к предмету. Такая оценка французского романиста, безусловно, определена положительной программой творчества самого Толстого, изложенной им в трактате «Что такое искусство?» (1898). 20 Н. Н. Подрезова Другой особенностью писательской критики является защита искусства как автономной познавательной сферы, доверие творческой интуиции, свободной не только от диктата социума, но и собственных рациональных установок авторов. Лаконично это выразил Л. Н. Толстой: «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть»1. Так, Иван Александрович Гончаров в критических заметках о собственном творчестве «Лучше поздно, чем никогда» (1879), поясняя замыслы своих романов, обращает внимание на то, что произведение не исчерпывается трактовкой узнаваемых в действительности типов. В произведении значим каждый момент изображаемого: картины природы, наблюдение быта, описание нравов. Именно в целостности произведения, соотнесенности всех частей заключено ядро его смысла. Без этого авторитетного взгляда на литературу изнутри творческого акта шумный поток литературнокритической рефлексии второй половины XIX века представляется лишенным глубины. 1 Толстой Л. Н. Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана // Толстой о литературе: статьи, письма, дневники. М., 1955. С. 287. 21 Хрестоматия по истории русской литературной критики Тема 1. РУССКАЯ КЛАССИЦИСТИЧЕСКАЯ КРИТИКА XVIII ВЕКА В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, писанное от приятеля к приятелю Государь мой! Многажды я к вам писывал о разных делах; но никогда и на ум мне прийти не могло, чтоб я должен был когда написать к вам апологетическое и критическое письмо, каково есть сие настоящее. Ныне уже невозможно стало удержаться от сего, в чем и покорно прошу извинить меня по дружбе вашей. Нападки на общего нашего друга и неумеренность нападающего преодолели мое терпение: ибо известный господин пиит, после употребленных в эпистолах своих к нему обидах и язвительствах, не токмо не рассудил за благо от тех уняться, но еще оные и отчасу больше и несноснейше ныне размножил; а чаятельно, что и впредь награждать ими потщится, если унят, от кого надлежит, он не будет. И как сему господину равно было, для оказания своей тщетной способности, отстать от од, а приняться за трагедии, по сих за эпистолы и уже ныне за комедии; так нам легко можно поверить, что угодны ему будут нако22 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века нец и точные сатиры. Впрочем, каким он подарком еще обогатить имеет общество читателей, то ли бо мы также со временем узнать можем. Но ныне такой он нам всем представил на театре гостинец, который по всему не может не назван быть достойным остробуйной его музы. Сочинил он небольшую комедию: причем сие весьма удивительно, что она от него сочинена простым словом, а не стихами, толь наипаче, что он не токмо желал бы сам обыкновенно говорить о всем рифмами с нами, но, рассуждая по страсти его, хотел бы еще, чтоб и приятели его, и слуги, и служанки поздравляли ему, спрашивали его и ответствовали ему ж, спрашивающему, на рифмах; словом, желательно ему было, чтоб все при нем обращалось по рифмам и звенело б рифмами. Но как то ни есть, государь мой, однако оная комедия сочинена вся прозою, выключая токмо две штучки, кои сплетены стихами. Комедия сия недостойна имени комедии и всеконечно неправильная, да и вся противна регулам театра; а состоит она в семнадцати явлениях и названа «Тресотиниус». В ней нет ни начального оглавления, ни должого узла, ни приличного развязания. Да и не дивно: она сочинена только для того, чтоб ей быть не язвительною токмо, но и почитай убийственною чести сатирою, или, лучше, новым, но точным пасквилем, чего, впрочем, на театре во всем свете не бывает: ибо комедия делается для исправления нравов в целом обществе, а не для убиения чести в некотором человеке. Я не упоминаю о неисправности в ней сочинения и о многих так называемых солецисмах: она совсем недостойна критики. Однако сие смешно, что автор, хотя показать о себе в персоне не знаю какого Ксаксоксимениуса, что он искусен в славенском языке, тотчас лишь начал да изволил и показать себя, что он еще меньше умеет по-славенски, нежели по-русски. Говорит он: п о д а ж д ь м и п е р о , и а б и е положу знамение преславного моего имени, его же не всяк язык и зрещи может; ибо надобно было следующим образом: даждь ми трость, да абие положу знамение преславного моего имен е , е ж е н е в с я к я з ы к и з р е щ и м о ж е т . Великий словесник! в полуторе строчки пять грехов. При представлении ее в немалое пришел я удивление, слыша некоторые речи в ней, о которых я так рассуждал, хотя, впрочем, и не по охоте (понеже знаю, что они говорены негде наедине), что или автор имеет пытливый 23 Хрестоматия по истории русской литературной критики дух, или толь его пиитический жар, называемый энтузиазмом, есть силен, что он может все то знать, в чем ему нет и нужды. Подлинно, несколько сие удивительно, в рассуждении свойства обыкновенного пиитам: ибо они в сем токмо особливое преимущество имеют, чтоб им прорицать всегда о том, что уже было, а тайности те токмо они с прочими нами знают, которые им бывают открыты. Какого ж, государь мой, содержания та комедия? О! праведное солнце. Не можно по истине надеяться, чтоб могли и зрители все с терпеливостию до конца ее видеть. Все в ней происходило так, что сумбур шел из сумбура, скоморошество из скоморошества, и словом, недостойная воспоминания негодность из негодности, так что вся сия комедиишка достойна площадного минутного света, а потом вечной тьмы. Можно сказать праведно, что автор не мог ничем никогда лучше открыть своего сердца. <•••> Обращая все сие в мысли, еще больше трепетало мое сердце с стыда, потом с негодования, напоследок с сожаления по общем нашем друге, нежели авторовы моргали очи с радости и с внутреннего самолюбного удовольствия; только ж смешить без разума дар подлой души, как то сам наш автор говорит в эпистоле о стихотворстве. <•••> Кипело мое сердце, зная его совесть; и весьма жаль мне его было: да и кто ж бы из добрых, как думаю, о нем не пожалел? Удивлялся я, понеже он сам всегда безответен; то какая б тому была причина, что никто из приятелей его не возьмется за дело и защитить его не почтится? Но тотчас пришло мне на ум, что он оглашен в рассуждении искусства от своих соперников и ненавистников. <•••> Признаваем несколько, что есть в нем природная острота, но сия острота в нем необученная; а по мнению Горациеву, как природа без науки есть ничто, так и наука без природы есть не действительна: одна у другой взаимной себе помощи просит. Когда я говорю, что есть в авторе нашем острота, то я разумею, что в нем она не превосходная, но весьма обыкновенная многим. Славящие остроту в нем превосходную тем токмо доказывают, что он сию безделушку сочинил скоро, а именно в шесть часов. <•••> «Хорев» – трагедия, о которой я имею вам донесть ниже, вся на плане французских трагедий; да и не только по плану она взята из французских, но и в рассуждении изображений. «Гамлет», как очевидные сказывают свидетели, переведен был прозою с англий24 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века ские шекеспировы, а с прозы уже сделал ее почтенный автор нашими стихами. «Эпистола о стихотворстве русском» вся БоалоДепрева. В «Эпистоле об языке русском», почитай, все ж чужие мысли. <•••> Причина, которая меня возбудила к рассмотрению сему, есть, государь мой, не некоторая сердца моего подлая страсть и недостойная доброго человека, но несносное тщеславие нашего автора, презрение от него к лучшим себя писателям, сожаление по общем нашем друге, коего он толь нестерпимо обидел, и, наконец, справедливость воздаяния. Однако не извольте ожидать, чтоб способу моего рассуждения быть с посягательством; он будет самый чистосердечный и праведный так, что за обиду его к общему нашему другу, которого мне, как и вас самих, нет дружнее в свете, не буду я воздавать обидою. Я не прикоснусь ни ко нравам господина автора, ни к его состоянию: искусство его в сочинениях станет токмо пред мой суд. Но впрочем, когда ни удостоится по суду оное его искусство самого жестокого осуждения, однако везде будет умягченный на него приговор. <•••> Самая первая ода нашего автора есть парафрастическая: сочинена она с Псалма 143-го. Парафрастических сих од с объявленного псалма еще совокупно с его положено две, а напечатаны они 1744 года. Но первая по порядку есть порождение нашего автора, как то мне объявил один из сочинителей тех од. Случай к сочинению их описан там в предуведомлении. Сочинители уговорились поставить судьями искусства своего все читающих общество и для того просили, чтоб им позволено было их напечатать, что им и повелено. К сему труду возбудил обоих других сочинителей автор, ибо он, без всякого сомнения, был уверен в своих силах, что преодолеет. По сему можете вы, государь мой, праведно заключить, что наш автор все свои напряг силы в таком случае: честь и слава к тому его обязывали. Ода его состоит в одиннадцати строфах; а каждая из строф о шести стихах. Однако, государь мой, пустая надежда и излишнее упование на себя обманули нашего автора: ода его обоих других во всем и по всему ниже, так что нет ни единой у него строфы, в которой бы не было знатной погрешности. <•••> В эпистоле своей о русском языке автор не знаю над кем изволит сатирически смеяться, говоря: 25 Хрестоматия по истории русской литературной критики Один, последуя не свойственному складу, Влечет в Германию российскую Палладу. Хотя и оба сии стиха, что до стоп, худы, для того что цезуры не означены ямбом; однако не до того здесь деле; а поговорим о сем после. Мне токмо хотелось бы знать, какую последним сей строфы стихом сам автор влечет в Россию к нам Палладу: ибо еще стократ щастливы боле, написано не по-русски вместо еще стократ щастливее или щастливейшие. Видите, государь мой, что никому меньше, как автору, по справедливости, можно смеяться над другими, и еще их несносно ругать, и язвить. Весьма ему приличны слова Христа Спасителя нашего: в р а ч у , и с ц е л и с я с а м : сучец во очеси брата твоего зрищи, у себе же бервна не чуеши. Генеральское определение на сию оду автор сам потщался сделать в четырех стихах и именем своим закрепить: первые два положил он в эпистоле о стихотворстве, а другие два ж в эпистоле о русском языке. Первые: Нельзя, чтоб тот себя письмом своим прославил, Кто грамматических не знает свойств, ни правил. А другие: Кто пишет, должен мысль прочистить наперед И прежде самому себе подать в том свет. Ясно уже вам, государь мой, теперь видеть можно и по сему первому делу, коль велико искусство в сочинении нашего автора. Изволите ли вы чрез то познать, коль великий он грамматик, ритор, пиит, логик, философ, а при том коль много он читает наши книги и потому какое имеет знание в грамматическом составлении. Чего ради, давно уже было пора ему опомниться, себя и свои силы осмотреть, а напоследок, тщеславия и самохвальства убавить. <•••> А что ж принадлежит до нынешнего времени, то любы ему токмо те, которые ему дивятся и его хвалят. Весьма б он был щастлив, ежели б, по крайней мере, мог усматривать, кто, как и каким духом его хвалит. Ибо есть, как вероятно, кои сами не знают, что в сочинении его хвалят. Есть, может быть, кои то делают, льстя нарочно, дабы его приводить к большему себя оказанию и чрез то б чаще иметь себе причину к смеху. Наконец, думаю, что есть и такие, кои, нена26 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века видя его, похваляют, дабы ободряющею своею похвалою возбудить его еще к явнейшей нерассудности и тем бы его или погубить, или, по крайней мере, привесть в напасть и бедство. Однако до всего того, государь мой, мне нет дела: сам он возраст имеет, сам о себе да печется. <•••> Я обещался вам, государь мой, рассматривать после од трагедии нашего автора и по них также эпистолы; но теперь признаваюсь, что я вам не сдержу данного слова. Прошу, чтоб вы благоволили быть довольны сим токмо моим од его рассмотрением и по сему изволили полагать, а полагать достоверно, что все прочее авторово сочинение есть равно такие ж исправности. К неустойке меня привела не леность, но всеконечная невозможность, чтоб далее продолжать рассуждение: господин автор такой нашел способ, что, кто б смыслящий ни принялся за его трагедии, всяк тотчас увидит, что нельзя к ним пристать. Нет в них ничего или уже превесьма мало того, чтоб порочно не было. <•••> Посмотрим же теперь трагическую и эпистолярную его речь. Но какую я в ней вижу неравность? Вижу совокупно высокость и низкость, светлость и темноту, надмение и трусость, малое нечто приличное, а премногое непристойное; вижу точный хаос: все ж то не основано у него на грамматике и на сочинении наших исправных книг, но на площадном употреблении. <•••> Так ясно автор сочиняет, что невозможно и разума пошлого доискаться иногда в его сочинении! Впрочем, сколько ж весь сей Астрадин совет Оснельде непорочен в рассуждении чистоты нравов, о том донесу я вам, государь мои, ниже. Как то ни есть, однако, сходно ль с обстоятельством, что Хорев во II деист., в явл. 6, прося у богов себе смерти, говорит, чтоб они выняли из рук его кровавый меч, когда еще он не выходил против Завлоха на вылазку, и зовущие по накрам громки бои не являли еще тогда, каковы герои российские. Чем же меч Хоревов был при сем случае обагрен? Поистине авторовыми чернилами и теми еще не орешковыми и безкамедными. Автор как в одах, так и в трагедиях полагает не стихи за стихи, сие значит, что он полагает иногда простые строчки с превеликой торопливости. <•••> Не могу удержаться, чтоб вам, государь мой, не предложить теперь непреодолеемаго доказательства в том, что авторово знание так мало, что меньше нельзя. Пред самым представлением комеди27 Хрестоматия по истории русской литературной критики ишки, которою автор толь малую славу делает нашему преславному народу, действующие лица одевались и готовились к представлению. Я тогда случился быть между ширмами. Но вот и наш автор вдруг изволил туда ж к одевающимся прийти, с очей и со всего лица в крайнем удовольствии сердца. Едва он успел поклониться, с кем надлежало, как, оборотившись к некоторому из возлюбленнейших своих наперсников, заговорил: знаете ль вы что? тот-то и тот, именуя лица, называет того-то и того, именуя ж человека Архилашем Архилохичем Суффеновым. Видите ль, какой он глупенький: не знает, что у греков нет ичов так, как на нашем языке. Тогда возлюбленник его, равно как Теренциев лизоблюд Гнатон, начали смеяться, животы надрывая; а ему в том помог и сам автор. Я, слыша сей авторов разговор и видя безумный смех оного его возлюбленника, только лишь пожал плечами. <•••> Доносил уже я вам, государь мой, что нет почитай ничего в сочинениях авторовых, которое не было б чужое. Теперь то ж самое подтверждаю. Язвительная его комедия не его, да Голбергова, но токмо у автора она на свой образец; «Гамлет» Шекеспиров, эпистола о стихотворстве и по плану и по изображениям, но токмо сокращена, вся Боало-Депрова, а сего автора вся ж Горациева, но токмо распространена. Что ж до сей трагедии «Хорева», она вся навсе выбрана из многих французских трагедий как Корнелиевых, так Расиновых и Вольтеровых, хотя, впрочем, все ее существенное основание есть Расинова «Федра». Читающие французские трагедии могут сами сие сличить и видеть: мне ежели б сие делать, то б мое рассмотрение в пятеро увеличилось против авторовых сочинений. Я токмо предложу одно здесь похищение из Вольтеровы трагедии, названной «Меропа». Праведное солнце! Как же оно изгажено авторовым переводом! <•••> В сем месте предлагаю вам, государь мой, и общее мое о всей трагедии рассуждение. Вы изволите знать, что в составе трагедии и всякой драматической штуки находятся так называемые три единства, а именно: единство действия, единство времени и единство места. Сие значит, чтоб драма представляема была об одном только чем-нибудь из прямой или баснословной истории, а не о многом, и целой истории со всеми ее обстоятельствами. Второе, чтоб действие сие началось и сделалось в некоторое определенное и непрерывное время: а время сие обыкновенно определяется драме 28 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века три часа или уже целые сутки. Третие, чтоб все оное представление производилось на одном токмо месте. Единство места объемлет дом с палатами и с садом; некоторые одним называют местом и целый город. Но я не вступаю в сие рассуждение: я говорю токмо, что драме должно быть на одном месте. Итак, мне кажется, что у автора нашего в трагедии «Хорева» нарушено первое из единств оных, а именно единство представления. С самого оглавления мы видим, что все дело будет клониться к сочетанию Хорева с Оснельдою; видим то ж самое и в средине. Следовательно, главнейшему, по положению, окончанию, к которому смотрители приуготовлены и к коему все эпизоды, или прибавочные окрестности, долженствуют возноситься, есть сочетание Хоревово с Оснельдою: прочее все или препятствием, или бедствием, или каким иным нечаянным приключением. Но в самом конце четвертого действия посланный от Кия кубок с ядом, которым бы всеконечно умертвить Оснельду, что и сделано, развязал уже сей узел и уведомил смотрителей, что Оснельде не быть за Хоревом. По сему знать, что главнейшее представление было не о сочетании Хорева с Оснельдою, но о подозрении Киевом на мнимый умысл Хоревов с Оснельдою. Но вот в начале пятого действия и сей узел развязан Завлоховым мечом, которым завладел Хорев, победив и пленив Завлоха, и который принесен Велькаром. Того ради, кто видит два развязания, тот видит и два узла, а следователно, не одинакое, но двойное представление: одно о Хоревовой любви с Оснельдою, а другое о Киевом подозрении на мнимое злоумышление от обоих их на него. Господин автор не думает ли, что токмо ему одному дано знать силу драм, и потому не весьма он радел об удовольствовании исправностию смотрителей, как, может быть, по его, таких, которые не рассудят о том, ослепившись представлением и оглушившись ложным его красноречием? или справедливее, рассудил ли полно и сам он о том? Кажется, что и время его не весьма исправно: в три или уже в двенадцать часов (ибо ночью на вылазку не ходят) невозможно, по-моему, толь многим делам сделаться. Хореву надобно по сему любовь свою объявить по утру рано и только что зварцу напившись, буде он еще и тот тогда пить умел. Около обеда быть уверену о взаимной к себе любви Оснельдиной. Потом, хотя по-солдатски, однако пообедать: за обедом с час места просидеть. И посему больше уже половины дня прошло. 29 Хрестоматия по истории русской литературной критики Однако надобно еще идти на вылазку. Но вот тотчас и бедствие: Кий на него в подозрение приходит. Потом надобно ему свидеться еще с Оснельдою и выслушать все нарекания от нее, что он идет против Завлоха, отца ее, несмотря на то, что она Хореву невеста, также и ответствовать на оные. Сему случаю надобно часа два положить, для того что любовник не скоро спешит идти от любезнейшей; а при ней ему и сутки часом кажутся. Итак, день уже к вечеру преклонился. А что ж, как сие делалось осенью? В таком случае уже и гораздо поздно было, хотя и в Киеве. Когда ж имел он время нижним полководцам отдать приказы, воинов пересмотреть, уговорить, ободрить, приготовиться и чего еще премногого не должен он был делать пред сражением, а всего того не минутного? При том же и еще проститься с Оснельдою? Не в минуту мог он вывесть полки и загород, не в минуту войско построить, привесть и в сражение пустить. Однако ночь уже почитай глухая на дворе; а ночью всеконечно опасно было сразиться. Все сие уверяет, хотя автор и противное сказывает чрез самый первый стих трагедии, Княжна! Сей день тебе свободу обещает, что вылазка была отложена до других суток и что Хорев победил на другой день и убился также. Следовательно, в трагедии сей потому не будет единства времени. Но пуская, что автор не погрешил (как то всеконечно соврал в рассуждении действа) в единстве времени; однако превеликое и непростимое учинил он погрешение в рассуждении плода от трагедии. Сие представление есть не простая игрушка, но игрушка, соединенная с крайнею смотрителей пользою. Трагедия делается для того, по главнейшему и первейшему своему установлению, чтоб вложить в смотрителей любовь к добродетели, а крайнюю ненависть к злости и омерзение ею не учительским, но некоторым приятным образом. Чего ради, дабы добродетель сделать любезною, а злость ненавистною и мерзкою, надобно всегда отдавать преимущество добрым делам, а злодеянию, сколько б оно ни имело каких успехов, всегда б наконец быть в попрании, подражая сим самым действиям Божиим. <•••> Но кто торжествует на конце у автора? злоба. Кто ж и погибла у него? добродетель. Сие всяк смотритель и читатель, без всякого о сем распространения и изъяснения, сам собою видеть и о сем уверен твердо быть может. Разодрать же долж30 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века но оную авторову всю тетрадь, когда в ней должного плода не знать. Знаю, что автор пошлется на многие французские трагедии, в которых равный же конец делается добродетели. Но я доношу в ответ, что как исправностям французских трагедий подражать не худо, так следовать их порокам не должно: надобно делать так, как надлежит, а не так, как многие делают. Я все те французские трагедии ни к чему годными называю, в которых добродетель погибает, а злость имеет конечный успех; следовательно, равным образом и сию авторову тем же именем величаю. <•••> Толикие недостатки и толь многие как в речах порознь, так и вообще в сочинении проистекают из первого и главнейшего сего источника, именно ж, что не имел в малолетстве своем автор довольного чтения наших церковных книг; и потому нет у него ни обилия избранных слов, ни навыка к правильному составу речей между собою. Второе, что обучался он, может быть, по правилам не своему, да чужим языкам: сей недостаток толь есть общий, что почитай и среднего состояния люди его ж предпочитают, не зная, как думаю, что бесчестнее россиянам не знать по-российски, нежели как инак. Третие, что при правильном, может быть, изучении языкам не обучался он надлежащим университетским образом грамматике, риторике, поэзии, философии, истории, хронологии и географии, без которых не токмо великому пииту, но и посредственному быть невозможно. Четвертое, нет в нем ни малого знания так называемых ученых языков, а по последней мере надобно б необходимо знать ему по-латински. Пятое и последнее: полагается он больше надлежащего на французских писателей, которые и сами во многом и почитай во всем кописты с греческого и латинского языка. Не может он справливаться с подлинниками и потому обманывается часто в разумениях, которые он берет, как будто из самых подлинников. Однако, при всех сих недостатках, такое имеет о своем достоинстве и способности мнение, что почитай не меньше себя он почитает Корнелия и Расина; прочих всех, как с некоторой высоты, презирает. Сие точно ложно о себе мнение его и ослепляет, и не допускает видеть толь явных пороков всего сочинения. Впрочем, понеже я знаю, что тщеславные люди все в пользу себе обыкновенно заключают, чего ради и полагаю, что и сие мое рассмотрение может либо автор причесть к достоинству своих трудов, толь наипаче, что критики нигде не бывало на сочинения худых писателей; то свято вас удостоверяю, 31 Хрестоматия по истории русской литературной критики что мое рассмотрение было не для того, что будто б авторовы сочинения достойны критического рассуждения, но для сего, чтоб отвесть многих от неправедного мнения об авторовом достатке, которого в нем едва и едва ль еще некоторая тень находится в рассуждении словесных и красноречивых наук. <•••> Письмо к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии Государь мой! Давно уже вам, уповаю, известно, что употребление стихов и стихотворения весьма отдаленныя и преглубокия есть древности; что важная их должность, в тогдашнем человеческом обществе, заслужила им у всех высокое почтение, и что народам, кои наилучший успех пред прочими в них имели, приобрели они крайнее прославление. Подлинно, отменным сим родом красноречия, древность описывала храбрые и славные дела великих людей, наставляла к добродетели, и человеческие исправляла нравы, философически предлагала догматы, полагала уставы к получению от правосудия как истинного благополучия, так и спокойного сожития, записывала прошедшие бытия и достопамятные приключения, утверждала тайны, ныне смеха и мерзости достойные, тогда же благоговейного страха и крайния чести удостоившиеся, языческие мнимые богословии: а в еврейском народе и самому истинному Богу молитвы приносила, благодарения воздавала, честь воссылала, славу и должные хвалы восписывала. Сия многодельная должность стихов в древности, и получаемая тогда от них несказанная польза, была бы и в наши времена равныя важности, и толикого ж почтения, ежели бы ныне не отняты у поэзии были все оные толь высокие преимущества: наши веки, довольствуясь другим родом краснословия, все то описывают, записывают, уставляют, утверждают, прославляют и украшают речью, данною нам с самого начала нашего выговора, именно же прозою: а стихам отдали токмо оды, трагедии, комедии, сатиры, элегии, эклоги, басни, песенки, краткие эпиграммы, и кратчайшие тех при эмблеммах леммы. Ясно вам видеть можно, государь мой, что прежде стихи были нужное и полезное дело; а ныне утешная и веселая забава, да к тому же плод богатого мечтания к заслужению 32 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века не того вещественного награждения, которое есть нужно к препровождению жизни, но такова воздаяния, кое часто есть пустая и скоро забываемая похвала и слава. Правда, и ныне еще в самых политичных народах знатные деяния прославившихся монархов и полководцев описывают стихами; а род сей стихотворения называется эпическим и героическим. Сие самое есть сильным побуждением к описанию жития, дел, глубокого и острого ума, добродетельных нравов и христианских добродетелей, несравненного в древности и ныне, преселенного от нас, но неиспытанным судьбам, но с несказанною нашей горестью, в небо, у блаженного нашего автократора и императора Петра, словом, делом, сердцем и умом Великого, для бессмертныя его памяти: но понеже проза великую уже получила силу, власть и честь; то чаятельно, что и сие столь важное дело возмет на себя история. И как вы, государь мой, изволите меня всеприятным вашим спрашивать, какая же бы ныне была уже в поэзии и в стихах нужда, когда все-на-все исправляется прозою? То имею честь вам на сие донесть прямо, как обстоятельства времен советуют (оставляю уже, что Святой Иоанн Дамаскин и многие из благодуховных Отцев, последовавших ему, показали коликие важности и ныне стихи в православной Церкви, для того что, как вам самим ведомо, на нашем языке и то все, что от них составлено стихословными мерами, прозою поется, и чтется), что нет поистине ни самыя большия в них нужды, ни от них всемерно знаменитыя пользы. Однако и притом утверждаю, что они надобны, и надобны постольку между науками украшающими разум и слово, поскольку между отгоняющими всякую воздушную обиду, или правее, между защищающими от оныя поселянскими хижинами, покойные, красные, и великолепные знаменитых и пресловутых городов палаты; или уже, потолику между учениями словесными надобны стихи, поколику фрукты и конфекты на богатый стол потвердых кушаниях. Много есть наук и знания, правилами состоящих, доказательствами утверждаемых, из которых иные просвещают ум, иные исправляют сердце, иные всему телу здравие подают; а иные украшают разум; увеселяют око, утешают слух, вкус услаждают. Первые гражданству через познание спасительныя истины, через изобретение потребных вещей, через употребление оных благовременно, через действие добродетелей, через твердость искусства крайнюю приносят пользу: но 33 Хрестоматия по истории русской литературной критики другие граждан упразнившихся на время от дел и желающих несколько спокойствия к возобновлению изнурительных сил для плодоносящих трудов, через борьбу остроумных вымыслов, через искусное совокупление и положение цветов и красок, через удивительное согласие струн, звуков, и пения, через вкусное смешение растворением разных соков и плодов, к веселью, которое толь полезно есть здравию, возбуждают, и на дела потом ободряют. Нет труда, чтобы предприемлем был не для какия пользы; но нет и краткия празности, которая отвращалась бы от спокойствия и утехи. И так, в какой бы вы класс, из всех наук и знаний, ни положили поэзию, везде найдете ее, что она не без потребности и ныне. Все что они есть доброе, большую или не весьма великую приносящее пользу и приводящее в славу, знать и уметь по всему есть похвально, а часто и прибыточно. Я из глубины сердца желаю, чтобы, хотя ныне сие не весьма и всеконечно надобно, но целые народы громко и прочно, да и больше, может быть, нежели все иное, и едва ли меньше, коль и пальма, полученная за доблестные деяния воспеваемые ею в роды, прославляющие науку, здесь процвела и эпическою доброгласною трубою, как цветет уже некоторых струн звоном; а с другой стороны, отнюдь не советую вам, как то знаю вашу склонность, чтобы стихам быть только и делом единственно вашим, или бы они приносили препону чему-нибудь важнейшему. При отдохновении вашем от порученных вам попечений о твердейшем и плодоноснейшем, да будут они токмо честной забавой: ни лучше, по моему мнению, ни похвальнее, еще и ни безвреднее время ваше препроводить вы не возможете. Сим образом и гуляние ваше будет иногда обществу полезно. Впрочем остаюсь с надлежащим почтением, ваш, государя моего, покорный слуга В. Т. О древнем, среднем и новом стихотворении российском Поэзия как подражание естеству, и как истине подобие, есть одна и та ж по свойству своему, во всех веках и во всех местах у человеческого рода. Но способ речи, или стих, коим обыкновенно изображается поэзия, находится многоразличен в различных наро34 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века дах. Есть сложение стихов, которое долготою и краткостию времени меряет слоги речений. Есть кои в ударении просодиею на слоги поставляет долготу оную, но уже возвышающую токмо слоги без протяжения, а неударяемые или понижаемые пред первыми называет краткими складами. Есть иное, где нет ни первого, продолжением и сокращением меряющегося, слогов количества, ни последнего, называемого тоническим, да токмо есть в нем одно число складов, определенное каждому стиху порознь. Все вообще на разных языках стихи, иные не соглашают подобным звоном окончаний предыдущего стиха с последующим непосредственно. А иные таким равногласным звоном в согласие их приводят, что иные называются рифмою. Но и сия и самая рифма также в стихах различна: иногда она односложная, называемая мужскою, иногда двусложная женская, иногда и трехсложная обоюдная, то есть ни женская, ни мужская или женская и мужская совокупно. Из рифм инде в стихах употребляется одна женская, инде одна ж мужская и женская по пременам: а сия точно премена и проименовалась ныне сочетанием. Присовокупляется некогда к сочетанию сему в наших стихах и обоюдная оная рифма, ибо прозаические наши периоды сею тройственною разностию оканчиваются, хотя впрочем и чаще и для нашего слуха мернее двусложною стопою хорея. <···> Здесь намерен я сообщить читателям историческое описание, касающееся особливо до Российского нашегo стихосложения, древнего, среднего и нового. Так что к признанию и определению первобытного нашего сложения стихов послужит мне, за неимением надлежащих и достопамятных, оставшихся от древности нашей образцов, одна только вероятность. Но среднее и новое потщусь изъяснить при всей возможной твердости, самою точною достоверностию. Бесспорно, во всех человеческих обществах, от самой первоначальной древности, богослужители были первенствующими стихотворцами и владели стихами всюду, как законным и природным своим наследием. Стихами не токмо прославляли они божество, но и достоинство свое отменяли сим родом речи от общего и простого слова. Посему и наши языческие жерцы, без сомнения, такое ж равно преимущество имели и были главные и лучшие в наших обществах слагатели стихов. Итак, способ, бывший у них обыкновенным в составлении стиха, долженствует быть самое древнее стихо35 Хрестоматия по истории русской литературной критики творение наше. Но что за род был стиховного их того состава, ныне нам видеть достоверно не по чему. Не осталось нигде для нас, по крайней мере неизвестно нам всем поныне ни о самом малом образчике, оставшемся от языческого нашего стихотворения: истребило его наставшее благополучно христианство. Однако можно весьма вероятно, и почитай достоверно, представить его здесь, воскресив в потомстве побочным пред наше зрение.<···> Но чем я, спросится, толь прямо сие утверждаю? Не подозрительными, ответствую, и живыми свидетелями. Простонародные наши и те самые древние песни сие точно свойство в стихосложении своем имеют. <···> Народный состав стихов есть подлинный список с богослужительского: доказывают сие греческий и римский народ, а могут доказать и все прочие, у коих стихи в употреблении. Воззрим же теперь на начало нашего христианства: видим мысленно сущую нужду его, токмо то истребить у нас, что непосредственно до богослужения ложного касалось; на народные, гражданские и дружеские употребления не с толиким с начала рвением оно взирало. Так точно сие было в самой первенствующей церкви, от язычников еллинов обратившейся; так равно надлежало быть сему и в нашем первоначальном христианстве: обстоятельства проповедников и церковных дел того требовали. Итак, многодельное тогда первое наше христианство, хотя искоренило все многобожные служения и песненные прославления мнимым богам и богиням, однако с пренебрежения или за упражнениями не коснулось к простонародным обыкновениям: оставило ему забаву общих увеселительных песен и с ними способ (совершенно во всем подобный богослужительскому, как то сие ниже подтверждено будет) сложения стихов. Сие точно и есть первородное и природное наше, с самой отдаленной древности стихосложение, пребывающее и доднесь в простонародных, молодецких и других содержаний, песнях живо и цело. Начавшееся у нас христианство, истребившее все идольские богослужения и уничтожившее вконец сплетенные песни стихами похвалу идолам, лишило нас без мала на шестьсот лет богочтительного стихотворения. Пребывало двоюродное родство его токмо, чтоб так сказать, как в залоге у самого оного простого народа, в подлых его песнях и превосходило от века в век не без престарения. И хотя ж христианство награждало нас духовными песнями по 36 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века временам, благороднейшими языческих и по содержанию и по сладости, и по душевной пользе, однако всех таких священных гимнов, стихир и двустиший перевод нам предан прозою. От сего, сверх природных способностей, вкоренилась между нами проза за единственный способ речи, а заключенное мерами и числами слово, то есть стихотворение оное важнейшее, совсем позабыто. Ибо простонародное стихосложение за подлость стихотворцев и материй от честных и саном знаменитых людей презираемо было всеконечно, так что и поныне, но уже незнающие и суетно строптивые люди зазирают неосновательно, ежели кто народную старинную песню приведет токмо в свидетельство на письме, хотя и с извинением в необходимости о первоначальном нашем стихотворении. Пребывала таким образом наша церковь с X века по XVI включительно без стихов, собственно так называемых по составу, имея впрочем стихи, только ж в прозе. Наконец, 1581 уже года явились стихи первократно при библии Острожской на нашем языке, состав тех стихов есть во всем неисправный: недостаточна в них мера, недостаточно число, рифма недостаточна; все первоначальное, рукотворимое ль оно или производимое разумом, таково обыкновенно по большей части бывает. <···> Тридцать восемь лет спустя, после стихов при Острожской библии, а именно в 1619 годе, Мелетий Смотрицкий, монах Виленского братства, муж искусный в греческом и латинском языке, издал при грамматике своей славенской совершенно различный состав стихосложения с тем, какой показала как в опыток Острожская библия. Неизвестно, способ ли ему рифмический не полюбился или так он был влюблен в греческий древний и латинский способ стихосложения, что составил свой, для наших стихов, совсем греческий и потому ж латинский. <···> Но коль ни достохвальное сие тщание Смотрицкого, однако ученые наши духовные люди не приняли сего состава его стихов, остался он только в его грамматике на показание потомкам примера, а те утверждались отчасу более на рифмических стихах среднего состава, приводя их некоторую исправность с образца польских стихов. <···> В прошедшем непосредственно веке, в средних его летах, когда Петр Могила, митрополит Киевский, завел так называемую Академию в Киеве, а способ учений и весь порядок взял с образца 37 Хрестоматия по истории русской литературной критики польских училищ, то и стихотворение польское, с языком, пришло в ту Могилеанскую Киевскую академию. Профессоры употребили способ стихосложения польского и на славенороссийском языке. <···> Сие впрочем достоверно, что с времен Симеона Полоцкого, иеромонаха, жившего в Москве, польского состава стихи начали быть в составлении постоянны и одноличны на нашем языке, а вероятно, что он был и первый самый стихотворец у нас в великой России на славенском языке. <···> Следуют теперь великороссийские стихотворцы. Монах некто, прозванием Медведев, ученик Симеона Полоцкого, много, как говорят, писал стихами. Но печатных я не видел нигде.<···> Карион Истомин, монах, быв справщиком на Печатном Московском дворе, издал букварь в лицах и описал вещи в нем изображенные нравоучительными стихами: напечатан в Москве, 1692 года. Федор Поликарпов, муж искуснейший в греческом, славенском и латинском языках, прежде справщик, а потом Директор на Печатном Московском дворе, многие написал стихи, из которых все, по частям, в разных книгах напечатаны, а именно, в учебной азбуке, в новом завете, в некоторых других церковного круга книгах, в триязычном букваре, печатанном в Москве 1701 года, в триязычном его лексиконе 1704 года в Москве ж. Леонтий Магницкий, муж сведущий славенский язык, сущий христианин, добросовестный человек, и в нем же льсти не было, первый российский и арифметик и геометр, первый и издатель и учитель в России арифметике и геометрии. Сей, в арифметике своей, в десть напечатанной в Москве 1703 года, издал стихи на крест и герб государев.<···> Князь Антиох Димитриевич Кантемир, знаменитый по роду своему и толь славный по наукам, ученик в российском стихотворстве, но ученик, прославляющий, именем и удобопонятностию, учителя своего <···> Илинского. Стихотворных его сочинений много, а лучшими почитаются сатиры, сочиненные по подражанию французским Боаловым и авторовыми собственными примечаниями изъясненные, из которых первая сочинена в Москве 1729 года, да и поныне еще все они письменные только обносятся. Петр Буслаев, острый и словесный человек, сей по совершении богословского своего курса был сперва диаконом в Московском 38 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века Успенском соборе, а по смерти своей жены оставил сей чин и жил до смерти простолюдином. Сочинил он поэму на смерть самой добродетельной, боголюбивой, странноприимной и благоразумной в жизни жены вдовствовавшей, баронши Марии Иаковлевны Стронаговой, а напечатана та его поэма в Санктпетербурге при Императорской академии наук 1734 года. <···> Довольно мною и стольких, когда хороших, стихотворцев наших по сему среднему, или польскому, составу стихов из белорусцев, малороссийсцев и великороссиян. Но можно праведно и без пристрастного предвозлюбления сказать, что великороссияне в сем составе стихов превосходят <···> всех других, упомянутых мною. <···> Приступая к описанию нового нашего стихосложения, ныне от всех стихотворцев у нас восприятого и многими достохвальными и достопамятными сочинениями введенного и подтвержденного, принужден объявить с некоторым поистине устыдением и внутренним отвращением, хотя и cyщую правду, что я в нем самое первое и главнейшее участие имею. <···> Но впрочем, кто как ни изволит о сем рассуждать: я токмо доношу самую истину, что по возвращении моем в отечество 1730 года, в сентябре месяце, начал я себя производить по молодости и по французскому духу в обществе некоторыми стишками, сочиненными по составу среднего онаго стихосложения. Читаемы они были от некоторых не без довольных мне похвал, без сомнения не по правде, но с некоторым родом збойства и насмеяния приносимых. <···> Но, по сочинении чего-нибудь, на какую пьесу ни посмотрю, вижу, что она не состоит стихами, выключая рифму, но точно странными некакими прозаическими строчками. Напоследок выразумел сему быть от того, что в них не было никакого, по равным расстояниям измеренного, слогов количества. Смотрицкого количество, выше мною объявленное, ведомо мне было, но чувствовал я и то совершенно, что оно нам всеконечно несродио. Что больше? Тотчас напал я на возвышение и понижение голоса в складах просодиею, то есть на тоническое слогов количество. Потом непосредственно и на стопы: ибо кто нападет на первое, тот не может тогда ж не напасть на другое. Если голосу на складах повышаться несколько по определенным расстояниям, то есть или от ударения к неударению, или впреки падать; то не можно при оди39 Хрестоматия по истории русской литературной критики наких слогах порознь остаться в мере и не взяться за стопы, двусложные ль они или трисложные. В сих по двух неударениях бывает возвышение, а в тех по одном. Итак, взялся я всех прежде за стопу хорея, в коем одно сперва ударение, а потом краткий слог. <···> Хотя главнейшее основание новых моих стихов и нашлось вдруг самое твердое, или лучше жизнь их и душа единственно, однако вся моя система не получила себе сперва от меня желаемого мне самому совершенства. <···> Весьма уже после привел я мою систему в надлежащую исправность и полноту: напечатана она недавно в первом томике книжек, названных сочинениями и переводами. Теперь ей краткое самое описание следует<···> Се уже описано новое стихосложение, начавшееся с 1735 года, а утвердившееся и к совершенству между тем приведшея многих наших стихотворцев сочинениями эпистолярными, одическими, трагическими, апологетическими и другими поэзии родами <···>. Напоследок, сличающему сию новую систему с самым древним нашим стихотворением, ясно всякому есть, что сия во всем подобна оному первобытному нашему, кроме рифмы. Следовательно, сия система справедливее называться долженствует возобновленною, а не новою <···>. М. В. ЛОМОНОСОВ <Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии > Всем известно, сколь значительны и быстры были успехи наук, достигнутые ими с тех пор, как сброшено ярмо рабства и его сменила свобода философии. Но нельзя не знать и того, что злоупотребление этой свободой причинило очень неприятные беды, количество которых было бы далеко не так велико, если бы большинство пишущих не превращало писание своих сочинений в ремесло и орудие для заработка средств к жизни, вместо того чтобы поста40 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века вить себе целью строгое и правильное разыскание истины. Отсюда проистекает столько рискованных положений, столько странных систем, столько противоречивых мнений, столько отклонений и нелепостей, что науки уже давно задохлись бы под этой огромной грудой, если бы ученые объединения не направили своих совместных усилий на то, чтобы противостоять этой катастрофе. Лишь только было замечено, что литературный поток несет в своих водах одинаково и истину и ложь, и бесспорное и небесспорное, и что философия, если ее не извлекут из этого состояния, рискует потерять весь свой авторитет, – образовались общества ученых и были учреждены своего рода литературные трибуналы для оценки сочинений и воздания должного каждому автору согласно строжайшим правилам естественного права. Вот откуда произошли как академии, так – равным образом – и объединения, ведающие изданием журналов. Первые – еще до того, как писания их членов выйдут в свет – подвергают их внимательному и строгому разбору, не позволяя примешивать заблуждение к истине и выдавать простые предположения за доказательства, а старое – за новое. Что же касается журналов, то их обязанность состоит в том, чтобы давать ясные и верные краткие изложения содержания появляющихся сочинений, иногда с добавлением справедливого суждения либо по существу дела, либо о некоторых подробностях выполнения. Цель и польза извлечений состоит в том, чтобы быстрее распространять в республике наук сведения о книгах. Не к чему указывать здесь, сколько услуг наукам оказали академии своими усердными трудами и учеными работами, насколько усилился и расширился свет истины со времени основания этих благотворных учреждений. Журналы могли бы также очень благотворно влиять на приращение человеческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать надлежащих граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая воля – вот что от них требуется. Силы – чтобы основательно и со знанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план; воля – для того, чтобы иметь в виду одну только истину, не делать никаких уступок ни предубеждению, ни страсти. Те, кто, не имея этих талантов и этих склонностей, выступают в качестве журналистов, никогда не сделали бы этого, если бы, как указано, 41 Хрестоматия по истории русской литературной критики голод не подстрекал их и не вынуждал рассуждать и судить о том, чего они совсем не понимают. Дело дошло до того, что нет сочинения, как бы плохо оно ни было, чтобы его не превозносили и не восхваляли в каком-нибудь журнале; и, наоборот, нет сочинения, как бы превосходно оно ни было, которого не хулил бы и не терзал какой-нибудь невежественный или несправедливый критик. Затем, число журналов увеличилось до того, что у тех, кто пожелал бы собирать и только перелистывать «Эфемериды», «Ученые газеты», «Литературные акты», «Библиотеки», «Записки» и другие подобного рода периодические издания, не оставалось бы времени для чтения полезных и необходимых книг и для собственных размышлений и работ. Поэтому здравомыслящие читатели охотно пользуются теми из журналов, которые признаны лучшими, и оставляют без внимания все жалкие компиляции, в которых только списывается и часто коверкается то, что уже сказано другими, или такие, вся заслуга которых в том, чтобы неумеренно и без всякой сдержки изливать желчь и яд. Ученый, проницательный, справедливый и скромный журналист стал чем-то вроде феникса. Доказывая то, что я только что высказал, я испытываю затруднение скорее вследствие обилия примеров, чем их недостатка. Пример, на который я буду опираться в последующей части этого рассуждения, взят из журнала, издаваемого в Лейпциге и имеющего целью давать отчеты о сочинениях по естественным наукам и медицине. Среди других вещей там изложено содержание «Записок Петербургской Академии». Однако нет ничего более поверхностного, чем это изложение, в котором опущено самое любопытное и самое интересное и одновременно содержатся жалобы на то, что академики пренебрегли фактами или свойствами, очень хорошо известными специалистам; между тем выставлять их напоказ было бы просто смешно, особенно в предметах, не допускающих строгого математического доказательства. Одно из самых неудачных и наименее сообразных с правилами здравой критики извлечений – это извлечение из работ г-на советника и профессора химии Михаила Ломоносова; в нем допущено много промахов, которые стоит отметить, чтобы научить рецензентов такого сорта не выходить из своей сферы. В начале объявляется о замысле журналиста; оно – грозное, молния уже образуется в ту42 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века че и готова сверкнуть. «Г-н Ломоносов,– так сказано,– хочет дойти до чего-то большего, чем простые опыты». Как будто естествоиспытатель действительно не имеет права подняться над рутиной и техникой опытов и не призван подчинить их рассуждению, чтобы отсюда перейти к открытиям. Разве, например, химик осужден на то, чтобы вечно держать в одной руке щипцы, а в другой тигель и ни на одно мгновение не отходить от углей и пепла? Затем критик старается высмеять академика за то, что тот пользуется принципом достаточного основания и, по его выражению, истекает потом и кровью, применяя этот принцип при доказательстве истин, которые он мог бы предложить сразу как аксиомы. Во всяком случае, он говорит, что сам он принял бы их за таковые. Однако в то же время он отвергает самые очевидные положения, считая их чистым вымыслом, и тем самым впадает в противоречие с самим собой. Он издевается над строгими доказательствами там, где они необходимы, и требует их там, где они излишни. Пусть философы, желающие избежать столь разумных насмешек, подумают, как им взяться за дело, чтобы ничего не доказывать и в то же время все-таки доказывать. <...> До сих пор приводились бесспорные доказательства неспособности и крайней небрежности журналиста. Но вот место, где под большим подозрением его добросовестность и где он, повидимому, решительно задался целью ввести в заблуждение мир, полагая, должно быть, что «Записки императорской Петербургской Академии» – книга редкая, к которой не всякий имеет возможность обратиться. Уверенный в этом, он осмеливался приписывать академику невежество, доходящее до отрицания существования воздуха в порах соли, тогда как даже новички в физике не могут не знать этого. Нет никакой возможности вывести что-либо подобное из рассуждений автора даже путем любого насилия над ними; отсюда вытекает вполне естественный вывод. Ведь следующие слова § 41-го могут подать к тому повода: «...воздух, рассеянный в воде, не входит в поры соли». Слово «входить» не было никогда синонимом слова «содержаться». Академик хочет сказать и не может хотеть сказать что-либо другое, как только то, что воздух не входит из воды в соли, которые в ней растворяются, и непонятно, как можно переделать это утверждение в другое: «Поры солей совсем не содержат воздуха». <...> 43 Хрестоматия по истории русской литературной критики Не следует упускать из виду еще одного, последнего, признака той спешки, которую наш судья считает возможным сочетать со своей строгостью, хотя они и несовместимы. Он воображает, будто г-н Ломоносов в своем «Прибавлении к размышлениям об упругости воздуха» имел главным образом в виду исследовать «то свойство упругого воздуха, благодаря которому его сила пропорциональна его плотности». Он ошибается и обманывает других, высказывая такое суждение. При несколько большей внимательности он увидел бы и прочитал бы, что дело идет здесь именно о противоположном и что утверждается необходимость – для уплотнения воздуха – наличия сдавливающих сил в тем более значительной степени, в чем более узкие пределы заключен этот воздух; отсюда следует, что плотность не пропорциональна силам. Разве не это называется самой настоящей уликой, изобличающей все недостатки, из-за которых журналист может потерять авторитет и доверие, которые он намерен приобрести у публики? Может ли кто-либо, обладающий хотя бы тенью стыда и остатком совести, оправдывать подобные приемы? Давая таким способом отчет о сочинениях людей науки, человек не только наносит вред их репутации, на которую он не имеет никаких прав, но и душит истину, представляя читателю мысли, совершенно с ней не сообразные. Поэтому естественно всеми силами бороться против столь несправедливых приемов. Если продолжать обращаться таким образом с теми, кто стремится приносить пользу республике наук, то они могут впасть в полное уныние, и успехи наук потерпят значительный урон. Это было бы прежде всего полным крушением свободы философии. Для подобных рецензентов следует наметить надлежащие грани, в пределах которых им подобает держаться и ни в коем случае не переходить их. Вот правила, которыми, думается, мы должны закончить это рассуждение. Лейпцигского журналиста и всех подобных ему просим хорошо запомнить их. 1. Всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, что содержится в новых сочинениях, должен прежде всего взвесить свои силы. Ведь он затевает трудную и очень сложную работу, при которой приходится докладывать не об обыкновенных вещах и не просто об общих местах, но схватывать то новое и существенное, что заключается в произведениях, создаваемых часто величайшими 44 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века людьми. Высказывать при этом неточные и безвкусные суждения значит сделать себя предметом презрения и насмешки; это значит уподобиться карлику, который хотел бы поднять горы. 2. Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую предвзятость и не требовать, чтобы авторы, о которых мы беремся судить, рабски подчинялись мыслям, которые властвуют над нами, а в противном случае не смотреть на них как на настоящих врагов, с которыми мы призваны вести открытую войну. 3. Сочинения, о которых дается отчет, должны быть разделены на две группы. Первая включает в себя сочинения одного автора, который написал их в качестве частного лица; вторая – те, которые публикуются целыми учеными обществами с общего согласия и после тщательного рассмотрения. И те и другие, разумеется, заслуживают со стороны рецензентов всякой осмотрительности и внимательности. Нет сочинений, по отношению к которым не следовало бы соблюдать естественные законы справедливости и благопристойности. Однако надо согласиться с тем, что осторожность следует удвоить, когда дело идет о сочинениях, уже отмеченных печатью одобрения, внушающего почтение, сочинениях, просмотренных и признанных достойными опубликования людьми, соединенные познания которых естественно должны превосходить познания журналиста. Прежде чем бранить и осуждать, следует не один раз взвесить то, что скажешь, для того чтобы быть в состоянии, если потребуется, защитить и оправдать свои слова. Так как сочинения этого рода обычно обрабатываются с тщательностью и предмет разбирается в них в систематическом порядке, то малейшие упущения и невнимательность могут повести к опрометчивым суждениям, которые уже сами по себе постыдны, но становятся еще гораздо более постыдными, если в них скрываются небрежность, невежество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность. 4. Журналист не должен спешить с осуждением гипотез. Они дозволены в философских предметах и даже представляют собой единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых важных истин. Это – нечто вроде порыва, который делает их способными достигнуть знаний, до каких никогда не доходят умы низменных и пресмыкающихся во прахе. 45 Хрестоматия по истории русской литературной критики 5. Главным образом пусть журналист усвоит, что для него нет ничего более позорного, чем красть у кого-либо из собратьев высказанные последним мысли и суждения и присваивать их себе, как будто он высказывает их от себя, тогда как ему едва известны заглавия тех книг, которые он терзает. Это часто бывает с дерзким писателем, вздумавшим делать извлечения из сочинений по естественным наукам и медицине. 6. Журналисту позволительно опровергать в новых сочинениях то, что, по его мнению, заслуживает этого,– хотя не в этом заключается его прямая задача и его призвание в собственном смысле; но раз уже он занялся этим, он должен хорошо усвоить учение автора, проанализировать все его доказательства и противопоставить им действительные возражения и основательные рассуждения, прежде чем присвоить себе право осудить его. Простые сомнения или произвольно поставленные вопросы не дают такого права; ибо нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их разрешить самый знающий человек. Особенно не следует журналисту воображать, будто то, чего не понимает и не может объяснить он, является таким же для автора, у которого могли быть свои основания сокращать и опускать некоторые подробности. 7. Наконец, он никогда не должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждений. Ввиду того, что деятельность, которой он занимается, уже сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она распространяется, он оказался бы совершенно неправ, если бы сознательно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его несостоятельность. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке В древние времена, когда славенский народ не знал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для неведения многих вещей и действий, ученым народам известных, тогда и язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христиан46 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века ским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский для славословия божия. Отменная красота, изобилие, важность и сила эллинского слова коль высоко почитается, о том довольно свидетельствуют словесных наук любители. На нем, кроме древних Гомеров, Пиндаров, Демосфенов и других в эллинском языке героев, витийствовали великие христианския Церкви учители и творцы, возвышая древнее красноречие высокими богословскими догматами и парением усердного пения к Богу. Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковные на славенском языке, коль много мы от переводу Ветхого и Нового завета поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцов канонов видим в славенском языке греческого изобилия и оттуду умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно. Правда, что многие места оных переводов недовольно вразумительны, однако польза наша весьма велика. При сем, хотя нельзя прекословить, что сначала переводившие с греческого языка книги на славенский не могли миновать и довольно остеречься, чтобы не принять в перевод свойств греческих, славенскому языку странных, однако оные чрез долготу времени слуху славенскому перестали быть противны, но вошли в обычай. Итак, что предкам нашим казалось невразумительно, то нам ныне стало приятно и полезно. Справедливость сего доказывается сравнением российского языка с другими, ему сродными. Поляки, преклонясь издавна в католицкую веру, отправляют службу по своему обряду на латинском языке, на котором их стихи и молитвы сочинены во времена варварские по большей части от худых авторов, и потому ни из Греции, ни от Рима не могли снискать подобных преимуществ, каковы в нашем языке от греческого приобретены. Немецкий язык по то время был убог, прост и бессилен, пока в служении употреблялся язык латинский. Но как немецкий народ стал священные книги читать и службу слушать на своем языке, тогда богатство его умножилось, и произошли искусные писатели. Напротив того, в католицких областях, где только одну латынь, и то варварскую, в служении употребляют, подобного успеха в чистоте немецкого языка не находим. 47 Хрестоматия по истории русской литературной критики Как материи, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере разной своей важности, так и российский язык чрез употребление книг церковных по приличности имеет разные степени: высокий, посредственный и низкий. Сие происходит от трех родов речений российского языка. К первому причитаются, которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны, например: бог, слава, рука, ныне, почитаю. Ко второму принадлежат, кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны, например: отверзаю, господень, насажденный, взываю. Неупотребительные и весьма обветшалые отсюда выключаются, как: обаваю, рясны, овогда, свене и сим подобные. К третьему роду относятся, которых нет в остатках славенского языка, то есть в церковных книгах, например: говорю, ручей, который, пока, лишь. Выключаются отсюда презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях. От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный и низкий. Первый составляется из речений славенороссийских, то есть употребительных в обоих наречиях, и из славенских, россиянам вразумительных и не весьма обветшалых. Сим штилем составляться должны героические поэмы, оды, прозаические речи о важных материях, которым они от обыкновенной простоты к важному великолепию возвышаются. Сим штилем преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных. Средний штиль состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностию, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского простонародного. Сим штилем писать все театральные сочинения, в которых требуется обыкновенное человеческое слово к живому 48 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века представлению действия. Однако может и первого рода штиль иметь в них место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли; в нежностях должно от того удаляться. Стихотворные дружеские письма, сатиры, эклоги и элегии сего штиля больше должны держаться. В прозе предлагать им пристойно описания дел достопамятных и учений благородных. Низкий штиль принимает речения третьего рода, то есть которых нет в славенском диалекте, смешивая с средними, а от славенских обще не употребительных вовсе удаляться, по пристойности материй, каковы суть комедии, увеселительные эпиграммы, песни, в прозе дружеские письма, описание обыкновенных дел. Простонародные низкие слова могут иметь в них место по рассмотрению. Но всего сего подробное показание надлежит до нарочного наставления о чистоте российского штиля. Сколько в высокой поэзии служат однем речением славенским сокращенные мысли, как причастиями и деепричастиями, в обыкновенном российском языке неупотребительными, то всяк чувствовать может, кто в сочинении стихов испытал свои силы. Сия польза наша, что мы приобрели от книг церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких, хотя велика, однако еще находим другие выгоды, каковых лишены многие языки, и сие, во-первых, по месту. Народ российский, по великому пространству обитающий, невзирая на дальнее расстояние, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и в селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургский швабского, хотя все того ж немецкого народа. Подтверждается вышеупомянутое наше преимущество живущими за Дунаем народами славенского поколения, которые греческого исповедания держатся, ибо хотя разделены от нас иноплеменными языками, однако для употребления славенских книг церковных говорят языком, россиянам довольно вразумительным, который весьма много с нашим наречием сходнее, нежели польский, невзирая на безразрывную нашу с Польшею пограничность. По времени ж рассуждая, видим, что российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семисот лет, не 49 Хрестоматия по истории русской литературной критики столько изменился, чтобы старого разуметь не можно было: не так, как многие народы, не учась, не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради великой его перемены, случившейся через то время. Рассудив таковую пользу от книг церковных славенских в российском языке, всем любителям отечественного слова беспристрастно объявляю и дружелюбно советую, уверясь собственным своим искусством, дабы с прилежанием читали все церковные книги, от чего к общей и к собственной пользе воспоследует: 1) по важности освященного места Церкви Божией и для древности чувствуем в себе к славенскому языку некоторое особливое почитание, чем великолепные сочинитель мысли сугубо возвысит; 2) будет всяк уметь разбирать высокие слова от подлых и употреблять их в приличных местах по достоинству предлагаемой материи, наблюдая равность слога; 3) таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пресечется, и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божиим на славенском языке украшаться будет. Сие краткое напоминание довольно к движению ревности в тех, которые к прославлению отечества природным языком усердствуют, ведая, что с падением оного без искусных в нем писателей немало затмится слава всего народа. Где древний язык ишпанский, галский, британский и другие с делами оных народов? Не упоминаю о тех, которые в прочих частях света у безграмотных жителей во многие веки чрез переселения и войны разрушились. Бывали и там герои, бывали отменные дела в обществах, бывали чудные в натуре явления, но все в глубоком неведении погрузились. Гораций говорит: Герои были до Атрида, Но древность скрыла их от нас, Что дел их не оставил вида Бессмертный стихотворцев глас. 50 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами, ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев, которых люблением и покровительством ободрены были превозносить их купно с отечеством. Последовавшие поздние потомки, великою древностью и расстоянием мест отдаленные, внимают им с таким же движением сердца, как бы их современные одноземцы. Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без рвения? Возможно ли без гнева слышать Цицеронов гром на Катилину? Возможно ли внимать Горациевой лире, не склонясь духом к Меценату, равно как бы он нынешним наукам был покровитель? Подобное счастье оказалось нашему отечеству от просвещения Петрова и действительно настало и основалось щедротою его великия дщери. Ею ободренные в России словесные науки не дадут никогда прийти в упадок российскому слову. Станут читать самые отдаленные веки великие дела Петрова и Елисаветина веку и, равно как мы, чувствовать сердечные движения. Как не быть ныне Виргилиям и Горациям? Царствует Августа Елисавета; имеем знатных и Меценату подобных предстателей, чрез которых ходатайство ея отеческий град снабден новыми приращениями наук и художеств.Великая Москва, ободренная пением нового Парнаса, веселится своим сим украшением и показывает оное всем городам российским как вечный залог усердия к отечеству своего основателя, на которого бодрое попечение и усердное предстательство твердую надежду полагают российские музы о высочайшем покровительстве. А. П. СУМАРОКОВ Ответ на критику Не надлежало бы мне ответствовать на сочиненную против меня г. Т<редиаковским> критику, ибо я в ней кроме брани ничего не нашел. Однако надобно его потешить и что-нибудь на то напи51 Хрестоматия по истории русской литературной критики сать, чтоб он не подумал, что я его так много уничтожаю, что уж и отвечать не хочу. Ежели на все то, что он написал, ответствовать, так я очень много потеряю времени, а часа два за работу долгой его критики я употребить к его услугам не скуплюсь.<•••> §I Не дивлюсь, говорит он, что поступка нашего автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка и с биением сердца. О каком он говорит биении сердца, того я не понимаю, в прочем сия новомодная критика очень преславна! § II Не думает ли он, говорит он обо мне, чего он сам стоит и что и каков тот, против которого он как с цепи спустил своевольную в лихости свою музу?– Думаю. § III В одах требует он исторического порядка и хулит, что Кир упомянут прежде Июлия.<•••> Все равно, что о том герое говорить порядком историческим, которого стихотворец воспевает, что о тех, которых он с ним сравнивает: история в оде должна быть непорядочна. § IV Хулит он изъяснение грозный вал и хвалит зыбкий вал, не знаю для чего. §V Приводя в пример он строфу из некоторой оды г. Л<омоносова>, не узнал он, что автор недремлющими называет очами, хотя то и совершенно изъяснено, что автор недремлющими очами называет звезды, а он подумал, что то сказано о ангелах. А строфа сия очень ясна. § VI Привязался он к типографическим двум погрешностям, как будто клад нашел.<•••> § VII И хотя ж оды свойство, говорит он, по мнению авторову, что она: Взлетает к небесам, свергается во ад И мчится в быстроте во все края вселенны, Врата и путь везде имеет отворенны. (Вторая из двух моих Епистол). 52 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века Однако де сие не значит, чтоб ей соваться во все стороны, как угорелой кошке. Я как угорелая кошка не суюсь, а подлому изъяснению, как угорелой кошке, кроме его сочинений, ни в какой критике места не нахожу. § VIII Беспорядок оды долженствует быть порядочен. Порядочный беспорядок – есть любимое его изъяснение, как прекрасная красота, приятная приятность, горькая горесть, сладкая сладость: а Боало не говорит, чтоб в оде был порядочный беспорядок.<•••> <•••> § XI Говорит он о мне моими стихами: Нет тайны никакой безумственно писать, Искусство, чтоб свой слог исправно предлагать, Чтоб мнение творца воображалось ясно И речи бы текли свободно и согласно. (Во второй из двух моих Епистол.) Я не знаю, к кому сии стихи, ко мне или к нему больше приличествуют. Песенка: Поют птички, Со синички, Хвостом машут и лисички. Плюнь на суку, Морску скуку, Держись черней и знай штуку. Кажется мне, не лучше моих сочинений. <•••> Наставление хотящим быти писателями Для общих благ мы то перед скотом имеем, Что лучше, как они, друг друга разумеем И помощию слов пространна языка Все можем изъяснить, как мысль ни глубока. Описываем все и чувствие и страсти И мысли голосом делим на мелки части. Приняв драгой сей дар от щедрого творца, Изображением вселяемся в сердца. То, что постигнем мы, друг другу объявляем 53 Хрестоматия по истории русской литературной критики И в письмах то своих потомкам оставляем. Но не такие так полезны языки, Какими говорят мордва и вотяки. Возьмем себе в пример словесных человеков: Такой нам надобен язык, как был у греков, Какой у римлян был и, следуя в том им, Как ныне говорят Италия и Рим, Каков в прошедший век прекрасен стал французской, Иль ближе объявить, каков способен русской. Довольно наш язык в себе имеет слов, Но нет довольного на нем числа писцов. Один, последуя несвойственному складу, В Германию влечет российскую Палладу И, мня, что тем он ей приятства придает, Природну красоту с лица ее сотрет. Другой, не выучась так грамоте, как должно, По-русски, думает, всего сказать не можно, И, взяв пригоршин слов чужих, сплетает речь Языком собственным, достойну только сжечь. Иль слово в слово он в слог русский переводит, Которо на себя в обнове не походит. Тот прозой скаредной стремится к небесам И хитрости своей не понимает сам. Тот прозой и стихом ползет, и письма оны, Ругаючи себя, дает пиша в законы. Кто пишет, должен мысль очистить наперед И прежде самому себе подати свет, Дабы писание воображалось ясно И речи бы текли свободно и согласно. Посем скажу, какой похвален перевод: Имеет склада всяк различие народ. Что очень хорошо на языке французском, То может скаредно во складе быти русском. Не мни, переводя, что склад тебе готов; Творец дарует мысль, но не дарует слов. Ты, путаясь, как твой творец письмом не славен, Не будешь никогда, французяся, исправен. Хотя перед тобой в три пуда лексикон: 54 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века Не мни, чтоб помощью тебя снабжал и он, Коль речи и слова поставишь без порядка; И будет перевод твой некая загадка, Которую никто не отгадает ввек, Хотя и все слова исправно ты нарек. Когда переводить захочешь беспорочно, Во переводе мне яви ты силу точно. Мысль эта кажется гораздо мне дика, Что не имеем мы богатства языка. Сердися: мало книг у нас, и делай пени. Когда книг русских нет, за кем идти в степени? Однако больше ты сердися на себя: Пеняй отцу, что он не выучил тебя. А если б юности не тратил добровольно, В писании ты б мог искусен быть довольно. Трудолюбивая пчела себе берет Отвсюду то, что ей потребно в сладкий мед. И посещающа благоуханну розу, В соты себе берет частицы и с навозу. А вы! которые стремитесь на Парнас, Нестройного гудка имея грубый глас, Престаньте воспевать! песнь ваша не прелестна, Когда музыка вам прямая неизвестна! Стихосложения не зная прямо мер, Не мог бы быть Мальгерб, Расин и Молиер. Стихи писать не плод единыя охоты, Но прилежания и тяжкия работы. Однако тщетно все, когда искусства нет, Хотя творец, пиша, струями поты льет. Без пользы на Парнас слагатель смелый всходит, Коль Аполлон его на верх горы не взводит. Когда искусства нет иль ты не тем рожден, Нестроен будет глас и слаб и принужден. А если естество тебя и одарило, Старайся, чтоб сей дар искусство повторило. Во стихотворстве знай различие родов И что начнешь, ищи к тому приличных слов, Не раздражая муз худым своим успехом: 55 Хрестоматия по истории русской литературной критики Слезами Талию, а Мельпомену смехом. Пастушка моется на чистом берегу, Не перлы, но цветы сбирает на лугу, Ни злато, ни сребро ее не утешает: Она главу и грудь цветами украшает. Подобно каковой всегда на ней наряд, Таков быть должен весь стихов пастушьих склад. В них громкие слова, чтеца ушам жестоки, В лугах подымут вихрь и возмутят потоки. Оставь свой пышный глас в идиллиях своих И в паствах не глуши трубой свирелок их. Пан скроется в леса от звучной сей погоды, И нимфы у поток уйдут от страха в воды. Любовну ль пишешь речь или пастуший спор: Чтоб не был ни учтив, ни грубым разговор, Чтоб не был твой пастух крестьянину примером И не был бы опять придворным кавалером. Вспевай в идиллии мне ясны небеса, Зеленые луга, кустарники, леса, Биющие ключи, источники и рощи, Весну, приятный день и тихость темной нощи. Дай чувствовати мне пастушью простоту И позабыти всю мирскую суету. Плачевный музы глас быстрее проницает, Когда она в любви, стоная, восклицает, Но весь ее восторг, Эрата чем горит, Едино только то, что сердце говорит. Противнея всего элегии притворство, И хладно в ней всегда без страсти стихотворство, Колико мыслию в него ни углубись: Коль хочешь то писать, так прежде ты влюбись. Гремящий в оде звук, как вихорь, слух пронзает, Кавказских гор верхи и Альпов осязает. В ней молния делит на полы горизонт, И в безднах корабли скрывает бурный понт, Пресильный Геркулес злу Гидру низлагает, А дерзкий Фаетон на небо возбегает. Скамандрины брега богов зовут на брань. 56 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века Великий Александр кладет на персов дань, Великий Петр свой гром с брегов балтийских мещет, Екатеринин меч на Геллеспонте блещет. В эпическом стихе Диана – чистота, Минерва – мудрость тут, Венера – красота. Где гром и молния, там ярость возвещает Разгневанный Зевес и землю возмущает. Когда в морях шумит волнение и рев, Не ветер то ревет, ревет Нептуна гнев. И эха голосом отзывным лес не знает, То Нимфа во слезах Нарцисса вспоминает. Эней перенесен на африканский брег, В страну, в которую имели ветры бег, Не приключением, но гневная Юнона Стремится погубить остаток Илиона. Эол в угодность ей Средьземный понт ломал И грозные валы до облак воздымал. Он мстил Парисов суд за почести Венеры И ветром растворил глубокие пещеры. По сем рассмотрим мы свойство и силу драм, Как должен представлять творец пороки нам И как должна цвести святая добродетель. Посадский, дворянин, маркиз, граф, князь, владетель Восходят на театр: творец находит путь Смотрителей своих чрез действо ум тронуть. Коль ток потребен слез, введи меня ты в жалость, Для смеху предо мной представь мирскую шалость. Не представляй двух действ моих на смеси дум; Смотритель к одному тогда направит ум. Ругается смотря единого он страстью И беспокойствует единого напастью: Афины и Париж, зря красну царску дщерь, Котору умерщвлял отец, как лютый зверь, В стенании своем единогласны были И только лишь о ней потоки слезны лили. Не тщись мои глаза различием прельстить И бытие трех лет во три часа вместить: Старайся мне в игре часы часами мерить, 57 Хрестоматия по истории русской литературной критики Чтоб я, забывшися, возмог тебе поверить, Что будто не игра то действие твое, Но самое тогда случившись бытие. И не греми в стихах, летя под небесами; Скажи мне только то, что страсти скажут сами. Не сделай трудности и местом мне своим, Чтоб я, зря твой театр имеючи за Рим, В Москву не полетел, а из Москвы к Пекину; Всмотряся в Рим, я Рим так скоро не покину. Для знающих людей не игрищи пиши; Смешить без разума – дар подлыя души. Представь бездушного подьячего в приказе, Судью не знающа, что писано в указе. Комедией писец исправить должен нрав: Смешить и пользовать – прямой ее устав. Представь мне гордого, раздута, как лягушку, Скупого: лезет он в удавку за полушку; Представь картежника, который, снявши крест, Кричит из-за руки, с фигурой сидя: рест. В сатире ты тому ж пекись пиша смеяться, Коль ты рожден, мой друг, безумных не бояться, И чтобы в страстные сердца она втекла, Сие нам зеркало в сто раз нужняй стекла. А эпиграммы тем единым лишь богаты, Когда сочинены остры и узловаты. Склад басен Лафонтен со мною показал: Иль этак Аполлон писати приказал. Нет гаже ничего и паче мер то гнусно, Коль притчей говорит Эзоп, шутя невкусно. Еще мы видим склад героических поэм, И нечто помяну я ныне и о нем. Он подлой женщиной Дидону превращает, Или нам бурлака Энеем возвещает, ЯВЛЯЯ рыцарьми буянов, забияк; И так таких поэм шутливых склад двояк. Или богатырей ведет отвага в драку, Парис Фетидину дал сыну перебяку. Гектор не в брань идет, но во кулачный бой, 58 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века Не воинов, бойцов ведет на брань с собой. Иль пучится буян: не подлая то ссора, Но гонит Ахиллес прехраброго Гектора. Замаранный кузнец во кузнице – Вулкан, А лужа от дождя – не лужа, окиян. Ребенка баба бьет: то гневная Юнона; Плетень вокруг гумна: то стены Илиона. Невежа, верь ты мне и брось перо ты прочь Или учись писать стихи и день и ночь. К несмысленным рифмотворцам Я не знаю кратчайшего способа стати стихотворцем, как выучившися грамоте, научиться узнати, что стопа, – а это наука самая легкая, и только трех часов времени требует, – начать писать и отдавати в печать. Сей новый и краткий способ уже несколько восприят; но я, желая успеха словесным наукам, оный всем охотникам марать бумагу и мучить типографщиков и справщика, больше препоручаю и ободряю молодых людей: врите, друзья мои, изо всей силы, а я вам порука, что вы не только самых крайних невеж, но и таковых людей, которых учеными почитают, или паче стихотворцами, найдете в числе ваших похвалителей! не пишите только трагедий; ибо в них невежество автора паче всего открывается, и не уповайте на искусство актеров, чая получити во вздоре вашем помощию оных какой успех; дурная женщина и в робе дурна, а хорошая и в телогрее хороша. Всего более советую вам в великолепных упражняться одах; ибо многие читатели, да и сами некоторые лирические стихотворцы рассуждают тако, что никак невозможно, чтоб была ода и великолепна и ясна; по моему мнению пропади такое великолепие, в котором нет ясности. Многие говорили о архиепископе Феофане, что проповеди его не очень хороши, потому что они просты; что похвальняй естественныя простоты, искусством очищенной, и что глупяе сих людей, которые вне естества хитрости ищут? Но когда таких людей много, – слагайте, несмысленные виршесплетатели, оды; лишь только темняе пишите. А ежели вы хотите последовать искренности моей, так учитеся сперва, и то ежели имеете способность, и пишите, но сделайте то с первыми 59 Хрестоматия по истории русской литературной критики сочинениями своими, что сделал я с своими, девять лет писав: бросьте все оные в печь; сие жертвоприношение Аполлону приятняе будет, нежели издание вашего вздора в печати. Язык наш великого исправления требует, а вы его своими изданиями еще больше портите. Был некогда и я сему подвержен согрешению, которому вы себя подвергаете, и слабые стихи выпустил; но я был то сделати несколько принужден, да они же и выпущены как от рабенка, и не от меня, но от кадетского корпуса, напечатаны для показания только моего ученичества, а не стихотворства, да в то же время и стихотворцев у нас еще не было и научиться было не у кого. Я будто сквозь дремучий лес, сокрывающий от очей моих жилище муз, без проводника проходил, и хотя я много должен Расину, но его увидел я уже тогда, как вышел из сего леса и когда уже парнасская гора предъявилася взору моему. Но Расин – француз и в русском языке мне дать наставления не мог. Русским языком и чистотою склада – ни стихов, ни прозы – не должен я никому, кроме себя; да должен я за первые основания в русском языке отцу моему, а он тем должен Зейкену, который выписан был от государя императора Петра Великого в учители к господам Нарышкиным, и который после был учителем государя императора Петра Второго. Не подумайте вы, что я из ревности вас отвращаю от стихотворства: вы знаете, что я к тому ни малейшия не имею причины и что ущерба чести моей быть не может, когда мои согражданя хорошо стихи писать будут. Я люблю наш прекрасный язык, и стал бы радоваться, ежели бы, познав оного красоту, в нем русские люди больше нынешнего упражнялися и успехи получали, и чтобы не язык, но свое нерадение обвиняли; но любя язык русской, могу ли я такие похваляти сочинения, которые его безобразят? Лучше не имети никаких писателей, нежели имети дурных. И сие одно нашему языку делает насилие, когда писатели разносите литер не умеют, о чем может быть им и в мысли не впадало, да и сам я в тончайшее оного рассмотрение вшел недавно. Не знаю, кому, или лучше не хочу сказать, кому, не показалася литера i и того же произношения литера u и для того уставил он новое и странное правило очень часто пременяти ее в литеру e. А то еще и странняе, что многие правилу сему, ни на естестве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении основан60 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века ном, следуют, то только в доказательство приемля: Так сказал Пифагор; а Пифагор московского наречия не знает; ибо он родился в деревне такого уезда, где говорят не только крестьяня, но и дворяня очень дурно; а мы, москвитяне, должны ли сему правилу повиноваться, хотя бы оно золотыми литерами напечатано было? Достоин называется достоен, бывший – бывшей и пр. Все, которые в русском языке сильны, в опровержении сего со мною согласны; не отрава ли такие правила нашему языку? Правописание наше подьячие и так уже совсем испортили. А что свойственно до порчи касается языка, немцы насыпали в него слов немецких, петиметеры – французских, предки наши – татарских, педанты – латинских, переводчики священного писания – греческих: опасно, чтобы кирейки не умножили в нем и польских слов. Немцы склад наш по немецкой учредили грамматике. Но что еще больше портит язык наш? худые переводчики; худые писатели; а паче всего худые стихотворцы. Примечания Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1768) Письмо, в котором содержится рассуждение о стихотворении, поныне на свет изданном от автора двух од, двух трагедий и двух эпистол, написанное от приятелю к приятелю (1750) Адресатом письма является академический асессор Г. Н. Теплов. Объектом защиты («наш общий друг»), по мнению В. И. Кулешова, возможно, являлся М. В. Ломоносов. А. М. Ранчин и В. Л. Коровин считают, что им был сам Тредиаковский. «Тресотиниус», «Хорев», «Гамлет» – произведения А. П. Сумарокова. Ксаксоксимениус – персонаж комедии «Тресотиниус». Хорев, Оснельда, Завлох, Астрадин, Кий, Велькар – герои трагедии «Хорев». Источник текста: Русская литературная критика XVIII века : сборник текстов / [сост., ред., вступит ст. и примеч. В. И. Кулешова]. – М. : Сов. Россия, 1978. – С. 70–80. – Печ. с сокр. Письмо к приятелю о нынешней пользе гражданству от поэзии (1752) Источник текста: Критика XVIII века / [авт.-сост. А. М. Ранчин, В. Л. Коровин]. – М. : Олимп: АСТ, 2002. – С. 148–151.– (Библиотека русской критики). О древнем, среднем и новом стихотворении российском (1755) Источник текста: Русская литературная критика XVIII века : сборник текстов / [сост., ред., вступит ст. и примеч. В. И. Кулешова]. – М. : Сов. Россия, 1978. – С. 92–98. – (Библиотека русской критики). – Печ. с сокр. 61 Хрестоматия по истории русской литературной критики Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии (1755) Статья написана на латыни, напечатана по-французски в Голландии без подписи автора. Поводом написания послужили критические высказывания в лейпцигском журнале на ученые труды Ломоносова. Источник текста: Ломоносов М. В. Избранная проза / М. В. Ломоносов; [сост., пред. и коммент. В. А. Дмитриева]. – М. : Сов. Россия, 1986. – С. 113–119. – Печ. с сокр. Предисловие о пользе книг церковных в российском языке (1758) Источник текста: Критика XVIII века / [авт.-сост. А. М. Ранчин, В. Л. Коровин]. – М.: Олимп : АСТ, 2002. – С. 247–253. – (Библиотека русской критики). Александр Петрович Сумароков (1717–1777) Ответ на критику (1750) Статья является ответом на «Письмо, в котором содержится рассуждение…» В. К. Тредиаковского. Поют птички – цитаты из стихотворения Тредиаковского «Песенка, которую я сочинил, ещё будучи в Московских школах, на мой выезд в чужие краи». Источник текста: Русская литературная критика XVIII века : сборник текстов / [сост., ред., вступит ст. и примеч. В. И. Кулешова]. – М. : Сов. Россия, 1978. – С. 110–112. – Печ. с сокр. Наставление хотящим быти писателями (1748 –1774) Стихотворный трактат является переработанным вариантом двух эпистол о русском языке и стихотворстве. Источник текста: Там же. С. 112–117. К несмысленным рифмотворцам (1759) Корейки – А. М. Ранчин и В. Л. Коровин считают, что автор намекает на Кириака Кондратовича, переводившего книги с польского языка. В. И. Кулешов предполагает, что здесь возможен намек на Василия Кирилловича Тредиаковского. Источник текста: Критика XVIII века / [авт.-сост. А. М. Ранчин, В. Л. Коровин]. – М. : Олимп : АСТ, 2002. – С. 300–302. – (Библиотека русской критики). Вопросы и задания 1. 2. 3. 4. Определите предмет критической рефлексии классицистов, учитывая работы представленных авторов. Перечислите наиболее употребительные жанры, в которых осуществлялись литературно-критические высказывания классицистов. Какую роль в представленных работах выполняет апелляция к литературной практике европейских писателей? Как вы считаете, почему В. К. Тредиаковскому, начавшему реформаторство русского стихосложения, важно указать на то, что «новая» 62 Тема 1. Русская классицистическая критика XVIII века 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. система сложения стихов «справедливее называться долженствует возобновленною, а не новою»? Какое место в жизни общества отводит Тредиаковский стихотворной речи и прозаической? Объясните причины приоритета одной формы художественной речи над другой. Проанализируйте позицию субъекта в «Письме, в котором содержится рассуждение о стихотворении…» Тредиаковского. Что ее отличает от позиции субъекта Сумарокова в «Ответе на критику»? Кратко сформулируйте основные принципы работы журналистов, содержащиеся в статье Ломоносова «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии». Определите степень актуальности данных требований в контексте современности. Какие критерии положены в основу разграничения трех штилей М. В. Ломоносовым? Какое преимущество, по мнению Ломоносова, дало культуре русского народа обращение к греческим христианским законам? Чьи традиции наследует А. П. Сумароков при создании «Наставления хотящим быти писателями»? Предложите одну из возможных мотивировок названия журнала Сумарокова «Трудолюбивая пчела». Какая авторская установка, помимо идеи трудолюбия, означена образом пчелы в его стихотворной поэтике? Какие тенденции развития отечественной словесности негативно оценены Сумароковым в «Наставлении хотящим быти писателями»? Перечислите основные составляющие успешного писательства, по мнению А. П. Сумарокова, исходя из прочтения всех представленных здесь статей автора. Над какими установками начинающих поэтов иронизирует Сумароков в статье «К несмысленным рифмотворцам»? Чем объяснял Сумароков собственные слабые стихи? Какие приемы полемики использованы Тредиаковским и Сумароковым в их литературно-критическом диалоге? Какие свойства литературной критики классицистов могут быть отмечены как характерные для данного типа литературной рефлексии? Объясните значение таких слов, как десть, солецизм, опыток, перебяка. В случае затруднения обратитесь к словарям. 63 Хрестоматия по истории русской литературной критики Тема 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КОНЦА XVIII ВЕКА Н. И. НОВИКОВ Статьи из «Трутня» Лист V. Мая 26 дня Господин «Трутень»! Второй ваш листок написан не по правилам вашей прабабки. Я сам того мнения, что слабости человеческие сожаления достойны; однако ж не похвал, и никогда того не подумаю, чтоб на сей раз не покривила своею мыслию и душою госпожа ваша прабабка <···>, что похвальнее снисходить порокам, нежели исправлять оные. Многие слабой совести люди никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человекам обыкновенны и что должно оные прикрывать человеколюбием; следовательно, они порокам сшили из человеколюбия кафтан; но таких людей человеколюбие приличнее назвать пороколюбием. По моему мнению, больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, который оным снисходит или (сказать по-русски) потакает; и ежели смели написать, что учитель, любви к слабостям не имеющий, оных исправить не может, то и я с лучшим основанием сказать могу, что любовь к порокам имеющий никогда не исправится. Еще не понравилось мне 64 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века первое правило упомянутой госпожи, то есть чтоб отнюдь не называть слабости пороком, будто Иоан и Иван не все одно. О слабости тела человеческого мы рассуждать не станем, ибо я не лекарь, а она не повивальная бабушка; но душа слабая и гибкая в каждую сторону покривиться может. Да я и не знаю, что по мнению сей госпожи значит слабость. Ныне обыкновенно слабостию называется в когонибудь по уши влюбиться, то есть чужую жену или дочь; а из сей мнимой слабости выходит: обесчестить дом, в который мы ходим, и поссорить мужа с женою или отца с детьми; и это будет не порок? Кои построжее меня о том при досуге рассуждают, назовут по справедливости оный беззаконием. Любить деньги есть та же слабость; почему слабому человеку простительно брать взятки и набогащаться грабежами. Пьянствовать также слабость или еще привычка, однако пьяному можно жену и детей прибить до полусмерти и подраться с верным своим другом. Словом сказать, я как в слабости, так в пороке не вижу ни добра, ни различия. Слабость и порок, по-моему, все одно, а беззаконие дело иное. На конце своего листка ваша госпожа прабабка похваляет тех писателей, кои только угождать всем стараются; а вы сему правилу, не повинуясь криводушным приказным и некстати умствующему прокурору, не великое сделали угождение. Не хочу я вас побуждать, как делают прочие, к продолжению сего труда, ниже вас хвалить; зверок по кохтям виден. То только скажу, что из всего поколения вашей прабабки вы первый, к которому я пишу письмо. Может статься, скажут г. критики, что мне как Трутню с Трутнем иметь дело весьма сходно, но для меня разумнее и гораздо похвальнее быть Трутнем, чужие дурные работы повреждающим, нежели такою пчелою, которая по всем местам летает и ничего разобрать и найти не умеет. Я хотел было сие письмо послать к госпоже вашей прабабке, но она меланхолических писем читать не любит, а в сем письме, я думаю, она ничего такого не найдет, от чего бы у нее от смеха три дни бока болеть могли. 9 мая 1769 года. Покорный ваш слуга Правдулюбов. 65 Хрестоматия по истории русской литературной критики Лист VIII. Июня 16 дня Господин издатель! Госпожа «Всякая всячина» на нас прогневалась и наши нравоучительные рассуждения называет ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина состоит в том, что на русском языке изъясняться не умеет и русских писаний обстоятельно разуметь не может; а сия вина многим нашим писателям свойственна <···>. В пятом листе «Трутня» ничего не писано, как думает госпожа «Всякая всячина», ни противу милосердия, ни противу снисхождения, и публика, на которую и я ссылаюсь, то разобрать может. Ежели я написал, что больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, кто оным потакает, то не знаю, как таким изъяснением я мог тронуть милосердие? Видно, что госпожа «Всякая всячина» так похвалами избалована, что теперь и то почитает за преступление, если кто ее не похвалит. Не знаю, почему она мое письмо называет ругательством? Ругательство есть брань, гнусными словами выраженная; но в моем прежнем письме, которое заскребло по сердцу сей пожилой дамы, нет ни кнутов, ни виселиц, ни прочих слуху противных речей, которые в издании ее находятся. Госпожа «Всякая всячина» написала, что пятый лист «Трутня» уничтожает. И это как-то сказано не по-русски; уничтожить, то есть в ничто превратить, есть слово, самовластию свойственное; а таким безделицам, как ее листки, никакая власть не прилична; уничтожает верхняя власть какое-нибудь право другим. Но с госпожи «Всякой всячины» довольно бы было написать, что презирает, а не уничтожает мою критику. Сих же листков множество носится по рукам, и так их всех ей уничтожить не можно. Она утверждает, что я имею дурное сердце потому, что, по ее мнению, исключаю моими рассуждениями снисхождение и милосердие. Кажется, я ясно написал, что слабости человеческие сожаления достойны, но что требуют исправления, а не потачки; и так думаю, что сие мое изъяснение знающему российский язык и правду не покажется противным ни справедливости, ни милосердию. Совет ее, чтобы мне лечиться, не знаю, мне ли больше приличен или сей госпоже. Она, сказав, что на пятый лист «Трутня» ответст66 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века вовать не хочет, отвечала на оный всем своим сердцем и умом, и вся ее желчь в оном письме сделалась видна. Когда ж она забывается и так мокротлива, что часто не туда плюет, куда надлежит, то, кажется, для очищения ее мыслей и внутренности не бесполезно ей и полечиться. Сия госпожа назвала мой ум тупым потому, что не понял ее нравоучений. На то отвечаю, что и глаза мои того не видят, чего нет. Я тем весьма доволен, что госпожа «Всякая всячина» отдала меня на суд публике. Увидит публика из будущих наших писем, кто из нас прав. 6 июня 1769 года. Покорный ваш слуга Правдулюбов. «Пустомеля» То, что употребил я вместо предисловия Тысяча желаний, набившиеся в мою голову, затмевают рассудок, так что я не знаю, которое прежде удовольствовать и чем начать: вот каково в первый раз сделаться автором! Пустого писать не хочется, а хорошее скоро ли придумаешь? Мне и самому несносны те авторы, которые сочинения свои начинают вздором, вздором наполняют и оканчивают вздором. Пишут все, что ни попадется; спорят, критикуют, решат и, запутавшись в мыслях, изъясняются весьма неясно; тут следуют у них сухие шутки, будто оставляют темные места на догадку читателя; но ежели сочинитель по чистой совести захочет признаться, то скажет, что и сам он того не понимает; и так останется истинная причина, что яснее не мог того написать. Многие ныне принимаются писать, думая, что хорошо сочинять так же легко, как продавать снурки, серьги, запонки, наперстки, иголки и прочие мелочные товары, коими щепетильники торгуют в деревнях и меняют оные на лапти и яицы, но они обманываются. Щепетильнику нужно только трудолюбие и несколько ума для различения хороших товаров от худых, ибо и продаются оные людям не гораздо просвещенным, то есть таковым, каковы наши крестьяне и крестьянки. Но чтобы уметь хорошо сочинять, то потребно учение, острый разум, здравое рассуждение, хороший вкус, знание свойств русского языка и правил граммати67 Хрестоматия по истории русской литературной критики ческих и, наконец, истинное о вещах понятие; все сие вместе есть искусство хорошо писать и в одном человеке случается весьма редко, ради чего и писатели хорошие редки не только у нас одних, но и в целой Европе. Кто пишет, не имевши дарований и способностей, составляющих хорошего писателя, тот не писатель, но бумагомаратель. По несчастию нашему, у нас много таких писцов, кои, напечатав пять страниц худого своего сочинения, принимают на себя название автора, будто бы авторство зависело от типографии. Типография за деньги печатает книги, но ума не продает: кто пишет наудачу, тот грешит против здравого рассудка; таких грешников не только у нас на Руси, но и во Франции много1. Они пишут все, что с ними ни повстречается, хватаются за все, начинают и никогда не оканчивают, затем что не имеют цели своим желаниям. Что нравится им, то, думают они, понравится и всем. Но это уже чересчур много обижать читателей, будто они хорошего отличить не умеют от худого. Сказывают, что самолюбие не только что с хорошими писателями, но и с мелкими бумагомарателями неразлучно; а некоторые уверяют, что оно и тогда прилипает, когда еще они намереваются быть писателями; но я сего не утверждаю, а скажу только, что самолюбие есть болезнь самая прилипчивая и для писателей опасная. Я исследовал самого себя и думал, что я не самолюбив, но меня одна госпожа, которую я очень много почитаю, уверила, что я обманулся: и подлинно, я после узнал, что погрешности в чужих сочинениях мне гораздо приметнее, как в своих, может быть, оттого, что критиковать легче, нежели сочинять, как некоторые утверждают, но я этому не совсем верю и думаю, что правильно и со вкусом критиковать так же трудно, как и хорошо сочинять. Впрочем, чистосердечие осталось во мне и поныне, ибо я тотчас соглашусь и поверю, кто скажет мне, что я написал худо, но, кажется, тому поверю больше и лучшего о том человеке буду мнения, который похвалит. Я еще скажу: самолюбие прилипчивая болезнь. Писать еще лишь только начинаю, а критиковал уже многих. Но я, заговорясь, удалился от своей цели. Говорить и заговариваться, переходя из материи в материю, есть одна из моих слабостей. Читатель! тебе надобно к этому привыкать: в продолжение 1 Может быть, скажут мне, что я и сам годен в число сих грешников; не поспорю, но скажу в ответ, что я на свои слабости так же смотрю, как и на чужие (примеч. Н. И. Новикова). 68 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века моего издания нередко это случаться будет. Ну, г. читатель! теперь я стал автор; может быть, захочешь ты прежде всего узнать мое имя; однако ж не жди, чтобы я тебя об оном уведомил. Сколько хочешь, сам думай, отгадывай, разведывай и трудись, мне до того нужды нет. Многие из вас столько жадны к новостям, сколько подьячие ко взяткам, щеголи и щеголихи к новым модам и кокетки к волокитству, и столько легковерны, как ослепленные любовники. Вы часто о сочинениях судите по сочинителям, а некоторые из вас и не читавши, но по одному только слуху делают неправильные заключения; итак, польза моя требует, чтобы я имя свое утаил. Не знавши оного, как скоро прочтешь ты десять строк моего сочинения, то наверное заключишь, что я писатель не третьей статьи; может быть, подумаешь, что я человек знатный, следовательно, критиковать не осмелишься; ты подумаешь, может быть, что я – но нет, этого не скажу, а оставлю на твою догадку. Если ж бы узнал мое имя, то, может быть, и переменил бы свое намерение и, вместо почтения, начал бы меня уничтожать. Сносно ли это автору? автору новому, да и такому, который предприял прославиться во всех концах пространной России? Со временем будут удивляться моим сочинениям, станут их превозносить похвалами, будут покупать с превеликою жадностию и за дорогую цену; скажут: это преславное сочинение, которого автор нам неизвестен, заслужи... Потише, потише, г. автор, умерь свой восторг, помолчи и оставь это на догадку читателей. Не уподобляйся без нужды тем несносным самохвалам, которые выпрашивают, или лучше сказать, отягощая слушателей чтением своих сочинений, похвалу из них вымучивают и после проповедают, что они до небес оными превознесены были. Пускай завистники из всей силы кричать будут, что твое сочинение вздор. Ты этому не верь; пусть бедные писатели со слезами просят, чтобы их из милосердия не критиковали, и пусть испрашивают они у читателей благосклонного принятия трудов своих: тебя не такая ожидает участь, и для того поступай с читателями отменно. Прими на себя важный вид, подобный тем авторам, которые, не больше десяти строк написав, отнимают первенство у всех прежде их прославившихся творцов. С первой строки приведи читателей своих в удивление и, не дав им опомниться, пользуйся их смятением, повелевай ими по своему желанию, приказывай им бегать вослед за парящим твоим разумом: пусть будут они гоняться по всем местам за 69 Хрестоматия по истории русской литературной критики летучими твоими мыслями. Если ж ты сам начнешь уставать, то поймай Пегаса и, седши на него, разъезжай по своему желанию; мучь его, сколько угодно, он будет тебе покорен. Но ежели, паче чаяния, он попротивится и тебя не пустит сесть, то... но этому быть не можно. Когда все несмысленные рифмотворцы сего бедняка мучат, то как он осмелится противиться тебе? тебе, который предприял овладеть всем Парнасом? Забудь, что не умеешь ты ни одного соплесть стишка; что нужды, что не знаешь ты правил стихотворства? Пиши прозу и научись только прибирать рифмы, ты и тем себя прославить можешь. Многие в стихотворстве не больше твоего знания имеют, но со всем тем пишут трагедии, оды, элегии, поэмы и все, что им вздумается; короче сказать, если тебе Пегас попротивится, то поймай его за гриву, оборви крылья, сядь насильно и поезжай прямо на Парнас, сделайся властителем оного, перемени все по своему желанию и определи новые всем должности. Аполлона за худое правление накажи, определи его парнасским комиссаром у приему всех сочинений новых твоих стихотворцев; наказание велико, но он того достоин. Сам сядь на его место, возьми лиру и греми по своему желанию; что нужды, складно или нет, лишь только не жалей своих рук, греми громче, удивляться, конечно, будут. Муз распоряди другим порядком. Плаксивую Мельпомену одень в платье из трагических листов, в одну руку дай ей чернилицу с пером, вместо кинжала, а другою прикажи чаще размахиваться, бить себя по лицу и беспрестанно кричать: Ах! увы! погибло все! Вместо венца на голову прикажи комиссару своему написать ей эпитафию. Сим способом будет она смешить, а не плакать заставлять. Талию... О! эту насмешницу надобно хорошенько помучить, до сего времени она всех осмеивала; но ты сделай так, чтобы все, на нее глядя, смеялись. Платье сшей ей гаерское, в руку вместо маски дай ей вызолоченный пузырь с горохом и заставь читать Л** комедии, которых она терпеть не может и которые ее, конечно, измучат. Обезьяну ее не позабудь поставить к ней поближе, и чтобы она сколько возможно больше коверкалась и тем смешила народ. Вот самое лучшее средство комедию превратить в игрище! Каллиопу сделай приворотником; украшения все с нее оборви, она их ныне не достойна; эпические стихи вырви из рук ее и брось; вместо трубы дай ей рожок и прикажи наигрывать повести о троянских витязях. Если ж захочешь ты отвратить посещения, которые тебе, 70 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века как новому воеводе, непременно прочими богами сделаются, то прикажи ей читать одну из новых пиес, она, конечно, всех гостей рыганием своим отгонит: ибо с некоторого времени Каллиопа стала весьма обжорлива. Клио пусть ходит по гостиному двору, рассказывает купцам разные истории и тем себя кормит. Эрату хотя бы и надлежало совсем отставить, но чтобы не сделать ей беспричинной обиды, то оставь ее для приманки, пусть новые твои стихотворцы будут за нею волочиться и станут писать элегии... О! они так ее взбесят, что она, конечно, сама попросится в отставку. Уранию совсем отставь и вели питаться мирским подаянием. Эвтерпа и Терпсихора, обе девки добрые, правда, что одна очень задумчива, но другая, напротив того, всегда весела. Оставь их обеих для себя; только до того времени без жалованья, пока не выучатся, первая играть на волынке, а другая плясать вприсядку. Полиминию пожалуй в копиисты и прикажи переписывать набело все свои сочинения. Славных авторов сделай разносчиками, прикажи им по всем местам продавать свои сочинения и выхваливать их сколько возможно больше; им к этому уже не привыкать. Слепого Гомера из жалости сделай хоть вахмистром при Парнасской канцелярии: этот бедный старик в разносчики не годится. Виргилию, наклавши полный мешок нелепых изречений, прикажи ходить по рынку и продавать их невольною ценою. Пегаса назови щепетильником и прикажи продавать по деревням билетцы, эпиграммы, загадки, эпитафии, песенки и прочие мелочные стихотвореньицы. Ну, г. автор! теперь ты весь Парнас оборотил вверх дном: осталось только одно славное дело сделать. Все правила стихотворства и грамматики уничтожь: это только пустое затруднение. Позволь писать всякому, кто как хочет и что взбредет на ум; ты увидишь, что у тебя стихотворцев будет во сто тысяч раз больше, как у старого Аполлона; комиссара твоего взбесят, завалят сочинениями и сделают тебе новый Геликон: лишь не накладывай на вранье пошлины. Впрочем, не худо будет, ежели ты Ипокренскую воду превратишь в чернила, новым твоим рифмотворцам великое тем сделаешь облегчение. Наконец... да где ж мой читатель и что он делает? А! он не посмел за мною следовать и, оставшись в Петербурге, заснул. Подожди, я тотчас тебя разбужу. Читатель!.. Но, увы! Я и сам проснулся и сделался из Аполлона простым писцом: такое превращение несносно! А причиною сему 71 Хрестоматия по истории русской литературной критики ты, читатель; ты помешал мне наслаждаться приятною мечтою. Скажешь, что все это вздор! согласен; но мало ли подобных сему вздоров ты хвалил? так поступи, пожалуй, и с моим так же. Желать того, чего не можно получить, и возвышаться выше своей сферы есть слабость общая всех человеков. Все люди бредят, но бредят только во сне, а молодые писцы имеют дар бредить и въяве. Теперь узнал ты, читатель, каково иметь дело с молодым писателем и его восторгом. Я начал писать предисловие, в котором должен был уведомить о том, что буду сообщать в моем издании, но, заговорясь, о том совсем позабыл; я бы должен был ошибку мою исправить и хотя теперь о том тебя уведомить, но боюсь обещать море, чтобы после не вылилась лужа; итак, всего лучше о том не сказывать. Если захочешь читать мое издание, так читай, пожалуй, то, что будет написано; если ж тебе не понравится, так не читай: в моей власти состоит писать, а в твоей читать или нет. Ты поступай в том по своему благорассуждению, а меня оставь следовать моему: кажется, что сим средством можно прожить нам бессорно. Опыт исторического словаря о российских писателях Из разных печатных и рукописных книг, сообщенных известий и словесных преданий собрал Николай Новиков Предисловие Не тщеславие получить название сочинителя, но желание оказать услугу моему отечеству к сочинению сей книги меня побудило. Польза, от таковых книг происходящая, всякому просвещенному читателю известна; не может также быть неведомо и то, что все европейские народы прилагали старание о сохранении памяти своих писателей: а без того погибли бы имена всех в писаниях прославившихся мужей. Одна Россия по сие время не имела такой книги, и, может быть, сие самое было погибелию многих наших писателей, о которых никакого ныне не имеем мы сведения. Ныне наступило то время, в которое неусыпным попечением премудрой нашей императрицы исправляются погрешности предков наших. Под бла72 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века гополучным владением Екатерины Великой Россия вступила на такой степень величества, что все иностранные народы счастию ее завиствуют и удивляются. Невольница татарская приводит в трепет Мустафу и Магомеда; погруженная прежде в невежество Россия о преимуществе в науках спорит с народами, целые веки учением прославлявшимися; науки и художества в ней распространяются, а писатели наши прославляются. Свидетельствуют сие многие подлинные наши на иностранные языки переведенные книги. Всякие известия, до российской истории касающиеся, иностранными народами принимаются со удовольствием. Между прочими в 1766 году некто российский путешественник сообщил в лейпцигский журнал известие о некоторых российских писателях, которое во оном журнале на немецком языке напечатано и принято с великим удовольствием. Но сие известие весьма кратко, а притом инде не весьма справедливо, а в других местах пристрастно написано. Сие самое было мне главным поощрением к составлению сей книги; но сколь сие трудно, благоразумный читатель и без моего о том объяснения рассудить может; исключая то, что первые следы во всяком деле пролагать трудно, должен я был большую часть наших писателей собирать по словесным только преданиям. Не в порицание неизвестному писателю, сообщившему в лейпцигский журнал описание наших авторов, упомянул я здесь о его известии и не в похвалу себе; но только для того, чтобы показать, сколь трудно в первый раз издавать такого рода сочинения. Мой словарь имеет свои погрешности и, может быть, столько же еще не достигает до достоинства своего имени, как и то известие, о котором я упомянул. Есть и такие в книге моей погрешности и недостатки, которые и сам я усматривал; но они остались неисправленными потому, что я не мог никак достовернейшего получить известия. И сие-то принудило меня в заглавии сей книги написать «Опыт исторического словаря о российских писателях». Я старался собирать имена всех наших писателей; но при отпечатании моей книги получил я еще о многих известие; а сие самое подает надежду, что и еще многие откроются. В таком случае остается мне просить вспомоществования в моем труде от моих читателей. Всякий любитель словесных наук, имеющий сведение о ком-либо из наших писателей, в сию книгу не внесенных, или в поправление изданного написав, может сообщить в письме к сочинителю сей книги, которое принято будет 73 Хрестоматия по истории русской литературной критики с благодарностию и со удовольствием поместится в продолжение сего «Словаря». Я не исключаю из сего и критик, на благоразумии и справедливости основанных: они тем приятнее для меня будут, чем более способствовать станут к приведению в совершенство сей книги. Если кто соблаговолит прислать такие письма из живущих в здешнем городе, те могут оные сообщить к переплетчику, у которого книга сия продаваться будет; а из других городов могут подписывать на имя сочинителя и посылать на почте, а мое старание будет получать оные с почтового двора. Чем более будет сообщено ко мне таких известий, тем больше удостоверюся я, что труд мой от просвещенного общества заслуживает внимание. Опыт исторического словаря <•••> Б а р к о в Иван (1732–1768) – был переводчиком при императорской Академии наук; умер 1768 года в Санктпетербурге. Сей был человек острый и отважный, искусный совершенно в латинском и российском языке и несколько в итальянском. Он перевел в стихи Горациевы сатиры, Федровы басни с латинского, драму «Мир героев» и другие некоторые с итальянского, кои все напечатаны в Санктпетербурге в разных годах, а сатиры с критическими его на оные примечаниями; также писал много сатирических сочинений, переворотов и множество целых и мелких стихотворений в честь Вакха и Афродиты, к чему веселый его нрав и беспечность много способствовали. Все сии стихотворения не напечатаны, но у многих хранятся рукописными. Он сочинил также «Краткую российскую историю», от Рюрика до времен Петра Великого, но она не напечатана; также сочинил он описание жизни князя Антиоха Кантемира и на сатиры его примечания. Вообще слог его чист и приятен, а стихотворное и прозаические сатирические сочинения весьма много похваляются за остроту. <•••> К а н т е м и р , князь, Антиох (1709–1744) – родился во Цареграде 10 сентября 1709 года от князя Димитрия Кантемира и Смарагды Кантакузены, дочери князя воложского, происшедшего от древних греческих императоров сего имени. В 1711 году, по заключении с турками мира, следовал он при отце своем за Петром Великим в Россию, и по прибытии пожалованы были князьями Российской империи. В 1722 году был он при отце своем в походе к Дербенту, и во все сие время младый Кантемир упражнялся в 74 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века науках и в познания христианского закона. Смерть отца его хотя причинила ему печаль, но не истребила склонности к наукам. В 1724 году в новоучрежденной Петром Великим Санктпетербургской Академии наук выслушал порядочный курс вышних наук, в коих оказал чрезвычайные успехи. Мафиматике учился он у славного Борнулия, физике у Бильфингера, истории у Бейера, нравоучительной философии у Гросса, а стихотворству у Ильинского. С равными учениями соединял он и чтение священного писания; ведая же, что в России всякий дворянин должен вступить в военную или в штатскую службу, чего ради и записался он лейб-гвардии в Преображенский полк и дослужился тут до обер-офицера. В 1731 году императрица Анна Иоанновна назначила его министром к великобританскому двору, куда он и отправился генваря 1 дня 1732 года чрез Немецкую землю и Голландию; и, сколько время ему дозволяло, ничего на пути не упустил, что могло только достойно быть столь наблюдательного ока. В Голландии запасся он хорошими книгами; и в то же тремя поручил он книгопродавцу в Гааге издать в печать «Описание Оттоманской империи», сочиненное отцом его. Слава о ученом человеке еще прежде его прибытия в Лондоне распространилась, а по приезде его в тот город скоро узнали все, что он и великий политик. Начало его негоциации было весьма благополучно, потому что он в краткое время привел дела в такое состояние, как оба двора того желали. Время, остававшееся ему от министерских дел, употреблял на просвещение своего разума. В 1738 году назначен он был во Францию в характере полномочного министра и пожалован камергером; а в конце декабря месяца того ж года определен чрезвычайным послом при французском дворе. Дела, происходившие по кончине императрицы Анны Иоанновны, привели князя Кантемира, как министра, отдаленного от своего двора, в некоторое затруднение; однако при всех бывших тогда переменах оказал он себя столь искусным политиком и поступал столь благоразумно, что в равной милости содержан был у императрицы Анны Иоанновны, у принцессы правительницы и у императрицы Елисавет Петровны; все оказывали к нему равные знаки своего благоволения. Первая пожаловала его камергером, с жалованьем не во образец прочим; вторая тайным советником, в котором достоинстве последняя его подтвердила, обещая впредь вящие награждения. 75 Хрестоматия по истории русской литературной критики В Париже первое его старание было познакомиться с учеными людьми. Цветущие лета, коим бы надлежало быть склонным к тамошним забавам, препроводил он по большей части как философ. Слыша рассуждения его о политических делах, науках и художествах, не можно было не удостовериться о превосходности его знаний и об основательности его разума. Он был строгий наблюдатель христианского закона и для сего читал наилучшие книги, касающиеся до веры и благочестия, признавая, что философия влечет человека к добродетели только словами, а христианский закон самым делом путь к ней отверзает. С 1740 года почувствовал он внутреннюю болезнь, которая от часу умножалась; и хотя он в пище весьма был воздержан, однако желудок его ничего уже варить не мог. В 1741 году ездил он к Акенским целительным водам; в 1743 году поехал было к Пломбиерским водам; но, будучи не в состоянии оными пользоваться, возвратился в Париж гораздо в худшем состоянии. Потом при умножавшейся болезни искал он помощи у разных докторов, но получил очень мало. По совету их хотел он ехать в Италию для перемены воздуха, почему и просил от российского двора позволения; но как в пересылках просьбы и позволения прошло несколько недель, то князь Антиох не был уже в состоянии отправиться в путь по причине слабого здоровья и худой погоды. Болезнь Кантемирова продолжалася близ полугода; бывшую у него бессонницу прогонял он чтением книг; а когда представляли ему, что сие упражнение вредно его здоровью, то он ответствовал, что тогда только не чувствует болезни, когда в трудах находится. Охоту к чтению потерял он за три или за четыре дни до кончины своей; и сие самое совершенно удостоверило его о наступившей крайней опасности его жизни. Последние дни его жизни употреблены были им на отправление христианской последней должности. Он сочинил духовную, в которой приказал, чтобы тело его по вскрытии было бальзамировано и отвезено в Россию для погребения в том же монастыре, где положен и отец его. Он в совершенном был разуме до последнего издыхания, исправя последние должности христианские, и, призовя имя божие, скончался 11 числа апреля 1744 года, будучи 34 лет и 7 месяцев от рождения. 76 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века По вскрытии тела его усмотрено, что в груди у него была водяная болезнь. Россия сожалела о нем как о ревностном распространителе учреждений Петра Великого; двор сожалел о разумном и просвещенном министре; ученые оплакивали в нем знаменитого своего согражданина; а все честные люди соболезновали как о достойном приятеле. Князь Антиох сверх других природных дарований имел столь острый и просвещенный разум, что прозорливым своим рассуждением предусматривал успех почти всякого предприятия, как скоро только план его узнавал; а конец по большей части и соответствовал его догадкам. В отправлении политических дел поступал он праводушно и искренно, почитая лукавство за недостойное своего разума, и всегда до намерения своего достигал прямою дорогою, не оставляя, однако, потребного в случае благоразумия. С первого взгляда казался он неприветлив; но сие нечувствительно исчезало, чем боле находил он таких людей, которых обхождение ему приятно было. Меланхолического его нрава были причиною долговременные его болезни; однако он не только что веселился с приятелями своими, но и за удовольствие почитал оказывать им действительные услуги. Часто говаривал он, что нет ничего приятнее, как употреблять знатность и силу свою на благотворение своему ближнему. Разговоры свои, в коих находилось больше основательности, нежели живости, умел он прикрашивать приятными шутками. Приятное его обхождение способствовало к наставлению других, но без всякого тщеславия и гордости. Политика его была непринужденная и утверждалась на здравом рассуждении, а противную сему политику он крайне ненавидел. Любил сатиры, но такие, которые производили смех в разумных и добродетельных людях. Был купно и философ и эконом искусный. Он был нежного сложения и хотя непригож лицом, однако имел разумное и любовь к себе привлекающее лицо. Российским, мултянским, латинским, итальянским, французским и нынешним греческим языками говорил он весьма изрядно; а притом разумел эллинский, гишпанскнй и аглинский языки. В стихотворстве упражнялся он хотя с самых молодых лет до своей кончины, но почитал оное упражнение не инако, как забавою. В прочем стихи его были среднего российского стихотворства; но из всех того времени стихотворцев были наилучшие. Из многих его 77 Хрестоматия по истории русской литературной критики сочинений на российском языке первое «Симфония на псалмы». Собрание его стихотворств, содержащее в себе сатиры, басни, оды, песни, письма и эпиграммы, приписанное императрице Елисавет Петровне, напечатано в Санктпетербурге 1762 года под именем «Кантемировых сатир»; «Петреиду», героическую поэму, оставил недоконченную; сочинил «Руководство к алгебре». Есть также письменные его сочинения о просодии, любовные песни и прочие стихотворения, писанные им в молодых еще летах. Переводы его с иностранных языков следующие: Фонтенеллевы «Разговоры о множестве миров» с примечаниями, напечатанные в Санктпетербурге 1740 года; Юстинова история, Горациевы письма, Анакреонтовы оды, преложенные российскими стихами без рифм; Корнелий Непот, Кевитова таблица, «Письма персидские», Епиктитово нравоучение и «Разговоры о свете» г. Алгаротти. Сверх сего неизданные в свет, но несравненного достойнейшие почтения его сочинения политические, то есть министерские реляции и рассуждения, касающиеся до дел и прибытков знатнейших дворов в Европе. Вообще сочинения его весьма много похваляются. Феофан Прокопович, разумный и острый муж того времени, в похвалу его написал стихи, также и Феофил Кролик. Похвала их тем важнее, что она беспристрастна; а притом первая и от великого еще произошла человека; и тем паче, что в сатирах его, коим Феофан писал похвалу, осмеиваются по достоинству и духовные особы. <•••> Л о м о н о с о в Михайло Васильевич (1711–1765) – статский советник, императорской Санктпетербургской Академии наук профессор, Стокгольмской и Бононской член. Родился в Колмогорах в 1711 году от промышленника рыбных ловлей. Юные лета препроводил с отцом своим, ездя на рыбные промыслы; но, будучи обучен российской грамоте и писать, прилежал он более всегда по врожденной склонности к чтению книг. И как по случаю попалася ему псалтир, преложенная в стихи Симеоном Полоцким, то, читав оную многократно, так пристрастился к стихам, что получил желание обучаться стихотворству. Почему стал он наведываться, где можно обучиться сему искусству; услышав же, что в Москве есть такое училище, где преподаются правила сей науки, взял непременное намерение уйти от своего отца. К сему его побуждало и упорное желание его родителя, дабы женить его по неволе. Вскоре потом 78 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века исполнил он свое намерение: оставил дом родительский, пришел в Москву и вступил в Заиконоспасское училище, в котором с великим прилежанием обучался латинскому и греческому языкам, риторике и стихотворству. В 1734 году взят он был из оного училища в императорскую Академию наук и отправлен в 1736 году студентом в Германию. По приезде в Марбург, что в Гессенской земле, поручен он был с товарищами своими Райзером и Виноградовым наставлениям славного барона Вольфа. В Марбурге пробыл он четыре года, упражняясь в химии и в принадлежащих к ней науках. Потом поехал в Саксонию и там под смотрением славного химика Генкеля осмотрел все горные и рудокопные работы, в горном округе производимые. Наконец возвратился он в Санктпетербург в 1741 году студентом же. Около сего времени оказал он первые опыты столь гремевшего не только в России, но и в чужестранных областях лирического стихотворства, сочинив торжественную оду и несколько потом других. Между тем более всего прилежал к химии и к прочим ее частям и столько во оной успел, что от императорской Академии наук поручено ему было находящийся при Кунсткамере минеральный кабинет привести в порядок. Г. Ломоносов исполнил порученное ему дело с таким искусством, прилежанием и исправностию, что Академия, уважая его знание и труды, произвела его адъюнктом в 1742 году. По произведении его продолжал упражняться он в химии; а в 1745 году, по указу из правительствующего сената, основанному на свидетельствах всех членов Академии наук, произведен он был профессором химии. В 1751 году г. Ломоносов пожалован был коллежским советником. В 1752 году по данной ему привилегии учредил он бисерную фабрику и начал упражняться в мозаике; и как в России первый был он изобретатель мозаического искусства, то и поручено ему было трудиться в составлении большой мозаической картины, представляющей знаменитейшие дела Петра Великого. Г. Ломоносов окончал сей труд российскими материалами и мастерами, без всякой помощи от иностранных. К составлению сей картины изобрел он все составы и разные махины и оную сделал такой величины, какой мозаической картины по сие время в целом свете еще не бывало. 79 Хрестоматия по истории русской литературной критики В 1751 году февраля 13 дня определен он был членом в академическую канцелярию; а в 1760 году февраля 14 дня поручены в полное его смотрение академическая гимназия и университет. 1764 года в декабре месяце г. Ломоносов пожалован был статским советником, в котором чину и пробыл он до кончины своей, воспоследовавшей 1765 года апреля в 4 день, к великому сожалению всех любителей словесных наук. Тело его с богатою церемониею погребено в Александроневском монастыре императорским иждивением, а на гробе его поставлен мраморный столп иждивением покойного канцлера графа Михаила Ларионовича Воронцова со следующими российскою и латинскою надписями: НАДПИСИ В ПАМЯТЬ СЛАВНОМУ МУЖУ МИХАИЛУ ЛОМОНОСОВУ, РОДИВШЕМУСЯ В КОЛМОГОРАХ В 1711 ГОДУ, БЫВШЕМУ СТАТСКОМУ СОВЕТНИКУ, ИМПЕРАТОРСКОЙ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПРОФЕССОРУ, СТОКГОЛЬМСКОЙ И БОНОНСКОЙ ЧЛЕНУ, РАЗУМОМ И НАУКАМИ ПРЕВОСХОДНОМУ, ЗНАТНЫМ УКРАШЕНИЕМ ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИВШЕМУ, КРАСНОРЕЧИЯ, СТИХОТВОРСТВА И ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ УЧИТЕЛЮ. МУССИИ ПЕРВОМУ В РОССИИ БЕЗ РУКОВОДСТВ ИЗОБРЕТАТЕЛЮ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЮ СМЕРТИЮ ОТ МУЗ И ОТЕЧЕСТВА НА ДНЯХ СВЯТОЙ ПАСХИ 1765 ГОДА ПОХИЩЕННОМУ, ВОЗДВИГ СИЮ ГРОБНИЦУ ГРАФ МИХАЙЛО ВОРОНЦОВ, СЛАВЯ ОТЕЧЕСТВО С ТАКОВЫМ ГРАЖДАНИНОМ И ГОРЕСТНО СОБОЛЕЗНУЯ О ЕГО КОНЧИНЕ. *** 80 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века Сей муж был великого разума, высокого духа и глубокого учения. Сколь отменна была его охота к наукам и ко всем человечеству полезным знаниям, столь мужественно и вступил он в путь к достижению желаемого им предмета. Стремление преодолевать все случавшиеся ему в том препятствия награждено было благополучным успехом. Бодрость и твердость его духа оказывались во всех его предприятиях; начав учиться иностранным языкам в таких уже летах, в коих многие за невозможность почитают в них упражняться, достиг он до великого совершенства. На немецком языке писал и говорил как почти на своем природном; латинский знал очень хорошо и писал на нем; французский и греческий разумел не худо; а в знании российского языка, яко его природного и им много вычищенного и обогащенного, почитался он в свое время в числе первых. Слог его был великолепен, чист, тверд, громок и приятен. Предприимчивость сколь часто бывает в других пороком, столь многократно ему приобретала похвалу. Он упражнялся во всех философических и словесных науках, в химии, с ее разными частями; а особливо прилежал к фисике экспериментальной, которую и перевел на российский язык; в механике и в истории нашего отечества. Стихотворство и красноречие с превосходными познаниями правил и красоты российского языка столь великую принесли ему похвалу не только в России, но и в иностранных областях, что он почитается в числе наилучших лириков и ораторов. Его похвальные оды, надписи, поэма «Петр Великий» и похвальные слова принесли ему бессмертную славу. Нрав имел он веселый, говорил коротко и остроумно и любил в разговорах употреблять острые шутки; к отечеству и друзьям своим был верен, покровительствовал упражняющихся во словесных науках и ободрял их; во обхождении был по большей части ласков, к искателям его милости щедр, но при всем том был горяч и вспыльчив. Сочинения его следующие: две части разных стихотворений, содержат в себе духовные и похвальные оды, надписи, две песни героической поэмы «Петр Великий», похвальные слова и другие стихотворения; «Российская грамматика», «Риторика», «Краткий российский летописец», первая книга «Древней российской истории», краткое понятие о фисике, «Металлургия», две трагедии, «Тамира и Селим» и «Демофонт», и ученые рассуждения о разных материях. Я не могу распространиться в похвале сему великому писателю; а довольно будет, когда сообщу из эпистол г. Сумарокова следующие стихи: 81 Хрестоматия по истории русской литературной критики Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси: Он наших стран Малгерб, он Пиндару подобен... И также стихи г. Поповского к его портрету: Московский здесь Парнас изобразил витию, Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию. Что в Риме Цицерон и что Виргилий был, То он один в своем понятии вместил. Открыл натуры храм богатым словом россов; Пример их остроты в науках Ломоносов. Из сочинений его переведены на иностранные языки следующие: «Грамматика» и «Российская история» на немецкий; «Утреннее...» и «Вечернее размышления о величестве Божием» на французский; похвальное слово Петру Великому перевел он сам на латинский язык. Г. Ломоносов имел переписку со многими учеными людьми в Европе. Библиотека его и манускрипты по смерти его куплены его сиятельством графом Григорьем Григорьевичем Орловым. П е т р о в Василий (1736–1799) – титулярный советник и при кабинете ее императорского величества переводчик, много писал стихов, из которых «Ода на карусель», поэма «На победы российского воинства», оды «На победы российского флота при Хиосе в Морее» и «На прибытие его сиятельства графа Алексея Григорьевича Орлова», также письмо к г. генерал-майору и кавалеру Потемкину, так, как и другие его оды, эпистолы, надписи и случайные стихи, некоторыми много похваляются и напечатаны в разных годах в Санктпетербурге. Он перевел с латинского на российский язык Виргилиевой «Енеиды» первую песнь, которая также напечатана. Вообще о сочинениях его сказать можно, что он напрягается идти по следам российского лирика; и хотя некоторые и называют уже его вторым Ломоносовым, но для сего сравнения надлежит ожидать важного какого-нибудь сочинения и после того заключительно сказать, будет ли он второй Ломоносов или останется только Петровым и будет иметь честь слыть подражателем Ломоносова. <•••> С у м а р о к о в Александр Петрович (1718–1777) – действительный статский советник, ордена святыя Анны кавалер и Лейпцигского ученого собрания свободных наук член. Различных родов 82 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века стихотворными и прозаическими сочинениями приобрел он себе великую и бессмертную славу не только от россиян, но и от чужестранных академий и славнейших европейских писателей. И хотя первый он из россиян начал писать трагедии по всем правилам театрального искусства, но столько успел во оных, что заслужил название северного Расина. Его эклоги равняются знающими людьми с Виргилиевыми и поднесь еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищем российского Парнаса; и в сем роде стихотворения далеко превосходит он Федра и де ла Фонтена, славнейших в сем роде. Впрочем, все его сочинения любителями российского стихотворства весьма много почитаются, из коих стихотворные следующие: трагедии «Хорев», «Синав и Трувор», «Гамлет», «Артистона», «Семира», «Ярополк и Димиза», «Вышеслав» и «Димитрий-самозванец»; драма «Пустынник»; оперы «Алцеста», «Цефал и Прокрис»; прологи «Прибежище добродетели» и «Новые лавры»; три книги «Притчей»; великая книга разных стихотворений, содержащая в себе духовные и торжественные оды, эклоги и элегии и другие мелкие стихотворения; прозаические: комедии «Ссора у мужа с женою», «Тресотиниус», «Третейный суд», «Приданое обманом», «Опекун», «Лихоимец», «Три брата совместники», «Ядовитый», «Нариис»; драма «Грешник»; описание стрелецкого бунта. «Трудолюбивая пчела», ежемесячное 1759 года сочинение, издано им и большею частию наполнено его стихотворными и прозаическими сочинениями; также писал он много разных стихотворений, напечатанных в других ежемесячных сочинениях. Т р е д и я к о в с к и й Василий Кириллович (1703–1769) – родился 22 февраля 1703 года и, с самых юных лет возымев превеликую склонность к наукам, путешествовал для просвещения своего разума в чужие земли на своем иждивении; и был во Франции, Англии и Голландии, обучался в Парижском университете порядочно разным наукам; и между прочим красноречию и истории учился у славного Роллена. В 1730 году, по возвращении в Санктпетербург, определен был в императорскую Академию наук студентом; в 1733 году Академии наук секретарем, а в 1745 году по именному указу пожалован профессором красноречия. Сию почесть и достоинство имел он первый из россиян. В 1763 году по прошению его уволен от службы и награжден чином надворного советника, в котором и пробыл до кончины своей, воспоследовав83 Хрестоматия по истории русской литературной критики шей 6 августа 1769 года. Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия; весьма знающ в латинском, греческом, французском, итальянском и в своем природном языке; также в философии, богословии, красноречии и в других науках. Полезными своими трудами приобрел себе бессмертную славу и первый в России сочинил правилы нового российского стихосложения, много сочинил книг, а перевел и того больше, да и столь много, что кажется невозможным, чтобы одного человека достало к тому столько сил; ибо одну древнюю Ролленову историю перевел он два раза, потому что первого перевода тринадцать томов и еще многие другие книги в бывший в его доме пожар совсем сгорели. Приложенная роспись всем его сочинениям и переводам послужит сему в доказательство. Но он не только что исправлял рачительно все по его чину должности, но и сверх того трудился в историческом собрании три года; отправлял многократно должность секретаря, будучи уже профессором, и в то же время читал лекции в Академическом университете и отправлял должность унтербиблиотекаря. Притом не обинуясь к его чести сказать можно, что он первый открыл в России путь к словесным наукам, а паче к стихотворству, причем был первый профессор, первый стихотворец и первый положивший толико труда и прилежания в переводе на российский язык преполезных книг. <•••> Ф о н В и з и н Д е н и с Иванович (1745–1792) – надворный советник при государственной коллегии иностранных дел. Сей человек молодой, острый, довольно искусный во словесных науках, также в российском, французском, немецком и латинском языках. Он перевел в стихи Вольтерову трагедию «Алзиру»; преложил по свойству наших нравов Грессетово сочинение «Сидней» стихами ж и написал много острых и весьма хороших стихотворений. Его «Послание к людям своим Шумилову, Ваньке и Петрушке», а другое «Матюшка-разносчик» свидетельствуют остроту его разума и тонкость в сатирах. Поэму «Иосиф» перевел прозою на российский язык с совершенным искусством. В переводе сем держался он важности славенского и чистоты российского языка. Его проза чиста, приятна и текуща, так, как и его стихи. Он сочинил комедию «Бригадир и Бригадирша», в которой острые слова и замысловатые шутки рассыпаны на каждой странице. Сочинена она точно в наших нравах, характеры выдержаны очень хорошо, а завязка самая 84 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века простая и естественная. Наконец, он сочинил слово на выздоровление его императорского высочества, которое за чистоту слога, важность и изображение мыслей весьма похваляется. В заключение о нем сказать должно, что Россия надеется увидеть в нем хорошего писателя. Он перевел также и много других книг, как то: «Жизнь Сифа», «Кариту и Полидора», «Сиднея и Силли» и другие некоторые. <О критическом рассмотрении издаваемых книг > Общество наше, из нескольких человек состоящее, предприяло издавать на сей год периодические листы под заглавием «Санктпетербургских ученых ведомостей». Сочинений такового рода много вышло во свет на разных европейских языках, но на нашем по сие время не было еще ни единого. Ученый свет давно ожидает сей дани от нашего отечества: распространение наук в России и успехи в оных единоземцев наших во всех ученых европейских мужах ежедневно умножают любопытство к достоверному узнанию оных. Правда, что к заплате сей дани требовалося бы перо гораздо искуснейшее нашего, но усердие к пользе и славе отечества заменит нам сей недостаток предварением других в издании «Ученых ведомостей» и доставит честь первенства, на снискание коей не все охотно отваживаются; ибо должно до нее достигать по непротоптанным и многотрудным стезям. Сочинения сего рода обыкновенно почти вмещают в себя уведомление о напечатанных книгах во всей Европе, с присовокуплением критических оным рассмотрений; вносятся также в оные земные и морские чертежи, эстампы и проч.; известия о делах ученых и об успехах их в науках также занимают здесь место: короче сказать, все, что ни происходит в ученом свете, то все обретает место в сих сочинениях. Подражая сему примеру, мы точно тот же будем наблюдать порядок в наших «Санктпетербургских ученых ведомостях», но с такою притом на первый случай ограниченностию, что все сие будет касаться до нашего токмо отечества. Сверх сего мы будем иногда вносить в наши «Ведомости» мелкие стихотворения, которые более согласны будут с нашим намерением. Да и пригласили бы мы господ российских стихотворцев к сочинению надписей к личным изображениям российских ученых 85 Хрестоматия по истории русской литературной критики мужей и писателей, если бы не опасались мы их тем отвлечь от важнейших трудов. Но ежели бы захотелось им оказать нам учтивость исполнением нашей просьбы, то предложили бы следующее упражнение: сочинить надписи Феофану Прокоповичу, к<нязю> Антиоху Кантемиру, Николаю Никитичу Поповскому, в науках прославившимся мужам; Антону Павловичу Лосенкову и Евграфу Петровичу Чемезову, в художествах отличным мужам. Сего на первый случай было бы довольно. Мы намерены также вносить в листы наши касающееся до описания жизней российских писателей, которое бы могло служить споможением ко приведению в лучшее совершенство (сочиненного г. Новиковым) «Опыта исторического словаря о российских писателях», напечатанного в Спб. 1772 года. Но как критическое рассмотрение издаваемых книг и прочего есть одно из главнейших намерений при издании сего рода листов и поистине может почитаться душою сего тела, то и испрашиваем мы у просвещенной нашей публики, да позволится нам вольность благодарной критики. Не желание охуждать деяния других нас к сему побуждает, но польза общественная; почему и не уповаем мы сей поступкою нашею огорчить благоразумных писателей, издателей и переводчиков; тем паче, что во критике нашей будет наблюдаема крайняя умеренность и что она с великою строгостию будет хранима во пределах благопристойности и благонравия. Ничто сатирическое, относящееся на лицо, не будет иметь места в «Ведомостях» наших; но единственно будем мы говорить о книгах, не касаясь нимало до писателей оных. Впрочем, критическое наше рассмотрение какой-либо книги не есть своенравное определение участи ее, но объявление только нашего мнения об оной. Сами господа писатели, издатели или переводчики оных могут присылать возражения на наши мнения, которые мы, получив, охотно поместим в наших «Ведомостях», если только в сочинении сем наблюдены будут принятые нами правила благопристойности и если сочинитель оного подпишет к нам свое имя. Могут сие делать и другие, кому не понравится какое-либо наше мнение и кому за благо рассудится оное опровергнуть; но наблюдая скромность и благонравие и подписываясь притом под своим опровержением. Просвещенные и благоискусные читатели легко проникнуть могут, куда склоняется сие наше намерение. 86 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века Мы просим и приглашаем всех ученых мужей и любителей российских письмен быть нашими сотрудниками и со участвовать во предприятии нашем, клонящемся единственно к пользе общественной. Все таковые присланные статьи помещаемы будут в наших «Ведомостях», если также согласны оные будут со принятыми нами правилами. Кто соблаговолит соучаствовать во трудах наших из живущих в Санктпетербурге и в Москве, тех просим сообщать к нам сочинения свои, запечатав и надписав на имя издателей «Санктпетербургских ученых ведомостей», присылать оные в Спб. ко книгопродавцу К. В. Миллеру, живущему в Луговой Миллионной улице, а в Москве в университетскую книжную лавку, ко книгопродавцу Ридигеру; из других же российских городов желающие могут сообщать чрез почту к которому-нибудь из сих двух книгопродавцев. Мы за благо судили быть утаенным именам нашим, а будем ставить под каждою статьею одну букву из имени или прозвания того сочинителя, который ее писал и которую кто избрал себе изо всех письмен, имя и прозвание его составляющих. Любопытные читатели могут отгадывать по сим буквам имена наши сколько им угодно. Сие упражнение оставляем мы охотникам до новостей; себе же избираем благую часть, от нее же никогда не отымемся; сиречь, всеусильно и по крайней нашей возможности стараться станем трудами нашими снискать благоволение всеавгустейшей и премудрой монархини нашей, благосклонность просвещенной публики нашей и одобрение мужей ученых. Н<овиков> И. А. КРЫЛОВ Похвальная речь Ермалафиду, говоренная в собрании молодых писателей Ужасно видеть, милостивые государи, с какою завистию критика всегда вооружалась на дарования. Тысячу бы примеров нашел я в истории о словесности; но как мы обязались благородною клят87 Хрестоматия по истории русской литературной критики вою писать все и не читать ничего, то, не хвастаясь, скажу, что ни одного довода сделать я не в состоянии. Но к чему нам доводы? Мы сами не ясное ли доказательство неблагодарности читателей? Соединенные благородною ревностию просвещать свет, не даем мы отдыха типографщикам, а ослепленная публика на стихи наши жалуется, как египтяне на саранчу, коею небо хотело обратить их на путь истины. Книжные лавки ломятся от нашей прозы и стихов; но когда войдешь и посмотришь на полки, где лежат наши сочинения, то подумаешь, что это зараженные товары, до которых никто не смеет дотронуться, и они остаются в сей неволе, доколе табачники и разносчики не расхватят их по клочкам, а нечувствительная публика смотрит на то равнодушно, оставляя им терзать наши неподражаемые произведения. Плачевное предчувствие! Скоро, я думаю, надобно будет прежде читать, нежели писать; надобно будет думать – слезы навертываются у вас на глазах, милостивые государи! Привыкшим писать, не думавши, такое порабощение словесности, конечно, для нас будет ужасно. И в чем же неумолимые сии критики полагают свободу словесных наук, если думают они, что писатель должен последовать правилам или читать авторов, дабы подражать их красотам? Нет, любезные слушатели: великий ум никогда ничему не следует. Не нужны ему ни правила древних, ни их творения; и он, не справляясь ни с какими книгами, садится за письменный столик, как скоро почувствует только позыв на письмо. Фразу свою кончит тогда, когда надобно перо обмакнуть в чернильницу; период тогда, когда нужно его перечинить; как же скоро пленяется он новым содержанием, тогда, на первом своем сочинении подписав торжественно: конец!– принимается тотчас за другое, которое обрабатывает с такою же благородною вольностию. Таков-то есть почтенный Ермалафид, герой и сотрудник наш, коему дерзаю я соплести венец, достойный похвалы, в досаду злой критике, взирающей с завистию даже и на то, что в сочинениях его завертываются груши. Может быть, удивятся, что, не дождавшись смерти моего героя, говорю я ему похвальную речь, но должно ли дожидаться смерти, чтобы увенчивать дарования? Если бы последовать сему правилу академий, то, судя по здоровью почтенного Ермалафида, может быть, должен бы я был прожить еще двадцать лет, прежде нежели испытать мои слабые дарования на сем драгоценном осел88 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века ке. Нет, любезные слушатели, дарования нашего героя столь блистательны, воспаление мое прославить их столь велико, что я не в силах дожидаться так долго Ермалафидовой смерти и осмеливаюсь нарушить правила академий презирать писателей при жизни и величать их после смерти. Притом же можем ли мы надеяться на долговременность нашего собственного века, и не подвержены ли мы все такой же нечаянной смерти, как наши сочинения? Часто, смотря на увесистое новорожденное творение, по толстоте оного заключаем мы, что славе его не будет износу, а оно на другой же день погребается на полках вместе с старыми календарями. Не можем ли и мы все перемереть так же нечаянно и оставить вершину парнасскую нашим критикам, которые некогда, может быть – плачевное воображение! – будут показывать нас молодым своим писателям, как спартане показывали своим детям пьяных слуг, и тогдашняя публика, вместо того чтобы завидовать тем, кому удалось быть нашими современниками, станет благодарить небо, что она не в наш век вывелась. Предупредим же такое несчастие, любезные слушатели, и если уже нас никто не хвалит, то станем хвалить себя сами; ополчимся противу критиков и назло им, отдав справедливую похвалу неподражаемому Ермалафиду, докажем, что и в нашем обществе есть великие люди. Одного такого, каков герой мой, довольно, чтобы озарить славою все наше почтенное собрание. Откроем глаза предубежденной публике, которая упрямится читать неподражаемые его творения и старается погрузить нашего героя в море забвения, в сие ужасное море для нашего парнасского легиона; и в то же время посмотрим, как бесценный Ермалафид, поддерживаемый своими сочинениями, подобно как пузырями, не страшится погрязнуть; посмотрим, как неумолимая критика занимается тем, чтобы прокалывать сии пузыри, и наконец, с такою неутомимостию надувает он новые, не страшася, что с ними будет равная первым участь. – В сем месте оратор остановился, дабы дать роздых своему воображению и принять справедливые похвалы за прекрасное изобретение моря забвения и за счастливое сравнение Ермалафидовых сочинений с пузырями,– потом продолжал далее. Я не буду распространяться о родословной нашего героя; да и он сам, как истинный автор, знает тверже, кто был отец Гомера или Ромула, нежели от кого он сам родился. Немного есть чего сказать и о его богатствах: не может похвалиться он большим имением, но 89 Хрестоматия по истории русской литературной критики зато воображением столь богат, что часто не на что купить ему чернил, дабы сделать сему драгоценному богатству опись для сведения публики, и столь глубокомыслен, что если спустя десять дней вздумает прочесть свое сочинение, то уже не понимает, что он хотел сказать. «Для чего, – спросил у него некто,– пишешь ты без разбора и не обдумывая все, что придет тебе в голову?» – «Друг мой, – отвечал несравненный наш Ермалафид, – надобно более знать мою природу и потом уже судить о моих сочинениях. Если я одну только неделю не попишу, то чувствую сильный головной лом; самое ничто бухнет в моей голове, как горох, и я необходимо должен как можно скорей выгружать мысли мои на бумагу,– или мою голову так разопрет, что я потеряю равновесие». Кто может из нас, милостивые государи, похвалиться таким изобилием мыслей? Кто, кроме нашего бесценного Ермалафида, так много раз и в столь разных порядках может раскладывать наши тридцать две литеры на бумаге? – Конечно, никто. – Он один только в состоянии с такою легкостию кстати о Гомере напомнить, что дрова дороги, и, хваля Юнговы «Нощи», заметить, что немцы обуваются щеголеватее французов. Он один только может с таким плодословием волочить надежду читателя через триста листов и на последней странице удивить его приятною нечаянностию, подписав: конец!– Сие non plus ultra1 его обширного воображения. Но как, спросят меня, мог он достигнуть до такого богатства? Какими орудиями открыл такое сокровище? Предмет, поистине достойный вашего любопытства и который исследовать ставлю я моею должностью. Если б обратились мы к древности, то бы нашли, может быть, что не герой наш первый изобретатель сего редкого искусства; но судьба, кажется, из зависти прячет от взора смертных лучшие их сокровища. И потому-то произведения пера, подобного Ермалафидову, столь же редки, как календари прошедших веков. И вот причина, заставляющая меня признавать его изобретателем сего способа. Ибо кому мог он подражать, не читая никого, как то скоро увидите вы из шествия его ума, коего пути осмелился я исследовать в сем слове и представить для подражания молодым нашим собратиям, которые, имея великие способности, ожидают только 1 Высшая степень, высшая точка (лат.). 90 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века случая, кому последовать, и, за недостатком резких подлинников, принуждены с великим трудом отыскивать погрешности у Ломоносова и их выкрадывать или занимать их у Сумарокова. Но теперь я намерен для сего указать им неисчерпаемый источник в Ермалафиде и, дабы удовольствовать ваше любопытство, обращаюсь к моему предмету. Едва минуло от роду пятнадцать лет нашему герою, как отдан он на руки учителям и посажен за российскую азбуку. Пламенный дух его недолго оставался при первых затруднениях, и менее нежели через два года зачал он писать азы. В сем-то случае творческий дух его оказал первые свои способности! Ермалафид никому не подражал в почерке; умнейшие из учителей не различали у него аза от мыслетей; казалось, что он, не читав никакого письма в свете, выдумал свою азбуку; учители сперва приписали это тупому его понятию, и вот причина, что редкий ум нашего героя четыре года задержан за российскою азбукою. Наконец приметили они, что он поставил себе правилом никому не следовать и систематически водить каракули. Тогда-то, сделав безошибочное заключение в его великих способностях к словесности, дали они ему в руки грамматику, и менее нежели в месяц не осталось в ней ни листа живого – он просил новой книги. «Разве ты всю грамматику выучил?» – спрашивали у него. «Нет,– отвечал неоцененный герой,– но поверьте, что я и без грамматики могу пощеголять моим слогом». У него потребовали опыта, и в один час – в один только час он написал столь красноречивое письмо, что премудрейшие из учителей его не поняли. Это убедило их, и они представили ему логику. «Что это за наука?» – спрашивал восторжествовавший над грамматикою герой. «Наука мыслить,– отвечали ему,– и важная тайна поместить кстати ergo»1.– «Мне не нужна эта наука, – говорил Ермалафид, – двадцать лет думал я без логики, так неужли достальную половину своего века не возмогу без нее обойтись?» Возражение сильное, коему никто не осмелился противоречить, – настала очередь риторике явиться на суд героя – он развернул ее, прочел строк пятнадцать, зевнул, почувствовал сильную наклонность ко сну и отложил до завтра решение о сей науке. 1 Итак, следовательно (лат.). 91 Хрестоматия по истории русской литературной критики На другой день повел он учителей в свою библиотеку и указал им на полку, заваленную романами,– там наслаждались ненарушимым покоем творения Бредина, покровенные пылью, равнолетною им самим; там почивали мертвым сном томные произведения Антирихардсона; в другом месте глотали пыль герои, произведенные подражателем Руссовым. «Есть ли тут риторика?» – спросил Ермалафид, указывая на все это собрание. – Учители читали все сии романы и согласились единодушно, что в них риторики нет.– Он сделал им тот же вопрос о груде журналов; они их знали и принуждены были по совести сказать, что в них имени красноречия нет; после сего показал он им связку од – и они признались, что здесь большею частью пишутся оды без красноречия. «Когда такое множество людей пишут без риторики,– отвечал он гордо,– то неужели думаете вы, что я всех их глупее и не могу без нее обойтись? Поверьте, что мне не нужна эта наука; и я откровенно скажу вам, что я, и знавши риторику, не написал бы ни на волос лучше того, как писал, и стану писать, не зная ее ни строчки». После сего несравненный Ермалафид с такою же благородною гордостию отвергал все другие науки одну по одной. «Когда я буду читать, то когда ж писать останется мне время? Нет, я намерен учить, а не учиться. Для меня низко узнавать, что другие думали: я хочу лучше, чтоб целый свет, читая меня, старался отгадать, что я думаю. Довольно долго страдала республика ученых, стесненная правилами: я родился их разрушить и для того-то хочу развязать своим примером молодые умы; хочу писать без правил и доказать на самом деле, что словесность есть свободная наука, не имеющая никаких законов, кроме воли и воображения». С такими-то прекрасными правилами герой наш вступил в поприще писателей и, чтобы начать чем-нибудь знаменитым свои подвиги, написал он трагедию. Доныне, милостивые государи, жалко было видеть, с каким бесчеловечием проливалась кровь в трагедиях; жестокие авторы, кажется, только с тем намерением заманивали в партер, чтобы у всякого из них испортить фунта по три крови – но какая приятная новость! Едва появилась трагедия нашего героя на сцену, то казалось, что в партере сидит целый народ строгих стоиков: толико-то глубокое спокойствие царствовало во всем партере. Зрители не были возмущены ни страхом, ни жалостью, ни ненавистью; казалось, 92 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века что герои Ермалафида превыше всех страстей; ни одной не было в них приметно, и если бы глухому показать столь прекрасное зрелище, то бы, конечно, он подумал, что греческие мудрецы с театра преподают партеру курс математики. Не подумайте, однако ж, милостивые государи, чтобы трагедия нашего героя не привлекала внимания! – Напротив того, нередко партер надрывался от смеха, и Ермалафид, бесценный Ермалафид сам смеялся от радости, видя, что трагедия его производит такое прекрасное действие. «Начав трагедию,– говорил он,– я хотел утешить, а не встревожить и не опечалить партер»,– прекрасное правило, коему последовали многие писатели, и с того-то времени, милостивые государи, у нас начали писать столь же шутливые трагедии, как итальянские оперы буффо. Сей успех еще ободрил более нашего героя, и он решился продолжать со славою свои подвиги в письменном свете. Давно уже грозился он прибрать комедию к своим рукам; давно с неудовольствием видел, что гордые комические писатели стараются смешить партер, не заботясь о том, принимает ли их парадиз, – такое пренебрежение его тронуло; ибо он сам часто глядывал комедию из райка и чувствовал, сколь обидно честному человеку слушать два часа, не понимать ни слова и платить деньги только за то, чтобы видеть, как другие смеются. «Партер довольно посмеялся, – сказал он некогда, – теперь хочу я утешить парадиз», – и начал писать. Менее нежели через две недели объявляют новую комедию; зрителей стекается множество, открывают занавес, и – какое приятное удивление! – на сцене появляется целый народ в лаптях, в зипунах и в шапках с заломом – в парадизе раздались радостные восклицания. Сапожники, разносчики, каменщики – все узнавали на сцене своих земляков. Тогда-то всеобщее веселие разлилось по театру; на сцене появились фляжки и ендовы; в парадизе зазвенели рюмки и стаканы. На сцене заплясали – и весь парадиз зачал прищелкивать; казалось, что сцена и парадиз составляют одно семейство. Тогда-то гордый партер в первый раз почувствовал, что он в сей беседе лишний; что он не понимал, в свою очередь, ни слова изо всего, что переговорено в три часа; и что, наконец, в свою очередь, заплатил он деньги за то, чтобы послушать, как хохочет парадиз. Но кто же бы, думали вы, милостивые государи, загнал расчесанный партер в растрепанную крестьянскую шайку слушать нравоучения? – Кому, кроме бесценного нашего Ермала93 Хрестоматия по истории русской литературной критики фида! Он один в состоянии высокое нравоучение подстроить под балалайку, и под его только разумные рассуждения могут плясать мужики на барках. Завидливая критика не умедлила на сие вооружиться; кричали, что расслабляется вкус, истребляется благопристойность, но вся небритая часть была на стороне нашего героя и, утвердя его славу, включила в число знаменитейших дней тот день, в который для бородатых зрителей выставлены на сцену бородатые актеры. Теперь подумаете вы, может быть, что уже он, пленясь сими успехами, посвятил себя одному театру? Совсем нет; великий дух его не чувствовал себя отличнее привязанным ни к какому роду писания. Он хотел писать все и сдержал свое слово. Удивительная способность, милостивые государи! Часто, дописав до половины свое сочинение, он еще не знал, ода или сатира это будет; но всего удивительнее, что и то и другое название было прилично, а может быть, и все его сочинения со временем воздвигнут между академиями войну за споры, к какому роду их причислить. Из сего-то ясно видно, как гнушался великий ум его следовать правилам, предписанным всякому роду писания. Он поставил себя выше всех законов. «Одно только правило свято, – говаривал он, – и оно состоит в том, чтобы не следовать никаким правилам». С сим-то прекрасным заключением вздумал он свободные часы свои посвятить удовольствию публики; под свободными часами разумею я только то малое время, которое оставалось ему от сна, от обеда и от ужина. Сколь ни мал был сей остаток, но и его не хотел он потерять напрасно; и для того-то решился он во всякое новолуние разгружать на печатном станке грузное судно своего воображения – короче сказать: начал журнал. Какое поле открылось для его неутомимости! Озабоченный намерением просветить вселенную, не давал он ни дня, ни ночи отдыху своему типографщику: тут-то увидели бы вы, милостивые государи, с какою удивительною способностию пишет он прямо набело суждения, решения и определения о самых важных предметах! Казалось, что перо в руках его замерло – и наборщик никак не мог сравняться с ним в поспешности. Критика также получила себе новую пищу: одни говорили, что он, проповедуя добродетель, одним своим слогом в состоянии умножить число отступников от добродетели; другие кричали, что ежемесячные его сочинения суть 94 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века ежемесячные вылазки противу бессонницы, но его это не устрашило – напротив, он имел дарование редкое: всякую брань толковать в свою пользу. Сколько писателей оставили в самом своем начале поприще словесности, устрашенные первыми нападениями критики; но герой наш не таков: если над ним смеются, то он восхищается способностью своею смешить и сравнивает себя с Мольером и Боало; если его бранят, он ласкает своему самолюбию, заключая, что брань есть знак зависти, и, по крайней мере, доволен он уже тем, что им занимаются, а это уже одно и доказывает ему, что публика его не забывает. После сего, милостивые государи, кто может составить для его ума такое крепительное, после которого бы он не чувствовал позыву на письмо? С сими блистательными качествами соединял он благородное презрение ко всем тем авторам, коих имени не мог твердо выговорить; под сим разумею я всех иностранных писателей. Приятно было смотреть, милостивые государи, с какою непринужденною смелостию бранил он Мольера, Расина и Боало, никогда их не читав, и с каким равнодушием смотрел трагедии Корнелия. «Скажи, – спрашивал у него некто, – для чего не учишься ты языкам иностранным и делаешь такие смелые заключения, не понимая их авторов?» – «Сердце у меня слышит, – отвечал он с благородною простотою, – что в них во всех менее толку, нежели в Бове Королевиче, притом же я знаю склады на многих языках, но российские склады красноречивее всех складов на свете. А как склады служат основанием словесности, то кто может меня уверить, чтоб из дурных припасов можно было воздвигнуть прекрасное здание?» Какое сильное, какое убедительное доказательство преимущества российской словесности! Не нужны ему были ни авторы, ни истории: одними складами открыл он сомнительную истину и доказал, сколь полезно ученому человеку знать склады. Но только ли его совершенств? Чем более я говорю, тем неисчерпаемее становится мой источник. Язык мой не успевает следовать за моим воображением; воображение мое не находит пределов. Но если уже природа человеческая столь слаба, что ни мне всего того, что бы я хотел сказать, ни вам всего, что бы я сказал, выслушать не станет сил, то дадим ей роздых. Пусть наше согласное молчание увенчает достоинства бесценного Ермалафида, и 95 Хрестоматия по истории русской литературной критики пусть будет оно служить символом спокойствия, коим некогда будут наслаждаться в ученых анбарах его неподражаемые творения. Н. М. КАРАМЗИН <О Шекспире и его трагедии «Юлий Цезарь»> При издании сего Шекспирова творения почитаю почти за необходимость писать предисловие. До сего времени еще ни одно из сочинений знаменитого сего автора не было переведено на язык наш; следственно, и ни один из соотчичей моих, не читавший Шекспира на других языках, не мог иметь достаточного о нем понятия. Вообще, сказать можно, что мы весьма незнакомы с английскою литературою. Говорить о причине сего почитаю здесь некстати. Доволен буду, если внимание читателей моих не отяготится и тем, что стану говорить собственно о Шекспире и его творениях. Автор сей жил в Англии во времена королевы Елисаветы и был из тех великих духов, коими славятся веки. Сочинения его суть сочинения драматические. Время, сей могущественный истребитель всего того, что под солнцем находится, не могло еще доселе затмить изящности и величия Шекспировых творений. Вся почти Англия согласна в хвале, приписываемой мужу сему. Пусть спросят упражнявшегося в чтении англичанина: «Каков Шекспир?» Без всякого сомнения, будет он ответствовать: «Шекспир велик! Шекспир неподражаем!» Все лучшие английские писатели, после Шекспира жившие, с великим тщанием вникали в красоты его произведений. Милтон, Юнг, Томсон и прочие прославившиеся творцы пользовалися многими его мыслями, различно их украшая. Немногие из писателей столь глубоко проникли в человеческое естество, как Шекспир; немногие столь хорошо знали все тайнейшие человека пружины, сокровеннейшие его побуждения, отличительность каждой страсти, каждого темперамента и каждого рода жизни, как удивительный сей живописец. Все великолепные картины его не96 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века посредственно натуре подражают: все оттенки картин сих в изумление приводят внимательного рассматривателя. Каждая степень людей, каждый возраст, каждая страсть, каждый характер говорит у него собственным своим языком. Для каждой мысли находит он образ, для каждого ощущения – выражение, для каждого движения души – наилучший оборот. Живописание его сильно и краски его блистательны, когда хочет он явить сияние добродетели: кисть его весьма льстива, когда изображает он кроткое волнение нежнейших страстей: но самая же сия кисть гигантскою представляется, когда описывает жестокое волнование души. Но и сей великий муж, подобно многим, не освобожден от колких укоризн некоторых худых критиков своих. Знаменитый софист, Вольтер, силился доказать, что Шекспир был весьма средственный автор, исполненный многих и великих недостатков. Он говорил: «Шекспир писал без правил; творения его суть и трагедии и комедии вместе, или траги-коми-лирико-пастушьи фарсы без плана, без связи в сценах, без единств; неприятная смесь высокого и низкого, трогательного и смешного, истинной и ложной остроты, забавного и бессмысленного: они исполнены таких мыслей, которые достойны мудреца, и притом такого вздора, который только шута достоин; они исполнены таких картин, которые принесли бы честь самому Гомеру, и таких карикатур, которых бы и сам Скаррон устыдился». Излишним почитаю теперь опровергать пространно мнения сии, уменьшение славы Шекспировой в предмете имевшие. Скажу только, что все те, которые старались унизить достоинства его, не могли против воли своей не сказать, что в нем много и превосходного. Человек самолюбив; он страшится хвалить других людей, дабы, по мнению его, самому сим не унизиться. Вольтер лучшими местами в трагедиях своих обязан Шекспиру: но, невзирая на сие, сравнивал его с шутом и поставлял ниже Скаррона. Из сего бы можно было вывести весьма оскорбительное для памяти Вольтеровой следствие: но я удерживаюсь от сего, вспомня, что человека сего нет уже в мире нашем. Что Шекспир не держался правил театральных, правда. Истинною причиною сему, думаю, было пылкое его воображение, не могшее покориться никаким предписаниям. Дух его парил, яко орел, и не мог парения своего измерять тою мерою, которою измеряют полет свой воробьи. Не хотел он соблюдать так называемых 97 Хрестоматия по истории русской литературной критики единств, которых нынешние наши драматические авторы так крепко придерживаются; не хотел он полагать тесных пределов воображению своему: он смотрел только на натуру, не заботясь, впрочем, ни о чем. Известно было ему, что мысль человеческая мгновенно может перелетать от запада к востоку, от конца области Моголовой к пределам Англии. Гений его, подобно гению натуры, обнимал взором своим и солнце и атомы. С равным искусством изображал он и героя и шута, умного и безумца, Брута и башмашника. Драмы его, подобно неизмеримому театру натуры, исполнены многоразличия: все же вместе составляет совершенное целое, не требующее исправления от нынешних театральных писателей. Трагедия, мною переведенная, есть одно из превосходных его творений. Некоторые недовольны тем, что Шекспир, назвав трагедию сию «Юлием Цезарем», после смерти его продолжает еще два действия: но неудовольствие сие окажется ложным, если с основательностию будет все рассмотрено. Цезарь умерщвлен в начале третьего действия, но дух его жив еще: он одушевляет Октавия и Антония, гонит убийц Цезаревых и после всех их погубляет. Умерщвление Цезаря есть содержание трагедии; на умерщвлении сем основаны все действия Характеры, в сей трагедии изображенные, заслуживают внимания читателей. Характер Брутов есть наилучший. Французские переводчики Шекспировых трагедий говорят об оном так: «Брут есть самый редкий, самый важный и самый занимательный моральный характер. Антоний сказал о Бруте: «вот муж!» а Шекспир, изображавший его нам, сказать мог: «вот характер!» ибо он есть действительно изящнейший из всех характеров, когда-либо в драматических сочинениях изображенных». Что касается до перевода моего, то я наиболее старался перевести верно, стараясь притом избежать и противных нашему языку выражений. Впрочем, пусть рассуждают о сем могущие рассуждать о сем справедливо. Мыслей автора моего нигде не переменял я, почитая сие для переводчика непозволенным. Если чтение перевода доставит российским любителям литературы достаточное понятие о Шекспире; если оно принесет им удовольствие, то переводчик будет награжден за труд его. Впрочем, он приготовился и к противному. Но одно не будет ли ему приятнее другого? – Может быть. 98 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века Что нужно автору? Говорят, что автору нужны таланты и знания: острый, проницательный разум, живое воображение и проч. Справедливо, но сего не довольно. Ему надобно иметь и доброе, нежное сердце, если он хочет быть другом и любимцем души нашей; если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцающим; если хочет писать для вечности и собирать благословения народов. Творец всегда изображается в творении и часто – против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть читателей и под златою одеждою пышных слов сокрыть железное сердце; тщетно говорит нам о милосердии, сострадании, добродетели! Все восклицания его холодны, без души, без жизни; и никогда питательное, эфирное пламя не польется из его творений в нежную душу читателя. Если бы небо наделило какого-нибудь изверга великими дарованиями славного Аруэта1, то, вместо прекрасной «Заиры», написал бы он карикатуру «Заиры». Чистейший целебный нектар в нечистом сосуде делается противным, ядовитым питием. Когда ты хочешь писать портрет свой, то посмотрись прежде в верное зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства, которое должно заниматься одним изящным, изображать красоту, гармонию и распространять в области чувствительного приятные впечатления? Если творческая натура произвела тебя в час небрежения или в минуту раздора своего с красотою: то будь благоразумен, не безобразь художниковой кисти, – оставь свое намерение. Ты берешься за перо и хочешь быть автором – спроси же у самого себя, наедине, без свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего. Ужели думаете вы, что Геснер мог бы столь прелестно изображать невинность и добродушие пастухов и пастушек, если бы сии любезные черты были чужды собственному его сердцу? Ты хочешь быть автором: читай историю несчастий рода человеческого – и если сердце твое не обольется кровию, оставь перо, – или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей. Но если всему горестному, всему угнетенному, всему слезящему открыт путь во чувствительную грудь твою; если душа твоя 1 Защитник и покровитель невинных, благодетель Каласовой фамилии, благодетель всех фернейских жителей имел, конечно, не злое сердце (примеч. Н. М. Карамзина). 99 Хрестоматия по истории русской литературной критики может возвыситься до страсти к добру, может питать в себе святое, никакими сферами не ограниченное желание всеобщего блага: тогда смело призывай богинь парнасских – они пройдут мимо великолепных чертогов и посетят твою смиренную хижину – ты не будешь бесполезным писателем – и никто из добрых не взглянет сухими глазами на твою могилу. Слог, фигуры, метафоры, образы, выражения – все сие трогает и пленяет тогда, когда одушевляется чувством; если не оно разгорячает воображение писателя, то никогда слеза моя, никогда улыбка моя не будет его наградою. Отчего Жан-Жак Руссо нравится нам со всеми своими слабостями и заблуждениями? Отчего любим мы читать его и тогда, когда он мечтает или запутывается в противоречиях? – Оттого, что в самых его заблуждениях сверкают искры страстного человеколюбия; оттого, что самые слабости его показывают некоторое милое добродушие. Напротив того, многие другие авторы, несмотря на свою ученость и знания, возмущают дух мой и тогда, когда говорят истину: ибо сия истина мертва в устах их; ибо сия истина изливается не из добродетельного сердца; ибо дыхание любви не согревает ее. Одним словом: я уверен, что дурной человек не может быть хорошим автором. <«Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону»> Первая книжка «Аонид» принята благосклонно (если не ошибаюсь) любителями русского стихотворства; ровно через год выходит и вторая – участь ее зависит от публики. «Для чего между многими хорошими стихами помещаются в «Аонидах» и некоторые... очень несовершенные, слабые... или как угодно назвать их?» Отчасти для ободрения незрелых талантов, которые могут созреть и произвести со временем нечто совершенное; отчасти для того, чтобы справедливая критика публики заставила нас писать с большим старанием; чтобы читатели имели удовольствие видеть, как молодые стихотворцы год от году очищают свой вкус и слог; наконец, и для того, чтобы не очень хорошее тем более возвышало 100 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века цену хорошего. Одним словом, «Аониды» должны показать состояние нашей поэзии, красоты и недостатки ее. Не употребляя во зло доверенности моих любезных сотрудников, не употребляя во зло прав издателя, я осмелюсь только заметить два главные порока наших юных муз: излишнюю высокопарность, гром слов не у места и часто притворную слезливость1. Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен натуры, но в живости мыслей и чувств. Если стихотворец пишет не о том, что подлинно занимает его душу: если он не раб, а тиран своего воображения, заставляя его гоняться за чуждыми, отдаленными, не свойственными ему идеями; если он описывает не те предметы, которые к нему близки и собственною силою влекут к себе его воображение, если он принуждает себя или только подражает другому (что все одно), – то в произведениях его не будет никогда живости, истины или той сообразности в частях, которая составляет целое и без которой всякое стихотворение (несмотря даже на многие счастливые фразы) похоже на странное существо, описанное Горацием в начале эпистолы к Пизонам. Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар натуры2 и прочее в сем роде. Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенять стихотворца и служить доказательством дарований его, – напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону: его дело наводить на все живые краски, ко всему привязывать остроумную мысль, нежное чувство или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением, показывать оттенки, которые укрываются от глаз других людей, находить неприметные аналогии, сходства, играть идеями и, подобно Юпитеру (как сказал об нем мудрец Эзоп), иногда малое делать великим, иногда великое делать малым. Один бомбаст, один гром слов только что оглушает нас и никогда до сердца не доходит; напротив того, нежная мысль, тонкая черта воображения или чув- 1 Я не говорю уже о неисправности рифм, хотя для совершенства стихов требуется, чтобы и рифмы были правильны (примеч. Н. М. Карамзина). 2 К издателю прислано было сочинение под титулом: «Конец миров»; оно показалось ему слишком ужасно для «Аонид» (примеч. Н. М. Карамзина). 101 Хрестоматия по истории русской литературной критики ства непосредственно действуют на душу читателя; умный стих врезывается в память, громкий стих забывается. Не надобно также беспрестанно говорить о слезах, прибирая к ним разные эпитеты, называя их блестящими и бриллиантовыми, – сей способ трогать очень ненадежен: надобно описать разительно причину их; означить горесть не только общими чертами, которые, будучи слишком обыкновенны, не могут производить сильного действия в сердце читателя, – но особенными, имеющими отношение к характеру и обстоятельствам поэта. Сии-то черты, сии подробности и сия, так сказать, личность уверяют нас в истине описаний и часто обманывают; но такой обман есть торжество искусства. Трудно, трудно быть совершенно хорошим писателем и в стихах и в прозе; зато много и чести победителю трудностей (ибо искусство писать есть, конечно, первое и славнейшее, требуя редкого совершенства в душевных способностях); зато нация гордится своими авторами; зато о превосходстве нации судят по успехам авторов ее. Отдавая справедливость вкусу и просвещению наших любезных соотечественников, почитаю за излишнее доказывать здесь пользу и важность литературы, которая, имея вообще влияние на приятность жизни, светского обхождения и на совершенство языка (неразрывно связанного с умственным и моральным совершенством каждого народа), бывает всего полезнее, всего приятнее для тех, которые в ней упражняются: она занимает, утешает их в сельском уединении; она настроивает их душу к глубокому чувству красот природы и к тем нежным страстям нравственности, которые были и всегда будут главным источником земного блаженства; она доставляет им дружбу лучших людей или сама служит им вместо друга. Кто в наши времена может быть ее неприятелем? Никто... конечно. <•••> Отчего в России мало авторских талантов? Если мы предложим сей вопрос иностранцу, особливо французу, то он, не задумавшись, будет отвечать: «От холодного климата». Со времен Монтескье и Гельвеция все феномены умственного, политического и морального мира изъясняются климатом. «Ah, mon cher Monsieur, n'avez vous pas le pez gelé?»1, – сказал Дидерот в 1 Ах, дорогой мой, вы, кажется, отморозили нос? (фр.). 102 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века Петербурге одному земляку своему, который жаловался, что в России не чувствуют великого ума его, и который в самом деле за несколько дней перед тем ознобил себе нос. Но Москва не Камчатка, не Лапландия – здесь солнце так же лучезарно, как и в других землях; так же есть весна и лето, цветы и зелень. Правда, что у нас холод продолжительнее; но может ли действие его на человека, столь умеренное в России придуманными способами защиты, вредить дарованиям? И вопрос кажется смешным! Скорее жар, расслабляя нервы (сей непосредственный орган души), уменьшит ту силу мыслей и воображения, которая составляет талант. Давно известно медикам-наблюдателям, что жители севера долговечнее жителей юга; климат, благоприятный для физического сложения, без сомнения, не гибелен и для действий души, которая в здешнем мире столь тесно соединена с телом. – Если бы жаркий климат производил таланты ума, то в Архипелаге всегда бы курился чистый фимиам музам, а в Италии пели Виргилии и Тассы; но в Архипелаге курят... табак, а в Италии поют... кастраты. У нас, конечно, менее авторских талантов, нежели у других европейских народов, но мы имели, имеем их, и следственно природа не осудила нас удивляться им только в чужих землях. Не в климате, но в обстоятельствах гражданской жизни россиян надобно искать ответа на вопрос: «Для чего у нас редки хорошие писатели?» Хотя талант есть вдохновение природы, однако ж ему должно развиться ученьем и созреть в постоянных упражнениях. Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование – то есть какую-то особенную деятельность душевных способностей – но и многие исторические сведения, ум, образованный логикою, тонкий вкус и знание света. Сколько времени потребно единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но что во всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более труда, нежели другим. Француз, прочитав Монтаня, Паскаля, 5 или 6 авторов века Лудовика XIV, Вольтера, Руссо, Томаса, Мармонтеля1, может совершенно узнать язык свой во всех формах; но мы, прочитав множество церковных и светских книг, соберем только материальное или словесное бо1 Как сочинителя единственных сказок (примеч. Н. М. Карамзина). 103 Хрестоматия по истории русской литературной критики гатство языка, которое ожидает души и красок от художника. Истинных писателей было у нас еще так мало, что они не успели дать нам образцов во многих родах; не успели обогатить слов тонкими идеями; не показали, как надобно выражать приятно некоторые, даже обыкновенные, мысли. Русский кандидат авторства, недовольный книгами, должен закрыть их и слушать вокруг себя разговоры, чтобы совершеннее узнать язык. Тут новая беда: в лучших домах говорят у нас более по-французски! Милые дамы, которых надлежало бы только подслушать, чтобы украсить роман или комедию любезными, счастливыми выражениями, пленяют нас нерусскими фразами. Что ж остается делать автору? Выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения! Мудрено ли, что сочинители некоторых русских комедий и романов не победили сей великой трудности, и что светские дамы не имеют терпения слушать или читать их, находя, что так не говорят люди со вкусом? Если спросите у них: как же говорить должно? то всякая из них отвечает: «Не знаю, но это грубо, несносно!» – Одним словом, французский язык весь в книгах (со всеми красками и тенями, как в живописных картинах), а русский только отчасти; французы пишут как говорят, а русские о многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом. Бюффон странным образом изъясняет свойство великого таланта или гения, говоря, что он есть терпение в превосходной степени. Но если хорошенько подумаем, то едва ли не согласимся с ним; по крайней мере без редкого терпения гений не может воссиять во всей своей лучезарности. Работа есть условие искусства; охота и возможность преодолевать трудности есть характер таланта. Бюффон и Ж.-Ж. Руссо пленяют нас сильным и живописным слогом: мы знаем от них самих, чего им стоила пальма красноречия! Теперь спрашиваю: кому у нас сражаться с великою трудностию быть хорошим автором, если и самое счастливейшее дарование имеет на себе жесткую кору, стираемую единственно постоянною работою? Кому у нас десять, двадцать лет рыться в книгах, быть наблюдателем, всегдашним учеником, писать и бросать в огонь написанное, чтобы из пепла родилось что-нибудь лучшее? В России более других учатся дворяне, но долго ли? – до пятнадцати 104 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века лет: тут время идти в службу, время искать чинов, сего вернейшего способа быть предметом уважения. Мы начинаем только любить чтение; имя хорошего автора еще не имеет у нас такой цены, как в других землях; надобно при случае объявить другое право на улыбку вежливости и ласки. К тому же искание чинов не мешает балам, ужинам, праздникам, а жизнь авторская любит частое уединение. – Молодые люди среднего состояния, которые учатся, также спешат выйти из школы или университета, чтобы в гражданской или военной службе получить награду за их успехи в науках; а те немногие, которые остаются в ученом состоянии, редко имеют случай узнать свет – без чего трудно писателю образовать вкус свой, как бы он учен ни был. Все французские писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, переправляли, так сказать, школьную свою риторику в свете, наблюдая, что ему нравятся и почему. Правда, что он, будучи школою для авторов, может быть и гробом дарования: дает вкус, но отнимает трудолюбие, необходимое для великих и надежных успехов. Счастлив, кто, слушая сирен, перенимает их волшебные мелодии, но может удалиться, когда захочет! Иначе мы останемся при одних куплетах и мадригалах. Надобно заглядывать в общество – непременно, по крайней мере в некоторые лета, – но жить в кабинете. Со временем будет, конечно, более хороших авторов в России – тогда, как увидим между светскими людьми более ученых или между учеными более светских людей. Теперь талант образуется у нас случайно. Натура и характер противятся иногда силе обстоятельств и ставят человека на путь, которого бы не надлежало ему избирать по расчетам обыкновенной пользы или от которого судьба удаляла его: так, Ломоносов родился крестьянином и сделался славным поэтом. Склонность к литературе, к наукам, к искусствам есть, без сомнения, природная, ибо всегда рано открывается, прежде нежели ум может соединять с нею виды корысти. Сей младенец, который на всех стенах чертит углем головы, еще не думает о том, что живописное искусство доставляет человеку выгоды в жизни. Другой, услышав в первый раз стихи, бросает игрушку и хочет говорить рифмами. Какой хороший автор в детстве своем не говорит рифмами? Какой хороший автор в детстве своем не сочинял уже сатир, песен, романов? Но обстоятельства не всегда уступают природе; если они не благоприятствуют ей, то ее дарования по боль105 Хрестоматия по истории русской литературной критики шей части гаснут. Чему быть трудно, то бывает редко – однако ж бывает – и чувствительное сердце, живость мыслей, деятельность воображения, вопреки другим явнейшим или ближайшим выгодам, привязывают иногда человека к тихому кабинету и заставляют его находить неизъяснимую прелесть в трудах ума, в развитии понятий, в живописи чувств, в украшении языка. Он думает, – желая дать цену своим упражнениям для самого себя, – думает, говорю, что труд его не бесполезен для отечества; что авторы помогают согражданам лучше мыслить и говорить; что все великие народы любили и любят таланты; что греки, римляне, французы, англичане, немцы не славились бы умом своим, если бы они не славились талантами; что достоинство народа оскорбляется бессмыслием и косноязычием дурных писателей; что варварский вкус их есть сатира на вкус народа; что образцы благородного русского красноречия едва ли не полезнее самых классов латинской элоквенции, где толкуют Цицерона и Виргилия; что оно, избирая для себя патриотические и моральные предметы, может благотворить нравам и питать любовь к отечеству. – Другие могут думать иначе о литературе: мы не хотим теперь спорить с ними. Примечания Новиков Николай Иванович (1744–1818) Статьи из «Трутня». Лист V и Лист VIII (1769) Прабабка – речь идет о журнале «Всякая всячина», в издании которого принимала участие Екатерина II. Источник текста: Русская литературная критика XVIII века : сборник текстов / [сост., ред., вступит ст. и примеч. В. И. Кулешова]. – М. : Сов. Россия, 1978. – С. 151–154. – Печ. с сокр. «Пустомеля». То, что употребил я вместо предисловия (1770) Статья напечатана в качестве предисловия к журналу Н. И. Новикова «Пустомеля» в 1770 г. Щепетильник – журнал «Парнасский щепетильник», в 1770 году издавал М. Д. Чулков. Читать Л** – речь идет о В. И. Лукине (1737–1794), авторе комедий «Пустомеля», «Мот, любовью исправленный», «Щепетильник» и др. Повести о троянских витязях – намек на популярную воинскую повесть «Троянская история». Каллиопа стала весьма обжорлива – В. И. Кулешов указывает, что здесь имеется в виду поэма М. Д. Чулкова «Елисей, или Раздраженный Вакх». 106 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века Клио пусть ходит по гостиному двору – речь идет о популярной книге Н. Г. Курганова «Письмовник». Источник текста: Там же. С. 154–159. Опыт исторического словаря о российских писателях (1772) Источник текста: Русская литературная критика XVIII века : сборник текстов / [сост., ред., вступит ст. и примеч. В. И. Кулешова]. – М. : Сов. Россия, 1978. – М.: Сов. Россия, 1978. – С. 165–203. – Печ. с сокр. <О критическом рассмотрении издаваемых книг > (1777) Предисловие к журналу Н. И. Новикова «Санктпетербургские ученые ведомости», выходившему в 1777–1778 гг. Источник текста: Там же. С. 203–205. Николай Никитич Поповский – русский поэт, переводчик, педагог (1730–1760). Антон Павлович Лосенков – русский живописец (1737–1773). Евграф Петрович Чемезов – русский гравер (1737–1765). Крылов Иван Андреевич (1769–1844) Похвальная речь Ермалафиду, говоренная в собрании молодых писателей (1793) Направлена против «Московского журнала» (1791–1792) и его издателя Н. М. Карамзина. Напечатана в журнале «Санктпетербургский Меркурий», который издавался И. А. Крыловым совместно с А. И. Клушиным (1793). Ермалафия (греч.) – многословная болтовня, дребедень. Парадиз (раёк) – верхняя галерея театра. Источник текста: Крылов И. А. Басни. Сатирические произведения. Воспоминания современников / И. А. Крылов; [сост., вступит. ст. и примеч. С. А. Фомичева]. – М. : Правда, 1988. – С. 283–290. Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) <О Шекспире и его трагедии «Юлий Цезарь»> (1787) Предисловие к отдельному изданию перевода трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», напечатанное без указания имени переводчика. Источник текста: Критика XVIII века / [авт.-сост. А. М. Ранчин, В. Л. Коровин]. – М. : Олимп: АСТ, 2002. – С. 324–328. – (Библиотека русской критики). Что нужно автору? (1794) Статья напечатана в альманахе «Аглая», издававшемся Н. М. Карамзиным в 1794– 1795 гг. Аруэт – герой трагедии Вольтера «Заира». Источник текста: Там же. С. 357–359. < Находить в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону> (1797) Предисловие ко второй книге альманаха «Аониды», издававшегося Н. М. Карамзиным в 1796–1799 гг. Источник текста: Русская литературная критика XVIII века : сборник текстов / [сост., ред., вступит ст. и примеч. В. И. Кулешова]. – М. : Сов. Россия, 1978. – С. 302–304. – Печ. с сокр. Отчего в России мало авторских талантов? (1802) Статья напечатана в журнале Н. М. Карамзина «Вестник Европы». Источник текста: Там же. С. 319–322. 107 Хрестоматия по истории русской литературной критики Вопросы и задания 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Сформулируйте предмет полемики «Трутня» со «Всякой всячиной». Как можно, исходя из прочтения V листа «Трутня», мотивировать название журнала Н. И. Новикова? Каким способом демонстрирует Новиков несостоятельность мнения оппонента (Екатерины II)? Какую функцию выполняет образ условного читателя в сатирических статьях Новикова? Охарактеризуйте этот образ, исходя из анализа листов «Трутня» и предисловия к журналу «Пустомеля». Найдите точки соприкосновения статей двух авторов: Н. И. Новикова «То, что употребил я вместо предисловия» и Крылова «Похвальная речь Ермалафиду, говоренная в собрании молодых писателей». Какие тенденции в литературе конца XVIII века вызвали сатиры Новикова и Крылова? Что отличает подачу материала в «Опыте исторического словаря о российских писателях» Новикова от принципов описания в современных словарях и энциклопедиях? Проанализируйте структуру одной из словарных статей Новикова, выделите оценочные моменты в подаче материала. Сравните критическую позицию Новикова, проводимую в журнале «Санктпетербургские ученые ведомости», со стратегией периода «Трутня» и «Пустомели». Какие особенности драматургии Шекспира противопоставляет Карамзин принципам «нынешних театральных писателей»? Можно ли говорить о смене критериев оценки литературного произведения в критическом сознании Н. М. Карамзина в сравнении с классицистической критикой? Дайте обоснование ответа. Какую связь между личностью художника и его творением утверждает Карамзин? Какие рекомендации мы находим у Карамзина «юным музам» по преодолению таких пороков, как излишняя высокопарность и притворная слезливость? Что отличает утверждения важности и пользы литературы в статьях Карамзина от рассуждений на эту тему критиков предшествующего периода? Какие обстоятельства гражданской жизни россиян, по мнению Карамзина, тормозят развитие литературы? Выделите в статьях Карамзина понятия, ставшие знаками сентименталистского направления в литературной критике. Охарактеризуйте индивидуальные приметы критических высказываний Карамзина. 108 Тема 2. Тенденции развития критической мысли конца XVIII века Тема 3. СТАНОВЛЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ В. А. ЖУКОВСКИЙ О критике (письмо к издателям «Вестника Европы») Будучи усердным читателем вашего журнала и желая вам искренно успеха в его издании, почитаю обязанностию сообщить вам слышанный мною недавно любопытный разговор, которого поводом было ваше объявление о «Вестнике» на следующий год, припечатанное в московских газетах. Я обедал на сих днях у одного моего знакомца. Это человек старого времени, совсем неученый, но одаренный здравым рассудком; он не знает иностранных языков, но любит читать и все хорошие русские книги (оригинальные и переведенные) прочитал от доски до доски; любит поэзию, но одну русскую, ибо иностранных поэтов знает только по слуху или в некоторых переводах (следовательно, почти не знает, ибо вы сами признаетеся, что большую часть переводов можно сравнить с ложными слухами, которые и самую истину нередко превращают для нас в небылицу). Он имеет что-то похожее на вкус, но по справедливости можно назвать его суевером во мнениях о словесности, ибо все старое кажется ему прекрасным потому единственно, что оно старое. Вообще он боль109 Хрестоматия по истории русской литературной критики шой неохотник до критики; умея чувствовать изящное, он мало оскорбляется тем, что оно бывает иногда смешано с дурным; скажу более: самое дурное, от своего смешения с хорошим, бывает для него или сносно, или и совсем незаметно. У него нашел я общего нашего знакомца, умного и весьма образованного человека. Он не автор, но судит с великою основательностию о произведениях писателей. Он любит изящную словесность и в особенности занимался ее теориею: его мнения о поэтах, ораторах и вообще о произведениях искусства основаны на правилах верного и образованного вкуса. Рассуждая о литературе, коснулись и вашего «Вестника». «Вот новость, – сказал мой Стародум (назову его Стародумом), подавая общему приятелю нашему тот листок газет, в котором помещено ваше объявление. – Издатели располагаются угощать нас критикою; весьма любопытствую знать, что из этого выйдет; но, признаюсь вам, ничего доброго не обещаю себе от критики: что пользы нападать на писателей, которых и без того у нас очень немного? И нужно ли заводить междуусобия в спокойной республике литературы, превращать ее в поле сражения, на котором одинакое бесславие ожидает и победителя и побежденного, а нас, читателей, сделавшихся просто зрителями, принуждать смотреть, смеяться и, может быть, презирать жалких людей, забавляющих нас своими ссорами? И ссору автора с критиком не можно ли по справедливости сравнить с сражением петухов, забавным только для тех, которые на него смотрят и держат большой заклад? Я твердо уверен, что такие забавные ссоры много вредят литературе и необходимо унижают почтенный характер писателя». «Позвольте с вами не согласиться, – отвечал наш общий приятель. – Уверяю вас, что вы испугали себя привидением: или я ошибаюсь, или понятие, составленное вами о критике, весьма несправедливо. Ссора, сражение, междуусобия – все эти ужасные слова, которыми вы окружили миролюбивое слово критика, совсем не принадлежат к ее свите. Критика есть суждение, основанное на правилах образованного вкуса, беспристрастное и свободное. Вы читаете поэму, смотрите на картину, слушаете сонату – чувствуете удовольствие или неудовольствие – вот вкус; разбираете причину того или другого – вот критика. И все ваше несходство с настоящим критиком состоит единственно в том, что вы рассуж110 Тема 3. Становление романтической критики даете наедине с собою о таком предмете, о котором он говорит в присутствии многих, имеющих полное право соглашаться с ним или не соглашаться, – значит ли это заводить междуусобие в спокойной республике литературы? И почему ж унизительно говорить свое мнение вслух о таком предмете, который можно назвать собственностию строгого мнения. Разумею здесь все произведения словесности и изящных художеств». «Но прошу покорно заметить, не сами ли вы уничтожили пользу критики, сказав, что каждый читатель есть сам по себе уже критик? Позволено ли одному представлять целое общество? И не безумное ли высокомерие почитать себя голосом публики или присвоивать себе способность давать законы ее суждениям?» «И в этом случае позволяю себе думать различно с вами. Напрасно приписываете вы критику неприличное намерение быть законодателем мнений. Положение автора можно, с одной стороны, сравнить с положением человека, разговаривающего в обществе: первый говорит большими монологами, на которые или не дают ему ответа, или отвечают ему в критике; другой выражается в нескольких словах, слышит ответы, делает возражения – то же, что критика: отвечать на бумаге, отвечать на словах – не все ли равно? Где же намерение быть законодателем мнений? Одно необходимое условие – учтивость. Предлагайте мысли свои, не думая, чтобы они были неопровержимы. Правда, что каждый читатель есть сам по себе критик, ибо он думает и судит о том, что читает; но следует ли из того, чтобы критика была бесполезна? Я сомневаюсь. Два рода читателей: одни, закрывая прочтенную ими книгу, остаются с темным и весьма беспорядочным о ней понятием – это происходит или от непривычки мыслить в связи, или от некоторой беспечности, которая препятствует им следовать своим вниманием за мыслями автора и разбирать впечатления, в них производимые красотами или недостатками его творения; другие читают, мыслят, чувствуют, замечают прекрасное, видят погрешности – и в голове их остается порядочное, полное понятие о том, что они читали. Некоторые, прибавлю, судят криво и косо о произведениях изящного, потому что вкус их и рассудок или испорчены предубеждениями, или весьма еще мало образованны и требуют направления. Для первых благоразумная критика полезна бывает тем, что она может служить Ариадниною нитию их рассудку и чувству, которые без того поте111 Хрестоматия по истории русской литературной критики рялись бы в лабиринте беспорядочных понятий и впечатлений; она облегчает для них работу ума; соединяет и приводит в систему то, что им представлялось без связи и по частям, побеждает их беспечность и, избавляя внимание от тягостного усилия, приводит их кратчайшим путем к той цели, к которой не могли бы они достигнуть без указателя. Другим доставляет она случай сравнивать собственные понятия с чужими, более или менее основательными, и, следовательно, представляет им с другой точки зрения те предметы, которые они уже с одной или с некоторых рассматривали; от такого сравнения рождаются новые понятия или объясняются и становятся положительнее старые. Но главная и существенная польза критики состоит в распространении вкуса, и в этом отношении она есть одна из важнейших отраслей изящной словесности, прибавлю, и философии моральной. Что такое вкус? Чувство и знание красоты в произведениях искусства, имеющего целию подражание природе нравственной и физической. Научась живее чувствовать красоты подражания, мы необходимо становимся чувствительнее и к красотам образца. Человек с образованным вкусом (который всегда основывается на чувстве и только управляем бывает рассудком) должен быть и в своей нравственности выше необразованного. Критика, распространяя истинные понятия вкуса, образует в то же время и самое моральное чувство; добро, красота моральная в самой натуре, отвечает тому, что называется изящным в подражаниях искусства; следовательно, с усовершенствованием одного соединяется и усовершенствование другого. Из всего, мною сказанного, можете заключить, что звание критика и весьма важное и весьма трудное. Вот идеал, составленный мною о его характере: истинный критик, будучи одарен от природы глубоким и тонким чувством изящного, имеет проницательный и верный ум, которым руководствуется в своих суждениях; чувство показывает ему красоту там, где она есть, во всех ее оттенках и самых нежных и самых нечувствительных; рассудок определяет истинную цену ее и не дает ему ослепляться ложным блеском, иногда заменяющим прямо изящное. Он знает все правила искусства, знаком с превосходнейшими образцами изящного; но в суждениях своих не подчиняется рабски ни образцам, ни правилам; в душе его существует собственный идеал совершенства, так сказать, составленный из всех красот, замеченных им в произведениях изящного, идеал, с которым он 112 Тема 3. Становление романтической критики сравнивает всякое новое произведение художника, идеал возможного, служащий ему верным указателем для определения степеней превосходства. Этого не довольно: чтобы судить о произведениях искусства, которые не иное что, как подражание природе, надлежит хорошо быть знакомым и с самым предметом подражания – с природою. Возьмите в пример самый высокий из всех родов поэзии – эпическую поэму. В ней видите нравственный мир со всеми его страстями и мир физический со всеми его прелестями и великолепием. Спрашиваю: будет ли в состоянии критик определить достоинство стихотворца в изображении страстей и характеров, если ни действия страстей, ни тайны характеров, которые надлежит наблюдать в самом человеке, ему неизвестны? Заметит ли он верность или неверность в изображениях физической природы, если иногда сам не восхищался ее красотами, если очарование вечера, или спокойное величие утра, или приятность тенистых долин, или ужасы диких утесов, неподвижных посреди ниспадающих с вершины их водопадов, не имеют ничего привлекательного для его сердца? Истинный критик должен быть и моралист-философ и прямо чувствителен к красотам природы. Скажу более: он должен быть и сам морально-добрым или по крайней мере иметь в душе своей решительное расположение к добру, ибо доброта моральная, как я уже сказал прежде, служит основанием чувству изящного, и последнее, не будучи соединено с первым, никогда не может иметь надлежащей верности. Наконец, хочу найти в нем пламенную любовь к искусству: он должен иметь о нем понятие высокое: в противном случае никогда не составится в голове его тот идеал совершенства, без которого мысли его не будут ни живы, ни убедительны. Само по себе разумеется, что критиков, близких к моему идеалу, весьма немного: Лонгины, Джонсоны, Аддисоны, Лагарпы, Лессинги так же редки, как и великие художники, которых творениям они научили нас удивляться». «Надобно согласиться, что ваше изображение критика может привести в отчаяние и самого неустрашимого рыцаря критики; и я имею причину думать, что господа издатели «Вестника», которые так смело выступили на сцену критики в своей газетной прокламации, не близки к вашему идеалу (извините, я повторяю, что слышал), но позвольте мне сделать одно замечание: из всех ваших рассуждений не имею ли я права заключить, что критиком (таким, ка113 Хрестоматия по истории русской литературной критики кого вы описали) может быть один только художник? Кому лучше живописца судить о живописи и лучше поэта о стихотворстве? Артисту, более нежели другим, должны быть известны все тайны его искусства, и не должно ли наперед самому написать что-нибудь превосходное, чтобы иметь способность и право критиковать произведения искусства?» «Замечание ваше, если хотите, и справедливо и нет. Хороший артист не может не быть и хорошим судьею своего искусства, это правда; но из этого еще не следует, чтобы способность рассматривать произведения искусства непременно соединена была с способностию производить изящное. Лагарп – посредственный трагик; но кому лучше его известна теория драматического искусства? И его примечания на трагедии Расина и Вольтера не лучше ли несравненно тех примечаний, которые великий Корнель, сей превосходный трагик, написал на собственные свои трагедии? Творец действует по вдохновению: он быстро угадывает те красоты, которые критик, руководствуемый чувством изящного, с медлительностию рассудка рассматривает в самом их происхождении. Сия медлительность в работе разбирающего вкуса едва ли сообразна с быстротою творческого духа; и мы не всегда находим их соединенными в одном и том же человеке. Способность восхищаться красотою, способность угадывать тот путь, по которому творческий гений дошел до своей цели, то есть до произведения изящного, не есть еще творческий гений – она степению ниже; не всякому дано от природы производить великое; но тот всех ближе к великому, кто лучше других угадывает его тайны. И если бы надлежало выбирать, то я поручил бы последнему быть толкователем первого, ибо он способнее входить в такие подробности, которые первый, объемлющий все одним взглядом в целом, пренебрег бы как бесполезные, а потому не объяснил бы нам удовлетворительно своего образа действовать». «Благодаря вам я помирился с критикою, но должно признаться, что не все расположены к ней так милостиво, как вы. Я наименовал бы некоторых известных писателей, которые ненавидят как самую критику, так и важных господ критиков. Например, Фильдинг (которого прекрасный роман, лучший из всех романов, умерщвлен для нас, русских, в безбожном переводе) называет их публичными клеветниками, немилосердно марающими доброе имя 114 Тема 3. Становление романтической критики книг. Едва ли можно перечесть те приятные титулы, которыми их награждают: это завистники, ядовитые пасквилянты, неприятели славы, и прочее и прочее. Что скажете?» «Скажу, что все это относится к одному только злоупотреблению критики и что имена завистников, ядовитых пасквилянтов, неприятелей славы принадлежат единственно таким людям, которые вооружаются критикою не для пользы вкуса, а в угождение собственным своим страстям: зависти, мщению и пр. Но это – самозванцы-критики, и их-то смешные ссоры с писателями можно по справедливости сравнить с сражением петухов, забавных для одних только зрителей. Некоторые из них нападают на превосходного автора из одной ненависти к превосходству; другие отмщают на счет вкуса за личное оскорбление; иные (и, кажется, большая часть) имеют в виду одно остроумие и колкостями насчет хорошего и дурного без разбора угождают врожденной насмешливости читателя. Таких забавных или презрительных актеров было весьма много на сцене французской литературы, и некоторые (например, Фрерон) прославились своим бесславием. У нас еще ничего подобного не бывало, вероятно, потому, что мы не богаты произведениями собственными, может быть, также и потому, что русские несколько равнодушны ко всему русскому, а критика, и хорошая и дурная, существует только там, где литература есть один из любимых предметов всеобщего внимания. Как бы то ни было, злоупотребление вещи не унижает достоинства. Но прибавлю, звание критика соединено само по себе с некоторыми неизбежными опасностями; критик имеет дело с самолюбием, и, что всего важнее, с самолюбием авторским (которое по своей раздражительности занимает первую степень между всеми родами самолюбия); следственно, он всегда подвержен опасности оскорблять и самым скромным и самым умеренным суждением. В таком случае спасут его одни следующие правила: пусть будет он совершенно беспристрастен (беспристрастие можно назвать честностию критика); пускай имеет в виду единую пользу искусства, остерегается предубеждения и не позволяет себе быть судьею в таких случаях, в которых какаянибудь личность нечувствительно может замешать в приговор его пристрастие. Думаю также, что, разбирая произведения изящные, он должен более останавливаться на красотах, нежели на погреш115 Хрестоматия по истории русской литературной критики ностях, и, замечая только одни важные ошибки, выставлять превосходное, ибо всякая новая красота есть приобретение искусства, есть новый шаг его к совершенству. Наконец, язык его должен быть важен и прост, и только в необходимых случаях (когда простое убеждение недостаточно) позволяется ему употребить оружие насмешки. Насмешка производит не убеждение, а предубеждение; она должна быть только пособием здравой логики и тем более опасна, что может унизить самое превосходное. Известно, что забавные софизмы Вольтера повредили для многих важным и спасительным истинам христианства». «Все мнения ваши справедливы; но спрашиваю: много ли найдет случаев такой критик, какого вы описали, применять свой идеал изящного к произведениям наших писателей и художников? Нельзя ли по справедливости подозревать, что он совсем останется у нас без дела?» «Ваша правда, мы еще не богаты произведениями превосходными; наша словесность едва начинает выходить из младенчества; оригинальных русских книг весьма немного (я говорю об одних хороших); зато какое множество переводов, и каких переводов! Их смело можно назвать оригиналами, ибо они совершенно никакого не имеют сходства с подлинниками. Что же делать критику посреди сего наводнения, в котором утопает наша несчастная словесность? Говорить об искусстве и слоге, рассматривая такие книги, в которых нет и следов искусства и слога, значило бы сражаться с ветряными мельницами. Но я и рассматривание вздорных книг за неимением хороших не почитаю совсем бесполезным. Критика может быть у нас приготовлением к хорошему. Разбирая и, если угодно, осмеивая безобразные переводы романов, которыми книгопродавцы без всякой пощады нас угощают, она сделает нас по крайней мере взыскательными, по крайней мере научит называть дурное дурным; а чтобы познакомить нас с истинно прекрасным, пускай обращает наше внимание на произведения старых или давно уже известных классических писателей наших. В сочинениях Ломоносова, Державина, Дмитриева, Карамзина и еще некоторых новейших найдутся образцы, довольно близкие к тому идеалу изящного, который должен существовать в голове каждого критика. Причины же небогатства нашей словесности...» 116 Тема 3. Становление романтической критики Разговор был прерван на самом этом месте прибытием нескольких посторонних людей. Я простился с моим знакомцем, побежал домой и записал для вас слышанное; надеюсь, что некоторые мысли моего почтенного адвоката критики будут полезны и для вас. Рафаэлева Мадонна (из письма о Дрезденской галерее) Я смотрел на нее несколько раз, но видел ее только однажды так, как мне было надобно. В первое мое посещение я даже не захотел подойти к ней: я увидел ее издали, увидел, что пред нею торчала какая-то фигурка, с пудреною головою, что эта проклятая фигурка еще держала в своей дерзкой руке кисть и беспощадно ругалась над великою душою Рафаэля, которая вся в этом чудесном творении. В другой раз испугал меня чичероне галереи (который за червонец показывает путешественникам картины и к которому я не рассудил прибегнуть): он стоял пред нею с своими слушателями и, как попугай, болтал вытверженный наизусть вздор. Наконец, однажды, только было я расположился дать волю глазам и душе, подошла ко мне одна моя знакомка и принялась мне нашептывать на ухо, что она перед «Мадонною» видела Наполеона и что ее дочери похожи на Рафаэлевых ангелов. Я решился прийти в галерею как можно ранее, чтобы предупредить всех посетителей. Это удалось. Я сел на софу против картины и просидел целый час, смотря на нее. Надобно признаться, что здесь поступают с нею так же непочтительно, как и со всеми другими картинами. Во-первых, она, не знаю, для какой готтентотской причины, уменьшена: верхняя часть полотна, на котором она написана, и с нею верхняя часть занавеса, изображенного на картине, загнуты назад; следовательно, и пропорция и самое действие целого теперь уничтожены и не отвечают намерению живописца. Второе, она вся в пятнах, не вычищена, худо поставлена, так что сначала можешь подумать, что копии, с нее сделанные, чистые и блестящие, лучше самого оригинала. Наконец (что не менее досадно), она, так сказать, теряется между другими картинами, которые, окружая ее, развлекают внимание: например, рядам с нею стоит портрет сатирического поэта Аретина, Тицианов, прекрасный – но какое соседство для «Мадонны»! И такова 117 Хрестоматия по истории русской литературной критики сила той души, которая дышит и вечно будет дышать в этом божественном создании, что все окружающее пропадает, как скоро посмотришь на нее со вниманием. Сказывают, что Рафаэль, натянув полотно свое для этой картины, долго не знал, что на нем будет: вдохновение не приходило. Однажды он заснул с мыслию о Мадонне, и, верно, какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил: она здесь, закричал он, указав на полотно, и начертил первый рисунок. И в самом деле, это не картина, а видение: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобою что-то неестественное происходит (особливо если смотришь так, что ни рамы, ни других картин не видишь). И это не обман воображения: оно не обольщено здесь ни живостию красок, ни блеском наружным. Здесь душа живописца без всяких хитростей искусства, но с удивительною простотою и легкостию передала холстине то чудо, которое во внутренности ее совершилось. Я описываю ее вам, как совершенно для вас неизвестную. Вы не имеете о ней никакого понятия, видевши ее только в списках или в Миллеровом эстампе. Не видав оригинала, я хотел купить себе в Дрездене этот эстамп, но, увидев, не захотел и посмотреть на него: он, можно сказать, оскорбляет святыню воспоминания. Час, который провел я перед этою «Мадонною», принадлежит к счастливым часам жизни, если счастием должно почитать наслаждение самим собою. Я был один; вокруг меня все было тихо; сперва с некоторым усилием вошел в самого себя; потом ясно начал чувствовать, что душа распространяется; какое-то трогательное чувство величия в нее входило; неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею: Он лишь в чистые мгновенья Бытия слетает к нам И приносит откровенья Благодатные сердцам. Чтоб о небе сердце знало В темной области земной, Нам туда сквозь покрывало Он дает взглянуть порой! А когда нас покидает, В дар любви, у нас в виду, В нашем небе зажигает Он прощальную звезду. 118 Тема 3. Становление романтической критики Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное: пред глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами, и все стеснено в малом пространстве, и, несмотря на то, все необъятно, все неограниченно! И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда: занавес раздернулся, и тайна неба открылась глазам человека. Все происходит на небе: оно кажется пустым и как будто туманным, но это не пустота и не туман, а какой-то тихий, неестественный свет, полный ангелами, которых присутствие более чувствуешь, нежели замечаешь; можно сказать, что всё, и самый воздух, обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной, мимоидущей Девы. И Рафаэль прекрасно подписал свое имя на картине: внизу ее, с границы земли, один из двух ангелов устремил задумчивые глаза в высоту; важная, глубокая мысль царствует на младенческом лице – не таков ли был и Рафаэль в то время, когда он думал о своей Мадонне? Будь младенцем, будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной. И как мало средств нужно было живописцу, чтобы произвести нечто такое, чего нельзя истощить мыслию. Он писал не для глаз, все обнимающих во мгновение и на мгновение, но для души, которая, чем более ищет, тем более находит. В Богоматери, идущей по небесам, не приметно никакого движения; но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя; но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все: спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах ее нет блистания (блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного, а для нее уже нет случая– все совершилось); но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота; в них есть какой-то взор, никуда особенно не устремленный, но как будто видящий необъятное. Она не поддерживает Младенца, но руки ее смиренно и свободно служат ему престолом: и в самом деле, эта Богоматерь есть не иное что, как одушевленный престол божий, чувствующий величие сидящего. И он, как царь земли и неба, сидит на этом престоле. И в его глазах есть тот же никуда не устремленный взор; но эти глаза блистают, как молнии, блистают тем вечным блеском, которого ничто ни произвести, ни 119 Хрестоматия по истории русской литературной критики изменить не может. Одна рука Младенца с могуществом Вседержителя оперлась на колено, другая как будто готова подняться и простереться над небом и землею. Те перед которыми совершается это видение, св. Сикст и мученица Варвара, стоят также на небесах: на земле этого не увидишь. Старик не в восторге: он полон обожания мирного и счастливого, как святость; святая Варвара очаровательна своею красотою: великость того явления, которого она свидетель, дала и ее стану какое-то разительное величие; но красота лица ее человеческая, именно потому, что на нем уже есть выражение понятное; она в глубоком размышлении; она глядит на одного из ангелов, с которым как будто делится таинством мысли. И в этом нахожу я главную красоту Рафаэля картины (если слово картина здесь у места). Когда бы живописец представил обыкновенного человека зрителем того, что на картине его видят одни ангелы и святые, он или дал бы лицу его выражение изумленного восторга (ибо восторг есть чувство здешнее: оно на минуту, быстро и неожиданно отрывает нас от земного), или представил бы его падшего на землю с признанием своего бессилия и ничтожества. Но состояние души, уже покинувшей землю и достойной неба, есть глубокое, постоянное чувство, возвышенное и просвещенное мыслию, постигнувшею тайны неба, безмолвное, неизъяснимое счастие, которое все заключается в двух словах: чувствую и знаю! И эта-то блаженствующая мысль царствует на всех лицах Рафаэлевой картины (кроме, разумеется, лица Спасителева и Мадонны): все в размышлении, и святые и ангелы. Рафаэль как будто хотел изобразить для глаз верховное назначение души человеческой. Один только предмет напоминает в картине его о земле – это Сикстова тиара, покинутая на границе здешнего света. Вот то, что думал я в те счастливые минуты, которые провел перед «Мадонною» Рафаэля. Какую душу надлежало иметь, чтобы произвести подобное! Бедный Миллер! Он умер, сказывали мне, в доме сумасшедших. Удивительно ли? Он сравнил свое подражание с оригиналом, и мысль, что он не понял великого, что он его обезобразил, что оно для него недостижимо, убила его. И в самом деле надобно быть или безрассудным, или просто механическим маляром без души, чтобы осмелиться описывать эту «Мадонну»: одни раз душе человеческой было подобное откровение; дважды случиться оно не может. 120 Тема 3. Становление романтической критики К. Н. БАТЮШКОВ Речь о влиянии легкой поэзии на язык, читанная при вступлении в «Общество любителей Российской словесности», в Москве 17 июля 1816 Избрание меня в сочлены ваши есть новое свидетельство, милостивые государи, вашей снисходительности. Вы обращаете внимательные взоры не на одно дарование, вы награждаете слабые труды и малейшие успехи; ибо имеете в виду важную цель: будущее богатство языка, столь тесно сопряженное с образованностию гражданскою, с просвещением и, следственно, с благоденствием страны, славнейшей и обширнейшей в мире. По заслугам моим я не имею права заседать с вами; но если усердие к словесности есть достоинство, то по пламенному желанию усовершенствования языка нашего, единственно по любви моей к поэзии, я могу смело сказать, что выбор ваш соответствует цели общества. Занятия мои были маловажны, но беспрерывны. Они были пред вами красноречивыми свидетелями моего усердия и доставили мне счастие заседать в древнейшем святилище муз отечественных, которое возрождается из пепла вместе с столицею царства русского и со временем будет достойно ее древнего величия. Обозревая мысленно обширное поле словесности, необъятные труды и подвиги ума человеческого, драгоценные сокровища красноречия и стихотворства, я с горестию познаю и чувствую слабость сил и маловажность занятий моих; но утешаюсь мыслию, что успехи и в малейшей отрасли словесности могут быть полезны языку нашему. Эпопея, драматическое искусство, лирическая поэзия, история, красноречие духовное и гражданское требуют великих усилий ума, высокого и пламенного воображения. Счастливы те, которые похищают пальму первенства в сих родах: имена их становятся бессмертными; ибо счастливые произведения творческого ума не принадлежат одному народу исключительно, но делаются достоянием всего человечества. Особенно великие произведения муз имеют влияние на язык новый и необработанный. Ломоносов тому явный пример. Он преобразовал 121 Хрестоматия по истории русской литературной критики язык наш, созидая образцы во всех родах. Он то же учинил на трудном поприще словесности, что Петр Великий на поприще гражданском. Петр Великий пробудил народ, усыпленный в оковах невежества; он создал для него законы, силу военную и славу. Ломоносов пробудил язык усыпленного народа; он создал ему красноречие и стихотворство, он испытал его силу во всех родах и приготовил для грядущих талантов верные орудия к успехам. Он возвел в свое время язык русский до возможной степени совершенства – возможной, говорю, ибо язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностию и людскостию. Но Ломоносов, сей исполин в науках и в искусстве писать, испытуя русский язык в важных родах, желал обогатить его нежнейшими выражениями Анакреоновой музы. Сей великий образователь нашей словесности знал и чувствовал, что язык просвещенного народа должен удовлетворять всем его требованиям и состоять не из одних высокопарных слов и выражений. Он знал, что у всех народов, и древних и новейших, легкая поэзия, которую можно назвать прелестною роскошью словесности, имела отличное место на Парнасе и давала новую пищу языку стихотворному. Греки восхищались Омером и тремя трагиками, велеречием историков своих, убедительным и стремительным красноречием Демосфена: но Вион, Мосх, Симонид, Феокрит, мудрец Феосский и пламенная Сафо были увенчаны современниками. Римляне, победители греков оружием, не талантом, подражали им по всех родах: Цицерон, Вергилий, Гораций, Тит Ливий и другие состязались с греками. Важные римляне, потомки суровых Кориоланов, внимали им с удивлением; но эротическую музу Катулла, Тибулла и Пропорция не отвергали. По возрождении муз, Петрарка, один из ученейших мужей своего века, светильник богословия и политики, один из первых создателей славы возрождающейся Италии из развалин классического Рима, Петрарка, немедленно шествуя за суровым Дантом, довершил образование великого наречия тосканского, подражая Тибуллу, Овидию и поэзии мавров, странной, но исполненной воображения. Маро, царедворец Франциска I, известный по эротическим стихотворениям, был один из первых образователей языка французского, которого владычество, почти пагубное, распространилось на все народы, не достигшие высокой степени просвещения. В Англии Валлер, певец 122 Тема 3. Становление романтической критики Захариссы, в Германии Гаге-дорн и другие писатели, предшественники творца «Мессиады» и великого Шиллера, спешили жертвовать грациям и говорить языком страсти и любви, любимейшим языком муз, по словам глубокомысленного Монтаня. У нас преемник лиры Ломоносова, Державин, которого одно имя истинный талант произносит с благоговением, – Державин, вдохновенный певец высоких истин, и в зиму дней своих любил отдыхать со старцем Феосским. По следам сих поэтов, множество писателей отличились в этом роде, по-видимому столь легком, но в самом деле имеющем великие трудности и преткновения, особенно у нас; ибо язык русский, громкий, сильный и выразительный, сохранил еще некоторую суровость и упрямство, не совершенно исчезающее даже под пером опытного таланта, поддержанного наукою и терпением. Главные достоинства стихотворного слога суть: движение, сила, ясность. В больших родах читатель, увлеченный описанием страстей, ослепленный живейшими красками поэзии, может забыть недостатки и неровности слога и с жадностию внимает вдохновенному поэту или действующему лицу, им созданному. Во время представления какой холодный зритель будет искать ошибок в слоге, когда Полиник, лишенный венца и внутреннего спокойствия, в слезах, в отчаянии бросается к стопам разгневанного Эдипа? Но сии ошибки, поучительные для дарования, замечает просвещенный критик в тишине своей учебной храмины: каждое слово, каждое выражение он взвешивает на весах строгого вкуса; отвергает слабое, ложно блестящее, неверное и научает наслаждаться истинно прекрасным. В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях: он тотчас делается строгим судьею, ибо внимание его ничем сильно не развлекается. Красивость в слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету: ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное, требующее всей жизни и всех усилий душевных; надобно родиться для поэзии: этого мало: родясь, надобно сделаться поэтом, в каком бы то ни было роде. Так называемый эротический и вообще легкий род поэзии восприял у нас начало со времен Ломоносова и Сумарокова. Опыты их 123 Хрестоматия по истории русской литературной критики предшественников были маловажны: язык и общество еще не были образованы. Мы не будем исчислять всех видов, разделений и изменений легкой поэзии, которая менее или более принадлежит к важным родам: но заметим, что на поприще изящных искусств (подобно как и в нравственном мире) ничто прекрасное не теряется, приносит со временем пользу и действует непосредственно на весь состав языка. Стихотворная повесть Богдановича, первый и прелестный цветок легкой поэзии на языке нашем, ознаменованный истинным и великим талантом; остроумные, неподражаемые сказки Дмитриева, в которых поэзия в первый раз украсила разговор лучшего общества; послания и другие произведения сего стихотворца, в которых философия оживилась неувядающими цветами выражения, басни его, в которых он боролся с Лафонтеном и часто побеждал его; басни Хемницера и оригинальные басни Крылова, которых остроумные, счастливые стихи превратились в пословицы, ибо в них виден и тонкий ум наблюдателя света, и редкий талант; стихотворения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и стройности мыслей; горацианские оды Капниста, вдохновенные страстью песни Нелединского; прекрасные подражания древним Мерзлякова; баллады Жуковского, сияющие воображением, часто своенравным, но всегда пламенным, всегда сильным; стихотворения Востокова, в которых видно отличное дарование поэта, напитанного чтением древних и германских писателей; наконец, послания кн<язя> Долгорукова, исполненные живости; некоторые послания Воейкова, Пушкина и других новейших стихотворцев, писанные слогом чистым и всегда благороднымА: все сии блестящие произведения дарования и остроумия менее или более приближались к желанному совершенству, и все – нет сомнения – принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили. Так светлые ручьи, текущие разными излучинами по одному постоянному наклонению, соединяясь в долине, образуют глубокие и обширные озера: благодетельные воды сии не иссякают от времени, напротив того, они возрастают и увеличиваются с веками и вечно существуют для блага земли, ими орошаемой! В первом периоде словесности нашей, со времен Ломоносова, у нас много написано в легком роде; но малое число стихов спаслось от общего забвения. Главною тому причиною можно положить не один недостаток таланта или изменение языка, но измене124 Тема 3. Становление романтической критики ние самого общества; большую его образованность и, может быть, большее просвещение, требующее от языка и писателей большего знания света и сохранения его приличий: ибо сей род словесности беспрестанно напоминает об обществе; он образован из его явлений, странностей, предрассудков и должен быть ясным и верным его зеркалом. Большая часть писателей, мною названных, провели жизнь свою посреди общества Екатеринина века, столь благоприятного наукам и словесности; там заимствовали они эту людскость и вежливость, это благородство, которых отпечаток мы видим в их творениях: в лучшем обществе научились они угадывать тайную игру страстей, наблюдать нравы, сохранять все условия и отношения светские и говорить ясно, легко и приятно. Этого мало: все сии писатели обогатились мыслями в прилежном чтении иностранных авторов, иные древних, другие новейших, и запаслись обильною жатвою слов в наших старинных книгах. Все сии писатели имеют истинный талант, испытанный временем; истинную любовь к лучшему, благороднейшему из искусств, к поэзии, и уважают, смею утвердителъно сказать, боготворят свое искусство, как лучшее достояние человека образованного, истинный дар неба, который доставляет нам чистейшие наслаждения посреди забот и терний жизни, который дает нам то, что мы называем бессмертием на земли – мечту прелестную для душ возвышенных! Все роды хороши, кроме скучного. В словесности все роды приносят пользу языку и образованности. Одно невежественное упрямство не любит и старается ограничить наслаждения ума. Истинная, просвещенная любовь к искусствам снисходительна и, так сказать, жадна к новым духовным наслаждениям. Она ничем не ограничивается, ничего не желает исключить и никакой отрасли словесности не презирает. Шекспир и Расин, драма и комедия, древний экзаметр и ямб, давно присвоенный нами, пиндарическая ода и новая баллада, эпопея Омера, Ариоста и Клопштока, столь различные по изобретению и формам, ей равно известны, равно драгоценны. Она с любопытством замечает успехи языка во всех родах, ничего не чуждается, кроме того, что может вредить нравам, успехам просвещения и здравому вкусу (я беру сие слово в обширном значении). Она с удовольствием замечает дарование в толпе писателей и готова ему подать полезные советы: она, как говорит поэт, готова обнять 125 Хрестоматия по истории русской литературной критики В отважном мальчике грядущего поэта! Ни расколы, ни зависть, ни пристрастие, никакие предрассудки ей не известны. Польза языка, слава отечества: вот благородная ее цель! Вы, милостивые государи, являете прекрасный пример, созывая дарования со всех сторон, без лицеприятия, без пристрастия. Вы говорите каждому из них: несите, несите свои сокровища в обитель муз, отверстую каждому таланту, каждому успеху; совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия. Важные музы подают здесь дружественно руку младшим сестрам своим, и олтарь вкуса обогащается их взаимными дарами. <…> ПРИМЕЧАНИЯ А. Похвала или порицание частного человека не есть приговор общественного вкуса. Исчисляя стихотворцев, отличившихся в легком роде поэзии, я старался сообразоваться со вкусом общественным. Может быть, я во многом и ошибся; но мнение мое сказал чистосердечно, и читатель скорее обличит меня в невежестве, нежели в пристрастии. Надобно иметь некоторую смелость, чтобы порицать дурное в словесности; но едва ли не потребно еще более храбрости тому, кто вздумает хвалить то, что истинно достойно похвалы. <…> Нечто о поэте и поэзии Поэзия – сей пламень небесный, который менее или более входит в состав души человеческой – сие сочетание воображения, чувствительности, мечтательности, – поэзия нередко составляет и муку и услаждение людей, единственно для нее созданных. Вдохновением гения тревожится поэт, сказал известный стихотворец. Это совершенно справедливо. Есть минуты деятельной чувствительности: их испытали люди с истинным дарованием; их-то должно ловить на лету живописцу, музыканту и, более всех, поэту: ибо они редки, преходящи и зависят часто от здоровья, от времени, от влияния внешних предметов, которыми по произволу мы управлять не в силах. Но в минуту вдохновения, в сладостную минуту очарования поэтического я никогда не взял бы пера моего, если бы нашел сердце, способное чувствовать вполне то, что я чувствую; если 126 Тема 3. Становление романтической критики бы мог передать ему все тайные помышления, всю свежесть моего мечтания и заставить в нем трепетать те же струны, которые издали голос в моем сердце. Где сыскать сердце, готовое разделять с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами – и мы прибегаем к искусству выражать мысли свои, в сладостной надежде, что есть на земле сердца добрые, умы образованные, для которых сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы – суть сокровища истинные... «Они не могут читать в моем сердце, но прочитают книгу мою», – говорил Монтань; и в самые бурные времена Франции, при звуке оружия, при зареве костров, зажженных суеверием, писал «Опыты» свои и, беседуя с добрыми сердцами всех веков, забывал недостойных современников. Некто сравнивал душу поэта в минуту вдохновения с растопленным в горниле металлом: в сильном и постоянном пламени он долго остается в первобытном положении, долго недвижим; но раскаленный – рдеется, закипает и клокочет: снятый с огня, в одну минуту успокоивается и упадает. Вот прекрасное изображение поэта, которого вся жизнь должна приготовлять несколько плодотворных минут: все предметы, все чувства, все зримое и незримое должно распалять его душу и медленно приближать сии ясные минуты деятельности, в которые столь легко изображать всю историю наших впечатлений, чувств и страстей. Плодотворная минута поэзии! ты быстро исчезаешь, но оставляешь вечные следы у людей, владеющих языком богов. Люди, счастливо рожденные, которых природа щедро наделила памятью, воображением, огненным сердцем и великим рассудком, умеющим давать верное направление и памяти и воображению, – сии люди имеют без сомнения дар выражаться, прелестный дар, лучшее достояние человека; ибо посредством его он оставляет вернейшие следы в обществе и имеет на него сильное влияние. Без него не было бы ничего продолжительного, верного, определенного; и то, что мы называем бессмертием на земле, не могло бы существовать. Веки мелькают, памятники рук человеческих разрушаются, изустные предания изменяются, исчезают: но Омер и книги священные говорят о протекшем. На них основана опытность человеческая. Вечные кладези, откуда мы почерпаем истины утеши127 Хрестоматия по истории русской литературной критики тельные или печальные! что дает вам сию прочность? Искусство письма и другое, важнейшее – искусство выражения. Сей дар выражать и чувства и мысли свои давно подчинен строгой науке. Он подлежит постоянным правилам, проистекшим от опытности и наблюдения. Но самое изучение правил, беспрестанное и упорное наблюдение изящных образцов – недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть – Искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Я желаю – пускай назовут странным мое желание! – желаю, чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую диэтику, одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца. Эта наука была бы для многих едва ли не полезнее всех Аристотелевых правил, по которым научаемся избегать ошибок; но как творить изящное – никогда не научимся! Первое правило сей науки должно быть: живи как пишешь, и пиши как живешь. Talis hominibus fuit oratio, qualis vita1. Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы. К чему произвела тебя природа? Что вложила в сердце твое? Чем пленяется воображение, часто против воли твоей? При чтении какого писателя трепетал твой гений с неизъяснимою радостию, и глас, громкий глас твоей пиитической совести восклицал: проснись, и ты поэт! – При чтении творцов эпических? Итак, удались от общества, окружи себя природою: в тишине сельской, посреди грубых, неиспорченных нравов читай историю времен протекших, поучайся в печальных летописях мира, узнавай человека и страсти его, но исполнись любви и благоволения ко всему человечеству: да будут мысли твои важны и величественны, движения души твоей нежны и страстны, но всегда покорены рассудку, спокойному властелину их. Этого мало! Эпическому стихотворцу надобно все испытать, обе фортуны. Подобно Тассу, любить и страдать всем сердцем; подобно Камоэнсу, сражаться за отечество, обтекать все страны, вопрошать все народы, дикие и просвещенные, вопрошать все памятники искусства, всю природу, которая говорит всегда красноречиво и внятно уму возвышенному, обогащенному опытами, воспоминаниями. Одним словом, надобно, забыв все ничтожные выгоды жизни и самолю1 Речь людей такова, какой была их жизнь (лат.). 128 Тема 3. Становление романтической критики бия, пожертвовать всем – славе; и тогда только погрузиться (не с дерзостию кичливого ума, но с решимостию человека, носящего в груди своей внутреннее сознание собственной силы), тогда только погрузиться в бурное и пространное море эпопеи... Жить в обществе, носить на себе тяжелое ярмо должностей, часто ничтожных и суетных, и хотеть согласовать выгоды самолюбия с желанием славы – есть требование истинно суетное. Что образ жизни действует сильно и постоянно на талант, в том нет сомнения. Пример тому французы: их словесность, столь богатая во всех родах, не имеет ни эпопеи, ни истории. Их писатели по большей части жили посреди шумного города, посреди всех обольщений двора и праздности; а история и эпопея требуют внимания постоянного, и сей важности и сей душевной силы, которую общество не только «что отнимает у человека рассеянного, но уничтожает совершенно. «Хотите ли быть красноречивыми писателями? – говорит красноречивая женщина нашего времени: будьте добродетельны и свободны, почитайте предмет любви вашей, ищите бессмертия в любви, божества в природе; освятите душу, как освящают храм, и ангел возвышенных мыслей предстанет вам во всем велелепии!» Прелестные строки, исполненные истины! вас рассеянные умы или не поймут, или прочитают с гордым презрением. Взглянем на жизнь некоторых стихотворцев, которых имена столь любезны сердцу нашему. Гораций, Катулл и Овидий так жили, как писали, Тибулл не обманывал ни себя, ни других, говоря покровителю своему, Мессале, что его не обрадуют ни триумфы, ни пышный Рим; но спокойствие полей, здоровый воздух лесов, мягкие луга, родимый ручеек и эта хижина с простым, соломенным кровом – ветхая хижина, в которой Делия ожидает его с распущенными власами по высокой груди. Петрарка точно стоял, опершись на скалу Воклюзскую, погруженный в глубокую задумчивость, когда вылетали из уст его гармонические стихи: Sotť un gran sasso In una chiusa valle, onď esce Sorga, Si stà: nè chi lo scorga V'è se no Amor, che mai no'l lascia un passo E l'imagine d' una che lo strugge1. 1 Под большой скалой 129 Хрестоматия по истории русской литературной критики Счастливый Шолье мечтал под ветхими и тенистыми древами Фонтенейского убежища; там сожалел он об утрате юности, об утрате неверных наслаждений любви. Богданович жил в мире фантазии, им созданном, когда рука его рисовала пленительное изображение Душеньки1. Державин на диких берегах Суны, орошенной кипящею ее пеною, воспевал водопад и бога в пророческом исступлении. И в наши времена, более обильные славою, нежели благоприятные музам, Жуковский, оторванный Беллоною от милых полей своих, Жуковский, одаренный пламенным воображением и редкою способностию передавать другим глубокие ощущения души сильной и благородной – в стане воинов, при громе пушек, при зареве пылающей столицы писал вдохновенные стихи, исполненные огня, движения и силы. Если образ жизни имеет столь сильное влияние на произведения поэта, то воспитание действует на него еще сильнее. Ничто не может изгладить из памяти сердца нашего первых, сладостных впечатлений юности! Время украшает их и дает им восхитительную прелесть. В среднем возрасте зримые предметы слабо врезываются в памяти, и душа, утомленная ощущениями, пренебрегает ими: ее занимают одни страсти; в преклонных летах человек не приобретает, и последним его сокровищем остается то единственно, чем он запас себя в молодости. Таким образом природа соединяет вечер с утром жизни, как вечерняя заря сливается с утреннею в долгие дни лета под нашим северным небом. Если первые впечатления столь сильны в сердце каждого человека, если не изглаживаются во все течение его жизни; то тем более они должны быть сильны и сохранять неувядаемую свежесть в душе писателя, одаренного глубокою чувствительностию. В замкнутой долине, откуда вытекает Copгa, Стоит он: и того, кто бы видел его, там нет, Кроме Амура, который никогда не оставляет его ни на шаг, И образа той, которая его сокрушает (ит.). 1 Богданович жил в совершенном уединении. У него были два товарища, достойные добродушного Лафонтена: кот и петух. Об них он говорил, как о друзьях своих, рассказывал чудеса, беспокоился об их здоровье и долго оплакивал их кончину. 130 Тема 3. Становление романтической критики Утешно вспоминать под старость детски леты, Забавы, резвости, различные предметы, Которые тогда увеселяли нас! Если бы мы знали подробно обстоятельства жизни великих писателей, то без сомнения могли бы найти в их творениях следы первых, всегда сильных ощущений. Сердце имеет свою особенную память. Руссо помнил начало песни, которую ему напевала его добродушная тетка. Молодой Ариост, в бытность свою во Флоренции, влюбился в прелестную женщину. Он часто посещал ее; целые часы в глубоком безмолвии просиживал, любуясь красавицею, которая вышивала по серебру пурпурным шелком. Впечатление прелеcтных рук навсегда осталось в памяти любовника, и столь сильно, что впоследствии времени, рассказывая битву Мандрикала с злополучным Сербином, он сравнивает алую кровь, текущую из глубокой, раны юноши, с пурпурными начертаниями, которые вышивала по серебру белоснежная рука незабвенной флорентинки. Нежные сердца помнят те места в Вергилии, где поэт говорит о своей милой Мантуе; стихи римского Омера исполнены воспоминаний о юности; они исполнены сих глубоких, неизгладимых впечатлений, которые погружают читателя в сладкую задумчивость, напоминая ему его собственную жизнь и ясную зарю молодости. Климат, вид неба, воды и земли – все действует на душу поэта, отверстую для впечатлений. Мы видим в песнях северных скальдов и эрских бардов нечто суровое, мрачное, дикое и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную и в ужасах. Мы видим неизгладимый отпечаток климата в стихотворцах полуденных: некоторую негу, роскошь воображения, свежесть чувств и ясность мыслей, напоминающих и небо, и всю благотворную природу стран южных, где человек наслаждается двойною жизнию в сравнении с нами, где все питает и нежит его чувства, где все говорит его воображению. Напрасно уроженец Сицилии или Неаполя желал бы состязаться в песнях своих с бардом Морвена и описывать, подобно ему, мрачную природу севера: напрасно северный поэт желал бы изображать роскошные долины, прохладные пещеры, плодоносные рощи, тихие заливы и небо Сицилии, высокое, прозрачное и вечно ясное. Один Tacc, рожденный под раскаленным солнцем Неаполя, мог описать столь верными и 131 Хрестоматия по истории русской литературной критики свежими красками ужасную засуху, гибельную для крестовых воинов. По сему описанию, говорит ученый Женгене, можно узнать полуденного жителя, который неоднократно подвергался смертному влиянию ветров африканских, неоднократно изнемогал под бременем зноя. – У нас Ломоносов, рожденный на берегу шумного моря, воспитанный в трудах промысла, сопряженного с опасностию, сей удивительный человек в первых летах юношества был сильно поражен явлениями природы: солнцем, которое в должайшие дни лета, дошед до края горизонта, снова восстает и снова течет по тверди небесной; северным сиянием, которое в полуночном краю заменяет солнце и проливает холодный и дрожащий свет на природу, спящую под глубокими снегами, – Ломоносов с каким-то особенным удовольствием описывает сии явления природы, величественные и прекрасные, и повторяет их в великолепных стихах своих: Закрылись крайние с пучиною леса, Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса. ………………………………………………… ...Сквозь воздух в юге чистый Открылись два холма и берега лесисты. Меж ними кораблям в залив отверзся вход, Убежище пловцам от беспокойных вод, Где, в влажных берегах крутясь, печальна Уна Медлительно течет в объятия Нептуна... Достигло дневное до полночи светило, Но в глубине лица горящего не скрыло; Как пламенна гора казалось средь валов И простирало блеск багровый из-за льдов. Среди пречудныя при ясном солнце ночи Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи. Мы не остановимся на красоте стихов. Здесь все выражения великолепны: горящее лице солнца, противоположенное хладным водам океана; солнце, остановившееся на горизонте и, подобно пламенной горе, простирающее блеск из-за льдов, – суть первоклассные красоты описательной поэзии. Два последние стиха, заключающие картину, восхитительны: 132 Тема 3. Становление романтической критики Среди пречудныя при ясном солнце ночи Верхи златых зыбей пловцам сверкают в очи. Но мы заметим, что поэт не мог бы написать их, если бы он не был свидетелем сего чудесного явления, которое поразило огненное воображение вдохновенного отрока и оставило в нем глубокое, неизгладимое впечатление. П. А. ВЯЗЕМСКИЙ О «Кавказском пленнике», повести соч. А. Пушкина1 Неволя была, кажется, музою-вдохновительницею нашего времени. «Шильонский узник», «Кавказский пленник», следуя один за другим, пением унылым, но вразумительным сердцу прервали долгое молчание, царствовавшее на Парнасе нашем. Недавно сожалели мы о редком явлении прозаических творений, но едва ли и стихотворческие произведения не так же редко мелькают на поприще пустынной нашей словесности. Мы богаты именами поэтов, но бедны творениями. Эпоха, ознаменованная деятельностию Хераскова, Державина, Дмитриева, Карамзина, была гораздо плодороднее нашей. Слава их не пресекалась долгими промежутками, но росла постепенно и беспрерывно. Ныне уже не существует постоянных сношений между современными поэтами и читателями: разумеется, говорим единственно о сношениях, основанных на взаимности, а не о тех насильственных и одиноких сношениях поэта, упорно осаждающего публику посылками, от коих она непреклон1 Книга сия продается у издателя оной, колл. сов. Ник. Ив. Гнедича, в доме, принадлежащем Императорской публичной библиотеке, на Невском проспекте. Цена на белой, с портретом автора (А. С. Пушкина) пять рублей. Экземпляры на веленевой бумаге все проданы. Иногородние, относясь прямо на имя г. Гнедича, получают книгу сию без оплаты за пересылку. Там же можно получать поэму Бейрона «Шильонский узник», перевод г. Жуковского. Цена на белой бумаге с картинкою три рубля. 133 Хрестоматия по истории русской литературной критики но отказывается. Явление упомянутых произведений, коими обязаны мы лучшим поэтам нашего времени, означает еще другое: успехи посреди нас поэзии романтической. На страх оскорбить присяжных приверженцев старой парнасской династии, решились мы употребить название еще для многих у нас дикое и почитаемое за хищническое и беззаконное1. Мы согласны: отвергайте название, но признайте существование. Нельзя не почесть за непоколебимую истину, что литература, как и все человеческое, подвержена изменениям; они многим из нас могут быть не по сердцу, но отрицать их невозможно или безрассудно. И ныне, кажется, настала эпоха подобного преобразования. Но вы, милостивые государи, называете новый род чудовищным потому, что почтеннейший Аристотель с преемниками вам ничего о нем не говорили. Прекрасно! Таким образом и ботаник должен почесть уродливым растение, найденное на неизвестной почве, потому что ни Линней, ни Бомар не означили его примет; таким образом и географ признавать не должен существования островов, открытых великодушною и просвещенною щедростию Румянцева, потому что о них не упомянуто в землеописаниях, изданных за год до открытия. Такое рассуждение могло бы быть основательным, если б природа и гений, на смех вашим законам и границам, не следовали в творениях своих одним вдохновениям смелой независимости и не сбивали ежедневно с места ваших геркулесовых столпов. Жалкая неудача! Вы водружаете их с такою важностию и с таким напряжением, а они разметывают их с такою легкостью и небрежностью! Во Франции еще понять можно причины войны, объявленной так называемому романтическому роду, и признать права его противников. Народная гордость одна и без союза предубеждений, которые всегда стоят за бывалое, должна ополчиться на защиту славы, утвержденной отечественными писателями и угрожаемой ныне нашествием чужеземных. Так называемые классики говорят: «Зачем принимать нам законы от Шекспиров, Бейронов, Шиллеров, когда мы имели своих Расинов, Вольте1 Противники поэзии романтической у нас устремляют в особенности удары свои на поражение некоторых слов, будто модных, будто новых. Даль, таинственная даль, туманная даль более прочих выражений возбуждает их классическое негодование. Так некогда слово милое было у некоторых опалено клеймом отвержения. Когда уверятся все эти немилые и недальные литераторы, что привязчивость к одним только словам была, есть и будет всегда (в литературе) любимым орудием и вернейшею вывескою ничтожности? Соч<инитель>. 134 Тема 3. Становление романтической критики ров, Лагарпов, которые сами были законодателями иностранных словесностей и даровали языку нашему преимущество быть языком образованного света?» Но мы о чем хлопочем, кого отстаиваем? Имеем ли уже литературу отечественную, пустившую глубокие корни и ознаменованную многочисленными, превосходными плодами? До сей поры малое число хороших писателей успели только дать некоторый образ нашему языку; но образ литературы нашей еще не означился, не прорезался. – Признаемся со смирением, но и с надеждою: есть язык русский, но нет еще словесности, достойного выражения народа могущего и мужественного! Что кинуло наш театр на узкую дорогу французской драматургии? Слабые и неудачные сколки Сумарокова с правильных, но бледных подлинников французской Мельпомены. Кроме Княжнина и Озерова, какое дарование отличное запечатлело направление, данное Сумароковым? Для каждого, не ограниченного предубеждением, очевидно, что наш единственный трагик если не формами, то, по крайней мере, духом своей поэзии совершенно отчуждался от французской школы. – Поприще нашей литературы так еще просторно, что, не сбивая никого с места, можно предположить себе цель и беспрепятственно к ней подвигаться. Нам нужны опыты, покушения: опасны нам не утраты, а опасен застой. И о чем сожалеют телохранители писателей заслуженных, которые в самом деле достойны были бы сожаления, когда бы слава их опиралась единственно на подобных защитников? Несмотря на то что пора торжественных од миновалась, польза, принесенная Ломоносовым и в одном стихотворном отношении, не утратила прав на уважение и признательность. Достоинства хороших писателей не затмятся ни раболепными и вялыми последователями, ни отважными и пылкими указателями новых путей. Автор повести «Кавказский пленник» (по примеру Бейрона в «Child-Harold») хотел передать читателю впечатления, действовавшие на него в путешествии. Описательная поэма, описательное послание придают невольно утомительное однообразие рассказу. Автор на сцене представляет всегда какое-то принужденное и холодное лицо: между им и читателем выгоднее для взаимной пользы иметь посредника. Пушкин, созерцая высоты поэтического Кавказа, поражен был поэзиею природы дикой, величественной, поэзиею нравов и обыкновений народа грубого, но смелого, воинственного, 135 Хрестоматия по истории русской литературной критики красивого; и, как поэт, не мог пробыть в молчании, когда все говорило воображению его, душе и чувствованиям языком новым и сильным. Содержание настоящей повести просто и, может быть, слишком естественно: для читателя ее много занимательного в описании, но мало в действии. Жаль, что автор не приложил более изобретения в драматической части своей поэмы: она была бы полнее и оживленнее. Характер Пленника нов в поэзии нашей, но сознаться должно, что он не всегда выдержан и, так сказать, не твердою рукою дорисован; впрочем, достоинство его не умаляется от некоторого сходства с героем Бейрона. Британский поэт не воображению обязан характером, приданным его герою. Не входя в исследование мнения почти общего, что Бейрон себя списывал в изображении Child-Harold, утвердить можно, что подобные лица часто встречаются взору наблюдателя в нынешнем положении общества. Преизбыток силы, жизни внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не может удовольствоваться уступками внешней жизни, щедрой для одних умеренных желаний так называемого благоразумия; необходимые последствия подобной распри: волнение без цели, деятельность, пожирающая, не прикладываемая к существенному; упования, никогда не совершаемые и вечно возникающие с новым стремлением, – должны неминуемо посеять в душе тот неистребимый зародыш скуки, приторности, пресыщения, которые знаменуют характер Child-Harold, Кавказского Пленника и им подобных. Впрочем, повторяем: сей характер изображен во всей полноте в одном произведении Бейрона; у нашего поэта он только означен слегка; мы почти должны угадывать намерение автора и мысленно пополнять недоконченное в его творении. Не лишнее, однако же, притом заметить, что в самом том месте, где он знакомит нас с характером своего героя, встречаются пропуски, которые, может быть, и утаивают от нас многие черты, необходимые для совершеннейшего изображения. Сделаем еще одно замечание. Автор представляет героя своего равнодушным, охлажденным, но не бесчеловечным, и мы с неудовольствием видим, что он, избавленный от плена рукою страстной Черкешенки, которая после этого подвига приносит на жертву жизнь уже для нее без цели и с коею разорвала она последнюю связь, не посвящает памяти ее ни одной признательной мысли, ни одного сострадательного чувствования. 136 Тема 3. Становление романтической критики Прощальным взором Объемлет он в последний раз Пустой аул с его забором, Поля, где пленный стадо пас, Стремнины, где влачил оковы, Ручей, где в полдень отдыхал, Когда в горах черкес суровый Свободы песню запевал. Стихи хорошие, но не соответствующие естественному ожиданию читателя, коего живое участие в несчастном жребии Черкешенки служит осуждением забвению Пленника и автора. Лицо Черкешенки совершенно поэтическое. В ней есть какаято неопределительность, очаровательность. Явление ее, конец – все представляется тайною. Мы знаем о ней только одно, что она любила, – и довольны. И подлинно: жребий, добродетели, страдания, радости женщины, обязанности ее не могут ли заключаться все в этом чувстве? По моему мнению, женщина, которая любила, совершила на земле свое предназначение и жила в полном значении этого слова. Спешу пояснить строгим толкователям, что и слово любить приемлется здесь в чистом, нравственном и строгом значении своем. Кстати о строгих толкователях, или, правильнее, перетолкователях, заметим, что, может быть, они поморщатся и от нового произведения поэта пылкого и кипящего жизнию. Пускай их мертвая оледенелость не уживается с горячностию дарования во цвете юности и силы, но мы, с своей стороны, уговаривать будем поэта следовать независимым вдохновениям своей поэтической Эгерии – в полном уверении, что бдительная цензура, которой нельзя упрекнуть у нас в потворстве, умеет и без помощи посторонней удерживать писателей в пределах позволенного. – Впрочем, увещевание наше излишне: как истинной чести двуличною быть нельзя, так и дарование возвышенное двуязычным быть не может. В непреклонной и благородной независимости оно умело бы предпочесть молчание языку заказному, выражению обоюдному и холодному мнений неубедительных, ибо источник их не есть внутреннее убеждение. Все, что принадлежит до живописи в настоящей повести, превосходно. Автор наблюдал как поэт и передает читателю свои наблюдения в самых поэтических красках. Поэзия в этом отношении 137 Хрестоматия по истории русской литературной критики не исключает верности, а, напротив, придает ее описанию: ничего нет лживее мертвого и, так сказать, буквального изображения того, что исполнено жизни и души. В подражательных творениях искусства чем более обмана, тем более истины. Стихосложение в «Кавказском пленнике» отличное. Можно, кажется, утвердить, что в целой повести нет ни одного вялого, нестройного стиха. Все дышит свежестью, все кипит живостью необыкновенною. Автор ее и в ранних опытах еще отроческого дарования уже поражал нас силою и мастерством своего языка стихотворного; впоследствии подвигался он быстро от усовершенствования к усовершенствованию и ныне являет нам степень зрелости совершенной. С жадною поспешностию и признательностию вписываем в книгу литературных упований обещание поэта рассказать Мстислава древний поединок. Слишком долго поэзия русская чуждалась природных своих источников и почерпала в посторонних родниках жизнь заемную, в коей оказывалось одно искусство, но не отзывалось чувству биение чего-то родного и близкого. Ожидая с нетерпением давно обещанной поэмы Владимира, который и после Хераскова еще ожидает себе песнопевца, желаем, чтобы молодой поэт, столь удачно последовавший знаменитому предшественнику в искусстве создать и присвоить себе язык стихотворный, не заставил нас, как и он, жаловаться на давно просроченные обязательства! Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова Вместо предисловия <к «Бахчисарайскому фонтану»> Кл. Правда ли, что молодой Пушкин печатает новую, третью поэму, то есть поэму по романтическому значению, а по нашему, не знаю, как и назвать. Изд. Да, он прислал «Бахчисарайский фонтан», который здесь теперь и печатается. Кл. Нельзя не пожалеть, что он много пишет; скоро выпишется. Изд. Пророчества оправдываются событием; для поверки нужно время; а между тем замечу, что если он пишет много в сравнении с нашими поэтами, которые почти ничего не пишут, то пишет мало в сравнении с другими своим европейскими сослуживцами. 138 Тема 3. Становление романтической критики Бейрон, Вальтер Скотт и еще некоторые неутомимо пишут и читаются неутомимо. Кл. Выставя этих двух британцев, вы думаете зажать рот критике и возражениям! Напрасно! Мы свойства не робкого! Нельзя судить о даровании писателя по пристрастию к нему суеверной черни читателей. Своенравная, она часто оставляет без внимания и писателей достойнейших. Изд. Не с достойнейшим ли писателем имею честь говорить? Кл. Эпиграмма – не суждение. Дело в том, что пора истинной, классической литературы у нас миновалась... Изд. А я так думал, что еще не настала... Кл. Что ныне завелась какая-то школа новая, никем не признанная, кроме себя самой; не следующая никаким правилам, кроме своей прихоти, искажающая язык Ломоносова, пишущая наобум, щеголяющая новыми выражениями, новыми словами... Изд. Взятыми из «Словаря Российской академии» и коим новые поэты возвратили в языке нашем право гражданства, похищенное, не знаю, за какое преступление, и без суда; ибо до сей поры мы руководствуемся более употреблением, которое свергнуто быть может употреблением новым. Законы языка нашего еще не приведены в уложение; и как жаловаться на новизну выражений? Разве прикажете подчинить язык и поэтов наших китайской неподвижности? Смотрите на природу! лица человеческие, составленные из одних и тех же частей, вылиты не все в одну физиогномию, а выражение есть физиогномия слов. Кл. Зачем же, по крайней мере, давать русским словам физиогномию немецкую? Что значит у нас этот дух, эти формы германские? Кто их ввел? Изд. Ломоносов! Кл. Вот это забавно! Изд. А как же? Разве он не брал в нововводимом стихосложении своем съемки с форм германских? Разве не подражал он современным немцам? Скажу более. Возьмите три знаменитые эпохи в истории нашей литературы, вы в каждой найдете отпечаток германский. Эпоха преобразования, сделанная Ломоносовым в русском стихотворстве; эпоха преобразования в русской прозе, сделанная Карамзиным; нынешнее волнение, волнение романтическое и противузаконное, если так хотите назвать его, не явно ли показы139 Хрестоматия по истории русской литературной критики вают господствующую наклонность литературы нашей! Итак, наши поэты-современники следуют движению, данному Ломоносовым; разница только в том, что он следовал Гинтеру и некоторым другим из современников, а не Гете и Шиллеру. Да и у нас ли одних германские музы распространяют свое владычество? (Смотрите, и во Франции – в государстве, которое, по крайней мере в литературном отношении, едва не оправдало честолюбивого мечтания о всемирной державе, – и во Франции сии хищницы приемлют уже некоторое господство и вытесняют местные, наследственные власти. Поэты, современники наши, не более грешны поэтовпредшественников. Мы еще не имеем русского покроя в литературе; может быть, и не будет его, потому что нет; но во всяком случае поэзия новейшая, так называемая романтическая, не менее нам сродна, чем поэзия Ломоносова или Хераскова, которую вы силитесь выставить за классическую. Что есть народного в «Петриаде» и «Россиаде» кроме имен? Кл. Что такое народность в словесности? Этой фигуры нет ни в пиитике Аристотеля, ни в пиитике Горация. Изд. Нет ее у Горация в пиитике, но есть она в его творениях. Она не в правилах, но в чувствах. Отпечаток народности, местности: вот что составляет, может быть, главное существеннейшее достоинство древних и утверждает их право на внимание потомства. Глубокомысленный Миллер недаром во «Всеобщей истории» своей указал на Катулла в числе источников и упомянул о нем в характеристике того времени1. Кл. Уже вы, кажется, хотите в свою вольницу романтиков завербовать и древних классиков. Того смотри, что и Гомер и Виргилий были романтики. Изд. Назовите их как хотите; но нет сомнения, что Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с главами романтической школы, чем с своими холодными, рабскими последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним числом. Неужели Гомер сотворил «Илиаду», предугадывая Аристотеля и Лонгина и в угождение какой-то классической совести, еще тогда и не вымышленной? Да и позвольте спросить у себя и у старейшин ваших, определено ли в точности, что такое романти1 «Quellen der Geschichte der Römer» <«Источники истории римлян» (нем.)> 140 Тема 3. Становление романтической критики ческий род и какие имеет он отношения и противуположности с классическим? Признаюсь, по крайней мере за себя, что еще не случилось мне отыскивать ни в книгах, ни в уме своем, сколько о том ни читал, сколько о том ни думал, полного, математического, удовлетворительного решения этой задачи. Многие веруют в классический род потому, что так им велено; многие не признают романтического рода потому, что он не имеет еще законодателей, обязавших в верности безусловной и беспрекословной. На романтизм смотрят как на анархию своевольную, разрушительницу постановлений, освященных древностию и суеверием. Шлегель и гжа Сталь не облечены в латы свинцового педантства, от них не несет схоластическою важностию, и правила их для некоторых людей не имеют веса, потому что не налегают с важностию; не все из нас поддаются заманчивости, увлечению, многие только что порабощаются господству. Стадо подражателей, о коих говорит Гораций, не переводится из рода в род. Что действует на умы многих учеников? Добрая указка, с коей учители по пальцам вбивают ум в своих слушателей. Чем пастырь гонит свое стадо по дороге прогонной? Твердым посохом. Наша братья любит раболепствовать... Кл. Вы так много мне здесь наговорили, что я не успел кстати сделать отпор вам следующим возражением: доказательством, что в романтической литературе нет никакого смысла, может служить то, что и самое название ее не имеет смысла определенного, утвержденного общим условием. Вы сами признались в том! весь свет знает, что такое классическая литература, чего она требует... Изд. Потому что условились в определении, а для романтической литературы еще не было времени условиться. Начало ее в природе; она есть; она в обращении, но не поступила еще в руки анатомиков. Дайте срок! придет час, педантство и на ее воздушную одежду положит свое свинцовое клеймо. В котором-нибудь столетии Бейрон, Томас Мур, как ныне Анакреон или Овидий, попадутся под резец испытателей, и цветы их яркой и свежей поэзии потускнеют от кабинетной пыли и закоптятся от лампадного чада комментаторов, антиквариев, схоластиков; прибавим, если только в будущих столетиях найдутся люди, живущие чужим умом и кои, подобно вампирам, роются в гробах, гложут и жуют мертвых, не забывая притом кусать и живых... 141 Хрестоматия по истории русской литературной критики Кл. Позвольте между тем заметить вам мимоходом, что ваши отступления совершенно романтические. – Мы начали говорить о Пушкине, от него кинуло нас в древность, а теперь забежали вы и в будущие столетия. Изд. Виноват! я и забыл, что для вашего брата классика такие походы не в силу. Вы держитесь единства времени и места. У вас ум домосед. Извините – я остепенюсь; чего вы от меня желаете? Кл. Я желал бы знать о содержании так называемой поэмы Пушкина. Признаюсь, из заглавия не понимаю, что тут может быть годного для поэмы. Понимаю, что можно написать к фонтану стансы, даже оду... Изд. Да, тем более что у Горация уже есть «Бландузский ключ». Кл. Впрочем, мы романтиками приучены к нечаянностям. Заглавие у них эластического свойства: стоит только захотеть, и оно обхватит все видимое и невидимое; или обещает одно, а исполнит совершенно другое, но расскажите мне... Изд. Предание, известное в Крыму и поныне, служит основанием поэме. Рассказывают, что хан Керим Гирей похитил красавицу Потоцкую и содержал ее в бахчисарайском гареме; полагают даже, что он был обвенчан с нею. Предание сие сомнительно, и г. Муравьев-Апостол в Путешествии своем по Тавриде, недавно изданном, восстает, и, кажется, довольно основательно, против вероятия сего рассказа. Как бы то ни было – сие предание есть достояние поэзии. Кл. Так! в наше время обратили муз в рассказчиц всяких небылиц! Где же достоинство поэзии, если питать ее одними сказками? Изд. История не должна быть легковерна; поэзия – напротив. Она часто дорожит тем, что первая отвергает с презрением, и наш поэт очень хорошо сделал, присвоив поэзии бахчисарайское предание и обогатив его правдоподобными вымыслами; а еще и того лучше, что он воспользовался тем и другим с отличным искусством. Цвет местности сохранен в повествовании со всею возможною свежестью и яркостьd. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге. По мнению судей, коих приговор может считаться окончательным в словесности нашей, поэт явил в новом произведении признак дарования, зреющего более и более. 142 Тема 3. Становление романтической критики Кл. Кто эти судии? мы других не признаем, кроме «Вестника Европы» и «Благонамеренного»; и то потому, что пишем с ними заодно. Дождемся, что они скажут! Изд. Ждите с Богом! а я пока скажу, что рассказ у Пушкина жив и занимателен. В произведении его движения много. В раму довольно тесную вложил он действие полное, не от множества лиц и сцепления различных приключений, но от искусства, с каким поэт умел выставить и оттенить главные лица своего повествования! Действие зависит, так сказать, от деятельности дарования: слог придает ему крылья или гирями замедляет ход его. В творении Пушкина участие читателя поддерживается с начала до конца. – До этой тайны иначе достигнуть нельзя, как заманчивостью слога. Кл. Со всем тем я уверен, что, по обыкновению романтическому, все это действие только слегка обозначено. Читатель в подобных случаях должен быть подмастерьем автора и за него досказывать. Легкие намеки, туманные загадки: вот материалы, изготовленные романтическим поэтом, а там читатель делай из них, что хочешь. Романтический зодчий оставляет на произвол каждому распоряжение и устройство здания – сущего воздушного замка, не имеющего ни плана, ни основания. Изд. Вам не довольно того, что вы перед собою видите здание красивое: вы требуете еще, чтоб виден был и остов его. В изящных творениях довольно одного действия общего; что за охота видеть производство? Творение искусства – обман. Чем менее выказывается прозаическая связь в частях, тем более выгоды в отношении к целому. Частые местоимения в речи замедляют ее течение, охлаждают рассказ. Есть в изобретении и в вымысле также свои местоимения, от коих дарование старается отделываться удачными эллипсисами. Зачем все высказывать и на все напирать, когда имеем дело с людьми понятия деятельного и острого? а о людях понятия ленивого, тупого и думать нечего. Это напоминает мне об одном классическом читателе, который никак не понимал, что сделалось в «Кавказском пленнике» с черкешенкою при словах: И при луне в водах плеснувших Струистый исчезает круг. Он пенял поэту, зачем тот не облегчил его догадливости, сказав прямо и буквально, что черкешенка бросилась в воду и утонула. 143 Хрестоматия по истории русской литературной критики Оставим прозу для прозы! И так довольно ее в житейском быту и в стихотворениях, печатаемых в «Вестнике Европы». Р. S. Тут Классик мой оставил меня с торопливостию и гневом, и мне вздумалось положить на бумагу разговор, происходивший между нами. Перечитывая его, мне впало в ум, что могут подозревать меня в лукавстве; скажут: «Издатель нарочно ослабил возражения своего противника и с умыслом утаил все, что могло вырваться у него дельного на защиту своего мнения!» Перед недоверчивостью оправдываться напрасно! но пускай обвинители мои примут на себя труд перечитать все, что в некоторых из журналов наших было сказано и пересказано насчет романтических опытов – и вообще насчет нового поколения поэзии нашей: если из всего того выключить грубые личности и пошлые насмешки, то, без сомнения, каждый легко уверится, что мой собеседник под пару своим журнальным клевретам. В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие Решаясь говорить о направлении нашей поэзии в последнее десятилетие, предвижу, что угожу очень не многим и многих против себя вооружу. И я наравне со многими мог бы восхищаться неимоверными успехами нашей словесности. Но льстец всегда презрителен. Как сын отечества, поставляю себе обязанностию смело высказать истину. От Ломоносова до последнего преобразования нашей словесности Жуковским и его последователями у нас велось почти без промежутка поколение лириков, коих имена остались стяжанием потомства, коих творениями должна гордиться Россия. Ломоносов, Петров, Державин, Дмитриев, спутник и друг Державина – Капнист, некоторым образом Бобров, Востоков и в конце предпослед144 Тема 3. Становление романтической критики него десятилетия – поэт, заслуживающий занять одно из первых мест на русском Парнасе, кн. Шихматов – предводители сего мощного племени: они в наше время почти не имели преемников. Элегия и послание у нас вытеснили оду. Рассмотрим качества сих трех родов и постараемся определить степень их поэтического достоинства. Сила, свобода, вдохновение – необходимые три условия всякой поэзии. Лирическая поэзия вообще не иное что, как необыкновенное, то есть сильное, свободное, вдохновенное изложение чувств самого писателя. Из сего следует, что она тем превосходнее, чем более возвышается над событиями ежедневными, над низким языком черни, не знающей вдохновения. Всем требованиям, которые предполагает сие определение, вполне удовлетворяет одна ода, а посему, без сомнения, занимает первое место в лирической поэзии или, лучше сказать, одна совершенно заслуживает название поэзии лирической. Прочие же роды стихотворческого изложения собственных чувств – или подчиняют оные повествованию, как-то гимн, а еще более баллада, и, следовательно, переходят в поэзию эпическую; или же ничтожностию самого предмета налагают на гений оковы, гасят огонь его вдохновения. В последнем случае их отличает от прозы одно только стихосложение, ибо прелестью и благозвучием – достоинствами, которыми они по необходимости ограничиваются, – наравне с ними может обладать и красноречие. Ода, увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги героев и славу Отечества, воспаряя к престолу Неизреченного и пророчествуя пред благоговеющим народом, парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя. Сверх того, в оде поэт бескорыстен: он не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд промысла, торжествует о величии родимого края, мещет перуны в супостатов, блажит праведника, клянет изверга. В элегии – новейшей и древней – стихотворец говорит об самом себе, об своих скорбях и наслаждениях. Элегия почти никогда не окрыляется, не ликует: она должна быть тиха, плавна, обдуманна; должна, говорю, ибо кто слишком восторженно радуется собственному счастию – смешон; печаль же неистовая не есть поэзия, а 145 Хрестоматия по истории русской литературной критики бешенство. Удел элегии – умеренность, посредственность (Горациева aurea mediocritas1)2. Son enthousiasme paisible N'a point ces tragiques fureurs; De sa veine féconde et pure Coulent avec nombre et mesure De ruisseaux de lait ot de miel. Et ce pusill anime Icare Trahi par l'aile de Pindare Ne retombe jamais du ciel!3 Она только тогда занимательна, когда, подобно нищему, ей удастся (сколь жалкое предназначение!) вымолить, выплакать участие или когда свежестью, игривою пестротою цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг приводит в забвение ничтожность его. Последнему требованию менее или более удовлетворяют элегии древних и элегии Гетевы, названные им римскими; но наши Греи почти4 вовсе не искушались в сем светлом, полуденном роде поэзии. Послание у нас – или та же элегия, только в самом невыгодном для ней облачении, или сатирическая замашка, каковы сатиры остряков прозаической памяти Горация, Буало и Попа, или просто письмо в стихах. Трудно не скучать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих несчастиях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они иногда в трехстах трехстопных стихах друг другу рассказывают, что – слава богу! – здоровы и страх как жалеют, что так давно не видались! Уже легче, если по крайней мере ретивый писец вместо того, чтоб начать: 1 Золотая середина (лат.). Вольтер сказал, что все роды сочинений хороши, кроме скучного; он не сказал, что все равно хороши. Но Буало – верховный, непреложный законодатель толпы русских и французских Сен Моров и Ожеров – объявил: «Un sonnet sans défaut vaut seul une long роèmе!» (Сонет без промахов стоит длинной поэмы! – фр.). Есть, однако же, варвары, в глазах коих одна отважность предпринять создание эпопеи взвешивает уже всевозможные сонеты, триолеты, шарады и – может быть, баллады.– Соч<инитель>. 3 Его мирный восторг далек от трагических неистовств, из его плодотворного и чистого порыва проистекают, ритмично и размеренно, ручьи млека и меда, и этот малодушный Икар, которому изменило крыло Пиндара, никогда не падает с неба! (фр.). 4 Барон Дельвиг написал несколько стихотворений, в которых, сколько помню, можно получить довольно верное понятие о духе древней элегии. Впрочем, не знаю, отпечатаны они или нет. – Соч<инитель>. 2 146 Тема 3. Становление романтической критики Милостивый государь NN, – воскликнет: ...чувствительный певец, Тебе (и мне) определен бессмертия венец! – а потом ограничится объявлением, что читает Дюмарсе, учится азбуке и логике, никогда не пишет ни семо, ни овамо и желает быть ясным! Душе легче – говорю, – если он вдобавок не снабдит нас подробным описанием своей кладовой и библиотеки и швабских гусей и русских уток своего приятеля. Теперь спрашивается: выиграли ли мы, променяв оду на элегию и послание? Жуковский первый у нас стал подражать новейшим немцам, преимущественно Шиллеру. Современно ему Батюшков взял себе в образец двух пигмеев французской словесности – Парни и Мильвуа. Жуковский и Батюшков на время стали корифеями наших стихотворцев и особенно той школы, которую ныне выдают нам за романтическую. Но что такое поэзия романтическая? Она родилась в Провансе и воспитала Данта, который дал ей жизнь, силу и смелость, отважно сверг с себя иго рабского подражания римлянам, которые сами были единственно подражателями греков, и решился бороться с ними. Впоследствии в Европе всякую поэзию свободную, народную стали называть романтическою. Существует ли в сем смысле романтическая поэзия между немцами? Исключая Гете, и то только в некоторых, немногих его творениях, они всегда и во всяком случае были учениками французов, римлян, греков, англичан, наконец – итальянцев, испанцев. Чтó же отголосок их произведений? что же наша романтика? Не будем, однако же, несправедливы. При совершенном неведении древних языков, которое отличает, к стыду нашему, всех почти русских писателей, имеющих некоторые дарования, без сомнения, знание немецкой словесности для нас не без пользы. Так, например, влиянию оной обязаны мы, что теперь пишем не одними александринами и четырехстопными ямбическими и хореическими стихами. Изучением природы, силою, избытком и разнообразием чувств, картин, языка и мыслей, народностию своих творений великие поэты Греции, Востока и Британии неизгладимо врезали имена свои 147 Хрестоматия по истории русской литературной критики на скрижалях бессмертия. Ужели смеем надеяться, что сравнимся с ними по пути, по которому идем теперь? Переводчиков никто, кроме наших дюжинных переводчиков, не переводит. Подражатель не знает вдохновения: он говорит не из глубины собственной души, а принуждает себя пересказать чужие понятия и ощущения. Сила? Где найдем ее в большей части своих мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бесцветных произведений? У нас все мечта и призрак, все мнится, и кажется, и чудится, все только будто бы, как бы, нечто, что-то. Богатство и разнообразие? Прочитав любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского, знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уныния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пережевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим малодушием в периодических изданиях1. Если бы сия грусть не была просто риторическою фигурою, иной, судя по нашим Чайльдам-Гарольдам, едва вышедшим из пелен, мог бы подумать, что у нас на Руси поэты уже рождаются стариками. Картины везде одни и те же: луна, которая – разумеется – уныла и бледна, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетворения Труда, Неги, Покоя, Веселия, Печали, Лени писателя и Скуки читателя; в особенности же – туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя. Из слова же русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык, un petit jargon de coterie2. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты славянские и обо- 1 Да не подумают, однако же, что не признаю ничего поэтического в сем сетовании об утрате лучшего времени жизни человеческой, юности, сулящей столько наслаждений, ласкающей душу столь сладкими надеждами. Одно, два стихотворения, ознаменованные притом печатью вдохновения, проистекшие от сей печали, должны возбудить живое сочувствие, особенно в юношах, ибо кто, молодой человек, не вспомнит, что при первом огорчении мысль о ранней кончине, о потере всех надежд представилась его душе, утешила и умилила его? Но что сказать о словесности, которая вся почти основана на сей одной мысли? Соч<инитель>. 2 Кружковый жаргон (фр.). 148 Тема 3. Становление романтической критики гащают его архитравами, колоннами, баронами, траурами, германизмами, галлицизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются заменить причастия и деепричастия бесконечными местоимениями и союзами. О мыслях и говорить нечего. Печатью народности ознаменованы какие-нибудь 80 стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову» Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина, два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина. Свобода, изобретение и новость составляют главные преимущества романтической поэзии перед так называемою классическою позднейших европейцев. Родоначальники сей мнимой классической поэзии более римляне, нежели греки. Она изобилует стихотворцами – не поэтами, которые в словесности то же, что бельцы в мире физическом. Во Франции сие вялое племя долго господствовало: лучшие, истинные поэты сей земли, например, Расин, Корнель, Мольер, несмотря на свое внутреннее омерзение, должны были угождать им, подчинять себя их условным правилам, одеваться в их тяжелые кафтаны, носить их огромные парики и нередко жертвовать безобразным идолам, которых они называли вкусом, Аристотелем, природою, поклоняясь под сими именами одному жеманству, приличию, посредственности. Тогда ничтожные расхитители древних сокровищ частым, холодным повторением умели оподлить лучшие изображения, обороты, украшения оных: шлем и латы Алкидовы подавляли карлов, не только не умеющих в них устремляться в бой и поражать сердца и души, но лишенных под их бременем жизни, движения, дыхания. Не те же ли повторения наши: младости и радости, уныния и сладострастия, и те безымянные, отжившие для всего брюзги, которые – даже у самого Байрона («Childe Harold»), надеюсь, далеко не стóят не только Ахилла Гомерова, нижé Ариостова Роланда, ни Тассова Танкреда, ни славного Сервантесова Витязя печального образа, – которые слабы и недорисованы в «Пленнике» и в элегиях Пушкина, несносны, смешны под пером его переписчиков? Будем благодарны Жуковскому, что он освободил нас из-под ига французской словесности и от управления нами по законам Лагарпова «Лицея» и Баттёева «Курса»; но не позволим ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдесятеро бóльшим перед ним дарованием, наложить на нас оковы немецкого или английского владычества! 149 Хрестоматия по истории русской литературной критики Всего лучше иметь поэзию народную. Но Расином Франция отчасти обязана Еврипиду и Софоклу? Человек с талантом, подвизаясь на пути своих великих предшественников, иногда открывает области новых красот и вдохновений, укрывшиеся от взоров сих исполинов, его наставников. Итак, если уже подражать, не худо знать, кто из иностранных писателей прямо достоин подражания? Между тем наши живые каталоги, коих взгляды, разборы, рассуждения беспрестанно встречаешь в «Сыне отечества», «Соревнователе просвещения и благотворения», «Благонамеренном» и «Вестнике Европы», обыкновенно ставят на одну доску словесности греческую и – латинскую, английскую и – немецкую; великого Гете и – недозревшего Шиллера; исполина между исполинами Гомера и – ученика его Виргилия; роскошного, громкого Пиндара и – прозаического стихотворителя Горация; достойного наследника древних трагиков Расина и – Вольтера, который чужд был истинной поэзии; огромного Шекспира и – однообразного Байрона! Было время, когда у нас слепо припадали перед каждым французом, римлянином или греком, освященным приговором Лагарпова «Лицея». Ныне благоговеют перед всяким немцем или англичанином, как скоро он переведен на французский язык: ибо французы и по сю пору не перестали быть нашими законодавцами; мы осмелились заглядывать в творения соседей их единственно потому, что они стали читать их. При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей. Но не довольно – повторяю – присвоить себе сокровища иноплеменников: да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные – лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности. Станем надеяться, что наконец наши писатели, из коих особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Здесь особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая, подают великие надежды. Я не обинулся смело сказать свое 150 Тема 3. Становление романтической критики мнение насчет и его недостатков; несмотря на то, уверен, что он предпочтет оное громким похвалам господина издателя «Северного архива». Публике мало нужды, что я друг Пушкина, но сия дружба дает мне право думать, что он, равно как и Баратынский, достойный его товарищ, не усомнятся, что никто в России более меня не порадуется их успехам! Сеидам же, которые непременно везде, где только могут, провозгласят меня зоилом и завистником, буду отвечать только тогда, когда найду их нападки вредными для драгоценной сердцу моему отечественной словесности. Опровержения благонамеренных, просвещенных противников приму с благодарностию; прошу их переслать оные для помещения в «Мнемозину» и наперед объявляю всем и каждому, что любимейшее свое мнение охотно променяю на лучшее. Истина для меня дороже всего на свете! А. С. ПУШКИН О поэзии классической и романтической Наши критики не согласились еще в ясном различии между родами классическим и романтическим. Сбивчивым понятием о сем предмете обязаны мы французским журналистам, которые обыкновенно относят к романтизму все, что им кажется ознаменованным печатью мечтательности и германского идеологизма или основанным на предрассудках и преданиях простонародных: определение самое неточное. Стихотворение может являть все сии признаки, а между тем принадлежать к роду классическому. Если вместо формы стихотворения будем [брать] за основание только дух, в котором оно писано, – то никогда не выпутаемся из определений. Гимн Ж.-Б. Руссо духом своим, конечно, отличается от оды Пиндара, сатира Ювенала от сатиры Горация, О с в о б о ж д е н н ы й И е р у с а л и м от Э н е и д ы – однакож все они принадлежат к роду классическому. 151 Хрестоматия по истории русской литературной критики К сему роду должны отнестись те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам или коих образцы они нам оставили; следственно сюда принадлежат: эпопея, поэма дидактическая, трагедия, комедия, ода, сатира, послание, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и баснь. Какие же роды стихотворения должны отнестись к поэзии романтической? Те, которые не были известны древним, и те, в коих прежние формы изменились или заменены другими. Не считаю за нужное говорить о поэзии греков и римлян: каждый образованный европеец должен иметь достаточное понятие о бессмертных созданиях величавой древности. Взглянем на происхождение и на постепенное развитие поэзии новейших народов. Западная империя клонилась быстро к падению, а с нею науки, словесность и художества. Наконец она пала; просвещение погасло, невежество омрачило окровавленную Европу. Едва спаслась латинская грамота; в пыли книгохранилищ монастырских монахи соскоблили с пергамента стихи Лукреция и Виргилия и вместо их писали на нем свои хроники и легенды. Поэзия проснулась под небом полуденной Франции – рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значущее, имело [важное] влияние на словесность новейших народов. Ухо обрадовалось удвоенным ударениям звуков – побежденная трудность всегда приносит нам удовольствие – любить размеренность, соответственность свойственно уму человеческому. Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее все возможные изменения стихов, придумывали самые затруднительные формы: явились virlet, баллада, рондо, сонет и проч. От сего произошла необходимая натяжка выражения, какое-то жеманство, вовсе неизвестное древним; мелочное остроумие заменило чувство, которое не может выражаться триолетами. Мы находим несчастные сии следы в величайших гениях новейших времен. Но ум не может довольствоваться одними игрушками гармонии, воображение требует картин и рассказов. Трубадуры обратились к новым источникам вдохновения, воспели любовь и войну, оживили народные предания, – родился ле, роман и фаблио. Темные понятия о древней трагедии и церковные празднества подали повод к сочинению таинств (mystères). Они почти все пи152 Тема 3. Становление романтической критики саны на один образец и подходят под одно уложенье, но, к несчастию, в то время не было Аристотеля для установления непреложных законов мистической драматургии. Два обстоятельства имели решительное действие на дух европейской поэзии: нашествие мавров и крестовые походы. Мавры внушили ей исступление и нежность любви, приверженность к чудесному и роскошное красноречие востока; рыцари сообщили свою набожность и простодушие, свои понятия о геройстве и вольность нравов походных станов Годфреда и Ричарда. Таково было смиренное начало романтической поэзии. Если бы она остановилась на сих опытах, то строгие приговоры французских критиков были бы справедливы, но отрасли ее быстро и пышно процвели, и она является нам соперницею древней музы. Италия присвоила себе ее эпопею. Полуафриканская Гишпания завладела трагедией и романом. Англия противу имен Dante, Ариосто и Кальдерона с гордостию выставила имена Спенсера, Мильтона и Шекспира, в Германии (что довольно странно) отличилась новая сатира, едкая, шутливая, [коей памятником остался РеникеФукс]. Во Франции тогда поэзия все еще младенчествовала: лучший стихотворец времени [Франциска I] Rima des triolets, fit fleurir la ballade1. Проза уже имела сильный перевес: Монтань, Рабле были современниками Марота. В Италии и в Гишпании народная поэзия уже существовала прежде появления ее гениев. Они пошли по дороге уже проложенной: были поэмы прежде Ариостова О р л а н д о , были трагедии прежде созданий de Vega и Кальдерона. Во Франции просвещение застало поэзию в ребячестве, без всякого направления, безо всякой силы. Образованные умы века Людовика XIV справедливо презрели ее ничтожность и обратили ее к древним образцам. Буало обнародовал свой коран – и французская словесность ему покорилась. Сия лжеклассическая поэзия, образованная в передней и никогда не доходившая далее гостиной, не могла отучиться от некото1 Слагал триолеты, содействовал расцвету баллады. 153 Хрестоматия по истории русской литературной критики рых врожденных привычек, и мы видим в ней все романтическое жеманство, облеченное в строгие формы классические. P. S. Не должно думать, однакож, чтоб и во Франции не осталось никаких памятников чистой романтической поэзии. Сказки Лафонтена и Вольтера и Дева сего последнего носят на себе ее клеймо. Не говорю уже о многочисленных подражаниях тем и той (подражаниях по большей части посредственных: легче превзойти гениев в забвении всех приличий, нежели в поэтическом достоинстве). <Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»> Статьи О направлении нашей поэзии и Р а з г о в о р с г . Б у л г а р и н ы м , напечатанные в М н е м о з и н е , послужили основанием всего, что сказано было противу р<омантической> литературы в последние два года. Статьи сии написаны человеком ученым и умным. [Правый или неправый], он везде предлагает даже причины своего образа мыслей и доказательства своих суждений, – дело довольно редкое в нашей литературе. Никто не стал опровергать его, – потому ли, что все с ним согласились, потому ли, что не хотели связаться с атлетом, повидимому сильным и опытным. Несмотря на то, многие из суждений его ошибочны во всех отношениях. Он разделяет русскую поэзию на лирическую и эпическую. К первой относит произведения старинных поэтов наших, ко второй Жуковского и его последователей. Теперь положим, что разделение сие справедливо, и рассмотрим, каким образом критик определяет степень достоинства сих двух родов. «Мы напр<асно>»... – выписываем сие мнение, потому что оно совершенно согласно с нашим. Что такое сила в поэзии? сила в изобретеньи, в расположении плана, в слоге ли? Свобода? в слоге, в расположении, – но какая же свобода в слоге Ломоносова и какого плана требовать в торжественной оде? 154 Тема 3. Становление романтической критики Вдохновение? есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает вдохновение с восторгом. ___________________ Нет; решительно нет – восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частями в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следственно не в силе произвесть истинное великое совершенство (без которого нет лирической поэзии). Гомер неизмеримо выше Пиндара – ода, не говоря уже об элегии, стоит на низших степенях поэм – трагедия, комедия, сатира – все более ее требуют творчества (fantaisie), воображения – гениального знания природы. Но плана нет в оде и не может быть – единый план А д а есть уже плод высокого гения. Какой план в О л и м п и й с к и х о д а х Пиндара? Какой план в В о д о п а д е , лучшем произведении Державина? Ода исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого. ___________________ Восторг есть напряженное состояние единого воображения. Вдохновение может [быть] без восторга, а восторг без вдохновения [не существует]. Примечания Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) О критике (1809) Статья напечатана в «Вестнике Европы», издателем которого с 1808 г. был сам Жуковский. В 1809 году журнал издавался совместно с М. Т. Каченовским. Источник текста: Жуковский В. А. Избранное / В. А. Жуковский; [сост., вступ. ст. и примеч. И. М. Семенко]. – М. : Правда, 1986. – С. 391–399. Рафаэлева Мадонна (1823) Отрывок из письма Жуковского от 29 июня 1821 г. из Дрездена вел. кн. Александре Федоровне, которую он обучал русскому языку. Впервые напечатано в альманахе «Полярная звезда на 1824 год». 155 Хрестоматия по истории русской литературной критики Источник текста: Там же. С. 399–403. Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) Речь о влиянии легкой поэзии на язык (1816) Вион, Мосх (II в. до н. э.) – греческие поэты, работающие в буколическом жанре. Симонид (VI–V вв. до н. э.) – греческий поэт с острова Кеос, писавший в разных жанрах (эпиниккии, траурные песни, эпиграммы и др.). Феокрит (IV–III вв. до н. э.) – греческий поэт, создатель жанра идиллии. …мудрец Феосский – Анакреон. Кориолан (VI в. до н. э.) – римский полководец, который, будучи противником плебеев, перешел в лагерь врагов Рима. Во время войны вольсков с римлянами по настоянию матери и жены пощадил Рим, за что и был убит. Маро Клеман (1469–1544) – деятель французского Возрождения, автор сатирических и прециозно-галантных стихов. Валлер (1605–1687) – английский поэт, чья любовная лирика отличалась изящностью стиля. Гагедорн (1798–1854) – немецкий поэт, автор анакреонтических стихов. …творца «Мессиады» – немецкого поэта Ф. Г. Клопштока (1724–1803). Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович – поэт карамзинского круга. Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830) – поэт, критик, автор переложений античных поэтов (1752–1829). Востоков Александр Христофорович (1781–1864) – поэт и филолог, сторонник высоких жанров. Долгоруков Иван Михайлович (1764–1823) – член «Общества любителей русской словесности», также писал стихи. Все роды хороши, кроме скучного – цитата из предисловия Вольтера к его пьесе «Блудный сын». В отважном мальчике грядущего поэта! – стих И. И. Дмитриева из «Послания от английского стихотворца Попа к доктору Арбуноту». Источник текста: Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе / К. Н. Батюшков; изд. подгот. И. М. Семенко, [отв. ред. Д. Д. Благой]. – М. : Наука, 1977. – С. 8–19. – Печ. с сокр. Нечто о поэте и поэзии (1816) …сказал известный стихотворец… – Г. Р. Державин в своем трактате «Рассуждение о лирической поэзии» (1811). … говорил Монтань… – из предисловия М. Монтеня к его «Опытам». Речь людей такова, какова была их жизнь – изречение Сенеки из «Писем к Луциллию» (epist. 114). …красноречивая женщина нашего времени…– Жермена де Сталь. Приведена цитата из второй части ее книги «О Германии» (1810). …говоря покровителю своему, Мессале… – пересказывается 3-я элегия из I книги римского поэта Тибулла (I в. до н. э.). Под большой скалой… – стихи из канцоны CXXXV Петрарки. Беллона – в римской мифологии богиня войны. Утешно вспоминать под старость детски леты…– цитата из сказки И. И. Дмитриева «Воздушные башни» (1794). 156 Тема 3. Становление романтической критики …рассказывая битву Мандрикала… – речь идет о фрагменте из поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд» (строфы LVIII – LXIV из песни XXIV). …поэт говорит о своей милой Мантуе…– речь идет о таких произведениях Вергилия, как IX эклога, поэмы «Георгики» и «Энеида». …эрских бардов…– ирландских (кельтских) певцов. …бард Морвена… – Оссиан. Женгене Пьер-Луи (1748–1816) – французский критик, автор «Истории итальянской литературы», чье рассуждение о Тассо приводится Батюшковым. Закрылись крайние с пучиною леса…– цитата из второй песни поэмы Ломоносова «Петр Великий». Источник текста: Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе / К. Н. Батюшков; изд. подгот. И. М. Семенко, [отв. ред. Д. Д. Благой]. – М. : Наука, 1977. – С. 20–28. – Печ. с сокр. Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) О «Кавказском пленнике», повести соч. А. Пушкина Впервые – Сын отечества. 1822. Ч. 82. № 49. …наш единственный трагик…– речь идет о драматурге В. А. Озерове. Эгерия – в римской мифологии нимфа, мудрая советчица царя Нумы Помпилия. …обещание поэта рассказать Мстислава древний поединок – об этом сказано в эпилоге к «Кавказскому пленнику». Ожидая…давно обещанной поэмы Владимира, который и после Хераскова еще ожидает себе песнопевца… – имеется в виду замысел В. А. Жуковского создать романтическую эпопею «Владимир»; М. М. Херасков – создатель эпической поэмы «Владимир Возрожденный» (1785). Источник текста: Критика первой четверти XIX века / [сост., вступ. ст. и примеч. М. Л. Майофис, А. Р. Курилкина]. – М. : Олимп : АСТ, 2002. – С. 396–402. – (Библиотека русской критики). Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова Впервые – Пушкин А. Бахчисарайский фонтан. М., 1824. «Петриада» – незавершенная эпическая поэма М. В. Ломоносова. «Россиада» – эпическая поэма М. М. Хераскова. …Миллер во «Всеобщей истории своей»… – И. Миллер – автор труда «Двадцать четыре книги всеобщей истории, в особенности европейской» (1810). «Бландузский ключ» – ода Горация. …Муравьев-Апостол в Путешествии своем по Тавриде… – фрагмент из «Путешествия по Тавриде» Муравьева-Апостола был помещен в конце первого издания «Бахчисарайского фонтана». Источник текста: Там же. С. 438–444. Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846) О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие Впервые – альманах «Мнемозина», 1824. Ч.2. Son enthousiasme paisible… – цитата из оды А. де Ламартина «Восторг» (1819). 157 Хрестоматия по истории русской литературной критики … они…в трехстах трехстопных стихах… – намек на стихи Батюшкова «Мои Пенаты», состоящие из 316 строк, написанные трехстопным ямбом. …читает Дюмарсе… желает быть ясным! – пародирование строк из начала послания В. Л. Пушкина «К В. А. Жуковскому» (1810). …снабдит нас подробным описанием … библиотеки… – иронический намек на описание библиотек в «Моих Пенатах» Батюшкова, в «Библиотеке» П. А. Вяземского. …швабских гусей… – намек на стихотворение В. А. Жуковского «К Батюшкову» (1811). …для немногих… – речь идет о сборнике Жуковского «Для немногих» (1818). По законам Лагарпова «Лицея» и Баттёева «Курса»… – автор указывает на шестнадцатитомный труд Ж.-Ф. Лагарпа «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (1799–1806) и «Курс литературы» (1750) французского эстетика Ш. Баттё. Танкред – герой поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580). …господина издателя «Северного архива»… – речь идет о Ф. В. Булгарине. Источник текста: «Их вечен с вольностью союз»: Литературная критика и публицистика декабристов / [сост., вступ. ст. и коммент. С. С. Волка]. – М. : Современник, 1983. – С. 137–133. Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) О поэзии классической и романтической Статья написана в1825 году. Освобожденный Иерусалим – поэма Т. Тассо (1580). Годфред – Готфрид Бульонский (1060(?)–1100) – герцог Нижней Лотарингии, военачальник Первого крестового похода (1096). Ричард – английский король (1157–1199), вступивший на престол в 1189 г. Марот – Маро Клеман (1495–1544) – французский поэт. Дева – имеется в виду поэма Вольтера «Орлеанская девственница». Источник текста: Пушкин-критик / [сост. и примеч. Н. В. Богословского]. – М. : Гос. изд-во худож. лит., 1950. – С. 75–78. <Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине»> Заметка 1826 года, при жизни Пушкина не печатавшаяся, является ответом на статьи Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) и «Разговор с Булгариным» (1824). Источник текста: Там же. С. 113–114. Вопросы и задания 1. 2. 3. Определите круг понятий, приобретших знаковый характер романтической критики. Назовите отличительные черты нового типа критика, образ которого представлен в статье В. А. Жуковского «О критике». Почему для В. А. Жуковского литературная критика относится не только к области изящной словесности, но и моральной философии? 158 Тема 3. Становление романтической критики 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Прочитав «Рафаэлеву Мадонну» В. А. Жуковского, соотнесите этот критический опыт с теоретическими положениями автора, высказанными в предшествующей статье. Оцените единство теории и практики в критической деятельности Жуковского. Какие положения из статьи К. Н. Батюшкова «О поэте и поэзии» несут на себе отпечаток утверждений Н. М. Карамзина («Что нужно автору?»)? Найдите точки пересечения в понимании природы художника в статьях К. Н. Батюшкова («О поэте и поэзии») и В. А. Жуковского («Рафаэлева мадонна»). Перечислите доводы К. Н. Батюшкова в защиту «легкой поэзии». Какие контраргументы выдвигает В. К. Кюхельбекер, отстаивая «серьезные» жанры? Какие категории отличают романтическое искусство в понимании Кюхельбекера? Объясните причину появления следующего тезиса П. А. Вяземского: «Нам нужны опыты, покушения: опасны нам не утраты, а опасен застой». Чем объясняет авторский выбор жанра «Кавказского пленника» Вяземский и в чем видит «занимательность» этого произведения? Раскройте парадоксальное утверждение П. А. Вяземского, высказанное в статье о «Кавказском пленнике» А. С. Пушкина: «В подражательных творениях искусства чем более обмана, тем более истины». Сформулируйте общие места о романтизме, живущие в сознании противников этого направления. Чья трактовка романтической поэзии ближе всего пониманию А. С. Пушкина? Какие утверждения известной статьи В. К. Кюхельбекера вызвали несогласие А. С. Пушкина? Соотнесите собственное понимание романтизма с трактовкой этого явления писателями XIX века. Из прочитанных статей выберите несколько примеров емкого выражения мысли, имеющих, на ваш взгляд, печать афористичности. 159 Хрестоматия по истории русской литературной критики Тема 4. ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Н. В. ГОГОЛЯ Н. В. ГОГОЛЬ Несколько слов о Пушкине При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому иногда, позабывшись, стремится русский и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в свет. Судьба, как нарочно, забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью, где гладкая неизмеримость России перерывается 160 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя подоблачными горами и обвевается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком – слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особливо юности, которая все еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространяется так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностию проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих марателей выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду1. Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чув1 Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда наконец выходишь из молодости и видишь эти глупости непрекращающимися. Таким образом, начали наконец Пушкину приписывать: «Лекарство от холеры», «Первую ночь» и тому подобные (примеч. Н. В. Гоголя). 161 Хрестоматия по истории русской литературной критики ствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина. Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящеюся из-за облак вершиною и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным поэтом,– его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия. Явление это, кажется, не так трудно разрешить. Будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русский. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: «Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были». Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит: «Это вяло, это слабо, это нехорошо, это нимало не похоже на то, что было». Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий; но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков! Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею частию был бесцветен, разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже весьма извини162 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя тельное чувство придать больший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной истине: быть высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвесть всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный, как воля, сам себе и судия и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и, несмотря на то что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба – явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по весьма естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта,– нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек 163 Хрестоматия по истории русской литературной критики мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организирована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мере, печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались доныне нетронуты. В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякий, но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние, нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности, – привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений – ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздия винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, 164 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея. Мне всегда было странно слышать суждения об них многих, слывущих знатоками и литераторами, которым я более доверял, покамест еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! Казалось, как бы им не быть доступными всем! Они так просто-возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе так детски чисты. Как бы не понимать их! Но, увы, это неотразимая истина, что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы и наконец так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ» 1 Вы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на «Мертвые души». Это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает всё; но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупицу ее можно простить всякий оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках 165 Хрестоматия по истории русской литературной критики Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком неопрятном виде ей никак нельзя было являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны благодарить ежеминутно нас поражающую руку. Я бы желал, однако ж, побольше критик не со стороны литераторов, но со стороны людей, занятых делом самой жизни, со стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем «Мертвые души» произвели много шума, много ропота, задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнанья многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее: авось кто-нибудь меня выбранит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг меня лучше всяких слов или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мной описанного. Приведеньем события случившегося лучше доказывается дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованьями. Мог бы то же сделать и купец и помещик – словом, всякий грамотей, сидит ли он сиднем на месте или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. Сверх собственного взгляда своего всяк человек, с того места или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образованье, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой, кроме его, никто другой не может видеть. По поводу «Мертвых душ» могла бы написаться всей толпой читате166 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя лей другая книга, несравненно любопытнейшая «Мертвых душ», которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что – нечего таить греха – все мы очень плохо знаем Россию. И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знанье России! Как будто непременно силой Святого Духа должен узнать я все, что ни делается во всех углах ее,– без наученья научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званьем писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притом еще больной и притом еще принужденный жить вдали от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель – сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил как следует своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит Бог, говорю недаром! 1843 2 Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими пред глазами читателя, так невпопад складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в каком случае не следовало выдавать сочинения, которое хотя выкроено было недурно, но сшито кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заме167 Хрестоматия по истории русской литературной критики тил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбранить за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще неслыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразьем предметов, пустынной бесприютностью пространств наших и грустной песней, несущейся по всему лицу земли русской от моря до моря, обращается в лирическом воззванье к самой России, спрашивая у нее самой объясненья непонятного чувства, его объявшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто всё, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до бездушного, вперило на него глаза свои и чегото ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выраженье истинного чувства. Мне и доныне кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому – именно ему самому,– тот или уже весь исполнил свой долг как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтораста лет протекло с тех пор, как государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем просвещенья европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, так же бесприютно и неприветливо все вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной 168 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя нашею крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!» Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во все время действовало без устани. Свидетельством тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски великодушном движенье многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это все ответствовано снизу? Дело ведь в примененье, в уменье приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителен ни был, есть не более как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороной, какой нужно и какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости Божеской, а не человеческой. Без того все обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякий указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку! Словом – везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованье; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знаток, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия все бросил и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту – пусть его грабит людей. Словом – у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать 169 Хрестоматия по истории русской литературной критики из-за него и честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон – служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастия других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русский человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбья своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что все ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желанье добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Кто исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочиненье, которое теперь вышло и которому названье «Мертвые души»,– произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей простых, неголоволомных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, чем полезную сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталкивали просьбы приятелей или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, нижé пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характера, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим 170 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращенье к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство,– вот отчего у меня исторгнулось то восклицанье, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадеянность! 1843 3 Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно,– именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого как писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в 171 Хрестоматия по истории русской литературной критики глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильней от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину. Это свойство выступило с большей силою в «Мертвых душах». «Мертвые души» не потому так испугали Россию и произвели такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на Божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явленье замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращенье от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противуположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной. Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рожденья моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить Его, было желанье быть лучшим. 172 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь Божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости Его бесконечного милосердия,– я бы повесился. По мере того как они стали открываться, чудным высшим внушеньем усиливалось во мне желанье избавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил. С этих пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем чем ни попало. Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ», в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее отсутствие света. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести «Мертвые души». Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русский человек, если его попотчеваешь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана «Мертвых душ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных лю173 Хрестоматия по истории русской литературной критики дей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, все пошлое и гадкое, которое они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся пошлость и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы,– вот и все! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила во всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть долженствовало, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действительно русской жизни. Еще вся книга не более как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее появленье может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо того дельные замечания на мою книгу, как свои так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случались в околотке вашем и во всей губернии, в подтвержденье или в опроверженье всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу,– тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова и как бы успешней пошло мое дело! Но того, о чем я прошу, никто не исполняет: мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от 174 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которою, как я замечаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершается все чинно и мудро, в каком стройном законе, и как все разумно исходит одно из другого! Одни мы, Бог весть из чего, мечемся. Все торопится. Все в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо»? Чтобы я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом так же глупо, как поторопился с первым. Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключенье, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по-моему, не раньше как через два-три года, да и то еще принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у кого второй том уже сидит в голове, или тот, который даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся серьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо,– скажут: «Зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай, однако же, после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог. И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что передал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посме175 Хрестоматия по истории русской литературной критики яться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И когда поверяю себя на исповеди перед Тем, Кто повелел мне быть в мире и освобождаться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но по прочтенье моего письма остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь ответ и на другие запросы, если попристальней вглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам хотя сколько-нибудь на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств – мертвечина будет все, что ни напишет перо твое, и, как земля от Неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошемаров – я также не выдумал, кошемары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло. 1843 4 Затем сожжен второй том «Мертвых душ», что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет»,– говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю Бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержанье вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появленье второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, 176 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались «Мертвые души». Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе: «Смотрите, немцы, мы лучше вас!» Это хвастовство – губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о Боге, возносящем и выводящем все из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руки к черту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человеку. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь, подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал ими же созданному идеалу. Создал меня Бог и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое – душа и прочное дело жизни. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их то177 Хрестоматия по истории русской литературной критики ропятся другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасения же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бывает мне так тяжело, что без Бога и не перенес бы. К изнуренью сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движенье, а делать движенье – нет сил. Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, Кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, Кто выработал большую половину его в голове моей, Тот даст силу совершить и остальную – положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, все крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет. 1846 В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унестись куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей – слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной 178 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трех источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас услаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал, уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, – которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вызрело европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил,– гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но покамест им не ударишь, не издаст кремень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы с помощию европейского света рассмотреть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком,– и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких беспорядков, следующих при малейшем измененье государственных форм,– был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила 179 Хрестоматия по истории русской литературной критики громами и блеснула отблеском европейских наук. Все в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше – он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищенье от света, внесенного в Россию, изумленье от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремленье к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто вначале. Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты: восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случались, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь, близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований,– и плодом этого прикосновения была ода «Вечернее размышление о Божием величестве», вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову «О пользе стекла». Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно как бы, выражаясь его же словами: Божественный пророк Давид Священными шумит струнами, И Бога полными устами Исайя восхищен гремит. Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуясь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорей ученого 180 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступленье впереди книги. Его поэзия – начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботится только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди. С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть наместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали наместо благозвучия ломоносовского языка трескотню и беспорядок слов, терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни Державин. В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты,– с битвами вознеслись полководцы, с учрежденьями внутренними государственные дельцы, с переговорами дипломаты, с академиями словесники и ученые,– появился и поэт, Державин, с тою же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о 181 Хрестоматия по истории русской литературной критики сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитаньем, последний представляет совершенную противуположность первому. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлеченьем и делом отдохновенья, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образованье науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое в виде какого-то темного пророчества носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные останки орд, распаляющие свое воображенье рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете,– что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда Бог весть как издалека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он. Стоит пробежать его «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед ним пигмеи другие поэты. Природа там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравейник, который где-то далеко колышется вдали. О Державине можно сказать, что он – певец величия. Все у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях своих; его полководцы – орлы; словом – все у него величаво. Заметно, однако же, что постоянным 182 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было – начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был изникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемом камне нашей Церкви. Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое, высокое значенье тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой Церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него все глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурею, Встает в упор ее волнам: То скачет в твердь, то, в ад стремяся, Трезубцем бьет по кораблям; Столбом власы седые вьются, И глас его гремит в горах. Тут, казалось, хотел создаться зримо образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, незримом очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подъемлется волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он все уже исполнил, что нужно на земле: И смерть как гостью ожидает, Крутя, задумавшись, усы. 183 Хрестоматия по истории русской литературной критики Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково крученье усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надобно сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда все в беспорядке: речь, язык, слог,– все скрыпит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворенье – точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образованья, как в умственном так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедовавший другим о том, как править собою, не умел управить себя, далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу – не было бы поэта выше Державина; теперь же остается он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным. Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже все вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали вполне образцы всему и, так же как щеголи Парижа, завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте творенья, обработывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, кото184 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя рыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожею на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвинуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять уменьем вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви очутилась вдруг на бале. От одного только Капниста послышался аромат истинно душевного чувства и какаято особенная антологическая прелесть, дотоле незнакомая. Вот его «Деревенский домик в Обуховке»: Приютный дом мой под соломой, По мне, ни низок, ни высок; Для дружбы есть в нем уголок, А к двери, нищему знакомой, Забыла лень прибить замок. Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнивом. Вдруг приметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего не переймет в свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явленье странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия, темные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи. Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явленьем. Ее собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чем-то похожем. Но при всем том мы сами никак бы не столкнулись с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, нам более доступной, чем немецкая. Этот 185 Хрестоматия по истории русской литературной критики поэт – Жуковский, наша замечательнейшая оригинальность! Чудной, высшей волей вложено было ему в душу от дней младенчества непостижимое ему самому стремление к незримому и таинственному. В душе его, точно как в герое его баллады Вадиме, раздавался небесный звонок, зовущий вдаль. Из-за этого зова бросался он на все неизъяснимое и таинственное повсюду, где оно ни встречалось ему, и стал облекать его в звуки, близкие нашей душе. Все в этом роде у него взято у чужих, и больше у немцев,– почти всё переводы. Но на переводах так отпечаталось это внутреннее стремление, так зажгло и одушевило их своею живостью, что сами немцы, выучившиеся по-русски, признаются, что перед ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его,– переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и всё – вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтёшь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворения читал? – не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность – это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных им поэтов не слышно так сильно стремленье уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина: Под надзирание ты предан Невидимых, бессмертных сил, И легионам заповедан Всех ангелов, чтоб цел ты был. Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнако186 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя мое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем,– лень выдумывать, а не недостаток творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: «Светлана» и «Людмила» разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатленье сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито. Элегический род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это – свойство оценивать, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мненью, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаниях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье «Отчет о солнце», где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в «Отчете о луне» волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых,– тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство оценивать. Его «Славянка» с видами Павловска – точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все ее картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста. 187 Хрестоматия по истории русской литературной критики В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдалении, пропадала страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была «Ундина», творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического созданья есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; все приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоенье всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству,– подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жуковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз – его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появленье такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу все, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами. В то время когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самого идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное 188 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслажденья. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, «стихов и мыслей сладострастье». Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равновесия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркой, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы. Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногоглаголив на передачу ощущенья, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит наружу. Приведу пример. Поэта поразил вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением: Далекий, вожделенный брег! Туда б, сказав «прости» ущелью, Подняться к горной вышине! Туда б, в заоблачную келью, В соседство Бога скрыться мне! Именно одно это мог бы сказать русский человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого. 189 Хрестоматия по истории русской литературной критики Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака – везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке – все становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; всё предметы его; изо всего, как ничтожного так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творенье Бога,– его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» – и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!» От этого сочинения его представляют явленье изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они – отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они – полные поэмы обдуманные, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно. На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направленье мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влиянье на других хотя личностью собственного характера, гениальными заблужденьями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше,– что такое 190 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условьем также собственного, личного характера, как человека, но в независимости от всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышленье о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами Неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его? Сам Гете, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым наукообразным стремленьем своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его – полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? – это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами: Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв. Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда 191 Хрестоматия по истории русской литературной критики метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня – точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и не прибранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделывал так сонетов своих, как обработывал он эти легкие, по-видимому мгновенные созданья. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны. Как ему говорить было о чем-нибудь, потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на всё, что ни есть в мире, и когда всякий предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в «Онегине» современного человека и разрешить какую-то современную задачу – и не мог. Столкнувши с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собранье разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтенье ее, наместо всего выступает тот же чудный образ на всё откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» – тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замышлял он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие. Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон-Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею 192 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлен неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта,– и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя – в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на всё откликаться. И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком – грек, на Кавказе – вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу – он русский весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем. Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведенье в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, пору193 Хрестоматия по истории русской литературной критики чик; сама крепость с единственною пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей – всё не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горохина», «Царский арап» и сделанный карандашом набросок большого романа – «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотворенье, в котором звуками почти апокалипсическими изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас – и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека. Влияние Пушкина как поэта на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоняя самый запах; Козлов, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле не слышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и 194 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих. Известный переводчик Илиады Гнедич, прелагатель псалмов Ф. Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то: Веневитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, слава Богу еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о котором будет речь ниже,– повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним человека, и всякие требования земли своей, все жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина: Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв. 195 Хрестоматия по истории русской литературной критики Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появленьем первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Все, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке: Покровы прочь! Перед челом Протянем руки удалые И – бух! Блистательным дождем Взлетают брызги водяные. Какая сильная волна! Какая свежесть и прохлада! Как сладострастна, как нежна Меня обнявшая наяда! Вот у него игра в свайку, которую он назвал прямо-русскою игрою. Юноши-молодцы стали в кружок: Тяжкий гвоздь стойком и плотно Бьет в кольцо – кольцо бренчит. Вешний вечер беззаботно И невидимо летит. Всё, что вызывает в юноше отвагу,– море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну,– выражается у него с силой неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой: «Зачем он назвал их: «Стихотворенья Языкова»! их бы следовало назвать просто: «хмель»! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин нико196 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя гда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы: первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так: Чу! труба продребезжала! Русь! тебе надменный зов! Вспомяни ж, как ты встречала Все нашествия врагов! Созови от стран далеких Ты своих богатырей, Со степей, с равнин широких, С рек великих, с гор высоких, От осьми твоих морей! И потом строфа, где описывается неслыханное самопожертвование,– предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли: Пламень в небо упирая, Лют пожар Москвы ревет. Златоглавая, святая, Ты ли гибнешь? Русь, вперед! Громче буря истребленья! Крепче смелый ей отпор! Это жертвенник спасенья, Это пламя очищенья, Это фениксов костер! У кого не брызнут слезы после таких строф? Стихи его точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты, На благородное служенье Во славу чести и добра. Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем порыве. 197 Хрестоматия по истории русской литературной критики Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздались скучанья среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Все это было мертво русскому духу. Не приметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях и бедном содержании, что панцирь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Все пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основанье их была правда. Языков не сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина: Не для житейского волненья, Не для корысти, не для битв, Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв. У него, напротив, вот что говорит поэт: Когда тебе на подвиг все готово, В чем на земле небесный виден дар, Могучей мысли свет и жар И огнедышащее слово – Иди ты в мир, да слышит он поэта. Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержанья последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее) – нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его – вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби потребное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей,– и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово: изобразишь нам 198 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит Бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это услышали все. И уже скорей от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни – на то и дан ему многосторонний описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших движениях – и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но Промысел лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремленье к повороту на свою законную дорогу. От него услышали недавно стихотворенье «Землетрясенье», которое, по мненью Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье. Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском – противуположность Языкову: сколько в том поражает нищета мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточенья и округленья мысли затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность: он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья – импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его – пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванью: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из 199 Хрестоматия по истории русской литературной критики него что-то полное. В его книге «Биография Фонвизина» обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен в одно и то же время политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни – словом, все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайного обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласованья в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защемит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как говорит поэт, Душа прямится, крепнет воля, И наша собственная доля Определяется видней. В то время когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвеваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шуму, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скры200 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя вавшую. Этот поэт – Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную как вещь старую, негодную для употребленья и почти детскую игрушку,– и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Эта наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположенье о деле, но уже подведенный итог делу, отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлеченье силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек – словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уваженье к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится», или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свыше его понятия. Отсюда-то ведет свое происхождение Крылов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи – достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски: в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «Это осел Крылова!» – даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился 201 Хрестоматия по истории русской литературной критики у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбьем, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размысли того, что теперь всякая кража и пакость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом – всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет сверх того историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, повидимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства: на всё подавал свой голос, и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что все в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостишием: Держава всякая сильна, Когда устроены в ней мудро части Оружием – врагам она грозна, А паруса – гражданские в ней власти. Какая меткость определенья! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недальнозорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело, он написал не меньше замечательную басню, «Две бритвы», и в ней справедливо попрекнул начальников, которые Людей с умом боятся И держат при себе охотней дураков. Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать умного человека, но уметь с ним обращаться. 202 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя Это отразилось в басне «Хор певчих», которую заключил он словами: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе наместо мастеров дела людей бог весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведенья. Он знал, что с умным человеком все можно сделать и нетрудно обратить его к хорошему поведенью, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре – что в море, а в дураке – что в пресном молоке»,– говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие заметки, сильно попрекнувши его в басне «Стоячий пруд» за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне «Сочинитель и разбойник» за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он: Властитель хочет ли народы удержать? Держи бразды не вкруть, но мощною рукою,– и до последнего труженика, работающего в низших рядах государственных, которому указывает он на высокий удел в виде пчелы, не ищущей отличать своей работы: Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый, За все труды, за весь потерянный покой Ни славою, ни почестьми не льстится И мыслью оживлен одной, Что к пользе общей он трудится. Слова эти останутся доказательством вечным, как благородна была душа самого Крылова. Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительной и выражаться так доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец слились в нем воедино. У него живописно все, начиная от изображенья природы пленительной, грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Все так сказано метко, так найдено верно и так усвоены крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак 203 Хрестоматия по истории русской литературной критики не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль; и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном шестистопном стихе, то в быстром одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключенье басни «Две бочки»: Великий человек лишь виден на делах, И думает свою он крепку думу Без шуму. Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека. От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии – поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страждет душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отдалились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось вместе с уменьем пред чем-нибудь истинно возблагоговеть – свойство над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупной солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение: у Капниста, у Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого,– оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиться писатели собственно сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настроивал свою лиру на высокий лирический лад, князь Кантемир находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, 204 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии князя Горчакова, сатиру на литераторов Воейкова – «Дом сумасшедших» и талантливые пародии Михаила Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаньями; потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнанье человека под условием взятой эпохи и века; в комедии – легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уваженьем; но все это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина «Недоросль» и Грибоедова «Горе от ума», которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая – от дурно понятого просвещенья. Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого, бесчувственного, не потрясаемого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского человека. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии, не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством,– так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит все, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина – другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине наместо человека: свиньи 205 Хрестоматия по истории русской литературной критики сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой – несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены,– полное притупленье всего! Наконец, сам Митрофан, который, ничего не заключая злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильней любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление – сделалось ему уже наслажденьем. Словом – лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием Церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души. Это те неотразимострашные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа. Комедия Грибоедова взяла другое время общества – выставила болезни от дурно понятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного,– словом, взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских ни русскими, ни иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещеньем, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек, и волокита, и читает мораль, и мастер так пообедать, что в три дня не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их общества. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их 206 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя светском соmmе il fаut, не осталось ровно ничего, которые своим пребываньем в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своею неслужбой и огрубелым пребываньем в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим – тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще – тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своей двусмысленной жизнью – тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодованье молодежи, неуваженье к старости и заслугам и наклонность к вольнодумству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумленью, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому скольконибудь значительному или сильному лицу доставленьем ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами и сим обнаруживший, что, не бояся ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как черт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраньям, радующийся, как Бог весть какой находке, когда удается ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какоето общественное дело, которое хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, поняв207 Хрестоматия по истории русской литературной критики ший службу единственно в уменье различать форменные отлички, но при всем том удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему нипочем, а обстоятельства времени и века для него не головоломная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлёстова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошлое, с притязаньями на уваженье от нового поколенья, с требованьями почтенья к себе от тех самых людей, которых сама презирает, готовая выбранить вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уваженья, но покровительница арапчонок, мосек и людей вроде Молчалина,– словом, старуха дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин – тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мненье, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и справедливом негодовании противу их всех Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы – дети непросвещения, русские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоуменье насчет того, чем должен быть русский человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть сам Чацкий, показывает только стремленье чем-то сделаться, выражает только негодованье противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу. Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержанье, 208 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношенье к герою пьесы, но в отношенье к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В противном же случае – то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так четко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре,– это были бы два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какогонибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это – продолжение той же брани света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданья художественные и не принадлежат фантазий сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится. Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и 209 Хрестоматия по истории русской литературной критики показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленье захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий – завянуть и пропасть,– он уже с ранних пор стал выражать то раздирающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой поэзии словом безочарование. С помощью таланта Лермонтова оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету очарованье и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход разочарованье, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и безочарованью, родному детищу байроновского разочарованья. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в безочарованье ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какогото обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотворенье, названном «Сказка для детей», образ этот получает больше определительности и больше смысла. Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделался бы он от 210 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя самого духа и вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях «Ангел», «Молитва» и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Не заметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду – излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни – готовился будущий великий живописец русского быта... Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов. Как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, бросался на другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в поре самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих,– и никого это не поразило: даже не содрогнулось ветреное племя. Но пора, однако же, сказать в заключенье, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей. Имела ли она влиянье на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которым должно двигаться государство? Или же она была просто верной картиной нашего общества – картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием – под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влиянь211 Хрестоматия по истории русской литературной критики ем выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше,– чего не случалось еще доселе ни с одним народом,– воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведенье; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее какимнибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существованье среди его поэта. Словом – поэзия наша не поучала общество, не выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она все время свыше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карикатурою. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличенья нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очищенней всякое свойство наше. Причиной второго то, что сатирические наши писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодованья благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Все смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговеющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в 212 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя том идеале, в каком он должен быть, ни в той действительности, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она совокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвастаться гобой, что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сделаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов и начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого поведена Богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, не заботясь о том, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы,– если настанет наконец то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться Бог из самородных начал земли своей, сделается наконец у нас общею по всей России и равно желанною всем,– то чтобы увидели мы, что есть действительно в нас лучшего, собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполинском величии не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носятся 213 Хрестоматия по истории русской литературной критики и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию1, не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство чуткости, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: названье ухо, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; удача – всюду спеющий и везде успевающий; и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте Божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш истинно русский ум. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей,– одним словом, тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким образом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выра1 Маркиз Кюстин (примеч. Н. В. Гоголя). 214 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя женьем. Зато уже в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума – он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволят сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта молодая удаль и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа,– которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры, и личные выгоды каждого – все позабыто, и вся Россия – один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней развившиеся: поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это – огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, дотоле небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего токая, стих Пушкина; это сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий, как луч, в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкий воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью,– все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собою стихают 215 Хрестоматия по истории русской литературной критики и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настрояет душу к слышанью чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служенью более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколенье поэтов; нельзя служить и самому искусству,– как ни прекрасно это служение,– не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушкина. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь – ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих, -христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека – на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую Сам небесный Творец наш считает перлом Своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии – возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомнят они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот самородный ключ нашей поэзия, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка – этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня созданья своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие 216 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже изворачивался русский человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех исков и, как неразобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот не обыкновенный лиризм – рожденье верховной трезвости ума,– который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны – выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека,– язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованьем, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей – дети мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки,– не посмели бы помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы мы к нему уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Все это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию – нашу русскую Россию: не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, ка217 Хрестоматия по истории русской литературной критики ких бы ни были они различных мыслей, образов воспитанья и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней приютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей родной крышей, а не на чужбине». Примечания Николай Васильевич Гоголь (1809–1852) Несколько слов о Пушкине Впервые – в книге «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» в 1835 г. По справедливости ли оценены последние его поэмы? – Ю. В. Манн считает, что речь идет о «Домике в Коломне» (1830), а также сказках. Источник текста: Гоголь Н. В. Собрание сочинений : в 7 т. / Н. В. Гоголь; [сост., примеч. и ред. С. И. Машинского, М. Б. Храпченко]. – М. : Худож. лит., 1978. – Т. 6: Статьи. – С. 63–68. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ» Впервые – в составе книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) как глава XVIII. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого… – Ф. В. Булгарин (1789–1859) в журнале «Северная пчела» (1842) отозвался о романе «Мертвые души» как о пределе безвкусия и собрании «грязных картин». О. И. Сенковский (1800– 1858) откликнулся на выход роман Гоголя резкой рецензией в журнале «Библиотека для чтения» (1842). Н. А. Полевой (1796–1846) в журнале «Русский вестник» упрекал автора «Мертвых душ» в погрешностях против логики и русской грамматики. Источник текста: Там же. С. 240–253. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность Впервые – в составе книги «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) как глава XХХI. Божественный пророк Давид… – цитата из оды М. В. Ломоносова «Ее Императорскому Величеству…Императрице Елисавете Петровне на пресветлый и торжественный праздник рождения Ея Величества и для всерадостного рождения Государыни Великой Княжны Анны Петровны… декабря 18 дня 1757 года». Встает в упор ее волнам… – цитата из оды Г. Р. Державина «На возвращение графа Зубова из Персии» (1797). И смерть как гостью ожидает… – цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Аристиппова баня» (1811). «Деревенский домик в Обуховке» – имеется в виду элегия В. В. Капниста «Обуховка» (1818). Под надзирание ты предан…– из стихотворения Г. Р. Державина «Победителю» (1785). … «Отчет о солнце»…«Отчет о Луне» – имеются в виду стихотворения В. Жуковского «Летний вечер» (1818), «Государыне Императрице Марии Федоров- 218 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя не. Первый отчет о луне, в июне 1819 года», «Подробный отчет о луне, представленный Ее Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Федоровне 1820, июня 18, в Павловске». Его «Славянка» с видами Павловска… – речь идет об элегии В. Жуковского «Славянка» (1815), где описана река Славянка, протекающая в Павловске, близ Петербурга. …к передаче совершеннейшего поэтического произведения… – имеется в виду перевод «Одиссеи» Гомера. Далекий, вожделенный брег! – цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Монастырь на Казбеке» (1829). …терцины Данта внушили ему мысль…– имеется в виду стихотворение Пушкина «В начале жизни школу помню я…». «Царский арап» – имеется в виду «Арап Петра Великого» (1827). …в изданном уже по смерти его стихотворенье…– стихотворение Пушкина «Странник». Козлов, гармонический поэт… – Иван Иванович Козлов (1779–1840). Стоит назвать обоих Туманских… – поэты Василий Иванович Туманский (1800– 1860) и Федор Антонович Туманский (1801–1853), двоюродные братья. …перелагатель псалмов Ф. Глинка… – Федор Николаевич Глинка (1786–1829) – автор «Духовных стихотворений» (1826). Покровы прочь! Перед челом…– из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское» (1826). Тяжкий гвоздь стойком и плотно… – из стихотворения Н. М. Языкова «К А. Н. Вульфу» (1828). Чу! Труба продребезжала!.. – цитата из послания Н. М. Языкова «Д. В. Давыдову». Когда тебе на подвиг все готово…– из стихотворения Н. М. Языкова «Поэту» (1831). В его книге «Биография Фонвизина»…– отдельное издание книги «Фон-Визин. Сочинение князя Петра Вяземского» вышло в 1848 году, отрывки из нее печатались в периодических изданиях того времени. Душа прямится, крепнет воля…– из стихотворения Н. Языкова «К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву» (1826). …в басне «Стоячий пруд»… – речь идет о басне И. А. Крылова «Пруд и река» (1814). Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый… – реминисценция из басни И. А. Крылова «Орел и пчела» (1811). …у князя Долгорукого…– имеется в виду поэт и драматург Иван Михайлович Долгорукий (1764–1823). …пародии князя Горчакова…– речь идет о поэте и драматурге Дмитрии Петровиче Горчакове (1758–1824). …один из них, издавший свои записки…– подразумевается книга маркиза Астольфа де Кюстина (1790–1857) «Россия в 1839», которая была запрещена в России. Источник текста: Там же. С. 321–360. 219 Хрестоматия по истории русской литературной критики Вопросы и задания 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Какие проблемы литературы волновали Гоголя-критика? К каким категориям обращается Н. В. Гоголь, доказывая национальный характер художественных творений А. С. Пушкина? На какие причины указывает Гоголь, объясняя отсутствие успеха таких произведений Пушкина, как драма «Борис Годунов» и поэм второй половины 20-х – начала 30-х годов ХIХ века? В чем видит смысл критических суждений в адрес своих произведений Гоголь? Сформулируйте основное требование писателя к критике, исходя из прочтения «Четырех писем к разным лицам по поводу «Мертвых душ». Какие особенности поэмы «Мертвые души», по мнению Гоголя, заслуживают негативной оценки? Каким значением наделяет Гоголь писательское ремесло в России? Что считает Гоголь отличительным свойством своего литературного таланта? В каких отношениях, по мнению Гоголя, находится писатель с героями своих книг? Вспомните, чье понимание родственно утверждению Гоголя. Какие критерии избирает Гоголь для оценки отечественной литературы в письме «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»? Перечислите события, которые Гоголь выделяет как веховые в истории развития русской литературы. К какому аргументу прибегает Гоголь, доказывая оригинальность творчества В. А. Жуковского? Кто из русских авторов, по мнению критика, явил собою образец поэта? В чем видит Гоголь сущность поэтического таланта? В какое отношение к предшествующим и последующим поэтам ставит творчество Пушкина Гоголь? Какая особенность поэзии Баратынского и Лермонтова определяет ее невысокую оценку в критике Гоголя? Какие из литературно-критических оценок Гоголя русских писателей, на ваш взгляд, стали хрестоматийными, а какие, наоборот, предстают неожиданными? Какой путь намечает автор для плодотворного развития русской литературы? Как жанровые особенности книги «Выбранные места из переписки с друзьями» связаны с пафосом литературно-критических высказываний Гоголя? 220 Тема 4. Литературно-критическая концепция Н. В. Гоголя Тема 5. ЭВОЛЮЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКИХ СУЖДЕНИЙ В. Г. БЕЛИНСКОГО В. Г. БЕЛИНСКИЙ О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород») ...Теперь вся наша литература превратилась в роман и повесть. Ода, эпическая поэма, баллада, басня, даже так называемая или, лучше сказать, так называвшаяся романтическая поэма, поэма пушкинская, бывало наводнявшая и потоплявшая нашу литературу, – все это теперь не больше, как воспоминание о каком-то веселом, но давно минувшем времени. Роман все убил, все поглотил, а повесть, пришедшая вместе с ним, изгладила даже и следы всего этого, и сам роман с почтением посторонился и дал ей дорогу впереди себя. Какие книги больше всего читаются и раскупаются? Романы и повести. Какие книги доставляют литераторам и домы и деревни? Романы и повести. Какие книги пишут все наши литераторы, призванные и непризванные, начиная от самой высокой литературной аристократии до неугомонных рыцарей толкуна и Смоленского рынка? Романы и повести. Чудное дело! но это еще не все: в каких книгах излагается и жизнь человеческая, и правила нравственности, и философические системы, и, словом, все науки? В романах и повестях. 221 Хрестоматия по истории русской литературной критики ...Роман и теперь еще в силе и, может быть, надолго или навсегда будет удерживать почетное место, полученное или, лучше сказать, завоеванное им между родами искусства; но повесть во всех литературах теперь есть исключительный предмет внимания и деятельности всего, что пишет и читает, наш дневной насущный хлеб, наша настольная книга, которую мы читаем, смыкая глаза ночью, читаем, открывая их поутру. Есть еще третий род поэзии, который должен бы в наше время разделять владычество с романом и повестью: это драма, хотя ее успехи и заслонены успехом романа и повести. Вследствие этого всеобщего направления и в нашей литературе господствующими родами поэзии сделались роман и повесть и сделались, повторяю, не столько вследствие слепого подражания или преобладания какого-нибудь сильного дарования, или, наконец, обольщения слишком необыкновенным успехом какогонибудь творения, сколько вследствие общей потребности и господствующего духа времени. В чем же заключается причина этой общей потребности, этого господствующего духа времени, которые все литературы подвели под форму романов и повестей? Поэзия двумя, так сказать, способами объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы противоположны один другому, хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздает жизнь по собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношений к миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности. Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела – на идеальную и реальную. Объяснимся. Поэзия всякого народа в начале своем бывает согласна с жизнью, но в раздоре с действительностию, ибо у всякого младенчествующего народа, как и у младенчествующего человека, жизнь всегда враждует с действительностию. Истина жизни недоступна ни для того, ни для другого; ее высокая простота и естественность непонятна для его ума, неудовлетворительна для его чувства. То, что для народа возмужалого, как и для человека возмужалого, кажется торжеством бытия и высочайшею поэзиею, для него было бы горьким, безотрадным разочарованием, после которого уже незачем и не для чего жить. Разоблаченная и обнаженная от своих лож222 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского ных красок, жизнь представилась бы ему сухою, скучною, вялою и бедною прозою, как будто бы истина и действительность не совместны с поэзиею; как будто бы солнце менее великолепно и лучезарно, когда оно только простой и темный шар, а не торжественная колесница Феба; как будто бы лазурный купол неба менее прекрасен, когда он уже не звездный Олимп, жилище богов бессмертных, а ограниченное нашим зрением беспредельное пространство, вмещающее в себе мириады миров; как будто бы, наконец, земля, жилище человека, менее дивна, когда она лежит не на раменах Атланта, а держится и движется в воздушном океане, не поддерживаемая ничьею рукою, повинующаяся одному простому закону тяготения!.. Таким-то образом первобытное человечество в лице грека, во всей полноте кипящих сил, во всем разгаре свежего, живого чувства и юного, цветущего воображения, объясняло явления физического мира влиянием высших, таинственных сил. Таким же образом объясняло оно и явления нравственного мира, подчинив их влиянию какой-то грозной и неотразимой силы, которую оно назвало судьбою. Для грека не было законов природы, не было свободной воли человеческой. И вот почему все, входящее в круг обыкновенной жизни, все, объясняющееся простою причиною, почитал он недостойным поэзии, унижением искусства, словом, низкою природою – выражение так глупо понятое, так нелепо принятое французами XVIII столетия. Для него не существовало человека с его свободною волею, его страстями, чувствами и мыслями, страданиями и радостями, желаниями и лишениями, – ибо он еще не сознал своей индивидуальности, ибо его я исчезало в я его народа, идея которого трепещет и дышит в его поэтических созданиях. Его лирические песни не носят на себе отпечатка воззрения на мир, следов стремления допытаться его тайн, в них нет унылой думы, грустной мечтательности: это просто или торжественный гимн благодарности, или пламенный дифирамб радости, выражение бессознательной хары, ибо он смотрел на природу взором любовника, а не мыслителя, любил ее, а не исследовал и вполне был доволен и очарован ею. При взгляде на нее не вопросы, а восторг теснился в его душу, и он изливал этот восторг или в благодарственном гимне, или бешеном дифирамбе, или торжественной оде. Это его лиризм; теперь посмотрим на его эпопею и драму. Что ему жизнь и судьба какого-нибудь частного человека – этот роман, так простой и так 223 Хрестоматия по истории русской литературной критики обыкновенный? Давайте ему царя, полубога, героя! Что ему картина частной жизни с ее заботами и хлопотами, с ее высоким и смешным, с ее горем и радостью, любовью и ненавистью – эта повесть, так мелочно подробная, так суетно ничтожная? Разверните перед ним картину борьбы народа с народом, представьте ему зрелище боев и кровопролитий, в которых принимают участие сами небожители и которые оканчиваются по изволу и замыслу судьбы самовластной! Роман и повесть для него пошлы – дайте ему поэму, поэму огромную, величественную, полную чудес, поэму, в которой бы отражалась и виднелась вся жизнь его со всеми оттенками, как отражается и виднеется в чистом, спокойном зеркале безбрежного океана лазоревое небо с своими облаками, – дайте ему «Илиаду»!.. Но проходит век чудес, волею и неволею народ сближается с действительною жизнию и вместо поэмы требует драмы. Но он и тут не изменяет себе: он только отдалился от прошедшего, но он не забыл его, не охладел к нему, не развыкся с ним. Он уже начинает приглядываться к жизни, но, недовольный ею, не ее хочет перенести в поэзию, но поэзию хочет перенести в нее. Оставляя настоящее, он в прошедшем ищет элементов для своей драмы; и потому его драма не наша, не шекспировская драма, представительница жизни действительной, борьбы страстей с волею человека, – нет: это род таинственного, религиозного обряда, мрачная мистерия, жрица и пророчица судьбы – словом, это трагедия, трагедия высокая и благородная, в царственном, героическом величии, трагедия под маскою и на котурне. Ее героем должен быть царь, полубог, герой, с венцом, венком или шлемом на голове, со скипетром, мечом или щитом в руке, в длинной волнующейся мантии; ее содержанием должен быть жребий целого поколения царей, полубогов или героев, тесно связанный с судьбой какого-нибудь народа или какого-нибудь великого события, ибо участь простолюдина и подробности частной жизни оскорбили бы ее царственное величие, исказили бы ее религиозный характер, ибо народ хотел видеть на сцене себя, свою жизнь, а не человека, не его жизнь. Для своей драмы, точно так же, как и для своей поэмы, выбирает он из жизни одно высокое, благородное и выбрасывает все обыкновенное, повседневное, домашнее, ибо его жизнь на площади, на поле брани, во храме, в судилище, и там его поэзия, а не в домашнем кругу; персонажи его трагедии должны говорить языком высоким, обла224 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского гороженным, поэтическим, ибо они цари, полубоги, герои; его хор должен выражаться языком таинственным, мрачным и вместе торжественным, ибо он есть орган, истолкователь воли ужасного рока. Таков бывает характер поэзии первобытных народов; такова была поэзия греков. ...Младенчество древнего мира кончилось; вера в богов и чудесное умерла; дух героизма исчез; настал век жизни действительной, и тщетно поэзия становилась на подмостки: в ней уже не было этого высокого простодушия, этого простого, благородного, спокойного и гигантского величия, причина которых заключалась прежде в гармонии искусства с жизнию, в поэтической истине... Родилась идея человека, существа индивидуального, отдельного от народа, любопытного без отношений, в самом себе... Унылая песнь трубадура, в которой изливалось горе любви, жалоба тоскующей поселянки или заключенной принцессы, песнь торжества и победы, повесть любви, мщения, подвига чести – все это получило отзыв... Поэма превратилась в роман. Правда, этот роман был рыцарский, мечтательный, смесь бывалого с небывалым, возможного с невозможным, но уже и не поэма, и в нем зрели семена настоящего романа. Наконец в XVI веке совершилась окончательная реформа и искусстве: Сервантес убил своим несравненным «Дон-Кихотом» ложно-идеальное направление поэзии, а Шекспир навсегда помирил и сочетал ее с действительною жизнию. Своим безграничным и мирообъемлющим взором проник он в недоступное святилище природы человеческой и истины жизни, подсмотрел и уловил таинственные биения их сокровенного пульса. Бессознательный поэтмыслитель, он воспроизводил в своих гигантских созданиях нравственную природу, сообразно с ее вечными, незыблемыми законами, сообразно с ее первоначальным планом, как будто бы он сам участвовал в составлении этих законов, в начертании этого плана. Новый Протей, он умел вдыхать душу живу в мертвую действительность; глубокий аналист, он умел в самых, по-видимому, ничтожных обстоятельствах жизни и действиях, воли человека находить ключ к разрешению высочайших психологических явлений его нравственной природы. Он никогда не прибегает ни к каким пружинам или подставкам в ходе своих драм; их содержание развивается у него свободно, естественно, из самой своей сущности, по непреложным законам необходимости. Истина, высочайшая ис225 Хрестоматия по истории русской литературной критики тина – вот отличительный характер его созданий. У него нет идеалов, в общепринятом смысле этого слова; его люди – настоящие люди, как они есть, как должны быть. Каждая его драма есть символ, отдельная часть мира, сосредоточенная фокусом фантазии в тесных рамах художественного произведения и представленная как бы в миниатюре. У него нет симпатий, нет привычек, склонностей, нет любимых мыслей, любимых типов: он бесстрастен, как Думный дьяк, в приказах поседелый, который Спокойно зрит на лица подсудимых, Добру и злу внимая равнодушно. Он был яркою зарею и торжественным рассветом эры нового, истинного искусства, и он нашел себе отзыв в поэтах новейшего времени, которые возвратили искусству его достоинство, униженное, поруганное французскими классиками. Еще в конце XVIII века в лице Гёте и Шиллера – двух великих гениев, начавших свое поприще изучением Шекспира, – они пошли по его следам. В начале XIX века явился новый великий гений, проникнутый его духом, который докончил соединение искусства с жизнию, взяв в посредники историю. Вальтер Скотт в этом отношении был вторым Шекспиром, был главою великой школы, которая теперь становится всеобщею и всемирною. И кто знает? может быть, некогда история сделается художественным произведением и сменит роман так, как роман сменил эпопею?.. Разве уже и теперь не все убеждены, что Божие творение выше всякого человеческого, что оно есть самая дивная поэма, какую только можно вообразить, и что высочайшая поэзия состоит не в том, чтобы украшать его, но в том, чтобы воспроизводить его в совершенной истине и верности?.. Итак, вот другая сторона поэзии, вот поэзия реальная, поэзия жизни, поэзия действительности, наконец, истинная и настоящая поэзия нашего времени. Ее отличительный характер состоит в верности действительности; она не пересоздает жизнь, но воспроизводит, воссоздает ее и, как выпуклое стекло, отражает в себе, под одною точкою зрения, разнообразные ее явления, выбирая из них те, которые нужны для составления полной, оживленной и единой картины. Объемом и границами содержимого этой картины должны определяться великость и гениальность поэтического создания. 226 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Чтобы докончить характеристику того, что я называю реальною поэзиею, прибавлю, что вечный герой, неизменный предмет ее вдохновений, есть человек, существо самостоятельное, свободно действующее, индивидуальное, символ мира, конечное его проявление, любопытная загадка для самого себя, окончательный вопрос собственного ума, последняя загадка своего любознательного стремления... Разгадкою этой загадки, ответом на этот вопрос, решением этой задачи должно быть полное сознание, которое есть тайна, цель и причина его бытия!.. Удивительно ли после этого, что в наше время преимущественно развилось это реальное направление поэзии, это тесное сочетание искусства с жизнию? Удивительно ли, что отличительный характер новейших произведений вообще состоит в беспощадной откровенности, что в них жизнь является как бы на позор во всей наготе, во всем ее ужасающем безобразии и во всей ее торжественной красоте, что в них как будто вскрывают ее анатомическим ножом? Мы требуем не идеала жизни, но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим ее украшать, ибо думаем, что в поэтическом представлении она равно прекрасна в том и другом случае и потому именно, что истинна, и что где истина, там и поэзия. Не знаю; почему в наше время драма не оказывает таких больших успехов, как роман и повесть? Уж не потому ли, что она непременно требует Гёте, Шиллеров, если не Шекспиров, на произведения которых природа особенно скупа, или потому, что драматические таланты вообще особенно редки? Не умею решить этого вопроса. Может быть, роман удобнее для поэтического представления жизни. И в самом деле, его объем, его рамы до бесконечности неопределенны; он менее горд, менее прихотлив, нежели драма, ибо, пленяя не столько частями и отрывками, сколько целым, допускает в себя и такие подробности, такие мелочи, которые при всей своей кажущейся ничтожности, если на них смотреть отдельно, имеют глубокий смысл и бездну поэзии в связи с целым, в общности сочинения; тогда как тесные рамки драмы, прямо или косвенно, больше или меньше, но всегда покоряющейся сценическим условиям, требуют особенной быстроты и живости в ходе действия и не могут допускать в себя больших подробностей, ибо драма преимущественно перед всеми родами поэзии представляет 227 Хрестоматия по истории русской литературной критики жизнь человеческую в ее высшем и торжественнейшем проявлении. Итак, форма и условия романа удобнее для поэтического представления человека, рассматриваемого в отношении к общественной жизни, и вот мне кажется, тайна его необыкновенного успеха, его безусловного владычества. Но повесть? Ее значение, тайна ее владычества, теперь деспотического, своенравного, не терпящего соперничества? Что такое и для чего эта повесть, без которой книжка журнала есть то же, что был бы человек в обществе без сапог и галстука, эта повесть, которую теперь все пишут и все читают, которая воцарилась и в будуаре светской женщины, и на письменном столе записного ученого, наконец, эта повесть, которая как будто вытеснила самый роман?.. Когда-то и где-то было прекрасно сказано, что «повесть есть эпизод из беспредельной поэмы судеб человеческих». Это очень верно; да, повесть – распавшийся на части, на тысячи частей, роман; глава, вырванная из романа. Мы люди деловые, мы беспрестанно суетимся, хлопочем, мы дорожим временем, нам некогда читать больших и длинных книг – словом, нам нужна повесть. Жизнь наша, современная, слишком разнообразна, многосложна, дробна: мы хотим, чтобы она отражалась в поэзии, как в граненом, угловатом хрустале, миллионы раз повторенная во всех возможных образах, и требуем повести. Есть события, есть случаи, которых, так сказать, не хватило бы на драму, не стало бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгновении сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и в века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки. Ее форма может вместить в себе все, что хотите, – и легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом, и глубокое таинство души, и жестокую игру страстей. Краткая и быстрая, легкая и глубокая вместе, она перелетает с предмета на предмет, дробит жизнь по мелочи и вырывает листки из великой книги этой жизни. Соедините эти листки под один переплет, и какая обширная книга, какой огромный роман, какая многосложная поэма составилась бы из них! Что в сравнении с нею ваша бесконечная «Тысяча и одна ночь» или обильная эпизодами «Магабъарата» и «Рамайяна»! Как бы хорошо шло к этой книге заглавие: «Человек и жизнь»!.. *** 228 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского ...Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют – простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь – поэт, поэт жизни действительной. ...Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и вместе как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными, так общими, так наскучившими вам в жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. Потом не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы его давно знали, долго жили с ним вместе? Не дополняете ли вы своим воображением его портрета, и без того уже нарисованного автором во весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом лице несколько анекдотов, как будто бы опущенных автором? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть сущая правда, без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатию истинного таланта, что они созданы по непреложным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий суть верные, необманчивые признаки творчества; это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам... Когда посредственный талант берется рисовать сильные страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуться, наговорить громких монологов, насказать прекрасных вещей, обмануть читателя блестящею отделкою, красивыми формами, самым содержанием, мастерским рассказом, цветистою фразеологиею – плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись он за изображение повсе229 Хрестоматия по истории русской литературной критики дневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической – о, поверьте, для него это будет истинным камнем преткновения, и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас зевотою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностью, и юродством этих живых пасквилей на человечество – это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» – вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия! И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнию. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!.. В каждом человеке должно различать две стороны: общую, человеческую и частную, индивидуальную; всякий человек прежде всего человек, и потом уже Иван, Сидор и т. д. Точно так же и в художественных созданиях должно различать два характера: характер творчества, общий всем изящным произведениям, и характер колорита, сообщенный индивидуальностию автора. Я уже коснулся, в общих чертах, первого характера в повестях г. Гоголя, теперь рассмотрю его подробнее; потом буду говорить об индивидуальном характере его созданий и, наконец, заключу мою статью беглым взглядом на те из его повестей, о которых можно будет сказать что-нибудь в частности. Я уже сказал, что отличительные черты характера произведений г. Гоголя суть простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность – все это черты общие; потом комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния, – черта индивидуальная. Простота вымысла в поэзии реальной есть один из самых верных признаков истинной поэзии, истинного и притом зрелого таланта. Возьмите любую драму Шекспира, возьмите, например, 230 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского его «Тимона Афинского»: эта пьеса так проста, так немногосложна, так скудна путаницею происшествий, что, право, невозможно и рассказать ее содержания. Люди обманули человека, который любил людей, наругались над его святыми чувствованиями, лишили его веры в человеческое достоинство, и этот человек возненавидел людей и проклял их: вот вам и все тут, больше ничего нет. И что же? Составили ли вы себе, по моим словам, какое-нибудь понятие об этом великом создании великого гения? О, верно, никакого! ибо эта идея слишком обыкновенна, слишком известна всем, каждому, слишком истерта и истреплена в тысячах сочинений, хороших и дурных... Но форма, в которой выражена эта идея, но содержание пьесы и ее подробности? Последние так мелочны, так пусты и притом так всякому известны, что я наскучил бы вам смертельно, если бы вздумал их пересказывать. И однако ж у Шекспира эти подробности так занимательны, что вы не оторветесь от них, и однако ж у него мелочность и пустота этих подробностей приготовляет ужасную катастрофу, от которой волосы встают дыбом, – сцену в лесу, где Тимон в бешеных проклятиях, в горьких, язвительных сарказмах, с сосредоточенною, спокойною яростию рассчитывается с человечеством. И потом как выразить вам то чувство, которое возбуждает в душе известие о смерти добровольного отверженца от людей! И вся эта ужасная, хотя и бескровная трагедия, ужасная даже в своей простоте, в своем спокойствии, приготовляется глупою комедиею, отвратительною картиною, как люди обжирают человека, помогают ему разориться и потом забывают о нем, эти люди, которые Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Главы пред идолами клонят И просят денег да цепей. И вот вам жизнь, или, лучше сказать, прототип жизни, созданный величайшим из поэтов. Тут нет эффектов, нет сцен, нет драматических вычур, все просто и обыкновенно, как день мужика, который в будень ест и пашет, спит и пашет, а в праздник ест, пьет и напивается пьян. Но в том-то и состоит задача реальной поэзии, чтобы извлекать поэзию жизни из прозы жизни и потрясать души верным изображением этой жизни. И как сильна и глубока поэзия г. Гоголя в своей наружной простоте и мелкости! Возьмите его 231 Хрестоматия по истории русской литературной критики «Старосветских помещиков»: что в них? Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют, а потом, как водится исстари, умирают. Но отчего же это очарование? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни животной, уродливой, карикатурной и между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде, сострадаете его глубокой, неземной горести и сердитесь на негодяя-наследника, промотавшего достояние двух простаков! И потом вы так живо представляете себе актеров этой глупой комедии, так ясно видите всю их жизнь, вы, который, может быть, никогда не бывал в Малороссии, никогда не видал таких картин и не слыхал о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, следовательно, очень верно; оттого, что автор нашел поэзию и в этой пошлой и нелепой жизни, нашел человеческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героев: это чувство – привычка. Знаете ли вы, что такое привычка, это странное чувство, о котором Пушкин сказал: Привычка небом нам дана: Замена счастия она! Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдает над гробом своей жены, с которой сорок лет грызся, как кошка с собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартире, в которой вы жили много лет, к которой вы привыкли, как душа к телу, и с которою у вас соединяются воспоминания о простой, однообразной жизни, о живом труде и сладком досуге и, может быть, о нескольких сценах любви и наслаждения, и которую вы меняете на великолепные палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собаке, которая десять лет сидела на цепи и десять лет вертела хвостом, когда вы мимо ее проходили?.. О, привычка великая психологическая задача, великое таинство души человеческой. Холодному сыну земли, сыну забот и помыслов житейских заменяет она чувства человеческие, которых лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное блаженство, истинный дар провидения, единственный источник его радостей и (дивное дело!) радостей человеческих! Но что она для человека в полном смысле этого слова? Не насмешка ли судьбы? И он платит ей свою дань, и он прилепляется к пустым вещам и пустым людям, и горько 232 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского страдает, лишаясь их! И что же еще? Г. Гоголь сравнивает ваше глубокое, человеческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть с чувством привычки жалкого получеловека и говорит, что его чувство привычки сильнее, глубже и продолжительнее вашей страсти, и вы стоите перед ним, потупя глаза и не зная, что отвечать, как ученик, не знающий урока, перед своим учителем!.. Так вот где часто скрываются пружины лучших наших действий, прекраснейших наших чувств! О бедное человечество! жалкая жизнь! И однако ж вам все-таки жаль Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны! Вы плачете о них, о них, которые только пили и ели и потом умерли! О, г. Гоголь истинный чародей, и вы не можете представить, как я сердит на него за то, что он и меня чуть не заставил плакать о них, которые только пили и ели и потом умерли! Совершенная истина жизни в повестях г. Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица его; начиная от гардероба Ивана Никифоровнча до русских мужиков, идущих по Невскому проспекту, в сапогах, запачканных известью; от колоссальной физиономии богатыря Бульбы, который не боялся ничего в свете, с люлькою в зубах и с саблею в руках, до стоического философа Хомы, который не боялся ничего в свете, даже чертей и ведьм, когда у него люлька в зубах и рюмка в руках. «Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни. Это его любимое кушанье. Как только отобедает и выйдет в одной рубашке под навес, сейчас приказывает Гапке принести две дыни. И уже сам разрежет, соберет семена в особую бумажку и начинает кушать. Потом велит принести Гапке чернильницу, и сам, собственною рукою, сделает надпись над бумажкою с семенами: сия дыня съедена такого-то числа. Если при этом был какой-нибудь гость то: участвовал такой-то...» «Иван Никифорович чрезвычайно любит купаться, и когда сядет по горло в воду, велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай в такой прохладе». Скажите, Бога ради, можно ли язвительнее, злобнее и вместе с тем добродушнее и любезнее надругаться над 233 Хрестоматия по истории русской литературной критики бедным человечеством?.. И все оттого, что слишком верно! А вот посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды: «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу ты, но всегда вы: «вы, Афанасий Иванович»; «вы, Пульхерия Ивановна». – «Это вы продавили стул, Афанасий 'Иванович?» – «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я»... Или: «После этого Афанасий Иванович возвращался в покой и говорил, приблизившись к Пульхерии Ивановне: «А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?» – «Чего же бы теперь закусить, Афанасий Иванович? разве коржиков с салом, или пирожков с маком, или, может быть, рыжиков соленых!» – «Пожалуй, хоть и рыжиков или пирожков», – отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг являлась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закусывал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в двенадцать часов. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах самых близких к обеду. «Мне кажется, будто эта каша, – говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?» – «Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет пригорелою, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней». – «Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку: – попробуем, как оно будет»... «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз». – «Да вы не верьте, Пульхерия Ивановна, что он красный, – говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть: – бывает, что и красный, да не хороший». Замечаете ли вы здесь всю тонкость Афанасия Ивановича, который хочет разными околичностями отвести глаза своей сожительницы от своего ужасного аппетита, которого он как будто сам стыдится? Но посмотрим на его дальнейшие подвиги. «После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхериею Ивановной. Пришедши домой, Пульхерия Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом... Немного погодя он посылал за Пульхерией Ивановной и говорил: «Чего бы такого поесть мне, Пульхерия Ивановна?» – «Чего же бы такого, – говорила Пульхерия Ивановна: – разве я пойду скажу, чтобы вам принесли вареников с ягодами, которых приказала я нарочно для 234 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского вас оставить». – «И то добре», – отвечал Афанасий Иванович... «Или, может быть, вы съели бы киселику?» – «И то хорошо», – отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, съедаемо. Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал... В половине десятого садились ужинать... Ночью иногда Афанасий Иванович, ходя по спальне,1 стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Афанасий Иванович?» – «Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит», – говорил Афанасий Иванович. «Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?..» – «Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна! впрочем, чего ж бы такого съесть?» – «Кислого молочка, или жиденького узвару с сушеными грушами». – «Пожалуй, разве только попробовать», – говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкапам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После чего он обыкновенно говорил: «Теперь так как будто сделалось легче». Как вы думаете об этом? По-моему, так в этом очерке весь человек, вся жизнь его, с ее прошедшим, настоящим и будущим! А супружеская любовь двух старцев, а насмешечки Афанасия Ивановича над своею сожительницею касательно внезапного пожара в их доме или, что еще ужаснее, касательно его намерения идти на войну; страх доброй Пульхерии Ивановны, ее возражения, ее легкая досада и, наконец, чувство самодовольствия, испытываемое Афанасием Ивановичем при мысли, что ему удалось подшутить над своею дражайшею половиною! О, эти картины, эти черты – суть такие драгоценные перлы поэзии, в сравнении с которыми все прекрасные фразы наших доморощенных Бальзаков настоящий горох!.. И все это не придумано, не списано с рассказов или с действительности, но угадано чувством в минуту поэтического откровения! Если бы я вздумал выписывать все места, доказывающие, что г. Гоголь уловил идею описываемой жизни и верно воспроизвел ее, то мне пришлось бы списать почти все его повести, от слова до слова. 1 Так как подробные выписки были бы длиннее самой статьи, которая и без того длинна, то я позволил себе делать пропуски и для связи некоторые перемены в словах (примеч. В. Г. Белинского). 235 Хрестоматия по истории русской литературной критики Повести г. Гоголя народны в высочайшей степени; но я не хочу слишком распространяться о их народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условие истинно художественного произведения, если под народностию должно разуметь верность изображения нравов, обычаев и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякого народа проявляется в своих ей одной свойственных формах, следовательно, если изображение жизни верно, то и народно. Народность, чтобы отразиться в поэтическом произведении, не требует такого глубокого изучения со стороны художника, как обыкновенно думают. Поэту стоит только мимоходом взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена им. Как малороссу, г. Гоголю с детства знакома жизнь малороссийская, но народность его поэзии не ограничивается одною Малороссиею. В его «Записках сумасшедшего», в его «Невском проспекте» нет ни одного хохла, все русские и вдобавок еще немцы; а каково изображены им эти русские и эти немцы! Каков Шиллер и Гофман! Замечу здесь мимоходом, что, право, пора бы нам перестать хлопотать о народности, так же как пора бы перестать писать, не имея таланта; ибо эта народность очень похожа на тень в басне Крылова: г. Гоголь о ней нимало не думает, и она сама напрашивается к нему, тогда как многие из всех сил гоняются за нею и ловят – одну тривиальность. Почти то же самое можно сказать и об оригинальности: как и народность, она есть необходимое условие истинного таланта. Два человека могут сойтись в заказной работе, но никогда в творчестве, ибо если одно вдохновение не посещает двух раз одного человека, то еще менее одинаковое вдохновение может посетить двух человек. Вот почему мир творчества так неистощим и безграничен. Поэт никогда не скажет: «О чем мне писать? уж все переписано!» или: О боги, для чего я поздно так родился? Один из самых отличительных признаков творческой оригинальности или, лучше сказать, самого творчества состоит в этом типизме, если можно так выразиться, который есть гербовая печать автора. У истинного таланта каждое лицо – тип, и каждый тип для читателя есть знакомый незнакомец. Не говорите: вот человек с огромною душою, с пылкими страстями, с обширным умом, но ограниченным рассудком, который до такого бешенства любит свою жену, что готов удавить ее руками при малейшем подозрении в не236 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского верности – скажите проще и короче: вот Отелло! Не говорите: вот человек, который глубоко понимает назначение человека и цель жизни, который стремится делать добро, но, лишенный энергии души, не может сделать ни одного доброго дела и страдает от сознания своего бессилия – скажите: вот Гамлет! Не говорите: вот чиновник, который подл по убеждению, зловреден благонамеренно, преступен добросовестно – скажите: вот Фамусов! Не говорите: вот человек, который подличает из выгод, подличает бескорыстно, по одному влечению души – скажите: вот Молчалин! Не говорите: вот человек, который во всю жизнь не ведал ни одной человеческой мысли, ни одного человеческого чувства, который во всю жизнь не знал, что у человека есть страдания и горести, кроме холода, бессонницы, клопов, блох, голода и жажды, есть восторги и радости, кроме спокойного сна, сытного стола, цветочного чаю, что в жизни человека бывают случаи поважнее съеденной дыни, что у него есть занятия и обязанности, кроме ежедневного осмотра своих сундуков, анбаров и хлевов, есть честолюбие выше уверенности, что он первая персона в каком-нибудь захолустье; о, не тратьте так много фраз, так много слов – скажите просто: вот Иван Иванович Перерепенко, или: вот Иван Никифорович Довгочхун! И поверьте, вас скорее поймут все. В самом деле, Онегин, Ленский, Татьяна, Зарецкий, Репетилов, Хлестова, Тугоуховский, Платон Михайлович Горич, княжна Мими, Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Шиллер, Пискарев, Пирогов: разве все эти собственные имена теперь уже не нарицательные? И, боже мой! как много смысла заключает в себе каждое из них! Это повесть, роман, история, поэма, драма, многотомная книга, короче: целый мир в одном, только в одном слове!.. И какой мастер г. Гоголь выдумывать такие слова! Не хочу говорить о тех, о которых и так уже много говорил, скажу только об одном таком его словечке, это – Пирогов!.. Святители! да это целая каста, целый народ, целая нация! О, единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст! Ты представитель просвещения и образованности всех людей, которые «любят потолковать об литературе, хвалят Булгарина, Пушкина и Греча, и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове». Да, господа, дивное словцо этот – Пирогов! Это символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который 237 Хрестоматия по истории русской литературной критики так чудно скроен, что придет по плечам тысячи человек! О, г. Гоголь большой мастер выдумывать такие слова, отпускать такие bons mots1. А отчего он такой мастер на них? Оттого, что оригинален! А отчего оригинален? Оттого, что поэт. Но есть еще другая оригинальность, проистекающая из индивидуальности автора, следствие цвета очков, сквозь которые смотрит он на мир. Такая оригинальность у г. Гоголя состоит, как я уже сказал выше, в комическом одушевлении, всегда побеждаемом чувством глубокой грусти. В этом отношении русская поговорка «начал во здравие, а свел за упокой» может быть девизом его повестей. В самом деле, какое чувство остается у вас, когда пересмотрите вы все эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ее наготе, во всем ее чудовищном безобразии, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь над нею? Я уже говорил о «Старосветских помещиках» – об этой слезной комедии во всем смысле этого слова. Возьмите «Записки сумасшедшего», этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком, но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит и возбуждает сострадание. Я уже говорил также и о «Ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» в сем отношении; прибавлю еще, что, с этой стороны, эта повесть всего удивительнее. В «Старосветских помещиках» вы видите людей пустых, ничтожных и жалких, но по крайней мере добрых и радушных; их взаимная любовь основана на одной привычке: но ведь и привычка все же человеческое чувство, но ведь всякая любовь, всякая привязанность, на чем бы она ни основывалась, достойна участия, следовательно, еще понятно, почему вы жалеете об этих стариках. Но Иван Иванович и Иван Никифорович существа совершенно пустые, ничтожные и притом нравственно гадкие и отвратительные, ибо в них нет ничего человеческого; зачем же, спрашиваю я вас, зачем вы так горько улыбаетесь, так грустно 1 bons mots – остроты (фр.). 238 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского вздыхаете, когда доходите до трагикомической развязки? Вот она, эта тайна поэзии! вот они, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видел жизнь, тот не может не вздыхать!.. Комизм или гумор г. Гоголя имеет свой, особенный характер: это гумор чисто русский, гумор спокойный, простодушный, в котором автор как бы прикидывается простачком. Г. Гоголь с важностию говорит о бекеше Ивана Ивановича, и иной простак не шутя подумает, что автор и в самом деле в отчаянии оттого, что у него нет такой прекрасной бекеши. Да, г. Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишком глупым, чтобы не понять его иронии, но эта ирония чрезвычайно как идет к нему. Впрочем, это только манера, а истинный-то гумор г. Гоголя все-таки состоит в верном взгляде на жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависит от карикатурности представляемой им жизни. Он всегда одинаков, никогда не изменяет себе, даже и в таком случае, когда увлекается поэзиею описываемого им предмета. Беспристрастие его идол. Доказательством этого может служить «Тарас Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистию смелою и широкою, этот резкий очерк героической жизни младенчествующего народа, эта огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человек с железным характером, железною волею: описывая подвиги его кровавой мести, автор возвышается до лиризма и в то же время делается драматиком в высочайшей степени, и все это не мешает ему по местам смешить вас своим героем. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающего мать детей, убивающего собственною рукою родного сына, ужасаетесь его кровавых тризн над гробом детей, и вы же смеетесь над ним, дерущимся на кулачки с своим сыном, пьющим горелку с своими детьми, радующимся, что в этом ремесле они не уступают батюшке, и изъявляющим свое удовольствие, что их добре пороли в бурсе. И причина этого комизма, этой карикатурности изображений заключается не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни. Если г. Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями, то без злобы, без ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как будто любуется ею, как любуется взрослый человек на игры детей, которые для него смешны своею наивностию, но которых он не имеет желания разделить. Но тем не менее это все-таки гумор, ибо не щадит ничто239 Хрестоматия по истории русской литературной критики жества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение. Это гумор спокойный и, может быть, тем скорее достигающий своей цели... После «Горя от ума» я не знаю ничего на русском языке, что бы отличалось такою чистейшею нравственностию и что бы могло иметь сильнейшее и благодетельнейшее влияние на нравы, как повести г. Гоголя. О, пред такою нравственностию я всегда готов падать на колена! В самом деле, кто поймет Ивана Ивановича Перерепенко, тот верно рассердится, если его назовут Иваном Ивановичем Перерепенком... Факты говорят громче слов; верное изображение нравственного безобразия могущественнее всех выходок против него. Однако ж не забудьте, что такие изображения только тогда верны, когда бесцельны, когда созданы, а создавать может одно вдохновение, а вдохновение может быть доступно одному таланту, следовательно, только один талант может быть нравственным в своих произведениях! ...Г. Гоголь сделался известным своими «Вечерами на хуторе». Это были поэтические очерки Малороссии, очерки, полные жизни и очарования. Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обольстительного, все, что народ может иметь оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах г. Гоголя. Это была поэзия юная, свежая, благоуханная, роскошная, упоительная, как поцелуй любви... Читайте вы его «Майскую ночь», читайте ее в зимний вечер у пылающего камелька, и вы забудете о зиме с ее морозами и метелями; вам будет чудиться эта светлая, прозрачная ночь благословенного юга, полная чудес и тайн; вам будет чудиться эта юная, бледная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище с одним растворенным окном, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц... Это впечатление очень похоже на то, которое производит на воображение «Сон в летнюю ночь» Шекспира. «Ночь пред Рождеством Христовым» есть целая, полная картина домашней жизни народа, его маленьких радостей, его маленьких горестей, словом, тут вся поэзия его жизни. «Страшная месть» составляет теперь pendant1 к 1 pendant – соответствие (фр.). 240 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского «Тарасу Бульбе», и обе эти огромные картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя. Но я никогда бы не кончил, если бы стал разбирать «Вечера на хуторе»! «Арабески» и «Миргород» носят на себе все признаки зреющего таланта. В них меньше этого упоения, этого лирического разгула, но больше глубины и верности в изображении жизни. Сверх того, он здесь расширил свою сцену действия и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссии, пошел искать поэзии в нравах среднего сословия в России. И, боже мой, какую глубокую и могучую поэзию нашел он тут! Мы, москали, и не подозревали ее!.. «Невский проспект» есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное о бок друг другу. На одной стороне этой картины бедный художник, беспечный и простодушный, как дитя, замечает на Невском проспекте женщину-ангела, одно из тех дивных созданий, которые могло производить только его художническое воображение; он следит за нею, он дрожит, он не смеет дохнуть, ибо он еще не знает ее, но уже обожает ее, а всякое обожание робко и трепетно; он замечает ее благосклонную улыбку, и «кареты казались ему недвижны, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка и алебарда часового, вместе с золотыми словами и нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой реснице его глаз». Задыхаясь от упоения и трепетного предчувствия блаженства, он входит за нею в третий этаж большого дома, и что же представляется ему?.. Она, все так же прекрасная, очаровательная, она смотрит на него глупо, нагло, как бы говоря ему. «Ну, что же ты?..» Он бросается вон. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного после сна Татьяны Пушкина: здесь г. Гоголь поэт в высочайшей степени. Кто читает эту повесть в первый раз, для того в этом дивном сне действительность и поэзия, реальное и фантастическое так тесно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сон. Представьте себе бедного, оборванного, запачканного художника, потерянного в толпе звезд, крестов и всякого рода советников: он толкается между ними, уничтожающими его своим блеском, он стремится к ней, и они беспрестанно разлучают его с ней, они, эти кресты и звезды, которые смотрят на нее без всякого упоения, без всякого трепета, 241 Хрестоматия по истории русской литературной критики как на свои золотые табакерки... И какое пробуждение после этого сна и как можно жить после такого пробуждения? И он точно не живет более в действительности, он весь в грезах... Наконец в его душе блеснул обманчивый, но радужный луч надежды: он решается на самоотвержение, он хочет принести ей в жертву, как Молоху, даже честь свою. «А я только что теперь проснулась, меня привезли в семь часов утра, я была совсем пьяна», – это говорит ему она, все так же прекрасная, очаровательная... После этого можно ли было жить даже и в грезах?.. И нет художника, он сошел в темную могилу, никем не оплаканный, и мир не знал, какая высокая и ужасная драма была разыграна в этой грешной, страдальческой душе... На другой стороне этой картины вы видите Пирогова и Шиллера, того Пирогова, о котором я уже говорил, того Шиллера, который хотел отрезать себе нос, чтобы избавиться от излишних расходов на табак; того Шиллера, который говорит с гордостью, что он швабский немец, а не русская свинья и что у него есть король в Германии; того Шиллера, который «еще с двадцатилетнего возраста, с того времени, которое русский живет на фуфу, измерил всю свою жизнь и положил себе, в течение 10 лет, составить капитал из 50 тысяч и у которого это было уже так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово»; наконец того Шиллера, который «положил целовать жену свою в сутки не более двух раз и чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп». Чего вам еще? Тут весь человек, вся история его жизни!.. А Пирогов?.. О, об нем об одном можно написать целую книгу!.. Вы помните его волокитство за глупою блондинкою, с которою он составляет такую отличную пару, его ссору и отношения с Шиллером; помните, какие ужасные побои претерпел он от флегматического Отелло, помните, каким негодованием, какою жаждою мести закипело сердце поручика, и помните, как скоро прошла его досада от съеденных кондитерских пирожков и прочтения «Пчелы»?.. Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискарев и Пирогов – какой контраст! Оба они начали в один день, в один час преследования своих красавиц, и как различны для обоих них были следствия этих преследований! О, какой смысл скрыт в этом контрасте! И 242 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского какое действие производит этот контраст! Пискарев и Пирогов, один в могиле, другой доволен и счастлив, даже после неудачного волокитства и ужасных побоев!.. Да, господа, скучно на этом свете!.. ...Я еще мало говорил о «Тарасе Бульбе» и не буду слишком распространяться о нем, ибо в таком случае у меня вышла бы еще статья, не менее самой повести... «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в «Илиаде» отражается вся жизнь греческая, в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого века запретят сказать то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении к Малороссии XVI века?.. И в самом деле, разве здесь не все козачество, с его странною цивилизациею, его удалою, разгульною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в этой картине? чего недостает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни? Этот богатырь Бульба с своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцев, дружно отдирающая на площади трепака, этот козак, лежащий в луже, для показания своего презрения к дорогому платью, которое на нем надето, и как бы вызывающий на драку всякого дерзкого, кто бы осмелился дотронуться до него хоть пальцем; этот кошевой, поневоле говорящий красноречивую, витиеватую речь о необходимости войны с бусурманами, потому что «многие запорожцы позадолжались в шинки жидам и своим братьям столько, что ни один черт теперь и веры неймет»; эта мать, которая является как бы мимоходом, чтобы заживо оплакать детей своих, как всегда являлась в тот век женщина и мать в козацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрия и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа, его воззвание к отцу и «слышу» Бульбы и, наконец, героическая гибель старого фанатика, который не чувствовал своих ужасных мук, потому чувствовал одну жажду мести к враждебному народу?.. И это не эпопея?.. Да что же такое эпопея?.. И какая кисть, широкая, размашистая, резкая, быстрая! какие краски, яркие и ослепительные! И какая поэзия, энергическая, могучая, как эта Запорожеская сечь, «то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы, откуда разливается воля и козачество на всю Украину!..» 243 Хрестоматия по истории русской литературной критики Что еще сказать вам? может быть, вы мало удовлетворены и тем, что я уже сказал: что делать? Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять других чувствовать и понимать его! Если одни из читателей, прочтя мою статью, скажут: «это правда», или по крайней мере: «во всем этом есть и правда»; если другие, прочтя ее, захотят прочесть и разобранные в ней сочинения, – мой долг выполнен, цель достигнута. Но какой же общий результат выведу я из всего сказанного мною? Что такое г. Гоголь в нашей литературе? Где его место в ней? Чего должно ожидать нам от него, от него, еще только начавшего свое поприще, и как начавшего? Не мое дело раздавать венки бессмертия поэтам, осуждать на жизнь или смерть литературные произведения; если я сказал, что г. Гоголь поэт, я уже все сказал, я уже лишил себя права делать ему судейские приговоры. Теперь у нас слово «поэт» потеряло свое значение: его смешали с словом «писатель». У нас много писателей, некоторые даже с дарованием, но нет поэтов. Поэт высокое и святое слово; в нем заключается неумирающая слава! Но дарование имеет свои степени; Козлов, Жуковский, Пушкин, Шиллер: эти люди поэты, но равны ли они? Разве не спорят еще и теперь, кто выше: Шиллер или Гёте? Разве общий голос не назвал Шекспира царем поэтов, единственным и несравненным? И вот задача критики: определить степень, занимаемую художником в кругу своих собратий. Но г. Гоголь еще только начал свое поприще; следовательно, наше дело высказать свое мнение о его дебюте и о надеждах в будущем, которые подает этот дебют. Эти надежды велики, ибо г. Гоголь владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким. По крайней мере в настоящее время он является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным. Предоставим времени решить, чем и как кончится поприще г. Гоголя, а теперь будем желать, чтобы этот прекрасный талант долго сиял на небосклоне нашей литературы, чтобы его деятельность равнялась его силе. В «Арабесках» помещены два отрывка из романа. Об этих отрывках нельзя судить как об отдельном и целом создании; но о них можно сказать, что они вполне могут служить залогом тех надежд, о которых я говорил. Поэты бывают двух родов: одни только доступны поэзии, и она у них бывает более способностию, чем даром или талантом, и много зависит от внешних обстоятельств жизни; у 244 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского других дар поэзии есть нечто положительное, нечто составляющее нераздельную часть их бытия. Первые, иногда один раз в целую жизнь, выскажут какую-нибудь прекрасную поэтическую грезу и, как будто обессиленные тяжестью свершенного ими подвига, ослабевают и падают в последующих своих произведениях; и вот отчего у них первый опыт, по большей части, бывает прекрасен, а последующие постепенно подрывают их славу. Другие с каждым новым произведением возвышаются и крепнут; г. Гоголь принадлежит к числу этих последних поэтов: этого довольно! Я забыл еще об одном достоинстве его произведений; это лиризм, которым проникнуты его описания таких предметов, которыми он увлекается. Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви, – сколько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту – сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии – это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Черт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!.. Горе от ума Комедия в четырех действиях, в стихах. Сочинение А. С. Грибоедова. Второе издание. СПб. 1839. <...> Всякое художественное произведение рождается из единой общей идеи, которой оно обязано и художественностию своей формы, и своим внутренним и внешним единством, через которое оно есть особый, замкнутый в самом себе мир. Какая основная идея «Горя от ума»? – Это можно узнать только из самой комедии; почему и взглянем на ее содержание. Дочь барина-чиновника, в минуту борения утреннего света с темнотою ночи, в своей спальне занимается музыкою с молодым человеком, чиновником своего отца. Горничная, перед спальнею, стоит на часах и, чтобы кто не узнал о их несвоевременном занятии музыкою и не перетолковал в дурную сторону такой бескорыстной любви к искусству, напоминает им, что уже светает, и, чтобы вывести их из меломанического самозабвения, переводит часовую 245 Хрестоматия по истории русской литературной критики стрелку. Вдруг входит сам барин и отец, Фамусов, и начинает волочиться за горничною своей дочери, которая в то время доигрывала последний дуэт. Фамусов уходит; являются Софья и Молчалин; Лиза упрекает их за долговременное пребывание в гармонии, рассказывает о приходе барина и о том, как она струсила. Входит опять Фамусов и застает их всех вместе. Следуют допросы, упреки и нападки на Кузнецкий мост. Софья рассказывает свой сон, желая намекнуть им на свою любовь к какому-то робкому и бедному молодому человеку; отец прерывает ее: Ах, матушка, не довершай удара! Кто беден, тот тебе не пара! В заключение советует ей соснуть и идет с Молчалиным подписывать бумаги. Софья наедине с Лизою. Из их разговора мы узнаем, что она без памяти от «скромного» Молчалина и не очень дорожит своим добрым именем и общественным мнением. Лиза восстает против ее любви, которая добром не кончится, и напоминает ей о Чацком, который нежно любил ее с детства и которого и она любила; но Софья отзывается о Чацком с враждебностию, находя в нем только злословие и больше ничего. Вообще служанка обращается с своею барышнею запросто, потому что, как помощница в ее низкой связи, держит в руках своих ее участь. Вообще все эти сцены написаны мастерски и служат превосходною интродукциею в комедию; характеры и их взаимные отношения обрисованы резко и искусно. Вдруг лакей докладывает о приезде Чацкого, который тотчас и является. Чацкий воспитывался в доме Фамусова и любил его дочь с детства. Три года путешествовал он и не видал ее, теперь спешит увидеться. Чацкий человек светский и человек глубокий; отсюда должны выходить приличие и поэзия его свидания с Софьею. Как светский человек, он не должен рассыпаться в нежных и страстных монологах; скорее должен он начать шутить и говорить о незначащих предметах, обо всем, кроме любви своей; но, как у глубокого человека, в его шутках должно, как бы против его воли, проискриваться его чувство, и, как arriere pensee1, оно же должно незримо присутствовать в его болтовне о разных пустяках. 1 Задняя мысль (фр.). 246 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Но что же? Во-первых, он заезжает в дом ее отца и требует свидания с ней, прямо с дороги, не заехав домой, чтобы обриться и переодеться, – и заезжает когда же? – в шесть часов утра! – Воля ваша – не по-светски, не умно и не эстетически!.. Первое, что он начинает говорить с нею, – это о том, что она холодно принимает его, тогда как он скакал сломя голову сорок пять часов, не прищуря глазом, терпел от бури, растерялся, падал несколько раз!.. Софья холодно над ним издевается, – и он начинает расспрашивать у ней о знакомых и делать против них сатирические выходки. Истинного и глубокого чувства любви не видно ни в одном его слове. Входит Фамусов. Софья пользуется случаем ускользнуть. Чацкий рассеянно отвечает на пошлости Фамусова и беспрестанно заводит с ним речь о Софье; наконец спохватывается, что ему пора домой, и уходит. Фамусов силится объяснить сон дочери и на кого из двух она метит – на Молчалина или на Чацкого: один нищий – другой франт, мот и сорванец, и заключает свою думу, а вместе с нею и первый акт комедии, комическим восклицанием: Что за комиссия, создатель, Быть взрослой дочери отцом! Фамусов приказывает Петрушке читать календарь и отмечать, куда и когда барин отозван обедать. Превосходный монолог! Тут Фамусов весь высказывается. Приходит Чацкий, и его беспрестанные обращения к Софье Павловне заставляют Фамусова спросить его – не хочет ли он на ней жениться, – и заметить, что для того ему надо хорошенько управлять имением, а главное послужить. Служить бы рад, прислуживаться тошно! – отвечает ему Чацкий. Фамусов говорит, что «все вы гордецы», что «спросили бы, как делали отцы, учились бы, на старших глядя». Чацкий рад вызову и разливается потоком энергических выходок против старого времени, в которых Фамусов не понимает ни полслова. Эта сцена была бы в высшей степени комическою, если б изображена была объективно как столкновение двух чудаков; но как этого нет, как автор не думал нисколько, что его Чацкий – полоумный, то она смешна, но не в пользу автора. Слуга докладывает о Скалозубе, и Фамусов просит Чацкого, ради чужого человека, не заноситься завиральными идеями и спешит навстречу к Скалозубу. Чацкий из его поспешности подозревает, уж не прочит ли он этого 247 Хрестоматия по истории русской литературной критики гостя в женихи своей дочери. Следует превосходная сцена Фамусова с Скалозубом, где эти два ничтожные характера развиваются творчески. А, батюшка, признайтесь, что едва Где сыщется еще столица, как Москва! – восклицает в лирическом одушевлении пошлости Фамусов. Дистанция огромного размера! – отвечает ему лаконический Скалозуб. До сих пор сцена шла превосходно, развита была творчески; но вот Фамусов распространяется о Москве монологом в 54 стиха, где, местами очень оригинально высказывая самого себя, местами делает, за Чацкого, выходки против общества, какие могли бы прийти в голову только Чацкому. Чацкий радехонек, вмешивается в разговор и начинает читать проповеди и ругать Фамусова. Сцена удивительно смешная, но только не в похвалу комедии... Ни с того ни с сего Фамусов говорит Скалозубу, что будет ждать его в кабинете, и оставляет их. Скалозуб, сказав Чацкому монолог, в котором он чудесно высказывается, тоже уходит. Тут следует падение Молчалина с лошади, обморок Софьи и подозрения Чацкого. Кажется, чего бы еще подозревать? Софья ведет себя так неосторожно в отношении к Молчалину и так нагло враждебно в отношении к Чацкому, что, кажется, совсем бы нечего подозревать. Дело очень ясно: при беде одного она падает в обморок, а другого, забыв всякое приличие, ругает. Чацкий уходит. Софья приглашает Скалозуба на вечер, где будут все домашние друзья и танцы под фортепьяно, и тот уходит. Софья изъявляет свой страх за Молчалина. Лиза упрекает ее в неосторожности, и Молчалин берет ее сторону против Софьи. Оставшись наедине с Лизою, Молчалин волочится за нею, говоря, что он любит барышню «по должности». Молчалин уходит, а Софья опять является, говоря Лизе, что она не выйдет к столу, и приказывая ей послать к себе Молчалина. Вот и конец второго акта. Что в нем существенного, относящегося к делу? Обморок Софьи и, вследствие его, ревность Чацкого; все остальное существует само по себе, без всякого отношения к целому комедии. Все говорят, и никто ничего не делает. Конечно, в монологах действующих лиц высказываются их характеры, но это высказывание в художественном произведении должно происхо248 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского дить из его идеи и совершаться в действии. И в «Ревизоре» каждое действующее лицо высказывает себя каждым своим словом, но совсем не с целию высказываться, а принимая необходимое участие в ходе пьесы. Каждое слово, сказанное каждым лицом, там относится или к ожиданию ревизора, или к его присутствию в городе. Лицо ревизора есть источник, из которого все выходит и в который все возвращается. И потому-то там каждое слово на своем месте, каждое слово необходимо и не может быть ни изменено, ни заменено другим. Оттого-то и комедия Гоголя представляет собою целое художественное произведение, особный и замкнутый в самом себе мир и может подлежать только рассмотрению немецкой, умозрительной критики, а отнюдь не французской, исторической. Лица поэта нет в этом создании, и потому, чтобы понять «Ревизора», нам совсем не нужно знать ни образа мыслей, ни обстоятельств жизни его творца. Чацкий решается допытаться от Софьи, кого она любит, Молчалина или Скалозуба. Странное решение – к чему оно! Другое бы еще дело: допытаться, любит ли она его. Что ему за радость узнать от нее, что она любит не Молчалина, а Скалозуба или что она любит не Скалозуба, а Молчалина? Не все же ли это равно для него? Да и стоит ли какого-нибудь внимания, каких-нибудь хлопот девушка, которая могла полюбить Скалозуба или Молчалина? Где же у Чацкого уважение к святому чувству любви, уважение к самому себе? Какое же после этого может иметь значение его восклицание в конце четвертого акта: ...Пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок! Какое же это чувство, какая любовь, какая ревность? буря в стакане воды!.. И на чем основана его любовь к Софье? Любовь есть взаимное, гармоническое разумение двух родственных душ, в сферах общей жизни, в сферах истинного, благого, прекрасного. На чем же могли они сойтись и понять друг друга? Но мы и не видим этого требования или этой духовной потребности, составляющей сущность глубокого человека, ни в одном слове Чацкого. Все слова, выражающие его чувство к Софье, так обыкновенны, чтобы не сказать пошлы! И что он нашел в Софье? Меркою достоинства женщины может быть мужчина, которого она любит, а Софья лю249 Хрестоматия по истории русской литературной критики бит ограниченного человека без души, без сердца, без всяких человеческих потребностей, мерзавца, низкопоклонника, ползающую тварь, одним словом – Молчалина. Он ссылается на воспоминания детства, на детские игры; но кто же в детстве не влюблялся и не называл своею невестою девочки, с которою вместе учился и резвился, и неужели детская привязанность к девочке должна непременно быть чувством возмужалого человека? Буря в стакане воды – больше ничего!.. И вот он приступает к объяснению. Вы думаете, что он сделает это как светский и как глубокий человек, как-нибудь намеками, со всевозможным уважением и к своему чувству и к личности той, которую, какова бы она ни была, он любит? Ничего не бывало! Он прямо спрашивает ее: Дознаться мне нельзя ли – Хоть и не кстати, нужды нет, – Кого вы любите? И этот человек волнуется любовию и ревностию! И это разговор, который должен решить участь его жизни! Наконец он прямо заводит речь о Молчалине!!. Да намекнуть девушке, не любит ли она Молчалина, все равно, что намекнуть ей, не любит ли она лакея или кучера своего отца... Софья расхваливает Молчалина, а Чацкий убеждается из этого, что она его и не любит и не уважает... Догадлив!.. Где же ясновидение внутреннего чувства?.. Лиза подходит к барышне своей и шепчет ей на ухо, что ее ждет Молчалин, и та хочет уйти. Чацкий просит у ней позволения побыть минуту в ее комнате, но она пожимает плечами, уходит к себе и запирается, оставляя его с носом. Чацкий, оставшись один, опять ни с того ни с сего уверяется, что Софья любит Молчалина, и вымещает свою досаду остротами. Потом он заводит разговор с Молчаливым, и тут следует превосходнейшая сцена, где Молчалин вполне высказывается. Но вот собираются гости, и следует ряд картин тогдашнего и, может быть, отчасти и нынешнего московского общества, – картин, написанных мастерскою кистию. Наталья Дмитриевна с своим мужем Платоном Михайловичем Горичем, этим «высоким идеалом московских всех мужей», их взаимные отношения; князь Тугоуховский и княгиня с шестью дочерьми; графини Хрюмины, бабушка и внучка; Загорецкий, Хлестова – все это типы, созданные рукою истинного художника; а их речи, слова, обращение, манеры, образ 250 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского мыслей, пробивающийся из-под них, – гениальная живопись, поражающая верностию, истиною и творческою объективностию; но все это как-то несвязно с целым комедии, выставляется само собою, особно и отдельно. Молчалин услуживает, составляет партию в вист, подличает. Чацкий язвительно колет им Софью, у которой вдруг блеснула мысль отомстить ему, ославив его сумасшедшим. Весть эта с быстротою молнии переходит от одного к другому и тотчас превращается в доказанную очевидность, потому что все принимают ее на веру с светскою основательностию и светским доброжелательством к ближнему. У графини-бабушки происходят пресмешные сцены, по поводу шума о сумасшествии Чацкого, с Натальей Дмитриевной, Загорецким и князем Тугоуховским, а у Фамусова с Хлестовой. Входит Чацкий, и все отшатываются от него, как от сумасшедшего; Фамусов советует ему ехать домой, говоря, что он нездоров, и Чацкий отвечает ему: Да, мочи нет! Мильон терзаний Груди от дружеских тисков. Ногам от шарканья, ушам от восклицаний; А пуще голове от всяких пустяков! (Подходит к Софье) Душа здесь у меня каким-то горем сжата, И в многолюдстве я потерян, сам не свой. Нет, недоволен я Москвой! Скажите, после этой, положим, что поэтической, но уже совершенно неуместной выходки Чацкого, не вправе ли было все общество окончательно и положительно удостовериться в его сумасшествии? Кто, кроме помешанного, предастся такому откровенному и задушевному излиянию своих чувств на бале, среди людей, чуждых ему? Да если бы это были и не Фамусовы, не Загорецкие, не Хлестовы, а люди отлично умные и глубокие, и те приняли бы его за помешанного! Но Чацкий этим не довольствуется – он идет далее. Софья лукаво делает ему вопрос, на что он так сердит? и Чацкий начинает свирепствовать против общества, во всем значении этого слова. Без дальних околичностей начинает он рассказывать, что вон в той комнате встретил он французика из Бордо, который, «надсаживая грудь, собрал вокруг себя род веча» и рассказывал, как он снаряжался в путь в Россию, к варварам, со страхом и слезами, и встретил ласки и привет, не слышит русского слова, не 251 Хрестоматия по истории русской литературной критики видит русского лица, а все французские, как будто он и не выезжал из своего отечества, Франции. Вследствие этого Чацкий начинает неистово свирепствовать против рабского подражания русских иноземщине, советует учиться у китайцев «премудрому незнанью иноземцев», нападает на сюртуки и фраки, заменившие величавую одежду наших предков, на «смешные, бритые, седые подбородки», заменявшие окладистые бороды, которые упали по манию Петра, чтобы уступить место просвещению и образованности; словом, несет такую дичь, что все уходят, а он остается один, не замечая того, – чем и оканчивается третий акт. Вообще, если бы выкинуть Чацкого, этот акт, сам по себе, как дивно созданная картина общества и характеров, был бы превосходным созданием искусства. Картина разъезда с бала, в четвертом акте, есть также, сама по себе, как нечто отдельное, дивное произведение искусства. Один Репетилов чего стоит! Это лицо типическое, созданное великим творцом!.. Чацкому не найдут его кучера; он задержан в сенях и поневоле подслушивает толки о своем сумасшествии. Это его изумляет: он далек от мысли, что он сумасшедший. Вдруг он слышит голос Софьи, которая над лестницею, во втором этаже, со свечою в руках, вполголоса зовет Молчалина. Лакей приходит и докладывает о карете, но Чацкий прогоняет его и прячется за колонну. Лиза стучится в дверь к Молчалину и вызывает его; Молчалин выходит и по-своему любезничает с Лизою, не подозревая, что Софья все видит и слышит. Он говорит открыто, что любит Софью «по должности», и заключает обращением к горничной: Пойдем делить любовь печальной нашей крали! Дай обниму тебя от сердца полноты!.. (Лиза не дается) Зачем она не ты? Софья является, подлец падает ей в ноги и валяется у ней в ногах. Софья приказывает ему встать, и чтобы заря не застала его в доме, иначе она все расскажет отцу. Она заключает изъявлением радости, что сама все узнала и что не было тут свидетелей, подобно тому как был Чацкий во время ее давешнего обморока. Он здесь, притворщица! – кричит Чацкий, бросаясь к ней из-за колонны. 252 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Скажите, бога ради, какой бы порядочный, по крайней мере, не сумасшедший человек на месте Чацкого не удалился тихонько, узнав горькую истину?.. Но ему надо было произвести трагический эффект, а вышла преуморительная комическая сцена, где самое смешное лицо – г. Чацкий... Нет, не то: ему надо было еще прочесть несколько проповедей... Без этого комедия по крайней мере кончилась бы на месте, а тут она еще тянется бог знает для чего. Окончание известно, и мы не будем о нем говорить. Итак, в комедии нет целого, потому что нет идеи. Нам скажут, что идея, напротив, есть и что она – противоречие умного и глубокого человека с обществом, среди которого он живет. Позвольте: что это за новый Анахарсис, побывавший в Афинах и возвратившийся к скифам?.. Неужели представители русского общества все – Фамусовы, Молчалины, Софьи, Загорецкие, Хлестовы, Тугоуховские и им подобные? Если так, они правы, изгнавши из своей среды Чацкого, с которым у них нет ничего общего, равно как и у него с ними. Общество всегда правее и выше частного человека, и частная индивидуальность только до той степени и действительность, а не призрак, до какой она выражает собою общество. Нет, эти люди не были представителями русского общества, а только представителями одной стороны его, следственно, были другие круги общества, более близкие и родственные Чацкому. В таком случае зачем же он лез к ним и не искал круга более по себе? Следовательно, противоречие Чацкого случайное, а не действительное; не противоречие с обществом, а противоречие с кружком общества. Где же тут идея? Основною идеею художественного произведения может быть только так называемая на философском языке «конкретная» идея, то есть такая идея, которая в самой себе заключает и свое развитие, и свою причину, и свое оправдание и которая только одна может стать разумным явлением, параллельным своему диалектическому развитию. Очевидно, что идея Грибоедова была сбивчива и неясна самому ему, а потому и осуществилась каким-то недоноском. И потом: что за глубокий человек Чацкий? Это просто крикун, фразер, идеальный шут, на каждом шагу профанирующий все святое, о котором говорит. Неужели войти в общество и начать всех ругать в глаза дураками и скотами – значит быть глубоким человеком? Что бы вы сказали о человеке, который, войдя в кабак, стал бы с одушевлением и жаром доказывать пьяным мужикам, что 253 Хрестоматия по истории русской литературной критики есть наслаждение выше вина – есть слава, любовь, наука, поэзия, Шиллер и Жан-Поль Рихтер?.. Это новый Дон-Кихот, мальчик на палочке верхом, который воображает, что сидит на лошади... Глубоко верно оценил эту комедию кто-то, сказавший, что это горе, – только не от ума, а от умничанья. Искусство может избрать своим предметом и такого человека, как Чацкий, но тогда изображение долженствовало б быть объективным, а Чацкий лицом комическим; но мы ясно видим, что поэт не шутя хотел изобразить в Чацком идеал глубокого человека в противоречии с обществом, и вышло бог знает что. Когда в произведении искусства нет основной идеи, то и характеры действующих лиц не могут быть верны, по крайней мере все. Что такое Софья? Светская девушка, унизившаяся до связи почти с лакеем. Это можно объяснить воспитанием – дураком отцом, какою-нибудь мадамою, допустившею себя переманить за лишних пятьсот рублей. Но в этой Софье есть какая-то энергия характера: она отдала себя мужчине, не обольстясь ни богатством, ни знатностию его, словом, не по расчету, а напротив, уж слишком по нерасчету; она не дорожит ничьим мнением, и когда узнала, что такое Молчалин, с презрением отвергает его, велит завтра же оставить дом, грозя, в противном случае, все открыть отцу. Но как она прежде не видела, что такое Молчалин? – Тут противоречие, которого нельзя объяснить из ее лица, а все другие объяснения не могут, как внешние, и произвольные, иметь места при рассматривании созданного поэтом характера. И потому Софья не действительное лицо, а призрак. Кроме Чацкого, ни на что не похожего, все прочие лица живы и действительны; но и они частенько изменяют себе, говоря против себя эпиграммы на общество. Фамусов – лицо типическое, художественно созданное. Он весь высказывается в каждом своем слове. Это гоголевский городничий этого круга общества. Его философия та же. Знатность, вследствие чинов и денег, – вот его идеал жизни. Чтобы не накопилось у него много дел, у него обычай: «Подписано, так с плеч долой». Он очень уважает родство – Я пред родней, где встретится, ползком, Сыщу ее на дне морском. При мне служащие чужие очень редки: Все больше сестрины, свояченицы детки. 254 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Один Молчалин мне не свой, И то затем, что деловой. Как будешь представлять к крестишку иль местечку, Ну как не порадеть родному человечку? Но нигде не высказывается он так резко и так полно, как в конце комедии; он узнает, что дочь его в связи с молодым человеком, что ее, следовательно, и его доброе имя опозорено, не говоря уже о тяжелой, жгучей душу мысли быть отцом такой дочери – и что ж? – ничего этого и в голову не приходит ему, потому что ни в чем этом он не видит существенного: он весь жил и живет вне себя: его бог, его совесть, его религия – мнение света, и он восклицает в отчаянье: Моя судьба еще ли не плачевна: Ах, боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексеева!.. Но этот Фамусов, столь верный самому себе в каждом своем слове, изменяет иногда себе целыми речами. Берем же побродяг и в дом и по билетам, Чтоб наших дочерей всему учить – всему: И танцам, и пенью, и нежности, и вздохам. Как будто в жены их готовим скоморохам. Это говорит не Фамусов, а Чацкий устами Фамусова, и это не монолог, а эпиграмма на общество. …………………………………………… Кто хочет к нам пожаловать – изволь. Дверь отперта для званых и незваных, Особенно из иностранных; Хоть честный человек, хоть нет, Для нас ровнехонько, про всех готов обед. …………………………………………………… А наши старички, как их возьмет задор, Засудят о делах, что слово – приговор! Ведь столбовые все, в ус никому не дуют И о правительстве иной раз так толкуют, Что если б кто подслушал их – беда! Не то, чтоб новизны вводили – никогда! Спаси их боже! Нет! а придерутся К тому, к сему, а чаще ни к чему, 255 Хрестоматия по истории русской литературной критики Поспорят, пошумят и... разойдутся ……………………………………………………. А дочки? Французские романсы вам поют И верхние выводят нотки; К военным людям так и льнут, А потому, что патриотки! Нужно ли доказывать, что Фамусов слишком глуп для таких язвительных эпиграмм и так добродушно предан пошлой стороне своего общества, что считает за грех от другого услышать против него выходку; что, наконец, все это Фамусов говорит не от себя, а по приказу автора?.. Мало этого: сам Скалозуб острит, да еще как! – точь-в-точь, как Чацкий. Не верите? – так прочтите: Позвольте, расскажу вам весть: Княгиня Ласова какая-то здесь есть, Наездница-вдова, но нет примеров. Чтоб ездило с ней много кавалеров – На днях расшиблась в пух: Жокей не поддержал – считал он, видно, мух. И без того она, как слышно, неуклюжа; Теперь ребра недостает, Так для поддержки ищет мужа. Каков Скалозуб! Чем хуже Чацкого?.. Впрочем, Лиза не без основания так остроумно, такою эпиграммою заметила о нем: Шутить и он горазд – ведь нынче кто не шутит! Но нигде субъективность автора не проявилась так резко, так странно и так во вред комедии, как в очерке характера Молчалина, который он заставляет делать самого же Молчалина: Мне завещал отец, Во-первых, угождать всем людям без изъятья: Хозяину, где доведется жить, Слуге его, который чистит платья, Швейцару, дворнику – для избежанья зла, Собаке дворника, чтоб ласкова была! А Лиза отвечает ему на эту оригинальную выходку эпиграммою, которая сделала бы честь остроумию самого Чацкого: Сказать, сударь, у вас огромная опека! 256 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Скажите, бога ради, станет ли какой-нибудь подлец называть себя при других подлецом? – Ведь Молчалин глуп, когда дело идет о чести, благородстве, науке, поэзии и подобных высоких предметах; но он умен, как дьявол, когда дело идет о его личных выгодах. Он живет в доме знатного барина; допущен в его светский круг и совсем не болтлив, но очень молчалив: так кстати ли ему подавать оружие на себя горничной, так простодушно хвастаясь своею подлостию?.. Но если вычеркнуть места из монологов, где действующие лица проговариваются, из угождения автору, против себя, – это будут, за исключением Софьи, лица типические, характеры художественно созданные, хотя и не составляющие комедии своими взаимными отношениями; – не говорим уже о Репетилове, этом вечном прототипе, которого собственное имя сделалось нарицательным и который обличает в авторе исполинскую силу таланта. Вообще «Горе от ума» – не комедия в смысле и значении художественного создания, целого единого, особного и замкнутого в себе мира, в котором все выходит из одного источника – основной идеи и все туда же возвращается, в котором поэтому каждое слово необходимо, неизменимо и незаменимо; в котором все превосходно и ничего нет слабого, лишнего, ненужного, словом – в котором нет достоинств и недостатков, но одни достоинства. Художественное произведение есть само себе цель и вне себя не имеет цели, а автор «Горя от ума» ясно имел внешнюю цель – осмеять современное общество в этой сатире, и комедию избрал для этого средством. Оттого-то и ее действующие лица так явно и так часто проговариваются против себя, говоря языком автора, а не своим собственным; оттого-то и любовь Чацкого так пошла, ибо она нужна не для себя, а для завязки комедии, как нечто внешнее для нее; оттого-то и сам Чацкий – какой-то образ без лица, призрак, фантом, что-то небывалое и неестественное. Но как не художественно созданное лицо комедии, а выражение мыслей и чувств своего автора, хотя и некстати, странно и дико вмешавшееся в комедию, сам Чацкий представляется уже с другой точки зрения. У него много смешных и ложных понятий, но все они выходят из благородного начала, из бьющего горючим ключом источника жизни. Его остроумие вытекает из благородного и энергического негодования против того, что он, справедливо или ошибочно, почитает дурным и унижающим 257 Хрестоматия по истории русской литературной критики человеческое достоинство, – и потому его остроумие так колко, сильно и выражается не в каламбурах, а в сарказмах. И вот почему все бранят Чацкого, понимая ложность его как поэтического создания, как лица комедии, – и все наизусть знают его монологи, его речи, обратившиеся в пословицы, поговорки, применения, эпиграфы, в афоризмы житейской мудрости. Есть люди, которых расстроенные или от природы слабые головы не в силах переварить этого противоречия и которые поэтому или до небес превозносят комедию Грибоедова, или считают ее годною только для защиты какихто рож, подверженных оплеухам. Выведем окончательный результат из всего сказанного нами о «Горе от ума», как оценку этого произведения. «Горе от ума» не есть комедия, по отсутствию или, лучше оказать, по ложности своей основной идеи; не есть художественное создание, по отсутствию самоцельности, а следовательно, и объективности, составляющей необходимое условие творчества. «Горе от ума» – сатира, а не комедия: сатира же не может быть художественным произведением. И в этом отношении «Горе от ума» находится на неизмеримом, бесконечном расстоянии ниже «Ревизора», как вполне художественного создания, вполне удовлетворяющего высшим требованиям искусства и основным философским законам творчества. Но «Горе от ума» есть в высшей степени поэтическое создание, ряд отдельных картин и самобытных характеров, без отношения к целому, художественно нарисованных кистию широкою, мастерскою, рукою твердою, которая если и дрожала, то не от слабости, а от кипучего, благородного негодования, которым молодая душа еще не в силах была совладеть. В этом отношении «Горе от ума», в его целом, есть какое-то уродливое здание, ничтожное по своему назначению, как, например, сарай, но здание, построенное из драгоценного паросского мрамора, с золотыми украшениями, дивною резьбою, изящными колоннами... И в этом отношении «Горе от ума» стоит на таком же неизмеримом и бесконечном пространстве выше комедий Фонвизина, как и ниже «Ревизора». Грибоедов принадлежит к самым могучим проявлениям русского духа. В «Горе от ума» он является еще пылким юношею, но обещающим сильное и глубокое мужество, – младенцем, но младенцем, задушающим, еще в колыбели, огромных змей, младенцем, из которого должен явиться дивный Иракл. Разумный опыт жизни 258 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского и благодетельная сила лет уравновесили бы волнования кипучей натуры, погас бы ее огонь, и исчезло бы его пламя, а осталась бы теплота и свет, взор прояснился бы и возвысился до спокойного и объективного созерцания жизни, в которой все необходимо и все разумно, – и тогда поэт явился бы художником и завещал потомству не лирические порывы своей субъективности, а стройные создания, объективные воспроизведения явлений жизни... Почему Грибоедов не написал ничего после «Горя от ума», хотя публика уже и вправе была ожидать от него созданий зрелых и художественных? – это такой вопрос, решения которого стало бы на огромную статью и который все бы не решился. Может быть, служба, которой он был предан не как-нибудь, не мимоходом, а действительно, вступила в соперничество с поэтическим призванием; а может быть и то, что в душе Грибоедова уже зрели гигантские зародыши новых созданий, которые осуществить не допустила его ранняя смерть. Кто в нем одержал бы победу – дипломат или художник, – это могла решить только жизнь Грибоедова, но не могут решить никакие умозрения, и потому предоставляем решение этого вопроса мастерам и охотникам выдавать пустые гадания фантазии за действительные выводы ума; сами повторим только, что «Горе от ума» есть произведение таланта могучего, драгоценный перл русской литературы, хотя и не представляющее комедию в художественном значении этого слова, – произведение слабое в целом, но великое своими частностями <…>. Сочинения Александра Пушкина Статья восьмая. Евгений Онегин Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как Евгений Онегин. И эта робость оправдывается многими причинами. Онегин есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в Онегине личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение, значит – оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом дос259 Хрестоматия по истории русской литературной критики тоинстве Онегина, – эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. С этой точки зрения даже и то, что теперь критика могла бы с основательностью назвать в Онегине слабым или устарелым, – даже и то является исполненным глубокого значения, великого интереса. И нас приводит в затруднение не одно только сознание слабости наших сил для верной оценки такого произведения, но и необходимость в одно и то же время во многих местах Онегина, с одной стороны, видеть недостатки, с другой– достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признает в произведениях искусства только безусловные недостатки или безусловные достоинства и которая не понимает, что условное и относительное составляют форму безусловного. Вот почему некоторые критики добродушно были убеждены, что мы не уважаем Державина, находя в нем великий талант и в то же самое время не находя между произведениями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованиям эстетического вкуса нашего времени. Но в отношении к Онегину наши суждения могут показаться многим еще более противоречащими, потому что Онегин со стороны формы есть произведение в высшей степени художественное, а со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства. Вся наша статья об Онегине будет развитием этой мысли, какою бы ни показалась она с первого взгляда многим из наших читателей. Прежде всего в Онегине мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения Евгений Онегин есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная! До Пушкина русская поэзия была не более как понятливою и переимчивою ученицею европейской музы, – и потому все произведения русской поэзии до Пушкина как-то походили больше на этюды и копии, нежели на свободные произведения самобытного вдохновения. <...> 260 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Первая истинно национально-русская поэма в стихах была и есть – Евгений Онегин Пушкина, и <...> в ней народности больше, нежели в каком угодно другом народном русском сочинении. <...> Это такая же истина, как и то, что дважды два – четыре. Если ее не все признают национальною – это потому, что у нас издавна укоренилось престранное мнение, будто бы русский во фраке или русская в корсете – уже не русские, и что русский дух дает себя чувствовать только там, где есть зипун, лапти, сивуха и кислая капуста. В этом случае у нас многие даже и между так называемыми образованными людьми бессознательно подражают русскому простонародью, которое всякого чужестранца из Европы называет немцем. И вот где источник пустой боязни некоторых, чтоб мы все не онемечились! Все европейские народы развивались, как один народ, сперва под сению католического единства, духовного (в лице папы) и светского (в лице избранного главы священной Римской империи), а потом под влиянием одних и тех же стремлений к последним результатам цивилизации, – однако, тем не менее, между французом, немцем, англичанином, итальянцем, шведом, испанцем такая же существенная разница, как и между русским и индийцем. Это струны одного и того же инструмента – духа человеческого, но струны разного объема, каждая с своим особенным звуком, – и потому-то они издают полные гармонические аккорды. Если же народы Западной Европы, все равно происходящие от великого тевтонского племени, большею частию смешавшегося с романскими племенами, все равно развившиеся на почве одной и той же религии, под влиянием одних и тех же обычаев, одного и того же общественного устройства и потом все равно воспользовавшиеся богатым наследием древнеклассического мира, – если, говорим, все народы Западной Европы, составляющие собою единое семейство, тем не менее резко отличаются один от другого, то естественное ли дело, чтоб русский народ, возникший на другой почве, под другим небом, имевший свою историю, ни в чем не похожую на историю ни одного западноевропейского народа, естественно ли, чтоб русский народ, усвоив себе одежду и обычаи европейские, мог утратить свою национальную самобытность и походить, как две капли воды, на каждого из европейских народов, из которых каждый друг от друга резко отличается и физическою и нравственною физиономиею?.. Да это нелепость нелепостей! хуже этого ничего нельзя 261 Хрестоматия по истории русской литературной критики выдумать! Первая причина особности племени или народа заключается в почве и климате занимаемой им страны; а много ли на земном шаре стран одинаковых в геологическом и климатологическом отношениях? И потому, чтоб напор европейских обычаев и идей мог лишить русских их национальности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материк России превратить в гористый; бесконечное его пространство сделать меньшим по крайней мере в десять раз (за исключением Сибири). И много, кроме того, нужно бы сделать такого, чего нельзя сделать, и о чем фантазировать на досуге прилично только господам Маниловым. Далее: бедна та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком соприкосновении с другою народностью! Наши самозванные патриоты не видят в простоте ума и сердца своего, что, беспрестанно боясь за русскую национальность, они тем самым жестоко оскорбляют ее. Но когда сделалось всегда победоносным русское войско, если не тогда, как Петр Великий одел его в европейское платье и приучил его сообразной с этим платьем военной дисциплине? Как-то естественно видеть толпу крестьян, дурно вооруженных, еще хуже дисциплинированных, по случаю войны недавно оторванных от избы и сохи, – как-то естественно видеть их бегущими в беспорядке с поля битвы; точно так же, как естественно видеть полки солдат, даже и при военной неудаче, или храбро умирающими на поле битвы, или отступающими в грозном порядке. Некоторые из горячих славянолюбов говорят: «Посмотрите на немца, – он везде немец, и в России, и во Франции, и в Индии; француз тоже везде француз, куда бы ни занесла его судьба; а русский в Англии – англичанин, во Франции – француз, в Германии – немец». Действительно, в этом есть своя сторона истины, которой нельзя оспаривать, но которая служит не к унижению, а к чести русских. Это свойство удачно применяться ко всякому народу, ко всякой стране отнюдь не есть исключительное свойство только образованных сословий в России, но свойство всего русского племени, всей северной Руси. <...> Все сказанное нами было необходимым отступлением для опровержения неосновательного мнения, будто бы в деле литературы чисто русскую народность должно искать только в сочинениях, которых содержание заимствовано из жизни низших и необразованных классов. Вследствие этого странного мнения, оглашающего 262 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского «не русским» все, что есть в России лучшего и образованнейшего, – вследствие этого лапотно-сермяжного мнения какой-нибудь грубый фарс с мужиками и бабами есть национально-русское произведение, а «Горе от ума» есть тоже русское, но только уже не национальное произведение; какой-нибудь площадной роман, вроде «Разгулья купеческих сынков в Марьиной роще», есть хотя и плохое, однако, тем не менее, национально-русское произведение, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако, тем не менее, русское, но не национальное произведение... Нет, и тысячу раз нет! Пора, наконец, вооружиться против этого мнения всею силою здравого смысла, всею энергиею неумолимой логики! Мы далеки уже от того блаженного времени, когда псевдоклассическое направление нашей литературы допускало в изящные создания только людей высшего круга и образованных сословий, и если иногда позволяло выводить в поэме, драме или эклоге простолюдинов, то не иначе, как умытых, причесанных, разодетых и говорящих не своим языком. Да, мы далеки от этого псевдоклассического времени; но пора уже отдалиться нам и от этого псевдоромантического направления, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять в поэмах и драмах не только честных людей низшего звания, но даже воров и плутов, вообразило, что истинная национальность скрывается только под зипуном, в курной избе, и что разбитый на кулачном бою нос пьяного лакея есть истинно шекспировская черта, – а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаков чего-нибудь похожего на народность. Пора, наконец, догадаться, что, напротив, русский поэт может себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий: ибо, чтоб найти национальные элементы в жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, – для этого поэту нужно и иметь большой талант и быть национальным в душе. «Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами». Разгадать тайну народной психеи – для поэта значит уметь равно быть верным действительности при изображе263 Хрестоматия по истории русской литературной критики нии и низших, и средних, и высших сословий. Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой простонародной жизни, не умея схватывать более тонких и сложных оттенков образованной жизни, – тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет право на громкое титло национального поэта. Великий национальный поэт равно умеет заставить говорить и барина и мужика их языком. И если произведение, которого содержание взято из жизни образованных сословий, не заслуживает названия национального, – значит, оно ничего не стоит и в художественном отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности. Поэтому не только такие произведения, как Горе от ума и Мертвые души, но и такие, как Герой нашего времени, суть столько же национальные, сколько и превосходные поэтические создания. И первым таким национально-художественным произведением был Евгений Онегин Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь как она есть, не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостию. И такая смелость была бы менее удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, – такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта. Правда, на русском языке было одно прекрасное (по своему времени) произведение, вроде повести в стихах: мы говорим о Модной жене Дмитриева; но между ею и Онегиным нет ничего общего уже потому только, что Модную жену так же легко счесть за вольный перевод или переделку с французского, как и за оригинально-русское произведение. Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь общего с прекрасною и остроумною сказкою Дмитриева, так это, как мы уже и заметили в последней статье, Граф Нулин; но и тут сходство заключается совсем не в поэтическом достоинстве обоих произведений. Форма романов вроде 264 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Онегина создана Байроном; по крайней мере манера рассказа, смесь прозы и поэзии в изображаемой действительности, отступления, обращения поэта к самому себе и особенно это слишком ощутительное присутствие лица поэта в созданном им произведении, – все это есть дело Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственного содержания совсем не то, что самому изобрести ее, – тем не менее, при сравнении Онегина Пушкина с Дон-Хуаном, Чайльд-Гарольдом и Беппо Байрона, нельзя найти ничего общего, кроме формы и манеры. Не только содержание, но и дух поэм Байрона уничтожает всякую возможность существенного сходства между ними и «Онегиным» Пушкина. Байрон писал о Европе для Европы; этот субъективный дух, столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду над его прошедшею и настоящею историею. Повторяем: тут нечего искать и тени какого-либо сходства. Пушкин писал о России для России, – и мы видим признак его самобытного и гениального таланта в том, что, верный своей натуре, совершенно противоположной натуре Байрона, и своему художническому инстинкту, – он далек был от того, чтобы соблазниться создать что-нибудь в байроновском роде, пиша русский роман. Сделай он это – и толпа превознесла бы его выше звезд; слава мгновенная, но великая была бы наградою за его ложный tour de force1. Но, повторяем, Пушкин как поэт был слишком велик для подобного шутовского подвига, столь обольстительного для обыкновенных талантов. Он заботился не о том, чтоб походить на Байрона, а о том, чтоб быть самим собою и быть верным той действительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась под перо его. И зато его Онегин – в высшей степени оригинальное и национально-русское произведение. Вместе с современным ему гениальным творением Грибоедова – Горе от ума2 стихотворный роман Пушкина положил прочное основание новой русской по1 Действие, требующее большого напряжения сил (фр.). Горе от ума было написано Грибоедовым в бытность его в Тифлисе, до 1823 года, но написано вчерне. По возвращении в Россию, в 1823 году, Грибоедов подвергнул свою комедию значительным исправлениям. В первый раз большой отрывок из нее был напечатан в альманахе Талия в 1825 году. Первая глава Онегина появилась в печати в 1825 году, когда, вероятно, у Пушкина было уже готово несколько глав этой поэмы (примеч. В. Г. Белинского). 2 265 Хрестоматия по истории русской литературной критики эзии, новой русской литературе. До этих двух произведений, как мы уже и заметили выше, русские поэты еще умели быть поэтами, воспевая чуждые русской действительности предметы, и почти не умели быть поэтами, принимаясь за изображение мира русской жизни. Исключение остается только за Державиным, в поэзии которого, как мы уже не раз говорили, проблескивают искорки элементов русской жизни; за Крыловым и, наконец, за Фонвизиным, который, впрочем, был в своих комедиях больше даровитым копистом русской действительности, нежели ее творческим воспроизводителем. Несмотря на все недостатки, довольно важные, комедии Грибоедова, – она, как произведение сильного таланта, глубокого и самостоятельного ума, была первою русскою комедиею, в которой нет ничего подражательного, нет ложных мотивов и неестественных красок, но в которой и целое, и подробности, и сюжет, и характеры, и страсти, и действия, и мнения, и язык – все насквозь проникнуто глубокою истиною русской действительности. Что же касается до стихов, которыми написано Горе от ума, – в этом отношении Грибоедов надолго убил всякую возможность русской комедии в стихах. Нужен гениальный талант, чтоб продолжать с успехом начатое Грибоедовым дело: меч Ахилла под силу только Аяксам и Одиссеям. То же можно сказать и в отношении к Онегину, хотя, впрочем, ему и обязаны своим появлением некоторые, далеко не равные ему, но все-таки замечательные попытки, – тогда как Горе от ума до сих пор высится в нашей литературе геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Пример неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россия выучила наизусть еще в рукописных списках более чем за десять лет до появления ее в печати! Стихи Грибоедова обратились в пословицы и поговорки; комедия его сделалась неисчерпаемым источником применений на события ежедневной жизни, неистощимым рудником эпиграфов! И хотя никак нельзя доказать прямого влияния со стороны языка и даже стиха басен Крылова на язык и стих комедии Грибоедова, однако нельзя и совершенно отвергать его: так в органически-историческом развитии литературы все сцепляется и связывается одно с другим! Басни Хемницера и Дмитриева относятся к басням Крылова, как просто талантливые произведения относятся к гениальным произведениям, – но тем не менее Крылов много обязан Хемницеру и Дмитриеву. Так и Грибоедов: он не 266 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского учился у Крылова, не подражал ему: он только воспользовался его завоеванием, чтоб самому идти дальше своим собственным путем. Не будь Крылова в русской литературе – стих Грибоедова не был бы так свободно, так вольно, развязно оригинален, словом, не шагнул бы так страшно далеко. Но не этим только ограничивается подвиг Грибоедова: вместе с Онегиным Пушкина его Горе от ума было первым образцом поэтического изображения русской действительности в обширном значении слова. В этом отношении оба эти произведения положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов и Гоголь. Без Онегина был бы невозможен Герой нашего времени, так же, как без Онегина и Горя от ума Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины. Ложная манера изображать русскую действительность, существовавшая до Онегина и Горя от ума, еще и теперь не исчезла из русской литературы. Чтоб убедиться в этом, стоит только обречь себя на смотрение или на чтение новых драматических пьес, даваемых на русском театре обеих столиц. Это не что иное, как искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскою жизнию; это – исковерканные французские характеры, прикрывшиеся русскими именами. На русскую повесть Гоголь имел сильное влияние, но комедии его остались одинокими, как и Горе от ума. Значит: изображать верно свое родное, то, что у нас перед глазами, что нас окружает, чуть ли не труднее, чем изображать чужое. Причина этой трудности заключается в том, что у нас форму всегда принимают за сущность, а модный костюм – за европеизм; другими словами: в том, что народность смешивают с простонародностью, и думают, что кто не принадлежит к простонародию, то есть кто пьет шампанское, а не пенник, и ходит во фраке, а не в смуром кафтане, того должно изображать то как француза, то как испанца, то как англичанина. Некоторые из наших литераторов, имея способность более или менее верно списывать портреты, не имеют способности видеть в настоящем их свете те лица, с которых они пишут портреты: мудрено ли, что в их портретах нет никакого сходства с оригиналами, и что, читая их романы, повести и драмы, невольно спрашиваешь себя: 267 Хрестоматия по истории русской литературной критики С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышут? А если и случалось им, Так мы их слышать не хотим. Таланты этого рода – плохие мыслители; фантазия у них развита на счет ума. Они не понимают, что тайна национальности каждого народа заключается не в его одежде и кухне, а в его, так сказать, манере понимать вещи. Чтоб верно изображать какоенибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особность, – а этого нельзя иначе сделать, как узнав фактически и оценив философски ту сумму правил, которыми держится общество, У всякого народа две философии; одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая – ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти философии находятся более или менее в близком соотношении друг к другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с обеими, но последнюю особенно необходимо изучить. Так точно, кто хочет узнать какой-нибудь народ, тот прежде всего должен изучить его в его семейном, домашнем быту. Кажется, что бы за важность могли иметь два такие слова, как, например, авось и живет, а, между тем, они очень важны, и, не понимая их важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать роман. И вот глубокое знание этой-то обиходной философии и сделало Онегина и Горе от ума произведениями оригинальными и чисто русскими. Содержание Онегина так хорошо известно всем и каждому, что нет никакой надобности излагать его подробно. Но, чтоб добраться до лежащей в его основании идеи, мы расскажем его в этих немногих словах. Воспитанная в деревенской глуши молодая, мечтательная девушка влюбляется в молодого петербургского – говоря нынешним языком – льва, который, наскучив светскою жизнию, приехал скучать в свою деревню. Она решается написать к нему письмо, дышащее наивною страстию; он отвечает ей на словах, что не может ее любить и что не считает себя созданным для «блаженства семейной жизни». Потом, из пустой причины, Онегин вызван на дуэль женихом сестры нашей влюбленной героини и убивает его. Смерть Ленского надолго разлучает Татьяну с Онегиным. Разочарованная в своих юных мечтах, бедная девушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходит замуж за генерала, 268 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого. Онегин встречает Татьяну в Петербурге и едва узнает ее: так переменилась она, так мало осталось в ней сходства между простенькою деревенскою девочкою и великолепною петербургскою дамою. В Онегине вспыхивает страсть к Татьяне; он пишет к ней письмо, и на этот раз уже она отвечает ему на словах, что хотя и любит его, тем не менее принадлежать ему не может – по гордости добродетели. Вот и все содержание Онегина. Многие находили и теперь еще находят, что тут нет никакого содержания, потому что роман ничем не кончается. В самом деле, тут нет ни смерти (ни от чахотки, ни от кинжала), ни свадьбы – этого привилегированного конца всех романов, повестей и драм, в особенности русских. Сверх того, сколько тут несообразностей! Пока Татьяна была девушкою, Онегин отвечал холодностию на ее страстное признание; но когда она стала женщиною, – он до безумия влюбился в нее, даже не будучи уверен, что она его любит. Неестественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характер у этого человека: холодно читает он мораль влюбленной в него девушке, вместо того чтоб взять да тотчас и влюбиться в нее самому и потом, испросив по форме у ее дражайших родителей их родительского благословения, навеки нерушимого, совокупиться с нею узами законного брака и сделаться счастливейшим в мире человеком. Потом: Онегин ни за что убивает бедного Ленского, этого юного поэта с золотыми надеждами и радужными мечтами – и хоть бы раз заплакал о нем или по крайней мере проговорил патетическую речь, где упоминалось бы об окровавленной тени и проч. Так или почти так судили и судят еще и теперь об Онегине многие из «почтеннейших читателей»; по крайней мере, нам случалось слышать много таких суждений, которые во время оно бесили нас, а теперь только забавляют. Один великий критик даже печатно сказал, что в Онегине нет целого, что это – просто поэтическая болтовня о том, о сем, а больше ни о чем. Великий критик основывался в своем заключении, во-первых, на том, что в конце поэмы нет ни свадьбы, ни похорон, и, во-вторых, на этом свидетельстве самого поэта: Промчалось много, много дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне 269 Хрестоматия по истории русской литературной критики Являлися впервые мне – И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще не ясно различал. Великий критик не догадался, что поэт благодаря своему творческому инстинкту мог написать полное и оконченное сочинение, не обдумав предварительно его плана, и умел остановиться именно там, где роман сам собою чудесно заканчивается и развязывается – на картине потерявшегося, после объяснения с Татьяною, Онегина. Но мы об этом скажем в своем месте, равно как и о том, что ничего не может быть естественнее отношений Онегина к Татьяне в продолжение всего романа и что Онегин совсем не изверг, не развратный человек, хотя в то же время и совсем не герой добродетели. К числу великих заслуг Пушкина принадлежит и то, что он вывел из моды и чудовищ порока и героев добродетели, рисуя вместо них просто людей. Мы начали статью с того, что Онегин есть поэтически верная действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта явилась вовремя, т. е. именно тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать ее – общество. Вследствие реформы Петра Великого в России должно было образоваться общество, совершенно отдельное от массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производит общества: чтоб оно сформировалось, нужны были особенные основания, которые обеспечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало бы ему не одно внешнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, жалованною грамотою, определила в 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характер вельможеству – единственному сословию, которое при Екатерине II достигло высшего своего развития и было просвещенным, образованным сословием. Вследствие нравственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за вельможеством начал возникать класс среднего дворянства. Под словом возникать мы разумеем слово образовываться. В царствование Александра Благословенного значение этого, во всех отношениях лучшего, сословия все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все более и более проникало во все углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким 270 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского образом формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия становились уже потребностию, как признак возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по-французски, музыка и рисование тоже входили у него, как необходимость, в план воспитания детей. Державин, Фонвизин и Богданович – эти поэты, в свое время известные только одному двору, тогда сделались более или менее известными и этому возникающему обществу. Но что всего важнее – у него явилась своя литература, уже более легкая, живая, общественная и светская, нежели тяжелая, школьная и книжная. Если Новиков распространил изданием книг и журналов всякого рода охоту к чтению и книжную торговлю и через это создал массу читателей, – то Карамзин своею реформою языка, направлением, духом и формою своих сочинений породил литературный вкус и создал публику. Тогда-то и поэзия вошла как элемент в жизнь нового общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на Лизин пруд, чтоб слезою чувствительности почтить память горестной жертвы страсти и обольщения. Стихотворения Дмитриева, запечатленные умом, вкусом, остротою и грациею, имели такой же успех и такое же влияние, как и проза Карамзина. Порожденные ими сантименталъность и мечтательность, несмотря на их смешную сторону, были великим шагом вперед для молодого общества. Трагедии Озерова придали еще более силы и блеска этому направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть детьми. Вскоре появился юноша-поэт, который в эту сантиментальную литературу внес романтические элементы глубокого чувства, фантастической мечтательности и эксцентрического стремления в область чудесного и неведомого, и который познакомил и породнил русскую музу с музою Германии и Англии. Влияние литературы на общество было гораздо важнее, нежели как у нас об этом думают: литература, сближая и сдружая людей разных сословий узами вкуса и стремлением к благородным наслаждениям жизни, сословие превратило в общество. Но, несмотря на то, не подлежит никакому сомнению, что класс дворянства был и по преимуществу представителем общества, и по преимуществу непосредственным источником образования всего общества. Увеличение средств к народному образованию, учреждение университетов, 271 Хрестоматия по истории русской литературной критики гимназий, училищ заставляло общество расти не по дням, а по часам. Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою для России. Мы разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспеяние в гражданственности и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость, и всем этим способствовал зарождению публичности как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар коснеющей старине: вследствие его исчезли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их владений; глушь и дичь быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны, вся Россия в лице своего победоносного войска лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. В двадцатых годах текущего столетия русская литература от подражательности устремилась к самобытности: явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам, – и в Онегине он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество, в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, т. е. в двадцатых годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которою движется вперед русское общество: мы смотрим на Онегина как на роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже так чужды нам, так вне идеалов и мотивов нашего времени... Герой нашего времени был новым Онегиным: едва прошло четыре года, – и Печорин уже не современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки Онегина суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом – «старо»; но разве вина поэта, что в России все движется так 272 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского быстро? – и разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества? Если б в Онегине ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, – это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в ней изображено не действительно существовавшее, а воображаемое общество: в таком случае, что ж бы это была за поэма, и стоило ли бы говорить о ней?.. Мы уже коснулись содержания Онегина; обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмотря на то, что роман носит на себе имя своего героя, – в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин – отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II); Онегин – светский человек. Мы знаем, наши литераторы не любят света и светских людей, хотя и помешаны на страсти изображать их. Что касается лично до нас, мы совсем не светские люди и в свете не бываем; но не питаем к нему никаких мещанских предубеждений. Когда высший свет изображается такими писателями, как Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, князь Одоевский, граф Соллогуб, – мы любим литературное изображение большого света так же, как и изображение всякого другого света и не света, с талантом и знанием выполненное. Только в одном случае не можем терпеть большого света: именно, когда изображают его сочинители, которым должны быть гораздо знакомее нравы кондитерских и чиновничьих гостиных, чем аристократических салонов. Позвольте сделать еще оговорку: мы отнюдь не смешиваем светскости с аристократизмом, хотя и чаще всего они встречаются вместе. Будьте вы человеком какого вам угодно происхождения, держитесь каких вам угодно убеждений, – светскость вас не испортит, а только улучшит. Говорят: в свете жизнь тратится на мелочи, самые святые чувства приносятся в жертву расчету и приличиям. Правда, но разве в среднем кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разум не приносятся в жертву расчету и приличию? О, нет, тысячу раз нет! Вся разница среднего света от высшего состоит в том, что в первом больше мелочности, претензий, чванства, ломания, мел273 Хрестоматия по истории русской литературной критики кого честолюбия, принужденности и лицемерства. Говорят: в светской жизни много дурных сторон. Правда, а разве в несветской жизни – одни только хорошие стороны? Говорят: свет убивает вдохновение, и Шекспир и Шиллер не были светскими людьми. Правда, но они не были и ни купцами, ни мещанами – они были просто людьми, так же точно, как и Байрон – аристократ и светский человек, своим вдохновением более всего обязан был тому, что он был человек. Вот почему мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в их предубеждениях против страшного для них невидимки – большого света, и вот почему мы очень рады, что Пушкин героем своего романа взял светского человека. И что же тут дурного? Высший круг общества был в то время уже в апогее своего развития; притом светскость не помешала же Онегину сойтись с Ленским – этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда, Онегину было дико в обществе Лариных; но образованность еще более, нежели светскость, была причиною этого. Не спорим, общество Лариных очень мило, особенно в стихах Пушкина; но нам, хоть мы и совсем не светские люди, было бы в нем не совсем ловко, – тем более, что мы решительно неспособны поддержать благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенокосе, о родне. Высший круг общества в то время до того был отделен от всех других кругов, что не принадлежавшие к нему люди поневоле говорили о нем, как до Коломба во всей Европе говорили об антиподах и Атлантиде. Вследствие этого Онегин с первых же строк романа был принят за безнравственного человека. Это мнение о нем и теперь еще не совсем исчезло. Мы помним, как горячо многие читатели изъявляли свое негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника, – Вздыхать и думать про себя: Когда же черт возьмет тебя? Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого видно, каким важным во всех отношениях произведением был Онегин для русской публики и как хорошо сделал Пушкин, взяв светского человека в герои своего романа. К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства, в одно и то же время грубого и глупого, добродушного и добросовестного. Если 274 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского какой-нибудь бедный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дяди-старика, готового умереть, – с какими слезами, с какою униженною предупредительностью будет он ухаживать за дядюшкою, – хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь свою не хотел ни знать, ни видеть племянника, и между ними ничего не было общего. Однако ж не думайте, чтоб со стороны племянника это было расчетливым лицемерством (расчетливое лицемерство есть порок всех кругов общества, и светских и несветских): нет, вследствие благодетельного сотрясения всей нервной системы, произведенного видом близкого наследства, наш племянник не шутя пришел в умиление и почувствовал пламенную любовь к дядюшке, хотя и не воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало быть, это лицемерство добродушное, искреннее и добросовестное. Но вздумай его дядюшка вдруг ни с того, ни с сего выздороветь: куда бы девалась у нашего племянника родственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась истинною горестью, и актер превратился бы в человека! Обратимся к Онегину. Его дядя был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным, который уже – ...равно зевал Средь модных и старинных зал, и между почтенным помещиком, который в глуши своей деревни Лет сорок с ключницей бранился, В окно смотрел и мух давил? Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имения? Тут благодетель – не дядя, а закон, право наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль огорченного, состраждущего и нежного родственника при смертном одре совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности. Если почему бы то ни было вам нельзя не принимать к себе человека, которого знакомство для вас и тяжело и скучно, разве вы не обязаны быть с ним вежливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его к черту? Что в словах Онегина проглядывает какая-то насмешливая легкость, – в этом виден только ум и естественность, потому что отсутствие натянутой и тяжелой торжественности в 275 Хрестоматия по истории русской литературной критики выражении обыкновенных житейских отношений есть признак ума. У светских людей это даже не всегда ум, а чаще всего – манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей средних кружков, напротив, манера – отличаться избытком разных глубоких чувств при всяком сколько-нибудь, по их мнению, важном случае. Все знают, что вот эта барыня жила с своим мужем как кошка с собакою и что она радехонька его смерти, и сама она очень хорошо понимает, что все это знают и что никого ей не обмануть; но от этого она еще громче охает и ахает, стонет и рыдает, и тем безотвязнее мучит всех и каждого описанием добродетелей покойного, счастия, каким он дарил ее, и злополучия, в какое поверг ее своею кончиною. Мало того: эта барыня готова это же самое сто раз повторять перед господином благонамеренной наружности, которого все знают за ее любовника. И что же? – как этот господин благонамеренной наружности, так и все родственники, друзья и знакомые горькой неутешной вдовы слушают все это с печальным и огорченным видом, – и, если иные под рукою смеются, зато другие от души сокрушаются. И – повторяем – это и не глупость и не расчетливое лицемерство: это просто – принцип мещанской, простонародной морали. Никому из этих людей не приходит в голову спросить себя и других: Да из чего же вы беснуетеся столько? Мало того: они считают за грех подобный вопрос; а если бы решились сделать его, то сами над собою расхохотались бы. Им невдогад, что если тут есть о чем грустить, так это о пошлой комедии добродушного лицемерства, которую все так усердно и так искренно разыгрывают. Чтоб не возвращаться опять к одному и тому же вопросу, сделаем небольшое отступление. В доказательство, каким важным явлением не в одном эстетическом отношении был для нашей публики Онегин Пушкина и какими новыми, смелыми мыслями казались тогда в нем теперь самые старые и даже робкие полумысли, – приведем из него этот куплет: Гм! гм! читатель благородный, Здорова ль ваша вся родня? Позвольте: может быть, угодно Теперь узнать вам от меня, 276 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Что значат именно родные? Родные люди вот какие: Мы их обязаны ласкать, Любить, душевно уважать И, по обычаю народа, О рождестве их навещать, Или по почте поздравлять, Чтоб в остальное время года О нас не думали они... Итак, дай бог им долги дни! Мы помним, что этот невинный куплет со стороны большей части публики навлек упрек в безнравственности уже не на Онегина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовестное лицемер-ство, о котором мы сейчас говорили? Братья тягаются с братьями об имении и часто питают друг к другу такую остервенелую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нередко бывает не чем иным, как правом – бедному подличать перед богатым из подачки, богатому – презирать докучного бедняка и отделываться от него ничем; равно богатым – завидовать друг другу в успехах жизни; вообще же – право вмешиваться в чужие дела, давать ненужные и бесполезные советы. Где ни поступите вы, как человек с характером и с чувством своего человеческого достоинства, – везде вы оскорбите принцип родства. Вздумали вы жениться – просите совета; не попросите его – вы опасный мечтатель, вольнодумец; попросите – вам укажут невесту; женитесь на ней и будете несчастны – вам же скажут: «то-то же, братец, вот каково без оглядки-то предпринимать такие важные дела; я ведь говорил»... Женитесь по своему выбору – еще хуже беда. – Какие еще права родства? Мало ли их! Вот, например, этого господина, так похожего на Ноздрева, будь он вам чужой, вы не пустили бы даже в свою конюшню, опасаясь за нравственность ваших лошадей; но он вам родственник – и вы принимаете его у себя в гостиной и в кабинете, и он везде позорит вас именем своего родственника. Родство дает прекрасное средство к занятию и развлечению: случилась с вами беда, – и вот для ваших родственников чудесный случай съезжаться к вам, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать советы и наставления, делать упреки, а потом везде развозить 277 Хрестоматия по истории русской литературной критики эту новость, порицая и браня вас за глаза – ведь известно: человек в беде всегда виноват, особенно в глазах своих родственников. Все это ни для кого не ново; но то беда, что все это чувствуют, но немногие это сознают: привычка к добродушному и добросовестному лицемерству побеждает рассудок. Есть такие люди, которые способны смертельно обидеться, если огромная семья родни, приехав в столицу, остановится не у них; а остановись она у них, – они же будут не рады; но, ропща, бранясь и всем жалуясь под рукою, они перед родственною семейкою будут расточать любезности и возьмут с нее слово – опять остановиться у них и вытеснить их, во имя родства, из их собственного дома. Что это значит? Совсем не то, чтобы родство у подобных людей существовало, как принцип, а только то, что оно существует у них, как факт: внутренне, по убеждению, никто из них не признает его, но по привычке, по бессознательности и по лицемерству все его признают. Пушкин охарактеризовал родство этого рода в том виде, как оно существует у многих, как оно есть в самом деле, следовательно, справедливо и истинно, – и на него осердились, его назвали безнравственным; стало быть, если бы он описал родство между некоторыми людьми таким, каким оно не существует, т. е. неверно и ложно, – его похвалили бы. Все это значит ни больше, ни меньше, как то, что нравственна одна ложь и неправда... Вот к чему ведет добродушное и добросовестное лицемерство! Нет, Пушкин поступил нравственно, первый сказав истину, потому что нужна благородная смелость, чтоб первому решиться сказать истину. И сколько таких истин сказано в Онегине! Многие из них теперь и не новы и даже не очень глубоки; но, если бы Пушкин не сказал их двадцать лет назад, они теперь были бы и новы и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что он первый высказал эти устаревшие и уже неглубокие теперь истины. Он бы мог насказать истин более безусловных и более глубоких, но в таком случае его произведение было бы лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ее выражением. Гений никогда не упреждает своего времени, но всегда только угадывает его не для всех видимое содержание и смысл. Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека! Этого мало: 278 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского многие добродушно верили и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже значит – имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям. Вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным: Условий света свергнув бремя, Как он, отстав от суеты, С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, Мечтам невольная преданность, Неподражаемая странность И резкий, охлажденный ум. Я был озлоблен, он угрюм, Страстей игру мы знали оба: Томила жизнь обоих нас; В обоих сердца жар погас; Обоих ожидала злоба Слепой фортуны и людей На самом утре наших дней. Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей; Кто чувствовал, того тревожит Призрак невозвратимых дней: Тому уж нет очарований, Того змея воспоминаний, Того раскаянье грызет. Все это часто придает Большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык Меня смущал; но я привык К его язвительному спору, И к шутке с желчью пополам, И злости мрачных эпиграмм. Как часто летнею порою, Когда прозрачно и светло Ночное небо над Невою, И вод веселое стекло Не отражает лик Дианы, 279 Хрестоматия по истории русской литературной критики Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь, Чувствительны, беспечны вновь Дыханьем ночи благосклонной Безмолвно упивались мы! Как в лес зеленый из тюрьмы Перенесен колодник сонной, Так уносились мы мечтой К началу жизни молодой. Из этих стихов мы ясно видим по крайней мере то, что Онегин не был ни холоден, ни сух, ни черств, что в душе его жила поэзия, и что вообще он был не из числа обыкновенных, дюжинных людей. Невольная преданность мечтам, чувствительность и беспечность при созерцании красот природы и при воспоминании о романах и любви прежних лет – все это говорит больше о чувстве и поэзии, нежели о холодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если им везет, то и всеми. Жизнь не обманывает глупцов; напротив, она все дает им, благо немногого просят они от нее – корма, пойла, тепла да кой-каких игрушек, способных тешить пошлое и мелкое самолюбьице. Разочарование в жизни, в людях, в самих себе (если только оно истинно и просто, без фраз и щегольства нарядною печалью) свойственно только людям, которые, желая «многого», не удовлетворяются «ничем». Читатели помнят описание (в VII главе) кабинета Онегина: весь Онегин в этом описании. Особенно поразительно исключение из опалы двух или трех романов, В которых отразился век, И современный человек Изображен довольно верно С его безнравственной душой, Себялюбивый и сухой, Мечтанью преданной безмерно, С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом. 280 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Скажут: это портрет Онегина. Пожалуй, и так; но это еще более говорит в пользу нравственного превосходства Онегина, потому что он узнал себя в портрете, который, как две капли воды, похож на столь многих, но в котором узнают себя столь немногие, а большая часть «украдкою кивает на Петра». Онегин не любовался самолюбиво этим портретом, но глухо страдал от его поразительного сходства с детьми нынешнего века. Не натура, не страсти, не заблуждения личные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век. Связь с Ленским – этим юным мечтателем, который так понравился нашей публике, всего громче говорит против мнимого бездушия Онегина. Онегин презирал людей, Но правил нет без исключений: Иных он очень отличал, И вчуже чувство уважал. Он слушал Ленского с улыбкой: Поэта пылкий разговор, И ум, еще в сужденьях зыбкий, И вечно вдохновенный взор, – Онегину все было ново; Он охладительное слово В устах старался удержать, И думал: глупо мне мешать Его минутному блаженству; И без меня пора придет, Пускай покамест он живет Да верит мира совершенству; Простим горячке юных лет И юный жар, и юный бред. Меж ними все рождало споры И к размышлению влекло: Племен минувших договоры, Плоды наук, добро и зло, И предрассудки вековые, И гроба тайны роковые, Судьба и жизнь в свою чреду, Все подвергалось их суду. Дело говорит само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушие Онегина как человека произошли от грубой не281 Хрестоматия по истории русской литературной критики способности многих читателей понять так верно созданный поэтом характер. Но мы не остановимся на этом и исчерпаем весь вопрос. Чудак печальный и опасный, Созданье ада иль небес, Сей ангел, сей надменный бес. Что ж он? – ужели подражанье, Ничтожный призрак, иль еще Москвич в гарольдовом плаще; Чужих причуд истолкованье, Слов модных полный лексикон? Уж не пародия ли он?.. …………………………………………… Все тот же ль он, иль усмирился? Иль корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, Космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, Иль маской щегольнет иной? Иль просто будет добрый малой, Как вы да я, как целый свет? По крайней мере мой совет: Отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет Знаком он вам? – «И да, и нет». Зачем же так неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то ль, что мы неугомонно Хлопочем, судим обо всем, Что пылких душ неосторожность Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляет, иль смешит; Что ум, любя простор, теснит; Что слишком часто разговоры Принять мы рады за дела, Что глупость ветрена и зла, Что важным людям важны вздоры, И что посредственность одна Нам по плечу и не странна? 282 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Блажен, кто смолоду был молод, Блажен, кто вовремя созрел, Кто постепенно жизни холод С летами вытерпеть умел, Кто странным снам не предавался; Кто черни светской не чуждался; Кто в двадцать лет был франт иль хват, А в тридцать выгодно женат; Кто в пятьдесят освободился От частных и других долгов; Кто славы, денег и чинов Спокойно в очередь добился; О ком твердили целый век: NN прекрасный человек. Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана, Что изменяли ей всечасно, Что обманула нас она; Что наши лучшие желанья, Что наши свежие мечтанья Истлели быстрой чередой, Как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою Одних обедов длинный ряд, Глядеть на жизнь, как на обряд, И вслед за чинною толпою Идти, не разделяя с ней Ни общих мнений, ни страстей. Эти стихи – ключ к тайне характера Онегина. Онегин – не Мельмот, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто – «добрый малой, как вы да я, как целый свет». Поэт справедливо называет «обветшалою модою» везде находить или везде искать все гениев да необыкновенных людей. Повторяем: Онегин – добрый малой, но при этом недюжинный человек. Он не годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется; но он знает, и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так довольна, так счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то 283 Хрестоматия по истории русской литературной критики эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственным», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, как воспитан Онегин, и согласитесь, что натура его была слишком хороша, если ее не убило совсем такое воспитание. Блестящий юноша, он был увлечен светом, подобно многим; нескоро наскучил им и оставил его, как это делают слишком немногие. В душе его тлелась искра надежды – воскреснуть и освежиться в тиши уединения, на лоне природы; но он скоро увидел, что перемена мест не изменяет сущности некоторых неотразимых и не от нашей воли зависящих обстоятельств. Два дни ему казались новы Уединенные поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчанье тихого ручья; На третий – рощи, холм и поле Его не занимали боле, Потом уж наводили сон; Потом увидел ясно он, Что и в деревне скука та же, Хоть нет ни улиц, ни дворцов, Ни карт, ни балов, ни стихов. Хандра ждала его на страже, И бегала за ним она, Как тень иль верная жена. Мы доказали, что Онегин не холодный, не сухой, не бездушный человек, но мы до сих пор избегали слова эгоист, – и так как избыток чувства, потребность изящного не исключают эгоизма, то мы скажем теперь, что Онегин – страдающий эгоист. Эгоисты бывают двух родов. Эгоисты первого разряда – люди без всяких заносчивых или мечтательных притязаний; они не понимают, как может человек любить кого-нибудь, кроме самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви к собственным их особам; если их дела идут плохо, они худощавы, бледны, злы, низки, подлы, предатели, клеветники; если их дела идут хорошо, они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами делиться ни с кем не станут, но угощать готовы не только полезных, даже и вовсе бесполезных им людей. Это эгоисты по нату284 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского ре или по причине дурного воспитания. Эгоисты второго разряда почти никогда не бывают толсты и румяны; по большей части это народ больной и всегда скучающий. Бросаясь всюду, везде ища то счастия, то рассеяния, они нигде не находят ни того, ни другого с той минуты, как обольщения юности оставляют их. Эти люди часто доходят до страсти к добрым действиям, до самоотвержения в пользу ближних; но беда в том, что они и в добре хотят искать то счастия, то развлечения, тогда как в добре следовало бы им искать только добра. Если подобные люди живут в обществе, представляющем полную возможность для каждого из его членов стремиться своею деятельностию к осуществлению идеала истины и блага, – о них без запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбие, заглушив в них добрые элементы, сделали их эгоистами. Но наш Онегин не принадлежит ни к тому, ни к другому разряду эгоистов. Его можно назвать эгоистом поневоле; в его эгоизме должно видеть то, что древние называли fatum. Благая, благотворная, полезная деятельность! Зачем не предался ей Онегин? Зачем не искал он в ней своего удовлетворения? Зачем? зачем? – Затем, милостивые государи, что пустым людям легче спрашивать, нежели дельным отвечать... Один среди своих владений, Чтоб только время проводить, Сперва задумал наш Евгений Порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный, Ярем он барщины старинный Оброком легким заменил. Мужик судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, Увидя в этом страшный вред, Его расчетливый сосед; Другой лукаво улыбнулся, И в голос все решили так, Что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали; Но так как с заднего крыльца Обыкновенно подавали Ему донского жеребца, 285 Хрестоматия по истории русской литературной критики Лишь только вдоль большой дороги Заслышат их домашни дроги: Поступком оскорбясь таким, Все дружбу прекратили с ним. «Сосед наш неуч, сумасбродит, Он – фармазон; он пьет одно Стаканом красное вино; Он дамам к ручке не подходит; Все да да нет, не скажет да-с Иль нет-с». Таков был общий глас. Что-нибудь делать можно только в обществе, на основании общественных потребностей, указываемых самою действительностью, а не теориею; но что бы стал делать Онегин в сообществе с такими прекрасными соседями, в кругу таких милых ближних? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онегина тут еще немного было сделано. Есть люди, которым если удастся что-нибудь сделать порядочное, они с самодовольствием рассказывают об этом всему миру и таким образом бывают приятно заняты на целую жизнь. Онегин был не из таких людей: важное и великое для многих для него было не Бог знает чем. Случай свел Онегина с Ленским; через Ленского Онегин познакомился с семейством Лариных. Возвращаясь от них домой после первого визита, Онегин зевает; из его разговора с Ленским мы узнаем, что он Татьяну принял за невесту своего приятеля и, узнав о своей ошибке, удивляется его выбору, говоря, что если б он сам был поэтом, то выбрал бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человеку стоило одного или двух невнимательных взглядов, чтоб понять разницу между обеими сестрами, – тогда как пламенному, восторженному Ленскому и в голову не входило, что его возлюбленная была совсем не идеальное и поэтическое создание, а просто хорошенькая и простенькая девочка, которая совсем не стоила того, чтоб за нее рисковать убить приятеля или самому быть убитым. Между тем как Онегин зевал – по привычке, говоря его собственным выражением, и нисколько не заботясь о семействе Лариных, – в этом семействе его приезд завязал страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, как Онегин, получив письмо Татьяны, мог не влюбиться в нее, – и еще более, как тот же самый Онегин, который так холодно отвергал 286 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского чистую, наивную любовь прекрасной девушки, потом страстно влюбился в великолепную светскую даму? В самом деле, есть чему удивляться. Не беремся решить вопроса, но поговорим о нем. Впрочем, признавая в этом факте возможность психологического вопроса, мы тем не менее нисколько не находим удивительным самого факта. Во-первых, вопрос, почему влюбился или почему не влюбился, или почему в то время не влюбился, – такой вопрос мы считаем немного слишком диктаторским. Сердце имеет свои законы – правда, но не такие, из которых легко было бы составить полный систематический кодекс. Сродство натур, нравственная симпатия, сходство понятий могут и даже должны играть большую роль в любви разумных существ; но кто в любви отвергает элемент чисто непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, в оправдание несколько тривьяльной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится сатана, лучше ясного сокола», – кто отвергает это, тот не понимает любви. Если б выбор в любви решался только волею и разумом, тогда любовь не была бы чувством и страстью. Присутствие элемента непосредственности видно и в самой разумной любви, потому что из нескольких равно достойных лиц выбирается только одно, и выбор этот основывается на невольном влечении сердца. Но бывает и так, что люди, кажется, созданные один для другого, остаются равнодушны друг к другу, и каждый из них обращает свое чувство на существо нисколько себе не под пару. Поэтому Онегин имел полное право, без всякого опасения подпасть под уголовный суд критики, не полюбить Татьяны-девушки и полюбить Татьяну-женщину. В том и другом случае он поступил равно ни нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправдания; но мы к этому прибавим и еще кое-что. Онегин был так умен, тонок и опытен, так хорошо понимал людей и их сердце, что не мог не понять из письма Татьяны, что эта бедная девушка одарена страстным сердцем, алчущим роковой пищи, что ее душа младенчески чиста, что ее страсть детски простодушна, и что она нисколько не похожа на тех кокеток, которые так надоели ему с их чувствами то легкими, то поддельными. Он был живо тронут письмом Татьяны: 287 Хрестоматия по истории русской литературной критики Язык девических мечтаний В нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милой И бледный цвет, и вид унылой; И в сладостный, безгрешный сон Душою погрузился он. Быть может, чувствий пыл старинной Им на минуту овладел; Но обмануть он не хотел Доверчивость души невинной. В письме своем к Татьяне (в VIII главе) он говорит, что, заметя в ней искру нежности, он не хотел ей поверить (т. е. заставил себя не поверить), не дал хода милой привычке и не хотел расстаться с своей постылой свободою. Но если он оценил одну сторону любви Татьяны, в то же самое время он так же ясно видел и другую ее сторону. Во-первых, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желания отвечать на нее значило бы для Онегина решиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзия страсти, то поэзия брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэт, выразивший в Онегине много своего собственного, так изъясняется на этот счет, говоря о Ленском: Гимена хлопоты, печали, Зевоты хладная чреда Ему не снились никогда, Меж тем как мы, враги Гимена, В домашней жизни зрим один Ряд утомительных картин, Роман во вкусе Лафонтена. Если не брак, то мечтательная любовь, если не хуже чтонибудь; но он так хорошо постиг Татьяну, что даже и не подумал о последнем, не унижая себя в собственных своих глазах. Но в обоих случаях эта любовь немного представляла ему обольстительного. Как! он, перегоревший в страстях, изведавший жизнь и людей, еще кипевший какими-то самому ему неясными стремлениями, – он, которого могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронию, – он увлекся бы младенческой любовью девочки-мечтательницы, которая смотрела на жизнь так, как он уже не мог смотреть... И что же сулила бы ему 288 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского в будущем эта любовь? Что бы нашел он потом в Татьяне? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что он не может, подобно ей, детски смотреть на жизнь и детски играть в любовь, – а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходством, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имело бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Последнее спокойнее, но зато еще скучнее. И это ли поэзия и блаженство любви!.. Разлученный с Татьяною смертию Ленского, Онегин лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его с людьми. Убив на поединке друга, Дожив без цели, без трудов До двадцати шести годов, Томясь в бездействии досуга, Без службы, без жены, без дел, Ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест (Весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест). Между прочим, был он и на Кавказе и смотрел на бледный рой теней, толпившийся около целебных струй Машука: Питая горьки размышленья, Среди печальной их семьи, Онегин взором сожаленья Глядел на дымные струи И мыслил, грустью отуманен: Зачем я пулей в грудь не ранен! Зачем не хилый я старик, Как этот бедный откупщик? Зачем, как тульский заседатель, Я не лежу в параличе? Зачем не чувствую в плече Хоть ревматизма? – Ах, создатель! Я молод, жизнь во мне крепка; Чего мне ждать! тоска, тоска!.. Какая жизнь! Вот оно, то страдание, о котором так много пишут и в стихах и в прозе, на которое столь многие жалуются, как 289 Хрестоматия по истории русской литературной критики будто и в самом деле знают его; вот оно, страдание истинное, без котурна, без ходуль, без драпировки, без фраз, страдание, которое часто не отнимает ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тем ужаснее!.. Спать ночью, зевать днем, видеть, что все из чего-то хлопочут, чем-то заняты, один – деньгами, другой – женитьбою, третий – болезнию, четвертый – нуждою и кровавым потом работы, – видеть вокруг себя и веселье и печаль, и смех и слезы, видеть все это и чувствовать себя чуждым всему этому, подобно Вечному жиду, который среди волнующейся вокруг него жизни сознает себя чуждым жизни и мечтает о смерти как о величайшем для него блаженстве; это страдание, не всем понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенные с умом, сердцем: чего бы, кажется, больше для жизни и счастия? Так думает тупая чернь и называет подобное страдание модною причудою. И чем естественнее, проще страдание Онегина, чем дальше оно от всякой эффектности, тем оно менее могло быть понято и оценено большинством публики. В двадцать шесть лет так много пережить, не вкусив жизни, так изнемочь, устать, ничего не сделав, дойти до такого безусловного отрицания, не перейдя ни через какие убеждения: это смерть! Но Онегину не суждено было умереть, не отведав из чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшие в тоске силы его духа. Встретив Татьяну на бале, в Петербурге, Онегин едва мог узнать ее: так переменилась она! Она была не тороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей... Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок Du comme il faut...........................faut……………….. …………………………………… Никто б не мог ее прекрасной Назвать; но с головы до ног Никто бы в ней найти не мог Того, что модой самовластной В высоком лондонском кругу Зовется vulgar. 290 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Муж Татьяны, так прекрасно и так полно с головы до ног охарактеризованный поэтом этими двумя стихами: ... И всех выше И нос и плечи поднимал Вошедший с нею генерал, – муж Татьяны представляет ей Онегина, как своего родственника и друга. Многие читатели, в первый раз читая эту главу, ожидали громозвучного оха и обморока со стороны Татьяны, которая, пришед в себя, по их мнению, должна повиснуть на шее у Онегина. Но какое разочарование для них! Княгиня смотрит на него... И что ей душу ни смутило, Как сильно ни была она Удивлена, поражена, Но ей ничто не изменило: В ней сохранился тот же тон; Был так же тих ее поклон. Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась, Иль стала вдруг бледна, красна... У ней и бровь не шевельнулась; Не сжала даже губ она. Хоть он глядел, нельзя прилежней, Но и следов Татьяны прежней Не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести И – и не мог. Она спросила, Давно ль он здесь, откуда он И не из их ли уж сторон? Потом к супругу обратила Усталый взгляд; скользнула вон... И недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, Которой он наедине, В начале нашего романа В глухой, далекой стороне, В благом пылу нравоученья, Читал когда-то наставленья, Та, от которой он хранит Письмо, где сердце говорит, 291 Хрестоматия по истории русской литературной критики Где все наруже, все на воле, Та девочка... иль это сон?.. Та девочка, которой он Пренебрегал в смиренной доле, Ужели с ним сейчас была Так равнодушна, так смела? ……………………………………….. Что с ним? в каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине Души холодной и ленивой? Досада? суетность? иль вновь Забота юности – любовь?.. ……………………………………… Как изменилася Татьяна! Как твердо в роль свою вошла! Как утеснительного сана Приемы скоро приняла! Кто б смел искать девчонки нежной В сей величавой, в сей небрежной Законодательнице зал? И он ей сердце волновал! Об нем она во мраке ночи, Пока Морфей не прилетит, Бывало, девственно грустит, К луне подъемлет томны очи, Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренный жизни путь. ……………………………………… Любви все возрасты покорны; Но юным, девственным сердцам Ее порывы благотворны, Как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют, И обновляются, и зреют – И жизнь могущая дает И пышный цвет, и сладкий плод. Но в возраст поздний и бесплодный, На повороте наших лет, Печален страсти мертвой след: Так бури осени холодной В болото обращают луг И обнажают лес вокруг. 292 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Не принадлежа к числу ультра-идеалистов, мы охотно допускаем в самые высокие страсти примесь мелких чувств, и потому думаем, что досада и суетность имели свою долю в страсти Онегина. Но мы решительно не согласны с этим мнением поэта, которое так торжественно было провозглашено им и которое нашло такой отзыв в толпе, благо пришлось ей по плечу: О, люди! все похожи вы На прародительницу Еву; Что вам дано, то не влечет: Вас непрестанно змий зовет К себе, к таинственному древу; Запретный плод вам подавай, А без того вам рай не рай. Мы лучше думаем о достоинстве человеческой натуры и убеждены, что человек родится не на зло, а на добро, не на преступление, а на разумно-законное наслаждение благами бытия, что его стремления справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не в человеке, но в обществе, – так как общества, понимаемые в смысле формы человеческого развития, еще далеко не достигли своего идеала, то неудивительно, что в них только и видишь много преступлений. Этим же объясняется и то, почему считавшееся преступным в древнем мире считается законным в новом, и наоборот; почему у каждого народа и каждого века свои понятия о нравственности, законном и преступном. Человечество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой все люди, как существа однородные и единым разумом одаренные, согласятся между собою в понятиях об истинном и ложном, справедливом и несправедливом, законном и преступном, так же точно, как они уже согласились, что не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца обращается, и во множестве математических аксиом. До тех же пор преступление будет только по наружности преступлением, а внутренне, существенно – непризнанием справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видели в своих детях своих рабов и считали себя вправе насиловать их чувства и склонности самые священные. Теперь, если девушка, чувствуя отвращение к господину благонамеренной наружности, за которого ее хотят насильно выдать, и любя страстно человека, с которым ее насильно разлучают, – последует влечению своего сердца и будет 293 Хрестоматия по истории русской литературной критики любить того, кого она избрала, а не того, в чей карман или в чей чин влюблены ее дражайшие родители: неужели она преступница? Ничто так не подчинено строгости внешних условий, как сердце, и ничто так не требует безусловной воли, как сердце же. Даже самое блаженство любви, – что оно такое, если оно согласовано с внешними условиями? – песня соловья или жаворонка в золотой клетке. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца? – торжественная песнь соловья на закате солнца, в таинственной сени склонившихся над рекою ив, вольная песнь жаворонка, который в безумном упоении чувством бытия то мчится вверх стрелою, то падает с неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь с места, как будто купается и тонет в голубом эфире... Птица любит волю; страсть есть поэзия и цвет жизни, но что же в страстях, если у сердца не будет воли?.. Письмо Онегина к Татьяне горит страстью; в нем уже нет иронии, нет светской умеренности, светской маски. Онегин знает, что он, может быть, подает повод к злобному веселью; но страсть задушила в нем страх быть смешным, подать на себя оружие врагу. И было с чего сойти с ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась с жизнью ни на чем, от души поклонилась идолу суеты – и в таком случае, конечно, роль Онегина была бы очень смешна и жалка. Но в свете наружность никого и ни в чем не убеждает: там все слишком хорошо владеют искусством быть веселыми с достоинством в то время, как сердце разрывается от судорог. Онегин мог не без основания предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свет научил ее только искусству владеть собою и серьезнее смотреть на жизнь. Благодатная натура не гибнет от света вопреки мнению мещанских философов; для гибели души и сердца и малый свет представляет точно столько же средств, сколько и большой. Вся разница в формах, а не в сущности. И теперь в каком же свете должна была казаться Онегину Татьяна, – уже не мечтательная девушка, поверявшая луне и звездам свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книге Мартына Задеки, но женщина, которая знает цену всему, что дано ей, которая много потребует, но много и даст. Ореол светскости не мог не возвысить ее в глазах Онегина: в свете, как и везде, люди бывают двух родов – одни привязываются к формам и в их исполнении видят назначение жизни, это – чернь; другие от света заим294 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского ствуют знание людей и жизни, такт действительности и способность вполне владеть всем, что дано им природою. Татьяна принадлежала к числу последних, и значение светской дамы только возвышало ее значение как женщины. Притом же в глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой победы. И он бросился в эту борьбу без надежды на победу, без расчета, со всем безумством искренней страсти, которая так и дышит в каждом слове его письма: Нет, поминутно видеть вас, Повсюду следовать за вами, Улыбку уст, движенье глаз Ловить влюбленными глазами, Внимать вам долго, понимать Душой все ваше совершенство, Пред вами в муках замирать, Бледнеть и гаснуть... вот блаженство! ………………………………………… Когда б вы знали, как ужасно Томиться жаждою любви, Пылать – и разумом всечасно Смирять волнение в крови; Желать обнять у вас колени, И, зарыдав у милых ног, Излить мольбы, признанья, пени, Все, все, что выразить бы мог; А, между тем, притворным хладом Вооружив и речь и взор, Вести спокойный разговор, Глядеть на вас спокойным взглядом!.. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатления. После нескольких посланий, встретившись с нею, Онегин не заметил ни смятения, ни страдания, ни пятен слез на лице – на нем отражался лишь след гнева... Онегин на целую зиму заперся дома и принялся читать: И что ж? глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желания, печали Теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками. 295 Хрестоматия по истории русской литературной критики Читал духовными глазами Другие строки. В них-то он Был совершенно углублен. То были тайные преданья Сердечной темной старины, Ни с чем не связанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки вздор живой, Иль письма девы молодой. И постепенно в усыпленье И чувств и дум впадает он, А перед ним воображенье Свой пестрый мечет фараон. То видит он: на талом снеге, Как будто спящий на ночлеге, Недвижим юноша лежит, И слышит голос: Что ж? убит! То видит он врагов забвенных, Клеветников и трусов злых, И рой изменниц молодых, И круг товарищей презренных; То сельский дом – и у окна Сидит она... и все она?.. Мы не будем распространяться теперь о сцене свидания и объяснения Онегина с Татьяною, потому что главная роль в этой сцене принадлежит Татьяне, о которой нам еще предстоит много говорить. Роман оканчивается отповедью Татьяны, и читатель навсегда расстается с Онегиным в самую злую минуту его жизни... Что же это такое? Где же роман? Какая его мысль? И что за роман без конца? – Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели, существа неопределенные, никому непонятные, даже самим себе, словом, то, что по-французски называется les êtres manqué, les existences avortées . И эти существа часто бывают одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; обещают много, исполняют мало или ничего не исполняют. Это зависит не от них самих; тут есть fatum, заключающийся в действительности, которою окружены они, как воздухом, и из которой не в силах 296 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского и не во власти человека освободиться. Другой поэт представил нам другого Онегина под именем Печорина: пушкинский Онегин с каким-то самоотвержением отдался зевоте; лермонтовский Печорин бьется на смерть с жизнию и насильно хочет у нее вырвать свою долю; в дорогах – разница, а результат один: оба романа так же без конца, как и жизнь и деятельность обоих поэтов... Что сталось с Онегиным потом? Воскресила ли его страсть для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его, и безотрадная тоска его обратилась в мертвую, холодную апатию? – Не знаем, да и на что нам знать это, когда мы знаем, что силы этой богатой натуры остались без приложения, жизнь без смысла, а роман без конца? Довольно и этого знать, чтоб не захотеть больше ничего знать... Онегин – характер действительный, в том смысле, что в нем нет ничего мечтательного, фантастического, что он мог быть счастлив или несчастлив только в действительности и через действительность. В Ленском Пушкин изобразил характер совершенно противоположный характеру Онегина, характер совершенно отвлеченный, совершенно чуждый действительности. Тогда это было совершенно новое явление, и люди такого рода тогда действительно начали появляться в русском обществе. С душою прямо геттингенской, Поклонник Канта и поэт, Он из Германии туманной Привез учености плоды: Вольнолюбивые мечты, Дух пылкий и довольно странный, Всегда восторженную речь И кудри черные до плеч. ……………………………………… Он пел любовь, любви послушный, И песнь его была ясна, Как мысли девы простодушной, Как сон младенца, как луна В пустынях неба безмятежных, Богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, И нечто и туманну даль, И романтические розы; 297 Хрестоматия по истории русской литературной критики Он пел те дальние страны, Где долго в лоне тишины Лились его живые слезы; Он пел поблеклый жизни цвет Без малого в осьмнадцать лет. Ленский был романтик и по натуре и по духу времени. Нет нужды говорить, что это было существо, доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но в то же время «он сердцем милый был невежда», вечно толкуя о жизни, никогда не знал ее. Действительность на него не имела влияния: его радости и печали были созданием его фантазии. Он полюбил Ольгу, – и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замуж, она сделалась бы вторым исправленным изданием своей маменьки, что ей все равно было выйти – и за поэта, товарища ее детских игр, и за довольного собою и своею лошадью улана? Ленский украсил ее достоинствами и совершенствами, приписал ей чувства и мысли, которых в ней не было, и о которых она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое, – Ольга была очаровательна, как и все «барышни», пока они еще не сделались «барынями», а Ленский видел в ней фею, сильфиду, романтическую мечту, нимало не подозревая будущей барыни. Он написал «надгробный мадригал» старику Ларину, в котором, верный себе, без всякой иронии умел найти поэтическую сторону. В простом желании Онегина подшутить над ним он увидел и измену, и обольщение, и кровавую обиду. Результатом всего этого была его смерть, заранее воспетая им в туманноромантических стихах. Мы нисколько не оправдываем Онегина, который, как говорит поэт, Был должен оказать себя Не мячиком предрассуждений, Не пылким мальчиком, бойцом, Но мужем с честью и умом, – но тирания и деспотизм светских и житейских предрассудков таковы, что требуют для борьбы с собою героев. Подробности дуэли Онегина с Ленским – верх совершенства в художественном отношении. Поэт любил этот идеал, осуществленный им в Ленском, и в прекрасных строфах оплакал его падение: 298 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Друзья мои, вам жаль поэта: Во цвете радостных надежд, Их не свершив еще для света, Чуть из младенческих одежд, Увял! Где жаркое волненье, Где благородное стремленье И чувств, и мыслей молодых, Высоких, нежных, удалых? Где бурные любви желанья, И жажда знаний и труда, И страх порока и стыда, И вы, заветные мечтанья, Вы, призрак жизни неземной, Вы, сны поэзии святой! Быть может, он для блага мира Иль хоть для славы был рожден; Его умолкнувшая лира Гремучий, непрерывный звон В веках поднять могла. Поэта, Быть может, на ступенях света, Ждала высокая ступень. Его страдальческая тень, Быть может, унесла с собою Святую тайну, и для нас Погиб животворящий глас, И за могильною чертою К ней не домчится гимн времен, Благословения племен. А может быть и то: поэта Обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношества лета: В нем пыл души бы охладел, Во многом он бы изменился, Расстался б с музами, женился; В деревне, счастлив и рогат, Носил бы стеганный халат; Узнал бы жизнь на самом деле, Подагру б в сорок лет имел, Пил, ел, скучал, толстел, хирел И, наконец, в своей постеле Скончался б посреди детей, Плаксивых баб и лекарей. 299 Хрестоматия по истории русской литературной критики Мы убеждены, что с Ленским сбылось бы непременно последнее. В нем было много хорошего, но лучше всего то, что он был молод и вовремя для своей репутации умер. Это не была одна из тех натур, для которых жить – значит развиваться и идти вперед. Это повторяем – был романтик и больше ничего. Останься он жив, Пушкину нечего было бы с ним делать, кроме как распространить на целую главу то, что он так полно высказал в одной строфе. Люди, подобные Ленскому, при всех их неоспоримых достоинствах нехороши тем, что они или перерождаются в совершенных филистеров, или, если сохранят навсегда свой первоначальный тип, делаются этими устарелыми мистиками и мечтателями, которые так же неприятны, как и старые идеальные девы, и которые больше враги всякого прогресса, нежели люди просто, без претензий, пошлые. Вечно копаясь в самих себе и становя себя центром мира, они спокойно смотрят на все, что делается в мире, и твердят о том, что счастие внутри нас, что должно стремиться душою в надзвездную сторону мечтаний и не думать о суетах этой земли, где есть и голод, и нужда, и... Ленские не перевелись и теперь; они только переродились. В них уже не осталось ничего, что так обаятельнопрекрасно было в Ленском; в них нет девственной чистоты его сердца, в них только претензии на великость и страсть марать бумагу. Все они поэты, и стихотворный балласт в журналах доставляется одними ими. Словом, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди. Татьяна… но мы поговорим о ней в следующей статье. [Письмо к Н. В. Гоголю] (15 июля н. с. 1847 г. Зальцбрунн) Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассерженного человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в которое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинст300 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского ва; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель. Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страною, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хотя на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, что, в этом отношении, представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большего числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали, при появлении ее, все враги Ваши – и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. п.), и литературные, имена которых Вам известны. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одного духа с ее духом. Если б она и была написана вследствие глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику тоже впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей – в этом виноваты только Вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это от того, что Вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасного далека, а ведь известно, что ничего нет легче, как издалека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы, в этом прекрасном далеке, живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (до301 Хрестоматия по истории русской литературной критики вольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр – не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказываемся его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, – является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их неумытыми рылами!.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные строки... И после этого Вы хотите, чтобы верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова учения, – совсем не то написали бы Вы Вашему адепту* из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне – его братья во Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в 302 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского ложном в отношении к ним положении. А выражение: ах ты неумытое рыло! Да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые и без того потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина, и по разуму которой должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления – быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны и Вам надо спешить лечиться, или – не смею досказать моей мысли... Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною... Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, – чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, оружием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста... А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренне, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, 303 Хрестоматия по истории русской литературной критики что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода, колуханы1, жеребцы? – Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: годится – молиться, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностию – ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противуположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно. Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам, по их направле1 К о л у х а н – плут, мошенник. 304 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского нию. Что касается до меня лично, предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для Вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из Вашего прекрасного далека: вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух – он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем religiosa mania1, он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!.. Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили... «Но, может быть, – скажете Вы мне, – положим, что я заблуждался, и все мои мысли ложь; но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» – Потому, отвечаю я Вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в Вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с Вами учение с большей энергиею и большею последовательностию, смело дошли до его последних результатов, все отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые, с Вашей точки зрения, если б только Вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении 1 Religiosa mania (лат.) – религиозная мания, помешательство на религиозной почве. 305 Хрестоматия по истории русской литературной критики русской публики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного расстройства, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову, где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д. Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики и как писателя, и еще больше, как человека? Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренне или неискренне отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример – Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому. Положим, Вы могли это 306 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» Вы менее резко, с меньшею истиною и талантом, и менее горькие правды высказали ей? И она, действительно, осердилась на Вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!.. Не без некоторого чувства самодовольства скажу Вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностию дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли, но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще инстинкт истины! Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренне. Но мысль – довести о нем до сведения публики – была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, тому тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, – тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой – самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия, и в обоих случаях ведет неизбежно к 307 Хрестоматия по истории русской литературной критики лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе – это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, черта и ада веет от Вашей книги. И что за язык, что за фразы! «Дрянь и тряпка стал теперь всяк человек». Неужели Вы думаете, что сказать всяк, вместо всякий, значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени и будь из нее выключены те места, где Вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз – произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»? Что же касается до меня лично, повторяю Вам: Вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за Ваш отзыв обо мне как об одном из Ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что Ваш отзыв о Ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить враждою. Но Вы имели в виду людей если не с отменным умом, то все же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к Вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько высказали о них дела; но все же их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородного источника, что Вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и Вашим врагам да вдобавок еще обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк Вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию Вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил Вашу мысль и напечатал на Ваших почитателей (стало быть, на меня всех боль308 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского ше) чистый донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность Вам за то, что Вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих». Все это нехорошо! А что Вы только ожидали времени, когда Вам можно будет отдать справедливость и почитателям Вашего таланта (отдавши ее с гордым смирением Вашим врагам), этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была Ваша книга, а не Ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу. Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к Вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу и N переслал мне Ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Ан[ненковым] в Париж через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение Вашего письма дало мне возможность высказать Вам все, что лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о Вас заключениях – я первый порадуюсь этому, - но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если Вы имели несчастие с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние. Зальцбрунн 15-го июля н. с. 1847 года. 309 Хрестоматия по истории русской литературной критики Примечания Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848) О русской повести и повестях г. Гоголя Впервые – «Телескоп», 1835 г. (VII, VIII). хара – милость (греч.) котурны – вид греческой обуви (высокие закрытые сапоги на толстой подошве), используемой актерами для увеличения роста при исполнении трагических ролей. Думный дьяк, в приказах поседелый… – слова Григория из драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов». «Магабъарата» и «Рамайяна» – «Махабхарата» и «Рамаяна» – памятники древнеиндийской поэзии. Любви стыдятся, мысли гонят… – цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы». Княжна Мими – героиня повести В. Ф. Одоевского «Княжна Мими» (1834), олицетворение лицемерия, духовной нищеты. Шайлок (Шейлок) – герой комедии Шекспира «Венецианский купец», олицетворение скупости. А. А. Орлов – Александр Анфимович (1791–1840) – беллетрист, автор множества лубочных романов, повестей, рассказов. Козлов – Иван Иванович Козлов (1799–1840) – поэт-романтик, автор известной песни «Вечерний звон» (1827). Источник текста: Белинский В. Г. Собрание сочинений : в 9 т. / В. Г. Белинский. – М. : Худож. лит., 1976. – Т. 1. – С. 138–184. – Печ. с сокр. Горе от ума Впервые – «Отечественные записки», 1840 (№1). Анахарсис – герой романа «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» Ж.-Ж. Бартелеми (1788). Глубоко верно оценил эту комедию кто-то… – имеется в виду критик, поэт Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866). Источник текста: Критика 40-х годов XIX века / [сост., вступ. ст. и примеч. Л. И. Соболева]. – М.: Олимп: АСТ, 2002. – С. 24–40. – (Библиотека русской критики). – Печ. с сокр. Сочинения Александра Пушкина Работа В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» является циклом из одиннадцати статей, печатавшимся в журнале «Отечественные записки» в 1843–1846 гг. Статьи восьмая и девятая посвящены рассмотрению романа «Евгений Онегин». Статья восьмая. Евгений Онегин Впервые – «Отечественные записки», 1844 (№ 12). …некоторые критики добродушно были убеждены, что мы не уважаем Державина…– имеется в виду Николай Алексеевич Полевой (1796–1846), чье мнение о творчестве Державина вызывает критический отклик Белинского в работе «Сочинения Державина» (1843). См. примечания К. И. Тюнькина (Белинский В. Г. Собрание сочинений. В 9 т. – М., 1981. Т.6. – С. 575–577). «Разгулья купеческих сынков в Марьиной роще» – лубочный роман XVIII века. 310 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского С кого они портреты пишут?…– цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840). Один великий критик… – по мнению Л. И. Соболева, речь идет о Николае Ивановиче Надеждине (1804–1856), который в издаваемом им журнале «Телескоп» под псевдонимом Надоумко выступал с критическими статьями о творчестве Пушкина (см. Пушкин А. С. Избранные сочинения. – М., 1990. – С. 558–559). Речь также может идти и о Н. А. Полевом. Вскоре появился юноша-поэт… – имеется в виду В. А. Жуковский (1783–1852). …мы не хотим подражать некоторым нашим литераторам в их предубеждениях…– речь идет о Семене Егоровиче Раиче (1792–1855) – поэте и журналисте, который на страницах журнала «Галатея» определил Пушкина по преимуществу как «поэта будуарного». Да из чего же вы беснуетеся столько?… – неточная цитата из пьесы «Горе от ума» А. С. Грибоедова. «украдкою кивает на Петра» – цитата из басни И. А. Крылова «Зеркало и обезьяна». Источник текста: Там же. С. 185–231. < Письмо к Н. В. Гоголю > Впервые – «Полярная звезда», 1855 г. С. А. Бурачок – журналист, издатель журнала «Маяк». С. С. Уваров – министр народного просвещения в царствование Николая I, создатель «теории официальной народности». Шпекин – фамилия почмейстера из комедии Гоголя «Ревизор». П. В. Анненков – Павел Васильевич Анненков (1813–1887) – критик, прозаик, сотрудник «Современника» до 1856 года. В литературной критике 50–60-х годов в противовес «утилитарной» критике защищал эстетический подход к произведениям литературы. Источник текста: Белинский В. Г. Собрание сочинений : в 9 т. / В. Г. Белинский. – М. : Худож. лит., 1982. – Т. 8. – С. 281–290. Вопросы и задания 1. 2. 3. 4. 5. 6. Назовите ряд понятий, которые стали ключевыми в литературнокритической системе Белинского. На каком основании Белинский включил имя Гоголя в общий ряд с западноевропейскими писателями? Какие задачи ставит перед литературной критикой Белинский в ранней статье о Гоголе? Как трактуется Белинским проблема нравственности художественного произведения в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»? В чем видит Белинский главный недостаток комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»? Объясните, почему сатира, по мысли Белинского, не может быть художественным произведением. 311 Хрестоматия по истории русской литературной критики 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Чем, по мнению Белинского, вызван приоритет эпических жанров в литературе 30–40-х годов XIX века? С каким общим мнением спорит Белинский, отстаивая ценность выбора светского человека в герои романа А. С. Пушкина? Приведите основные доводы критика в защиту авторского выбора героя. Поясните парадоксальное высказывание Белинского о стихотворном романе А. С. Пушкина: «…со стороны содержания самые его недостатки составляют его величайшие достоинства». Как решается критиком вопрос о творческом влиянии в художественной практике Пушкина? Какие суждения критика свидетельствуют о его позиции западника? Приведите примеры полемики с идеями славянофилов. Меняются ли понимание художественности и критерии ее оценки на протяжении литературно-критической деятельности Белинского? Аргументируйте свой ответ примерами. Сформулируйте главный довод неприятия книги Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», высказанный критиком в письме к автору. Сравните образ читателя (публики) в «Письме к Н. В. Гоголю» с этим образом в статье, посвященной «Евгению Онегину». Какие особенности метода и стиля Белинского стали знаками его литературно-критической рефлексии? Охарактеризуйте образ автора, проанализировав предложенные статьи. Как вы считаете, благодаря чему имя Белинского вошло в историю русской культуры как самого известного литературного критика? 312 Тема 5. Эволюция литературно-критических суждений В. Г. Белинского Тема 6. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА «ПОСЛЕ БЕЛИНСКОГО» ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА Н. А. ДОБРОЛЮБОВ Что такое обломовщина? Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»? Веки проходят за веками, полмильона сидней, увальней и болванов дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произнести его, это всемогущее слово... Гоголь Десять лет ждала наша публика романа г. Гончарова. Задолго до его появления в печати о нем говорили как о произведении необыкновенном. К чтению его приступили с самыми обширными ожиданиями. Между тем первая часть романа, написанная еще в 1849 году и чуждая текущих интересов настоящей минуты, многим показалась скучною. В это же время появилось «Дворянское гнездо», и все были увлечены поэтическим, в высшей степени симпатичным талантом его автора. «Обломов» остался для многих в стороне; многие даже чувствовали утомление от необычайно-тонкого и глубокого психического анализа, проникающего весь роман г. Гончарова. Та публика, которая любит внешнюю занимательность действия, нашла утомительною первую часть романа потому, что 313 Хрестоматия по истории русской литературной критики до самого конца ее герой все продолжает лежать на том же диване, на котором застает его начало первой главы. Те читатели, которым нравится обличительное направление, недовольны были тем, что в романе оставалась совершенно нетронутою наша официальнообщественная жизнь. Короче – первая часть романа произвела неблагоприятное впечатление на многих читателей. Кажется, не мало было задатков на то, чтобы и весь роман не имел успеха, по крайней мере в нашей публике, которая так привыкла считать всю поэтическую литературу забавой и судить художественные произведения по первому впечатлению. Но на этот раз художественная правда скоро взяла свое. Последующие части романа сгладили первое неприятное впечатление у всех, у кого оно было, и талант Гончарова покорил своему неотразимому влиянию даже людей, всего менее ему сочувствовавших. Тайна такого успеха заключается, нам кажется, сколько непосредственно в силе художественного таланта автора, столько же и в необыкновенном богатстве содержания романа. Может показаться странным, что мы находим особенное богатство содержания в романе, в котором, по самому характеру героя, почти вовсе нет действия. Но мы надеемся объяснить свою мысль в продолжение статьи, главная цель которой и состоит в том, чтобы высказать несколько замечаний и выводов, на которые, по нашему мнению, необходимо наводит содержание романа Гончарова. «Обломов» вызовет, без сомнения, множество критик. Вероятно, будут между ними и корректурные, которые отыщут какиенибудь погрешности в языке и слоге, и патетические, в которых будет много восклицаний о прелести сцен и характеров, и эстетично-аптекарские, с строгою поверкою того, везде ли точно, по эстетическому рецепту, отпущено действующим лицам надлежащее количество таких-то и таких-то свойств и всегда ли эти лица употребляют их так, как сказано в рецепте. Мы не чувствуем ни малейшей охоты пускаться в подобные тонкости, да и читателям, вероятно, не будет особенного горя, если мы не станем убиваться над соображениями о том, вполне ли соответствует такая-то фраза характеру героя и его положению, или в ней надобно было несколько слов переставить, и т. п. Поэтому нам кажется нисколько не предосудительным заняться более общими соображениями о содержании и значении романа Гончарова, хотя, конечно, истые 314 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века критики и упрекнут нас опять, что статья наша написана не об Обломове, а только по поводу Обломова. Нам кажется, что в отношении к Гончарову более, чем в отношении ко всякому другому автору, критика обязана изложить общие результаты, выводимые из его произведения. Есть авторы, которые сами на себя берут этот труд, объясняясь с читателем относительно цели и смысла своих произведений. Иные и не высказывают категорически своих намерений, но так ведут весь рассказ, что он оказывается ясным и правильным олицетворением их мысли. У таких авторов каждая страница бьет на то, чтобы вразумить читателя, и много нужно недогадливости, чтобы не понять их... Зато плодом чтения их бывает более или менее полное (смотря но степени таланта автора) согласие с идеею, положенною в основание произведения. Остальное все улетучивается через два часа по прочтении книги. У Гончарова совсем не то. Он вам не дает и, повидимому, не хочет дать никаких выводов. Жизнь, им изображаемая, служит для него не средством к отвлеченной философии, а прямою целью сама по себе. Ему нет дела до читателя и до выводов, какие вы сделаете из романа: это уж ваше дело. Ошибетесь – пеняйте на свою близорукость, а никак не на автора. Он представляет вам живое изображение и ручается только за его сходство с действительностью; а там уж ваше дело определить степень достоинства изображенных предметов: он к этому совершенно равнодушен. У него нет и той горячности чувства, которая иным талантам придает наибольшую силу и прелесть. Тургенев, например, рассказывает о своих героях как о людях близких ему, выхватывает из груди их горячее чувство и с нежным участием, с болезненным трепетом следит за ними, сам страдает и радуется вместе с лицами, им созданными, сам увлекается той поэтической обстановкой, которой любит всегда окружать их... И его увлечение заразительно: оно неотразимо овладевает симпатией читателя, с первой страницы приковывает к рассказу мысль его и чувство, заставляет и его переживать, перечувствовать те моменты, в которых являются перед ним тургеневские лица. И пройдет много времени, – читатель может забыть ход рассказа, потерять связь между подробностями происшествий, упустить из виду характеристику отдельных лиц и положений, может, наконец, позабыть все прочитанное; но ему всетаки будет памятно и дорого то живое, отрадное впечатление, ко315 Хрестоматия по истории русской литературной критики торое он испытывал при чтении рассказа. У Гончарова нет ничего подобного. Талант его неподатлив на впечатления. Он не запоет лирической песни при взгляде на розу и соловья; он будет поражен ими, остановится, будет долго всматриваться и вслушиваться, задумается... Какой процесс в это время произойдет в душе его, этого нам не понять хорошенько... Но вот он начинает чертить что-то... Вы холодно всматриваетесь в неясные еще черты... Вот они делаются яснее, яснее, прекраснее... и вдруг, неизвестно каким чудом, из этих черт восстают перед вами и роза, и соловей, со всей своей прелестью и обаяньем. Вам рисуется не только их образ, вам чуется аромат розы, слышатся соловьиные звуки... Пойте лирическую песнь, если роза и соловей могут возбуждать ваши чувства; художник начертил их и, довольный своим делом, отходит в сторону; более он ничего не прибавит... «И напрасно было бы прибавлять, – думает он, – если сам образ не говорит вашей душе то, что могут вам сказать слова»?.. В этом уменье охватить полный образ предмета, отчеканить, изваять его – заключается сильнейшая сторона таланта Гончарова. И ею он особенно отличается среди современных русских писателей. Из нее легко объясняются все остальные свойства его таланта. У него есть изумительная способность – во всякий данный момент остановить летучее явление жизни, во всей его полноте и свежести, и держать его перед собою до тех пор, пока оно не сделается полной принадлежностью художника. На всех нас падает светлый луч жизни, но он у нас тотчас же и исчезает, едва коснувшись нашего сознания. И за ним идут другие лучи от других предметов, и опять столь же быстро исчезают, почти не оставляя следа. Так проходит вся жизнь, скользя по поверхности нашего сознания. Не то у художника; он умеет уловить в каждом предмете что-нибудь близкое и родственное своей душе, умеет остановиться на том моменте, который чем-нибудь особенно поразил его. Смотря по свойству поэтического таланта и по степени его выработанности, сфера, доступная художнику, может суживаться или расширяться, впечатления могут быть живее или глубже; выражение их – страстнее или спокойнее. Нередко сочувствие поэта привлекается каким-нибудь одним качеством предметов, и это качество он старается вызывать и отыскивать всюду, в возможно полном и живом его выражении поставляет свою главную задачу, на него по преимуществу тратит 316 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века свою художническую силу. Так являются художники, сливающие внутренний мир души своей с миром внешних явлений и видящие всю жизнь и природу под призмою господствующего в них самих настроения. Так у одних все подчиняется чувству пластической красоты, у других – по преимуществу рисуются нежные и симпатичные черты, у иных во всяком образе, во всяком описании отражаются гуманные и социальные стремления и т. д. Ни одна из таких сторон не выдается особенно у Гончарова. У него есть другое свойство: спокойствие и полнота поэтического миросозерцания. Он ничем не увлекается исключительно или увлекается всем одинаково. Он не поражается одной стороною предмета, одним моментом события, а вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления и тогда уже приступает к их художественной переработке. Следствием этого является, конечно, в художнике более спокойное и беспристрастное отношение к изображаемым предметам, большая отчетливость в очертании даже мелочных подробностей и ровная доля внимания ко всем частностям рассказа. Вот отчего некоторым кажется роман Гончарова растянутым. Он, если хотите, действительно растянут. В первой части Обломов лежит на диване; во второй ездит к Ильинским и влюбляется в Ольгу, а она в него; в третьей она видит, что ошибалась в Обломове, и они расходятся; в четвертой она выходит замуж за друга его Штольца, а он женится на хозяйке того дома, где нанимает квартиру. Вот и все. Никаких внешних событий, никаких препятствий (кроме разве разведения моста через Неву, прекратившего свидания Ольги с Обломовым), никаких посторонних обстоятельств не вмешивается в роман. Лень и апатия Обломова – единственная пружина действия во всей его истории. Как же это можно было растянуть на четыре части! Попадись эта тема другому автору, тот бы ее обделал иначе: написал бы страничек пятьдесят, легких, забавных, сочинил бы милый фарс, осмеял бы своего ленивца, восхитился бы Ольгой и Штольцем, да на том бы и покончил. Рассказ никак бы не был скучен, хотя и не имел бы особенного художественного значения. Гончаров принялся за дело иначе. Он не хотел отстать от явления, на которое однажды бросил свой взгляд, не проследивши его до конца, не отыскавши его причин, не понявши связи его со всеми окружающими явлениями. Он хотел добиться того, чтобы случайный образ, мелькнувший перед ним, возвести в 317 Хрестоматия по истории русской литературной критики тип, придать ему родовое и постоянное значение. Поэтому во всем, что касалось Обломова, не было для него вещей пустых и ничтожных. Всем занялся он с любовью, все очертил подробно и отчетливо. Не только те комнаты, в которых жил Обломов, но и тот дом, в каком он только мечтал жить; не только халат его, но серый сюртук и щетинистые бакенбарды слуги его Захара; не только писание письма Обломовым, но и качество бумаги и чернил в письме старосты к нему – все приведено и изображено с полною отчетливостью и рельефностью. Автор не может пройти мимоходом даже какого-нибудь барона фон Лангвагена, не играющего никакой роли в романе; и о бароне напишет он целую прекрасную страницу, и написал бы две и четыре, если бы не успел исчерпать его на одной. Это, если хотите, вредит быстроте действия, утомляет безучастного читателя, требующего, чтоб его неудержимо завлекали сильными ощущениями. Но тем не менее в таланте Гончарова – это драгоценное свойство, чрезвычайно много помогающее художественности его изображения. Начиная читать его, находишь, что многие вещи как будто не оправдываются строгой необходимостью, как будто не соображены с вечными требованиями искусства. Но вскоре начинаешь сживаться с тем миром, который он изображает, невольно признаешь законность и естественность всех выводимых им явлений, сам становишься в положение действующих лиц и как-то чувствуешь, что на их месте и в их положении иначе и нельзя, да как будто и не должно действовать. Мелкие подробности, беспрерывно вносимые автором и рисуемые им с любовью и с необыкновенным мастерством, производят, наконец, какое-то обаяние. Вы совершенно переноситесь в тот мир, в который ведет вас автор: вы находите в нем что-то родное, перед вами открывается не только внешняя форма, но и самая внутренность, душа каждого лица, каждого предмета. И после прочтения всего романа вы чувствуете, что в сфере вашей мысли прибавилось что-то новое, что к вам в душу глубоко запали новые образы, новые типы. Они вас долго преследуют, вам хочется думать над ними, хочется выяснить их значение и отношение к вашей собственной жизни, характеру, наклонностям. Куда денется ваша вялость и утомление; бодрость мысли и свежесть чувства пробуждаются в вас. Вы готовы снова перечитать многие страницы, думать над ними, спорить о них. Так по крайней мере на нас действовал Обломов; «Сон Обломова» и некоторые 318 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века отдельные сцены мы прочли по нескольку раз; весь роман почти сплошь прочитали мы два раза, и во второй раз он нам понравился едва ли не более, чем в первый. Такое обаятельное значение имеют эти подробности, которыми автор обставляет ход действия и которые, но мнению некоторых, растягивают роман. Таким образом, Гончаров является перед нами прежде всего художником, умеющим выразить полноту явлений жизни. Изображение их составляет его призвание, его наслаждение; объективное творчество его не смущается никакими теоретическими предубеждениями и заданными идеями, не поддается никаким исключительным симпатиям. Оно спокойно, трезво, бесстрастно. Составляет ли это высший идеал художнической деятельности, или, может быть, это даже недостаток, обнаруживающий в художнике слабость восприимчивости? Категорический ответ затруднителен и во всяком случае был бы несправедлив, без ограничений и пояснений. Многим не нравится спокойное отношение поэта к действительности, и они готовы тотчас же произнести резкий приговор о несимпатичности такого таланта. Мы понимаем естественность подобного приговора, и, может быть, сами не чужды желания, чтобы автор побольше раздражал наши чувства, посильнее увлекал нас. Но мы сознаем, что желание это – несколько обломовское, происходящее от наклонности иметь постоянно руководителей, – даже в чувствах. Приписывать автору слабую степень восприимчивости потому только, что впечатления не вызывают у него лирических восторгов, а молчаливо кроются в его душевной глубине, – несправедливо. Напротив, чем скорее и стремительнее высказывается впечатление, тем чаще оно оказывается поверхностным и мимолетным. Примеров мы видим множество на каждом шагу в людях, одаренных неистощимым запасом словесного и мимического пафоса. Если человек умеет выдержать, взлелеять в душе своей образ предмета и потом ярко и полно представить его, – это значит, что у него чуткая восприимчивость соединяется с глубиною чувства. Он до времени не высказывается, но для него ничто не пропадает в мире. Все, что живет и движется вокруг него, все, чем богата природа и людское общество, у него все это ...как-то чудно Живет в душевной глубине. 319 Хрестоматия по истории русской литературной критики В нем, как в магическом зеркале, отражаются и по воле его останавливаются, застывают, отливаются в твердые недвижные формы – все явления жизни, во всякую данную минуту. Он может, кажется, остановить саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг ее, чтобы мы вечно на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь. Такое могущество, в высшем своем развитии, стоит, разумеется, всего, что мы называем симпатичностью, прелестью, свежестью или энергией таланта. Но и это могущество имеет свои степени, и кроме того, – оно может быть обращено на предметы различного рода, что тоже очень важно. Здесь мы расходимся с приверженцами так называемого искусства для искусства, которые полагают, что превосходное изображение древесного листочка столь же важно, как, например, превосходное изображение характера человека. Может быть, субъективно это будет и справедливо: собственно сила таланта может быть одинакова у двух художников, только сфера их деятельности различна. Но мы никогда не согласимся, чтобы поэт, тратящий свой талант на образцовые описания листочков и ручейков, мог иметь одинаковое значение с тем, кто с равною силою таланта умеет воспроизводить, например, явления общественной жизни. Нам кажется, что для критики, для литературы, для самого общества гораздо важнее вопрос о том, на что употребляется, в чем выражается талант художника, нежели то, какие размеры и свойства имеет он в самом себе, в отвлечении, в возможности. Как же выразился, на что потратился талант Гончарова? Ответом на этот вопрос должен служить разбор содержания романа. По-видимому, не обширную сферу избрал Гончаров для своих изображений. История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Обломов и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить и поднять его, – не Бог весть какая важная история. Но в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед нами живой, современный русский тип, отчеканенный с беспощадною строгостью и правильностью; в ней сказалось новое слово нашего общественного развития, произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это – обломовщина; оно служит ключом к разгадке многих явлений русской жизни, и оно придает роману Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повес320 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века ти. В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени. Обломов есть лицо не совсем новое в нашей литературе; но прежде оно не выставлялось пред нами так просто и естественно, как в романе Гончарова. Чтобы не заходить слишком далеко в старину, скажем, что родовые черты обломовского типа мы находим еще в Онегине и затем несколько раз встречаем их повторение в лучших наших литературных произведениях. Дело в том, что это коренной, народный наш тип, от которого не мог отделаться ни один из наших серьезных художников. Но с течением времени, по мере сознательного развития общества, тип этот изменял свои формы, становился в другие отношения к жизни, получал новое значение. Подметить эти новые фазы его существования, определить сущность его нового смысла – это всегда составляло громадную задачу, и талант, умевший сделать это, всегда делал существенный шаг вперед в истории нашей литературы. Такой шаг сделал и Гончаров своим «Обломовым». Посмотрим на главные черты обломовского типа и потом попробуем провести маленькую параллель между ним и некоторыми типами того же рода, в разное время появлявшимися в нашей литературе. В чем заключаются главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему, что делается на свете. Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного и нравственного развития. По внешнему своему положению – он барин; «у него есть Захар и еще триста Захаров», по выражению автора. Преимущество своего положения Илья Ильич объясняет Захару таким образом: «Разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как живу, слава Богу! Стану ли я беспокоиться? из чего мне?.. И кому я это говорю? Не ты ли с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно, что я ни холода, ни голода никогда не терпел, нужды не знал, хлеба себе не зарабатывал и вообще черным делом не занимался». 321 Хрестоматия по истории русской литературной критики И Обломов говорит совершенную правду. История его воспитания вся служит подтверждением его слов. С малых лет он привыкает быть байбаком, благодаря тому что у него и подать и сделать – есть кому; тут уж даже и против воли нередко он бездельничает и сибаритствует. Ну, скажите пожалуйста, чего же бы вы хотели от человека, выросшего вот в каких условиях: «Захар, – как, бывало, нянька, – натягивает ему чулки, надевает башмаки, а Ильюша, уже четырнадцатилетний мальчик, только и знает, что подставляет ему, лежа, то ту, то другую ногу; а чуть что покажется ему не так, то он поддаст Захарке ногой в нос. Если недовольный Захарка вздумает пожаловаться, то получит еще от старших колотушку. Потом Захарка чешет ему голову, натягивает куртку, осторожно продевая руки Ильи Ильича в рукава, чтоб не слишком беспокоить его, и напоминает Илье Ильичу, что надо сделать то, другое: вставши поутру – умыться и т. п. Захочет ли чего-нибудь Илья Ильич, ему стоит только мигнуть – уж трое-четверо слуг кидаются исполнить его желание; уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не достанет, принести ли что, сбегать ли за чем, – ему иногда, как резвому мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому, а тут отец и мать, да три тетки в пять голосов и закричат: – Зачем? Куда? А Васька, а Ванька, а Захарка на что? Эй! Васька, Ванька, Захарка! Чего вы смотрите, разини? Вот я вас! И не удается никак Илье Ильичу сделать что-нибудь самому для себя. После он нашел, что оно и покойнее гораздо, и выучился сам покрикивать: «Эй, Васька, Ванька, подай то, дай другое! Не хочу того, хочу этого! Сбегай, принеси!» Подчас нежная заботливость родителей и надоедала ему. Побежит ли он с лестницы, или по двору, вдруг вслед ему раздается десять отчаянных голосов: «Ах, ах, подержите, остановите! упадет, расшибется! Стой, стой!» Задумает ли он выскочить зимой в сени или отворить форточку, – опять крики: «Ай, куда? как можно? Не бегай, не ходи, не отворяй: убьешься, простудишься...» И Ильюша с печалью оставался дома, лелеемый, как экзотический цветок в теплице, и так же, как последний под стеклом, он рос медленно и вяло. Ищущие проявления силы обращались внутрь и никли, увядая». Такое воспитание вовсе не составляет чего-нибудь исключительного, странного в нашем образованном обществе. Не везде, 322 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века конечно, Захарка натягивает чулки барчонку и т. п. Но не нужно забывать, что подобная льгота дается Захарке по особому снисхождению или вследствие высших педагогических соображений и вовсе не находится в гармонии с общим ходом домашних дел. Барчонок, пожалуй, и сам оденется; но он знает, что это для него вроде милого развлечения, прихоти, а в сущности, он вовсе не обязан этого делать сам. Да и вообще ему самому нет надобности чтонибудь делать. Из чего ему биться? Некому, что ли, подать и сделать для него все, что ему нужно?.. Поэтому он себя над работой убивать не станет, что бы ему ни толковали о необходимости и святости труда: он с малых лет видит в своем доме, что все домашние работы исполняются лакеями и служанками, а папенька и маменька только распоряжаются да бранятся за дурное исполнение. И вот у него уже готово первое понятие, – что сидеть сложа руки почетнее, нежели суетиться с работою... В этом направлении идет и все дальнейшее развитие. Понятно, какое действие производится таким положением ребенка на все его нравственное и умственное образование. Внутренние силы «никнут и увядают» по необходимости. Если мальчик и пытает их иногда, то разве в капризах и в заносчивых требованиях исполнения другими его приказаний. А известно, как удовлетворенные капризы развивают бесхарактерность и как заносчивость несовместна с уменьем серьезно поддерживать свое достоинство. Привыкая предъявлять бестолковые требования, мальчик скоро теряет меру возможности и удобоисполнимости своих желаний, лишается всякого уменья соображать средства с целями и потому становится в тупик при первом препятствии, для отстранения которого нужно употребить собственное усилие. Когда он вырастает, он делается Обломовым, с большей или меньшей долей его апатичности и бесхарактерности, под более или менее искусной маской, но всегда с одним неизменным качеством – отвращением от серьезной и самобытной деятельности. Много помогает тут и умственное развитие Обломовых, тоже, разумеется, направляемое их внешним положением. Как в первый раз они взглянут на жизнь навыворот, – так уж потом до конца дней своих и не могут достигнуть разумного понимания своих отношений к миру и к людям. Им потом и растолкуют многое, они и поймут кое-что, но с детства укоренившееся воззрение все-таки 323 Хрестоматия по истории русской литературной критики удержится где-нибудь в уголку и беспрестанно выглядывает оттуда, мешая всем новым понятиям и не допуская их уложиться на дно души... И делается в голове какой-то хаос: иной раз человеку и решимость придет сделать что-нибудь, да не знает он, что ему начать, куда обратиться... И немудрено: нормальный человек всегда хочет только того, что может сделать; зато он немедленно и делает все, что захочет... А Обломов... он не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он может сделать и чего нет, – следовательно, не может и серьезно, деятельно захотеть чего-нибудь... Его желания являются только в форме: «а хорошо бы, если бы вот это сделалось»; но как это может сделаться, – он не знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того момента, когда мечтания придут в соприкосновение с действительностью. Тут он старается взвалить дело на кого-нибудь другого, а если нет никого, то на авось... Все эти черты превосходно подмечены и с необыкновенной силой и истиной сосредоточены в лице Ильи Ильича Обломова. Не нужно представлять себе, чтобы Илья Ильич принадлежал к какойнибудь особенной породе, в которой бы неподвижность составляла существенную, коренную черту. Несправедливо было бы думать, что он от природы лишен способности произвольного движения. Вовсе нет: от природы он – человек, как и все. В ребячестве ему хотелось побегать и поиграть в снежки с ребятишками, достать самому то или другое, и в овраг сбегать, и в ближайший березняк пробраться через канал, плетни и ямы. Пользуясь часом общего в Обломовке послеобеденного сна, он разминался, бывало: «взбегал на галерею (куда не позволялось ходить, потому что она каждую минуту готова была развалиться), обегал по скрипучим доскам кругом, лазил на голубятню, забирался в глушь сада, слушал, как жужжит жук, и далеко следил глазами его полет в воздухе». А то – «забирался в канал, рылся, отыскивал какие-то корешки, очищал от коры и ел всласть, предпочитая яблокам и варенью, которые дает маменька». Все это могло служить задатком характера кроткого, спокойного, но не бессмысленно ленивого. Притом и кротость, переходящая в робость, и подставление спины другим есть в человеке явление вовсе не природное, а часто благоприобретенное, точно так же, как и нахальство и заносчивость. И между обоими этими качествами расстояние вовсе не так велико, как обыкновенно ду324 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века мают. Никто не умеет так отлично вздергивать носа, как лакеи; никто так грубо не ведет себя с подчиненными, как те, которые подличают перед начальниками. Илья Ильич, при всей своей кротости, не боится поддать ногой в рожу обувающему его Захару, и если он в своей жизни не делает этого с другими, так единственно потому, что надеется встретить противодействие, которое нужно будет преодолеть. Поневоле он ограничивает круг своей деятельности тремястами своих Захаров. А будь у него этих Захаров во сто, в тысячу раз больше – он бы не встречал себе противодействий и приучился бы довольно смело поддавать в зубы каждому, с кем случится иметь дело. И такое поведение вовсе не было бы у него признаком какого-нибудь зверства натуры; и ему самому и всем окружающим оно казалось бы очень естественным, необходимым... никому бы и в голову не пришло, что можно и должно вести себя как-нибудь иначе. Но – к несчастью иль к счастью – Илья Ильич родился помещиком средней руки, получал дохода не более десяти тысяч рублей на ассигнации и вследствие того мог распоряжаться судьбами мира только в своих мечтаниях. Зато в мечтах своих он и любил предаваться воинственным и героическим стремлениям. «Он любил иногда вообразить себя каким-нибудь непобедимым полководцем, пред которым не только Наполеон, но и Еруслан Лазаревич ничего не значит; выдумает войну и причину ее: у него хлынут, например, народы из Африки в Европу, или устроит он новые крестовые походы и воюет, решает участь народов, разоряет города, щадит, казнит, оказывает подвиги добра и великодушия». А то он вообразит, что он великий мыслитель или художник, что за ним гоняется толпа, и все поклоняются ему... Ясно, что Обломов не тупая, апатическая натура, без стремлений и чувств, а человек, тоже чего-то ищущий в своей жизни, о чем-то думающий. Но гнусная привычка получать удовлетворение своих желаний не от собственных усилий, а от других – развила в нем апатическую неподвижность и повергла его в жалкое состояние нравственного рабства. Рабство это так переплетается с барством Обломова, так они взаимно проникают друг друга и одно другим обусловливаются, что, кажется, нет ни малейшей возможности провести между ними какую-нибудь границу. Это нравственное рабство Обломова составляет едва ли не самую любопытную сторону его личности и всей его истории... Но как мог дойти до рабства человек с таким незави325 Хрестоматия по истории русской литературной критики симым положением, как Илья Ильич? Кажется, кому бы и наслаждаться свободой, как не ему? Не служит, не связан с обществом, имеет обеспеченное состояние... Он сам хвалится тем, что не чувствует надобности кланяться, просить, унижаться, что он не подобен «другим», которые работают без устали, бегают, суетятся, – а не поработают, так и не поедят... Он внушает к себе благоговейную любовь доброй вдовы Пшеницыной именно тем, что он барин, что он сияет и блещет, что он и ходит и говорит так вольно и независимо, что он «не пишет беспрестанно бумаг, не трясется от страха, что опоздает в должность, не глядит на всякого так, как будто просит оседлать его и поехать, а глядит на всех и на все так смело и свободно, как будто требует покорности себе». И однако же вся жизнь этого барина убита тем, что он постоянно остается рабом чужой воли и никогда не возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Он раб каждой женщины, каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять над ним волю. Он раб своего крепостного Захара, и трудно решить, который из них более подчиняется власти другого. По крайней мере – чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли барина, и барин покорится... Оно так и следует: Захар все-таки умеет сделать хоть что-нибудь, а Обломов ровно ничего не может и не умеет. Нечего уже и говорить о Тарантьеве и Иване Матвеиче, которые делают с Обломовым, что хотят, несмотря на то что сами и по умственному развитию, и по нравственным качествам гораздо ниже его... Отчего же это? Да все оттого, что Обломов, как барин, не хочет и не умеет работать и не понимает настоящих отношений своих ко всему окружающему. Он не прочь от деятельности – до тех пор, пока она имеет вид призрака и далека от реального осуществления: так, он создает план устройства имения и очень усердно занимается им, – только «подробности, сметы и цифры» пугают его и постоянно отбрасываются им в сторону, потому что где же ему с ними возиться!.. Он – барин, как объясняет сам Ивану Матвеичу: «кто я, что такое? спросите вы... Подите спросите у Захара, и он скажет вам: «барин!» Да, я барин и делать ничего не умею! Делайте вы, если знаете, и помогите, если можете, а за труд возьмите себе, что хотите: – на то наука!» И вы думаете, что он этим хочет только отделаться от работы, старается прикрыть незнанием свою лень? Нет, 326 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века он действительно не знает и не умеет ничего, действительно не в состоянии приняться ни за какое путное дело. Относительно своего имения (для преобразования которого сочинил уже план) он таким образом признается в своем неведении Ивану Матвеичу: «Я не знаю, что такое барщина, что такое сельский труд, что значит бедный мужик, что богатый; не знаю, что значит четверть ржи или овса, что она стоит, в каком месяце и что сеют и жнут, как и когда продают; не знаю, богат ли я, или беден, буду ли я через год сыт, или буду нищий – я ничего не знаю!.. Следовательно, говорите и советуйте мне, как ребенку...» Иначе сказать: будьте надо мною господином, распоряжайтесь моим добром, как вздумаете, уделяйте мне из него, сколько найдете для себя удобным... Так на деле-то и вышло: Иван Матвеич совсем было прибрал к рукам имение Обломова, да Штольц помешал, к несчастью. И ведь Обломов не только своих сельских порядков не знает, не только положения своих дел не понимает: это бы еще куда ни шло!.. Но вот в чем главная беда: он и вообще жизни не умел осмыслить для себя. В Обломовке никто не задавал себе вопроса: зачем жизнь, что она такое, какой ее смысл и назначение? Обломовцы очень просто понимали ее, «как идеал покоя и бездействия, нарушаемого по временам разными неприятными случайностями, как-то: болезнями, убытками, ссорами и, между прочим, трудом. Они сносили труд как наказание, наложенное еще на праотцев наших, но любить не могли, и где был случай, всегда от него избавлялись, находя это возможным и должным». Точно так относился к жизни и Илья Ильич. Идеал счастья, нарисованный им Штольцу, заключался ни в чем другом, как в сытной жизни – с оранжереями, парниками, поездками с самоваром в рощу и т. п., – в халате, в крепком сне, да для промежуточного отдыха – в идиллических прогулках с кроткою, но дебелою женою и в созерцании того, как крестьяне работают. Рассудок Обломова так успел с детства сложиться, что даже в самом отвлеченном рассуждении, в самой утопической теории имел способность останавливаться на данном моменте и затем не выходить из этого status quo1, несмотря ни на какие убеждения. Рисуя идеал своего блаженства, 1 Существующее положение (лат.). 327 Хрестоматия по истории русской литературной критики Илья Ильич не думал спросить себя о внутреннем смысле его, не думал утвердить его законность и правду, не задал себе вопроса: откуда будут браться эти оранжереи и парники, кто их станет поддерживать и с какой стати будет он ими пользоваться?.. Не задавая себе подобных вопросов, не разъясняя своих отношений к миру и к обществу, Обломов, разумеется, не мог осмыслить своей жизни и потому тяготился и скучал от всего, что ему приходилось делать. Служил он – и не мог понять, зачем это бумаги пишутся; не понявши же, ничего лучше не нашел, как выйти в отставку и ничего не писать. Учился он – и не знал, к чему может послужить ему наука; не узнавши этого, он решился сложить книги в угол и равнодушно смотреть, как их покрывает пыль. Выезжал он в общество – и не умел себе объяснить, зачем люди в гости ходят, не объяснивши, он бросил все свои знакомства и стал по целым дням лежать у себя на диване. Сходился он с женщинами, но подумал: однако чего же от них ожидать и добиваться? Подумавши же, не решил вопроса и стал избегать женщин... Все ему наскучило и опостылело, и он лежал на боку, с полным сознательным презрением к «муравьиной работе людей», убивающихся и суетящихся Бог весть из-за чего... Дойдя до этой точки в объяснении характера Обломова, мы находим уместным обратиться к литературной параллели, о которой упомянули выше. Предыдущие соображения привели нас к тому заключению, что Обломов не есть существо, от природы совершенно лишенное способности произвольного движения. Его лень и апатия есть создание воспитания и окружающих обстоятельств. Главное здесь не Обломов, а обломовщина. Он бы, может быть, стал даже и работать, если бы нашел дело по себе, но для этого, конечно, ему надо было развиться несколько под другими условиями, нежели под какими он развился. В настоящем же своем положении он не мог нигде найти себе дела по душе, потому что вообще не понимал смысла жизни и не мог дойти до разумного воззрения на свои отношения к другим. Здесь-то он и подает нам повод к сравнению с прежними типами лучших наших писателей. Давно уже замечено, что все герои замечательнейших русских повестей и романов страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела, в чем представляют разительное сходство с Обломовым. В самом деле, – раскройте, на328 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века пример, «Онегина», «Героя нашего времени», «Кто виноват?», «Рудина», или «Лишнего человека», или «Гамлета Щигровского уезда», – в каждом из них вы найдете черты, почти буквально сходные с чертами Обломова. Онегин, как Обломов, оставляет общество, затем, что его Измены утомить успели, Друзья и дружба надоели. И вот он занялся писаньем: Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся, Зевая, за перо взялся, Хотел писать, но труд упорный Ему был тошен, ничего Не вышло из пера его… На этом же поприще подвизался и Рудин, который любил читать избранным «первые страницы предполагаемых статей и сочинений своих». Тентетников тоже много лет занимался «колоссальным сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек зрения»; но и у него «предприятие больше ограничивалось одним обдумыванием: изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось в сторону». Илья Ильич не отстал в этом от своих собратий: он тоже писал и переводил, – Сэя даже переводил. «Где же твои работы, твои переводы?» – спрашивает его потом Штольц. – «Не знаю, Захар куда-то дел; в углу, должно быть, лежат», – отвечает Обломов. Выходит, что Илья Ильич даже больше, может быть, сделал, чем другие, принимавшиеся за дело с такой же твердой решимостью, как и он... А принимались за это дело почти все братцы обломовской семьи, несмотря на разницу своих положений и умственного развития. Печорин только смотрел свысока на «поставщиков повестей и сочинителей мещанских драм»; впрочем, и он писал свои записки. Что касается Бельтова, то он, наверное, сочинял что-нибудь, да еще, кроме того, артистом был, ходил в Эрмитаж и сидел за мольбертом, обдумывал большую картину встречи Бирона, едущего из Сибири, с Минихом, едущим в Сибирь... Что из всего этого вышло, известно читателям... Во всей семье та же обломовщина... Относительно «присвоения себе чужого ума», то есть чтения, Обломов тоже не много расходится с своими братьями. Илья Иль329 Хрестоматия по истории русской литературной критики ич читал тоже кое-что и читал не так, как покойный батюшка его: «давно, говорит, не читал книги»; «дай-ко, почитаю книгу», – да и возьмет, какая под руку попадется... Нет, веяние современного образования коснулось и Обломова: он уже читал по выбору, сознательно. «Услышит о каком-нибудь замечательном произведении, – у него явится позыв познакомиться с ним; он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее, у него начнет формироваться идея о предмете; еще шаг, и он овладел бы им, а посмотришь, он уже лежит, глядя апатически в потолок, а книга лежит подле него недочитанная, непонятая... Охлаждение овладевало им еще быстрее, нежели увлечение: он уже никогда не возвращался к покинутой книге». Не то ли же самое было и с другими? Онегин, думая себе присвоить ум чужой, начал с того, что Отрядом книг уставил полку – и принялся читать. Но толку не вышло никакого: чтение скоро ему надоело, и Как женщин, он оставил книги И полку, с пыльной их семьей, Задернул траурной тафтой. Тентетников тоже так читал книги (благо он привык их всегда иметь под рукой), – большею частию во время обеда: «с супом, с соусом, с жарким и даже с пирожным»... Рудин тоже признается Лежневу, что накупил он себе каких-то агрономических книг, но ни одной до конца не прочел; сделался учителем, да нашел, что фактов знал маловато и даже на одном памятнике XVI столетия был сбит учителем математики. И у него, как у Обломова, принимались легко только общие идеи, а «подробности, сметы и цифры» постоянно оставались в стороне. «Но ведь это еще не жизнь, – это только приготовление к жизни», – думал Андрей Иванович Тентетников, проходивший вместе с Обломовым и всей этой компанией тьму ненужных наук и не умевший ни йоты из них применить к жизни. «Настоящая жизнь – это служба». И все наши герои, кроме Онегина и Печорина, служат, и для всех их служба – ненужное и не имеющее смысла бремя; и все они оканчивают благородной и ранней отставкой. Бельтов 330 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки, потому что, погорячившись сначала, вскоре охладел к канцелярским занятиям, стал раздражителен и небрежен... Тентетников поговорил крупно с начальником, да притом же хотел принести пользу государству, лично занявшись устройством своего имения. Рудин поссорился с директором гимназии, где был учителем. Обломову не понравилось, что с начальником все говорят «не своим голосом, а каким-то другим, тоненьким и гадким»; – он не захотел этим голосом объясняться с начальником по тому поводу, что «отправил нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск», и подал в отставку... Везде все одна и та же обломовщина... В домашней жизни обломовцы хоже очень похожи друг на друга: Прогулки, чтенье, сон глубокий, Лесная тень, журчанье струй, Порой белянки черноокой Младой и свежий поцалуй, Узде послушный конь ретивый, Обед довольно прихотливый, Бутылка светлого вина, Уединенье, тишина, – Вот жизнь Онегина святая... То же самое, слово в слово, за исключением коня, рисуется у Ильи Ильича в идеале домашней жизни. Даже поцалуй черноокой белянки не забыт у Обломова. «Одна из крестьянок, – мечтает Илья Ильич, – с загорелой шеей, с открытыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки, а сама счастлива... те... жена чтоб не увидала, Боже сохрани!». (Обломов воображает себя уже женатым)... И если б Илье Ильичу не лень было уехать из Петербурга в деревню, он непременно привел бы в исполнение задушевную свою идиллию. Вообще обломовцы склонны к идиллическому, бездейственному счастью, которое ничего от них не требует: «наслаждайся, мол, мною, да и только»... Уж на что, кажется, Печорин, а и тот полагает, что счастье-то, может быть, заключается в покое и сладком отдыхе; он в одном месте своих записок сравнивает себя с человеком, томимым голодом, который «в изнеможении засыпает и видит пред собою 331 Хрестоматия по истории русской литературной критики роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче... но только проснулся, мечта исчезает, остается удвоенный голод и отчаяние»... В другом месте Печорин себя спрашивает: «отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?» Он сам полагает, – оттого что «душа его сжилась с бурями и жаждет кипучей деятельности»... Но ведь он вечно недоволен своей борьбой и сам же беспрестанно высказывает, что все свои дрянные дебоширства затевает потому только, что ничего лучшего не находит делать. А уж коли не находит дела и вследствие того ничего не делает и ничем не удовлетворяется, так это значит, что к безделью более наклонен, чем к делу... Та же обломовщина… Отношения к людям и в особенности к женщинам тоже имеют у всех обломовцев некоторые общие черты. Людей они вообще презирают с их мелким трудом, с их узкими понятиями и близорукими стремлениями. «Это все чернорабочие», – небрежно отзывается даже Бельтов, гуманнейший между ними. Рудин наивно воображает себя гением, которого никто не в состоянии понять. Печорин, уж разумеется, топчет всех ногами. Даже Онегин имеет за собою два стиха, гласящие, что Кто жил и мыслил, тот не может В душе не презирать людей. Тентетников даже, – уж на что смирный, – и тот, пришедши в департамент, почувствовал, что «как будто его за проступок перевели из верхнего класса в нижний»; а приехавши в деревню, скоро постарался, подобно Онегину и Обломову, раззнакомиться со всеми соседями, которые поспешили с ним познакомиться. И наш Илья Ильич не уступит никому в презрении к людям: оно ведь так легко, для него даже усилий никаких не нужно. Он самодовольно проводит перед Захаром параллель между собой и «другими»; он в разговорах с приятелями выражает наивное удивление, из-за чего это люди бьются, заставляя себя ходить в должность, писать, следить за газетами, посещать общество и проч. Он даже весьма категорически выражает Штольцу сознание своего превосходства над всеми людьми. «Жизнь, говорит, в обществе? Хороша жизнь! Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где центр, около которого 332 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое. Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!»... И затем Илья Ильич очень пространно и красноречиво говорит на эту тему, так что хоть бы Рудину так поговорить. В отношении к женщинам все обломовцы ведут себя одинаково постыдным образом. Они вовсе не умеют любить и не знают, чего искать в любви, точно так же, как и вообще в жизни. Они не прочь пококетничать с женщиной, пока видят в ней куклу, двигающуюся на пружинках; не прочь они и поработить себе женскую душу... как же! этим бывает очень довольна их барственная натура! Но только чуть дело дойдет до чего-нибудь серьезного, чуть они начнут подозревать, что пред ним действительно не игрушка, а женщина, которая может и от них потребовать уважения к своим правам, – они немедленно обращаются в постыднейшее бегство. Трусость у всех этих господ непомерная! Онегин, который так «рано умел тревожить сердца кокеток записных», который женщин «искал без упоенья, а оставлял без сожаленья», – Онегин струсил перед Татьяной, дважды струсил, – и в то время, когда принимал от нее урок, и тогда, как сам ей давал его. Она ему ведь нравилась с самого начала, и если бы любила менее серьезно, он не подумал бы принять с нею тон строгого нравоучителя. А тут он увидел, что шутить опасно, и потому начал толковать о своей отжитой жизни, о дурном характере, о том, что она другого полюбит впоследствии, и т. д. Впоследствии он сам объясняет свой поступок тем, что, «заметя искру нежности в Татьяне, он не хотел ей верить» и что Свою постылую свободу Он потерять не захотел. А какими фразами-то прикрыл себя, малодушный! Бельтов с Круциферской, как известно, тоже не посмел идти до конца и убежал от нее, хотя и по совершенно другим соображениям, если ему только верить. Рудин – этот уже совершенно растерялся, когда Наталья хотела от него добиться чего-нибудь решительного. Он ничего более не сумел, как только посоветовать ей «покориться». На другой день он остроумно объяснил ей в письме, что ему «было не в привычку» иметь дело с такими женщинами, как она. Таким же оказывается и Печорин, специалист по части 333 Хрестоматия по истории русской литературной критики женского сердца, признающийся, что, кроме женщин, он ничего в свете не любил, что для них он готов пожертвовать всем на свете. И он признается, что, во-первых, «не любит женщин с характером: их ли это дело!» – во-вторых, что он никогда не может жениться. «Как бы страстно я ни любил женщину, – говорит он, – но если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться – прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто не разогреет его снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? куда я себя готовлю? чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие» и т. д. А в сущности, это – больше ничего, как обломовщина. А Илья Ильич разве, вы думаете, не имеет в себе, в свою очередь, печоринского и рудинского элемента, не говоря об онегинском? Еще как имеет-то! Он, например, подобно Печорину, хочет непременно обладать женщиной, хочет вынудить у нее всяческие жертвы в доказательство любви. Он, видите ли, не надеялся сначала, что Ольга пойдет за него замуж, и с робостью предложил ей быть его женой. Она ему сказала что-то вроде того, что это давно бы ему следовало сделать. Он пришел в смущение, ему стало не довольно согласия Ольги, и он – что бы вы думали?.. он начал – пытать ее, столько ли она его любит, чтобы быть в состоянии сделаться его любовницей! И ему стало досадно, когда она сказала, что никогда не пойдет по этому пути; но затем ее объяснение и страстная сцена успокоили его... А все-таки он струсил под конец до того, что даже на глаза Ольге боялся показаться, прикидывался больным, прикрывал себя разведенным мостом, давал понять Ольге, что она его может компрометировать, и т. д. И все отчего? – оттого, что она от него потребовала решимости, дела, того, что не входило в его привычки. Женитьба сама по себе не страшила его так, как страшила Печорина и Рудина; у него более патриархальные были привычки. Но Ольга захотела, чтоб он пред женитьбой устроил дела по имению; это уж была бы жертва, и он, конечно, этой жертвы не совершил, а явился настоящим Обломовым. А сам между тем очень требователен. Он сделал с Ольгой такую штуку, какая и Печорину впору была бы. Ему вообразилось, что он не довольно хорош собою и вообще не довольно привлекателен для то334 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века го, чтобы Ольга могла сильно полюбить его. Он начинает страдать, не спит ночь, наконец вооружается энергией и строчит к Ольге длинное рудинское послание, в котором повторяет известную, тертую и перетертую вещь, говоренную и Онегиным Татьяне, и Рудиным Наталье, и даже Печориным княжне Мери: «я, дескать, не так создан, чтобы вы могли быть со мною счастливы; придет время, вы полюбите другого, более достойного». Сменит не раз младая дева Мечтами легкие мечты... Полюбите вы снова: но... Учитесь властвовать собою; Не всякий вас, как я, поймет... К беде неопытность ведет. Все обломовцы любят уничижать себя; но это они делают с той целью, чтоб иметь удовольствие быть опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, пред кем они себя ругают. Они довольны своим самоунижением, и все похожи на Рудина, о котором Пигасов выражается: «начнет себя бранить, с грязью себя смешает, – ну, думаешь, теперь на свет Божий глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчевал!» Так и Онегин после ругательств на себя рисуется пред Татьяной своим великодушием. Так и Обломов, написавши к Ольге пасквиль на самого себя, чувствовал, «что ему уж не тяжело, что он почти счастлив»... Письмо свое он заключает тем же нравоучением, как и Онегин свою речь: «история со мною пусть, говорит, послужит вам руководством в будущей, нормальной любви» и пр. Илья Ильич, разумеется, не выдержал себя на высоте уничижения перед Ольгой: он бросился подсмотреть, какое впечатление произведет на нее письмо, увидел, что она плачет, удовлетворился и – не мог удержаться, чтобы не предстать пред ней в сию критическую минуту. А она доказала ему, каким он пошлым и жалким эгоистом явился в этом письме, написанном «из заботы об ее счастье». Тут уже он окончательно спасовал, как делают, впрочем, все обломовцы, встречая женщину, которая выше их по характеру и по развитию. «Однако же, – возопиют глубокомысленные люди, – в вашей параллели, несмотря на подбор видимо одинаковых фактов, совсем нет смысла. При определении характера не столько важны внешние проявления, сколько побуждения, вследствие которых то или дру335 Хрестоматия по истории русской литературной критики гое делается человеком. А относительно побуждений, как же не видеть неизмеримой разницы между поведением Обломова и образом действия Печорина, Рудина и других?.. Этот все делает по инерции, потому что ему лень самому с места двинуться и лень упереться на месте, когда его тащат, вся его цель состоит в том, чтобы лишний раз пальцем не пошевелить. А те снедаются жаждою деятельности, с жаром за все принимаются, ими беспрестанно Овладевает беспокойство, Охота к перемене мест, – и другие недуги, признаки сильной души. Если они и не делают ничего истинно полезного, так это потому, что не находят деятельности, соответствующей своим силам. Они, по выражению Печорина, подобны гению, прикованному к чиновничьему столу и осужденному переписывать бумаги. Они выше окружающей их действительности и потому имеют право презирать жизнь и людей. Вся их жизнь есть отрицание в смысле реакции существующему порядку вещей; а его жизнь есть пассивное подчинение существующим уже влияниям, консервативное отвращение от всякой перемены, совершенный недостаток внутренней реакции в натуре. Можно ли сравнивать этих людей? Рудина ставить на одну доску с Обломовым!.. Печорина осуждать на то же ничтожество, в каком погрязает Илья Ильич!.. Это совершенное непонимание, это нелепость, – это преступление!..» Ах, Боже мой! В самом деле, – мы ведь и позабыли, что с глубокомысленными людьми надо держать ухо востро: как раз выведут такие заключения, о которых вам даже и не снилось. Если вы собираетесь купаться, а глубокомысленный человек, стоя на берегу со связанными руками, хвастается тем, что он отлично плавает и обещает спасти вас, когда вы станете тонуть, – бойтесь сказать: «да, помилуй, любезный друг, у тебя ведь руки связаны; позаботься прежде о том, чтоб развязать себе руки». Бойтесь говорить это, потому что глубокомысленный человек сейчас же ударится в амбицию и скажет: «А, так вы утверждаете, что я не умею плавать! Вы хвалите того, кто связал мне руки! Вы не сочувствуете людям, которые спасают утопающих!..» И так далее... глубокомысленные люди бывают очень красноречивы и обильны на выводы самые неожиданные... Вот и теперь: сейчас выведут заключение, что мы 336 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Обломова хотели поставить выше Печорина, и Рудина, что мы хотели оправдать его лежанье, что мы не умеем видеть внутреннего, коренного различия между ним и прежними героями, и т. д. Поспешим же объясниться с глубокомысленными людьми. Во всем, что мы говорили, мы имели в виду более обломовщину, нежели личность Обломова и других героев. Что касается до личности, то мы не могли не видеть разницы темперамента, например, у Печорина и Обломова, так же точно, как не можем не найти ее и у Печорина с Онегиным, и у Рудина с Бельтовым... Кто же станет спорить, что личная разница между людьми существует (хотя, может быть, и далеко не в той степени и не с тем значением, как обыкновенно предполагают). Но дело в том, что над всеми этими лицами тяготеет одна и та же обломовщина, которая кладет на них неизгладимую печать бездельничества, дармоедства и совершенной ненужности на свете. Весьма вероятно, что при других условиях жизни, в другом обществе, Онегин был бы истинно добрым малым, Печорин и Рудин делали бы великие подвиги, а Бельтов оказался бы действительно превосходным человеком. Но при других условиях развития, может быть, и Обломов с Тентетниковым не были бы такими байбаками, а нашли бы себе какое-нибудь полезное занятие... Дело в том, что теперь-то у них всех одна общая черта – бесплодное стремление к деятельности, сознание, что из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего... В этом они поразительно сходятся. «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, – лучший цвет жизни». Это – Печорин... А вот как рассуждает о себе Рудин: «Да, природа мне много дала; но я умру, не сделав ничего достойного сил моих, не оставив за собою никакого благотворного следа. Все мое богатство пропадет даром: я не увижу плодов от семян своих»... Илья Ильич тоже не отстает от прочих: и он «болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое 337 Хрестоматия по истории русской литературной критики начало, может быть, теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы, и давно пора бы этому золоту быть ходячей монетой. Но глубоко и тяжело завален клад дрянью, наносным сором. Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища». Видите – сокровища были зарыты в его натуре, только раскрыть их пред миром он никогда не мог. Другие братья его, помоложе, «по свету рыщут», Дела себе исполинского ищут, Благо наследье богатых отцов Освободило от малых трудов... Обломов тоже мечтал в молодости «служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников...». Да и теперь он «не чужд всеобщих человеческих скорбей, ему доступны наслаждения высоких помыслов», и хотя он не рыщет по свету за исполинским делом, но все-таки мечтает о всемирной деятельности, все-таки с презрением смотрит на чернорабочих и с жаром говорит: Нет, я души не растрачу моей На муравьиной работе людей... А бездельничает он ничуть не больше, чем все остальные братья обломовцы; только он откровеннее, – не старается прикрыть своего безделья даже разговорами в обществах и гуляньем по Невскому проспекту. Но отчего же такая разница впечатлений, производимых на нас Обломовым и героями, о которых мы вспоминали выше? Те представляются нам в разных родах сильными натурами, задавленными неблагоприятной обстановкой, а этот – байбаком, который и при самых лучших обстоятельствах ничего не сделает. Но, во-первых, – у Обломова темперамент слишком вялый, и потому естественно, что он для осуществления своих замыслов и для отпора враждебных обстоятельств употребляет еще несколько менее попыток, нежели сангвинический Онегин или желчный Печорин. В сущности же они все равно несостоятельны пред силою враждебных обстоятельств, все равно погружаются в ничтожество, когда им предстоит настоящая, серьезная деятельность. В чем обстоятельства Обломова открывали ему благоприятное поле деятельности? У него было именье, которое мог он устроить; был друг, вызывавший его на 338 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века практическую деятельность; была женщина, которая превосходила его энергией характера и ясностью взгляда и которая нежно полюбила его... Да скажите, у кого же из обломовцев не было всего этого и что все они из этого сделали? И Онегин, и Тентетников хозяйничали в своем именье, и о Тентетникове мужики даже говорили сначала: «экой востроногий!» Но скоро те же мужики смекнули, что барин хоть и прыток на первых порах, но ничего не смыслит и толку никакого не сделает... А дружба? Что они все делают с своими друзьями? Онегин убил Ленского; Печорин только все пикируется с Вернером; Рудин умел оттолкнуть от себя Лежнева и не воспользовался дружбой Покорского... Да и мало ли людей, подобных Покорскому, встречалось на пути каждого из них?.. Что же они? Соединились ли друг с другом для одного общего дела, образовали ли тесный союз для обороны от враждебных обстоятельств? Ничего не было... Все рассыпалось прахом, все кончилось той же обломовщиной... О любви нечего и говорить. Каждый из обломовцев встречал женщину выше себя (потому что Круциферская выше Бельтова и даже княжна Мери все-таки выше Печорина), и каждый постыдно бежал от ее любви или добивался того, чтоб она сама прогнала его... Чем это объяснить, как не давлением на них гнусной обломовщины? Кроме разницы темперамента большое различие находится в самом возрасте Обломова и других героев. Говорим не о летах: они почти однолетки, Рудин даже двумя-тремя годами постарше Обломова; говорим о времени их появления. Обломов относится к позднейшему времени, стало быть, он уже для молодого поколения, для современной жизни, должен казаться гораздо старше, чем казались прежние обломовцы... Он в университете, каких-нибудь 17–18-ти лет, прочувствовал те стремления, проникся теми идеями, которыми одушевляется Рудин в тридцать пять лет. За этим курсом для него было только две дороги: или деятельность, настоящая деятельность, – не языком, а головой, сердцем и руками вместе, или уже просто лежанье сложа руки. Апатическая натура привела его к последнему: скверно, но по крайней мере тут нет лжи и обморочиванья. Если б он, подобно своим братцам, пустился толковать во всеуслышание о том, о чем теперь осмеливается только мечтать, то он каждый день испытывал бы огорчения, подобные тем, какие испытал по случаю получения письма от старосты и приглашения от 339 Хрестоматия по истории русской литературной критики хозяина дома – очистить квартиру. Прежде с любовью, с благоговением слушали фразеров, толкующих о необходимости того или другого, о высших стремлениях и т. п. Тогда, может быть, и Обломов не прочь был бы поговорить... Но теперь всякого фразера и прожектера встречают требованием: «А не угодно ли попробовать?» Этого уж обломовцы не в силах снести... В самом деле, – как чувствуется веяние новой жизни, когда, по прочтении Обломова, думаешь, что вызвало в литературе этот тип. Нельзя приписать этого единственно личному таланту автора и широте его воззрений. И силу таланта, и воззрения самые широкие и гуманные находим мы и у авторов, произведших прежние типы, приведенные нами выше. Но дело в том, что от появления первого из них, Онегина, до сих пор прошло уже тридцать лет. То, что было тогда в зародыше, что выражалось только в неясном полуслове, произнесенном шепотом, то приняло уже теперь определенную и твердую форму, высказалось открыто и громко. Фраза потеряла свое значение; явилась в самом обществе потребность настоящего дела. Бельтов и Рудин, люди с стремлениями действительно высокими и благородными, не только не могли проникнуться необходимостью, но даже не могли представить себе близкой возможности страшной, смертельной борьбы с обстоятельствами, которые их давили. Они вступали в дремучий, неведомый лес, шли по топкому опасному болоту, видели под ногами разных гадов и змей и лезли на дерево, – отчасти, чтоб посмотреть, не увидят ли где дороги, отчасти же для того, чтобы отдохнуть и хоть на время избавиться от опасности увязнуть или быть ужаленными. Следовавшие за ними люди ждали, что они скажут, и смотрели на них с уважением, как на людей, шедших впереди. Но эти передовые люди ничего не увидели с высоты, на которую взобрались: лес был очень обширен и густ. Между тем, взлезая на дерево, они исцарапали себе лицо, переранили себе ноги, испортили руки... Они страдают, они утомлены, они должны отдохнуть, примостившись как-нибудь поудобнее на дереве. Правда, они ничего не делают для общей пользы, они ничего не разглядели и не сказали; стоящие внизу сами, без их помощи, должны прорубать и расчищать себе дорогу по лесу. Но кто же решится бросить камень в этих несчастных, чтобы заставить их упасть с высоты, на которую они взмостились с такими трудами, имея в виду общую пользу? Им сострадают, от них даже не требу340 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века ют пока, чтобы они принимали участие в расчистке леса; на их долю выпало другое дело, и они его сделали. Если толку не вышло, – не их вина. С этой точки зрения каждый из авторов мог прежде смотреть на своего обломовского героя, и был прав. К этому присоединялось еще и то, что надежда увидеть где-нибудь выход из лесу на дорогу долго держалась во всей ватаге путников, равно как долго не терялась и уверенность в дальнозоркости передовых людей, взобравшихся на дерево. Но вот мало-помалу дело прояснилось и приняло другой оборот: передовым людям понравилось на дереве; они рассуждают очень красноречиво о разных путях и средствах выбраться из болота и из лесу; они нашли даже на дереве кой-какие плоды и наслаждаются ими, бросая чешуйку вниз; они зовут к себе еще кой-кого, избранных из толпы, и те идут и остаются на дереве, уже и не высматривая дороги, а только пожирая плоды. Это уже – Обломовы в собственном смысле... А бедные путники, стоящие внизу, вязнут в болоте, их жалят змеи, пугают гады, хлещут по лицу сучья... Наконец толпа решается приняться за дело и хочет воротить тех, которые позже полезли на дерево; но Обломовы молчат и обжираются плодами. Тогда толпа обращается и к прежним своим передовым людям, прося их спуститься и помочь общей работе. Но передовые люди опять повторяют прежние фразы о том, что надо высматривать дорогу, а над расчисткой трудиться нечего. – Тогда бедные путники видят свою ошибку и, махнув рукой, говорят: «Э, да вы все Обломовы!» И затем начинается деятельная, неутомимая работа: рубят деревья, делают из них мост на болоте, образуют тропинку, бьют змей и гадов, попавшихся на ней, не заботясь более об этих умниках, об этих сильных натурах, Печориных и Рудиных, на которых прежде надеялись, которыми восхищались. Обломовцы сначала спокойно смотрят на общее движение, но потом, по своему обыкновению, трусят и начинают кричать... «Ай, ай, – не делайте этого, оставьте, – кричат они, видя, что подсекается дерево, на котором они сидят. – Помилуйте, ведь мы можем убиться, и вместе с нами погибнут те прекрасные идеи, те высокие чувства, те гуманные стремления, то красноречие, тот пафос, любовь ко всему прекрасному и благородному, которые в нас всегда жили... Оставьте, оставьте! Что вы делаете?..» Но путники уже слыхали тысячу раз все эти прекрасные фразы и, не обращая на них внимания, продолжают работу. Обломовцам еще есть сред341 Хрестоматия по истории русской литературной критики ство спасти себя и свою репутацию: слезть с дерева и приняться за работу вместе с другими. Но они, по обыкновению, растерялись и не знают, что им делать... «Как же это так вдруг?» – повторяют они в отчаянии и продолжают посылать бесплодные проклятия глупой толпе, потерявшей к ним уважение. А ведь толпа права! Если уж она сознала необходимость настоящего дела, так для нее совершенно все равно, – Печорин ли перед ней или Обломов. Мы не говорим опять, чтобы Печорин в данных обстоятельствах стал действовать именно так, как Обломов; он мог самыми этими обстоятельствами развиться в другую сторону. Но типы, созданные сильным талантом, долговечны: и ныне живут люди, представляющие как будто сколок с Онегина, Печорина, Рудина и пр., и не в том виде, как они могли бы развиться при других обстоятельствах, а именно в том, в каком они представлены Пушкиным, Лермонтовым, Тургеневым. Только в общественном сознании все они более и более превращаются в Обломова. Нельзя сказать, чтоб превращение это уже совершилось: нет, еще и теперь тысячи людей проводят время в разговорах, и тысячи других людей готовы принять разговоры за дела. Но что превращение это начинается – доказывает тип Обломова, созданный Гончаровым. Появление его было бы невозможно, если бы хотя в некоторой части общества не созрело сознания о том, как ничтожны все эти quasi-талантливые натуры, которыми прежде восхищались. Прежде они прикрывались разными мантиями, украшали себя разными прическами, привлекали к себе разными талантами. Но теперь Обломов является пред нами разоблаченный, как он есть, молчаливый, сведенный с красивого пьедестала на мягкий диван, прикрытый вместо мантии только просторным халатом. Вопрос: что он делает? в чем смысл и цель его жизни? – поставлен прямо и ясно, не забит никакими побочными вопросами. Это потому, что теперь уже настало или настает неотлагательно время работы общественной... И вот почему мы сказали в начале статьи, что видим в романе Гончарова знамение времени. Посмотрите, в самом деле, как изменилась точка зрения на образованных и хорошо рассуждающих лежебоков, которых прежде принимали за настоящих общественных деятелей. Вот перед вами молодой человек, очень красивый, ловкий, образованный. Он выезжает в большой свет и имеет там успех; он 342 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века ездит в театры, балы и маскарады; он отлично одевается и обедает; читает книжки и пишет очень грамотно... Сердце его волнуется только ежедневностью светской жизни, но он имеет понятие и о высших вопросах. Он любит потолковать о страстях, О предрассудках вековых И гроба тайнах роковых... Он имеет некоторые честные правила: Ярем он барщины старинной Оброком легким заменить, – способен иногда не воспользоваться неопытностью девушки, которую не любит; способен не придавать особенной цены своим светским успехам. Он выше окружающего его светского общества настолько, что дошел до сознания его пустоты; он может даже оставить свет и переехать в деревню; но только и там скучает, не зная, какое найти себе дело... От нечего делать он ссорится с другом своим и по легкомыслию убивает его на дуэли... Через несколько лет опять возвращается в свет и влюбляется в женщину, любовь которой сам прежде отверг, потому что для нее нужно было бы ему отказаться от своей бродяжнической свободы... Вы узнаете в этом человеке Онегина. Но всмотритесь хорошенько: это – Обломов. Перед вами другой человек, с более страстной душой, с более широким самолюбием. Этот имеет в себе как будто от природы все то, что для Онегина составляет предмет забот. Он не хлопочет о туалете и наряде: он светский человек и без этого. Ему не нужно подбирать слова и блистать мишурным знанием: и без этого язык у него как бритва. Он действительно презирает людей, хорошо понимая их слабости; он действительно умеет овладеть сердцем женщины не на краткое мгновенье, а надолго, нередко навсегда. Все, что встречается ему на его дороге, он умеет отстранить или уничтожить. Одно только несчастье: он не знает, куда идти. Сердце его пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности опротивели все удовольствия, которые можно достать за деньги, любовь светских красавиц тоже опротивела ему, потому что ничего не давала сердцу; науки тоже надоели, потому что он увидел, что от них не зависит ни слава, ни счастье; самые счастливые люди – невежды, а слава – удача; военные опасности тоже ему скоро наскучили, потому что он не видел в них смысла и скоро привык к 343 Хрестоматия по истории русской литературной критики ним. Наконец даже простосердечная, чистая любовь дикой девушки, которая ему самому нравится, тоже надоедает ему: он и в ней не находит удовлетворения своих порывов. Но что же это за порывы? куда влекут они? отчего он не отдается им всей силой души своей? Оттого, что он сам их не понимает и не дает себе труда подумать о том, куда девать свою душевную силу; и вот он проводит свою жизнь в том, что острит над глупцами, тревожит сердца неопытных барышень, мешается в чужие сердечные дела, напрашивается на ссоры, выказывает отвагу в пустяках, дерется без надобности... Вы припоминаете, что это история Печорина, что отчасти почти такими словами сам он объясняет свой характер Максиму Максимычу... Всмотритесь, пожалуйста, получше: вы и тут увидите того же Обломова... Но вот еще человек, более сознательно идущий по своей дороге. Он не только понимает, что ему дано много сил, но знает и то, что у него есть великая цель... Подозревает, кажется, даже и то, какая это цель и где она находится. Он благороден, честен (хотя часто и не платит долгов); с жаром рассуждает не о пустяках, а о высших вопросах; уверяет, что готов пожертвовать собою для блага человечества. В голове его решены все вопросы, все приведено в живую, стройную связь; он увлекает своим могучим словом неопытных юношей, так что, послушав его, и они чувствуют, что призваны к чему-то великому... Но в чем проходит его жизнь? В том, что он все начинает и не оканчивает, разбрасывается во все стороны, всему отдается с жадностью и – не может отдаться... Он влюбляется в девушку, которая, наконец, говорит ему, что, несмотря на запрещение матери, она готова принадлежать ему; а он отвечает: «Боже! так ваша маменька не согласна! какой внезапный удар! Боже! как скоро!... Делать нечего, – надо покориться...» И в этом точный образец всей его жизни... Вы уже знаете, что это Рудин... Нет, теперь уж и это Обломов. Когда вы хорошенько всмотритесь в эту личность и поставите ее лицом к лицу с требованиями современной жизни, – вы сами в этом убедитесь. Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни. Все у них внешнее, ничто не имеет корня в их натуре. Они, пожалуй, и делают что-то такое, 344 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века когда принуждает внешняя необходимость, так как Обломов ездил в гости, куда тащил его Штольц, покупал ноты и книги для Ольги, читал то, что она заставляла его читать. Но душа их не лежит к тому делу, которое наложено на них случаем. Если бы каждому из них даром предложили все внешние выгоды, какие им доставляются их работой, они бы с радостью отказались от своего дела. В силу обломовщины обломовский чиновник не станет ходить в должность, если ему и без того сохранят его жалованье и будут производить в чины. Воин даст клятву не прикасаться к оружию, если ему предложат те же условия, да еще сохранят его красивую форму, очень полезную в известных случаях. Профессор перестанет читать лекции, студент перестанет учиться, писатель бросит авторство, актер не покажется на сцену, артист изломает резец и палитру, говоря высоким слогом, если найдет возможность даром получить все, чего теперь добивается трудом. Они только говорят о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникновении общими интересами, а на поверку выходит, что все это – слова и слова. Самое искреннее, задушевное их стремление есть стремление к покою, к халату, и самая деятельность их есть не что иное, как почетный халат (по выражению, не нам принадлежащему), которым прикрывают они свою пустоту и апатию. Даже наиболее образованные люди, притом люди с живою натурою, с теплым сердцем, чрезвычайно легко отступаются в практической жизни от своих идей и планов, чрезвычайно скоро мирятся с окружающей действительностью, которую, однако, на словах не перестают считать пошлою и гадкою. Это значит, что все, о чем они говорят и мечтают, – у них чужое, наносное; в глубине же души их коренится одна мечта, один идеал – возможно невозмутимый покой, квиетизм, обломовщина. Многие доходят даже до того, что не могут представить себе, чтоб человек мог работать по охоте, по увлечению. <...> Да, все эти обломовцы никогда не перерабатывали в плоть и кровь свою тех начал, которые им внушили, никогда не проводили их до последних выводов, не доходили до той грани, где слово становится делом, где принцип сливается с внутренней потребностью души, исчезает в ней и делается единственною силою, двигающею человеком. Потому-то эти люди и лгут беспрестанно, потому-то они и являются так несостоятельными в частных фактах своей дея345 Хрестоматия по истории русской литературной критики тельности. Потому-то и дороже для них отвлеченные воззрения, чем живые факты, важнее общие принципы, чем простая жизненная правда. Они читают полезные книги для того, чтобы знать, что пишется; пишут благородные статьи затем, чтобы любоваться логическим построением своей речи; говорят смелые вещи, чтобы прислушиваться к благозвучию своих фраз и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далее, какая цель всего этого читанья, писанья, говоренья, – они или вовсе не хотят знать, или не слишком об этом беспокоятся. Они постоянно говорят вам: вот что мы знаем, вот что мы думаем, а впрочем, – как там хотят, наше дело – сторона... Пока не было работы в виду, можно было еще надувать этим публику, можно было тщеславиться тем, что мы вот, дескать, все-таки хлопочем, ходим, говорим, рассказываем. На этом и основан был в обществе успех людей, подобных Рудину. Даже больше – можно было заняться кутежом, интрижками, каламбурами, театральством – и уверять, что это мы пустились, мол, оттого, что нет простора для более широкой деятельности. Тогда и Печорин, и даже Онегин, должен был казаться натурою с необъятными силами души. Но теперь уж все эти герои отодвинулись на второй план, потеряли прежнее значение, перестали сбивать нас с толку своей загадочностью и таинственным разладом между ними и обществом, между великими их силами и ничтожностью дел их... Теперь загадка разъяснилась, Теперь им слово найдено. Слово это – обломовщина. Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах человечества и о необходимости развития личности, – я уже с первых слов его знаю, что это Обломов. Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он – Обломов. Если слышу от офицера жалобы на утомительность парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т. п., я не сомневаюсь, что он Обломов. Когда я читаю в журналах либеральные выходки против злоупотреблений и радость о том, что, наконец, сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я думаю, что это все пишут из Обломовки. 346 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Когда я нахожусь в кружке образованных людей, горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с неуменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого рода, – я невольно чувствую, что я перенесен в старую Обломовку... <...> Кто же, наконец, сдвинет их с места этим всемогущим словом: «вперед!», о котором так мечтал Гоголь и которого так давно и томительно ожидает Русь? До сих пор нет ответа на этот вопрос ни в обществе, ни в литературе. Гончаров, умевший понять и показать нам нашу обломовщину, не мог, однако, не заплатить дани общему заблуждению, до сих пор столь сильному в нашем обществе: он решился похоронить обломовщину и сказать ей похвальное надгробное слово. «Прощай, старая Обломовка, ты отжила свой век», – говорит он устами Штольца, и говорит неправду. Вся Россия, которая прочитала или прочитает Обломова, не согласится с этим. Нет, Обломовка есть наша прямая родина, ее владельцы – наши воспитатели, ее триста Захаров всегда готовы к нашим услугам. В каждом из нас сидит значительная часть Обломова, и еще рано писать нам надгробное слово. Не за что говорить об нас с Ильею Ильичом следующие строки: «В нем было то, что дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное золото: он невредимо пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охлаждался, заснул, наконец, убитый, разочарованный, потеряв силу жить, но не потерял честности и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла; пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот, – никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно... Это хрустальная, прозрачная душа: таких людей мало; это перлы в толпе! Его сердце не подкупишь ничем, на него всюду и везде можно положиться». Распространяться об этом пассаже мы не станем; но каждый из читателей заметит, что в нем заключена большая неправда. Одно в Обломове хорошо действительно: то, что он не усиливался надувать других, а уж так и являлся в натуре – лежебоком. Но, помилуйте, в чем же на него можно положиться? Разве в том, где ни347 Хрестоматия по истории русской литературной критики чего делать не нужно? Тут он действительно отличится так, как никто. Но ничего-то не делать и без него можно. Он не поклонится идолу зла! Да ведь почему это? Потому, что ему лень встать с дивана. А стащите его, поставьте на колени перед этим идолом: он не в силах будет встать. Не подкупишь его ничем. Да на что его подкупать-то? На то, чтобы с места сдвинулся? Ну, это действительно трудно. Грязь к нему не пристанет! Да пока лежит один, так еще ничего; а как придет Тарантьев, Затертый, Иван Матвеич – брр! какая отвратительная гадость начинается около Обломова. Его объедают, опивают, спаивают, берут с него фальшивый вексель (от которого Штольц несколько бесцеремонно, по русским обычаям, без суда и следствия избавляет его), разоряют его именем мужиков, дерут с него немилосердные деньги ни за что ни про что. Он все это терпит безмолвно и потому, разумеется, не издает ни одного фальшивого звука. Нет, нельзя так льстить живым, а мы еще живы, мы еще попрежнему Обломовы. Обломовщина никогда не оставляла нас и не оставила даже теперь – в настоящее время, когда и пр. Кто из наших литераторов, публицистов, людей образованных, общественных деятелей, кто не согласится, что, должно быть, его-то именно и имел в виду Гончаров, когда писал об Илье Ильиче следующие строки: «Ему доступны были наслаждения высоких помыслов: он не чужд был всеобщих человеческих скорбей. Он горько в глубине души плакал в иную пору над бедствиями человечества, испытывал безвестные, безыменные страдания, и тоску, и стремления куда-то вдаль, туда, вероятно в тот мир, куда увлекал его, бывало, Штольц. Сладкие слезы потекут по щекам его. Случается и то, что он исполнится презрения к людскому пороку, ко лжи, к клевете, к разлитому в мире злу, и разгорится желанием указать человеку на его язвы, – и вдруг загораются в нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море, потом вырастают в намерения, зажгут всю кровь в нем, – задвигаются мускулы его, напрягутся жилы, намерения преображаются в стремления; он, движимый нравственною силою, в одну минуту быстро изменит две-три позы, с блистающими глазами привстанет до половины на постели, протянет руку и вдохновенно озирается кругом... Вот, вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, Господи! каких чудес, каких благих по348 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века следствий могли бы ожидать от такого высокого усилия! Но, смотришь, промелькнет утро, день уж клонится к вечеру, а с ним клонятся к покою и утомленные силы Обломова: бури и волнения смиряются в душе, голова отрезвляется от дум, кровь медленнее пробирается по жилам. Обломов тихо, задумчиво переворачивается на спину и, устремив печальный взгляд в окно к небу, с грустью провожает глазами солнце, великолепно садящееся за чей-то четырехэтажный дом. И сколько, сколько раз он провожал так солнечный закат!» Не правда ли, образованный и благородно мыслящий читатель, – ведь тут верное изображение ваших благих стремлений и вашей полезной деятельности? Разница может быть только в том, до какого момента вы доходите в вашем развитии. Илья Ильич доходил до того, что привставал с постели, протягивал руку и озирался вокруг. Иные так далеко не заходят; у них только мысли гуляют в голове, как волны в море (таких большая часть); у других мысли вырастают в намерения, но не доходят до степени стремлений (таких меньше); у третьих даже стремления являются (этих уж совсем мало)... Итак, следуя направлению настоящего времени, когда вся литература, по выражению г. Бенедиктова, представляет ...нашей плоти истязанье, Вериги в прозе и стихах, – мы смиренно сознаемся, что как ни лестны для нашего самолюбия похвалы г. Гончарова Обломову, но мы не можем признать их справедливыми. Обломов менее раздражает свежего, молодого, деятельного человека, нежели Печорин и Рудин, но все-таки он противен в своей ничтожности. Отдавая дань своему времени, г. Гончаров вывел и противоядие Обломову – Штольца. Но по поводу этого лица мы должны еще раз повторить наше постоянное мнение, – что литература не может забегать слишком далеко вперед жизни. Штольцев, людей с цельным, деятельным характером, при котором всякая мысль тотчас же является стремлением и переходит в дело, еще нет в жизни нашего общества (разумеем образованное общество, которому доступны высшие стремления; в массе, где идеи и стремления ограничены очень близкими и немногими предметами, такие люди беспрестанно попадаются). Сам автор сознавал это, говоря о нашем 349 Хрестоматия по истории русской литературной критики обществе: «Вот, глаза очнулись от дремоты, послышались бойкие, широкие шаги, живые голоса... Сколько Штольцев должно явиться под русскими именами!» Должно явиться их много, в этом нет сомнения; но теперь пока для них нет почвы. Оттого-то из романа Гончарова мы и видим только, что Штольц – человек деятельный, все о чем-то хлопочет, бегает, приобретает, говорит, что жить – значит трудиться, и пр. Но что он делает и как он ухитряется делать что-нибудь порядочное там, где другие ничего не могут сделать, – это для нас остается тайной. Он мигом устроил Обломовку для Ильи Ильича; – как? этого мы не знаем. Он мигом уничтожил фальшивый вексель Ильи Ильича; – как? это мы знаем. Поехав к начальнику Ивана Матвеича, которому Обломов дал вексель, поговорил с ним дружески – Ивана Матвеича призвали в присутствие и не только что вексель велели возвратить, но даже и из службы выходить приказали. И поделом ему, разумеется; но, судя по этому случаю, Штольц не дорос еще до идеала общественного русского деятеля. Да и нельзя еще: рано. Теперь еще, – хотя будь семи пядей во лбу, а в заметной общественной деятельности можешь, пожалуй, быть добродетельным откупщиком Муразовым, делающим добрые дела из десяти мильонов своего состояния, или благородным помещиком Костанжогло, – но далее не пойдешь... И мы не понимаем, как мог Штольц в своей деятельности успокоиться от всех стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, как мог он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье... Не надо забывать, что под ним болото, что вблизи находится старая Обломовка, что нужно еще расчищать лес, чтобы выйти на большую дорогу и убежать от обломовщины. Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что именно делал и как делал, – мы не знаем. А без этого мы не можем удовлетвориться его личностью... Можем сказать только то, что не он тот человек, который сумеет, на языке, понятном для русской души, сказать нам это всемогущее слово: «вперед!» Может быть, Ольга Ильинская способнее, нежели Штольц, к этому подвигу, ближе его стоит к нашей молодой жизни. Мы ничего не говорили о женщинах, созданных Гончаровым: ни об Ольге, ни об Агафье Матвеевне Пшеницыной (ни даже об Анисье и Аку350 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века лине, которые тоже отличаются своим особым характером), потому что сознавали свое совершеннейшее бессилие что-нибудь сносное сказать о них. Разбирать женские типы, созданные Гончаровым, значит предъявлять претензию быть великим знатоком женского сердца. Не имея же этого качества, женщинами Гончарова можно только восхищаться. Дамы говорят, что верность и тонкость психологического анализа у Гончарова изумительна, и дамам в этом случае нельзя не поверить... Прибавить же что-нибудь к их отзыву мы не осмеливаемся, потому что боимся пускаться в эту совершенно неведомую для нас страну. Но мы берем на себя смелость, в заключение статьи, сказать несколько слов об Ольге и об отношениях ее к обломовщине. Ольга, по своему развитию, представляет высший идеал, какой только может теперь русский художник вызвать из теперешней русской жизни. Оттого она необыкновенной ясностью и простотой своей логики и изумительной гармонией своего сердца и воли поражает нас до того, что мы готовы усомниться в ее даже поэтической правде и сказать: «Таких девушек не бывает». Но, следя за нею во все продолжение романа, мы находим, что она постоянно верна себе и своему развитию, что она представляет не сентенцию автора, а живое лицо, только такое, каких мы еще не встречали. В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь; от нее можно ожидать слова, которое сожжет и развеет обломовщину... Она начинает с любви к Обломову, с веры в него, в его нравственное преобразование... Долго и упорно, с любовью и нежною заботливостью, трудится она над тем, чтобы возбудить жизнь, вызвать деятельность в этом человеке. Она не хочет верить, чтобы он был так бессилен на добро; любя в нем свою надежду, свое будущее создание, она делает для него все: пренебрегает даже условными приличиями, едет к нему одна, никому не сказавшись, и не боится, подобно ему, потери своей репутации. Но она с удивительным тактом замечает тотчас же всякую фальшь, проявлявшуюся в его натуре, и чрезвычайно просто объясняет ему, как и почему это ложь, а не правда. Он, например, пишет ей письмо, о котором мы говорили выше, и потом уверяет ее, что писал это единственно из заботы о ней, совершенно забывши себя, жертвуя собою и т. д. – «Нет, – отвечает она, – неправда; если б вы думали 351 Хрестоматия по истории русской литературной критики только о моем счастии и считали необходимою для него разлуку с вами, то вы бы просто уехали, не посылая мне предварительно никаких писем». Он говорит, что боится ее несчастия, если она со временем поймет, что ошибалась в нем, разлюбит его и полюбит другого. Она спрашивает в ответ на это: «Где же вы тут видите несчастье мое? Теперь я вас люблю, и мне хорошо; а после я полюблю другого и, значит, мне с другим будет хорошо. Напрасно вы обо мне беспокоитесь». Эта простота и ясность мышления заключают в себе задатки новой жизни, не той, в условиях которой выросло современное общество... Потом, – как воля Ольги послушна ее сердцу! Она продолжает свои отношения и любовь к Обломову, несмотря на все посторонние неприятности, насмешки и т. п. до тех пор, пока не убеждается в его решительной дрянности. Тогда она прямо объявляет ему, что ошиблась в нем и уже не может решиться соединить с ним свою судьбу. Она еще хвалит и ласкает его и при этом отказе, и даже после; но своим поступком она уничтожает его, как ни один из обломовцев не был уничтожаем женщиной. Татьяна говорит Онегину, в заключении романа: Я вас люблю (к чему лукавить?), Но я другому отдана И буду век ему верна... Итак, только внешний нравственный долг спасает ее от этого пустого фата; будь она свободна, она бы бросилась ему на шею. Наталья оставляет Рудина только потому, что он сам уперся на первых же порах, да и проводив его, она убеждается только в том, что он ее не любит, и ужасно горюет об этом. Нечего и говорить о Печорине, который успел заслужить только ненависть княжны Мери. Нет, Ольга не так поступила с Обломовым. Она просто и кротко сказала ему: «Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты спрячешь голову под крыло – и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей... да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего – не знаю!» И она оставляет Обломова, и она стремится к своему чему-то, хотя еще и не знает его хорошенько. Наконец она на352 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века ходит его в Штольце, соединяется с ним, счастлива; но и тут не останавливается, не замирает. Какие-то туманные вопросы и сомнения тревожат ее, она чего-то допытывается. Автор не раскрыл пред нами ее волнений во всей их полноте, и мы можем ошибиться в предположении насчет их свойства. Но нам кажется, что это в ее сердце и голове веяние новой жизни, к которой она несравненно ближе Штольца. Думаем так потому, что находим несколько намеков в следующем разговоре: «– Что же делать? поддаться и тосковать? – спросилa она. — Ничего, – сказал он, – вооружаться твердостью и спокойствием. Мы не титаны с тобой, – продолжал он, обнимая ее, – мы не пойдем с Манфредами и Фаустами на дерзкую борьбу с мятежными вопросами, не примем их вызова, склоним головы и смиренно переживем трудную минуту, и опять потом улыбнется жизнь, счастье и... — А если они никогда не отстанут: грусть будет тревожить все больше, больше?.. – спрашивала она. — Что ж? примем ее, как новую стихию жизни... Да нет, этого не бывает, не может быть у нас! Это не твоя грусть; но общий недуг человечества. На тебя брызнула одна капля... Все это страшно, когда человек отрывается от жизни, – когда нет опоры. А у нас...» — Он не договорил, что у нас... Но ясно, что это он не хочет «идти на борьбу с мятежными вопросами», он решается «смиренно склонить голову»... А она готова на эту борьбу, тоскует по ней и постоянно страшится, чтоб ее тихое счастье с Штольцем не превратилось во что-то, подходящее к обломовской апатии. Ясно, что она не хочет склонять голову и смиренно переживать трудные минуты, в надежде, что потом опять улыбнется жизнь. Она бросила Обломова, когда перестала в него верить; она оставит и Штольца, ежели перестанет верить в него. А это случится, ежели вопросы и сомнения не перестанут мучить ее, а он будет продолжать ей советы – принять их, как новую стихию жизни, и склонить голову. Обломовщина хорошо ей знакома, она сумеет различить ее во всех видах, под всеми масками, и всегда найдет в себе столько сил, чтоб произнести над нею суд беспощадный... — 353 Хрестоматия по истории русской литературной критики А. В. ДРУЖИНИН «Обломов». Роман И. А. Гончарова <...> У нас <...> все истинно поэтическое – и, стало быть, мудрое, – не стареет и кажется лишь вчера написанным. Пушкин, Гоголь и Кольцов, эта поэтическая триада, охватывающая собой поэзию самых разносторонних явлений русского общества, не только не поблекли для нашего времени, но живут и действуют со всей силою никогда не умирающего факта. Предположите на одну минуту (трудное предположение!), что наши мыслящие люди, вдруг, позабыли все, чему их научили три поэта, сейчас нами названные, и страшно вообразить себе, какой мрак будет неразлучен с таким забвением! Иначе и быть не может: недаром современное общество ценит поэтов и слова, произнесенные истинными поэтами, нашими просветителями. Сильный поэт есть постоянный просветитель своего края, просветитель тем более драгоценный, что он никогда не научит худому, никогда не даст нам правды, которая неполна и со временем может стать неправдою. В период тревожной практической деятельности, при столкновении научных и политических теорий, в эпохи сомнения или отрицания – важность и величие истинных поэтов возрастают наперекор всем кажущимся препятствиям. На них общество, в полном смысле слова, устремляет «свои полные ожидания очи», и устремляет их вовсе не потому, чтоб ждало от поэтов разгадки на свои сомнения или направления для своей практической деятельности. Общество вовсе не питает таких неисполнимых фантазий и никогда не даст поэту роли какогонибудь законодателя в сфере своих обыденных интересов. Но оно даст ему веру и власть в делах своего внутреннего мира и не ошибется в своем доверии. После всякого истинно художественного создания оно чувствует, что получило урок, самый сладкий из уроков, урок в одно и то же время прочный и справедливый. Общество знает, хотя и смутно, что плоды такого урока не пропадут и не истлеют, но перейдут в его вечное и действительно потомственное 354 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века достояние. Тут-то и заключается причина того, почему холодность к делу поэзии есть вещь ненормальная в развитом члене юного общества, а жалкая идиосинкразия, нравственная болезнь, признак самый неутешительный. Когда человек, по-видимому, разумный, говорит во всеуслышание, что ему нет дела до созданий искусства и что ему в обществе нужны только звание и благосостояние, он или заблуждается печальным образом, или прикрывает свою собственную идиосинкразию хитросплетенными фразами. <...> То, что верно относительно первых поэтов России, точно так же верно относительно их последователей. Ни один истинный талант у нас никогда не пропадал без внимания. Всякий человек, когда-либо написавший одну честную и поэтическую страницу, знает очень хорошо, что эта страница жива в памяти каждого развитого современника. Эта жадность к поэтическому слову, эта страстная встреча достойных созданий искусства у нас давно не новость, хотя о них еще никогда не было писано. Чем более молодое наше общество рвется к просвещению, тем горячее оно в своих отношениях к талантам. В настоящие года вся читающая Россия, при всех своих деловых стремлениях, жаждет истинных созданий искусства, как нива в жаркий день жаждет живительной влаги. Как нива, она поглощает в себя каждую росинку, каждую каплю освежительного дождя, как бы ни непродолжителен был этот дождик. Общество смутно, очень смутно понимает, что внутренний мир человека, тот мир, на который действуют все истинные поэты и художники, есть основа всего в здешнем свете и что до той поры, пока наш собственный внутренний мир не будет смягчен и озарен просвещением, все наши стремления вперед будут не движением прогресса, а страдальческими движениями больного, без толку ворочающегося в своей постели. Таким-то образом масса русских мыслящих людей инстинктивно угадывает ту истину, которой Гёте и Шиллер так благотворно и так усердно служили в период своей дружбы и совокупной деятельности: «Bildet, Ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus!»1. Извольте ж после этого говорить, что «в наше время движения изящная литература должна стоять на втором плане!» Лучшим опровержением сейчас приведенного и все еще недостаточно осмеянного парадокса служит настоящий 1859 год и лите1 «Лучше свободно развивайтесь людьми – это в ваших возможностях!» (нем.). 355 Хрестоматия по истории русской литературной критики ратурные дела настоящего года. В начале его появилось в наших журналах несколько замечательных произведений, конечно, не шекспировских и даже не пушкинских, но произведений честных и поэтических. Во всей Европе, где никогда и никто не отодвигал на задний план созданий искусства, эти произведения имели бы почетный, спокойный успех, очень завидный, но не поразительный и не шумливый. У нас же, вследствие сейчас сказанного парадокса, им бы следовало тотчас же отойти на второй план и развлекать собой досуги барышень или праздного люда, но то ли вышло. Успех «Дворянского гнезда» оказался таким, какого мы за много лет не упомним. Небольшим романом г. Тургенева зачитывались до исступления, он проник повсюду и сделался таким популярным, что не читать «Дворянского гнезда» было непозволительным делом. Его ждали несколько месяцев и кинулись на него, как на давно ожидаемое сокровище. Но, положим, «Дворянское гнездо» появилось в январе месяце, месяце новостей, толков и так далее, роман вышел в свет во всей целости, при всех наиблагоприятнейших условиях для его оценки. Но вот «Обломов» г. Гончарова. Трудно пересчитать все шансы, собранные против этого художественного создания. Оно печаталось помесячно, стало быть, перерывалось три или четыре раза. Первая часть, всегда так важная, особенно важная при печатании романа в раздробленном виде, была слабее всех остальных частей. В этой первой части автор согрешил тем, чего, повидимому, никогда не прощает читатель, – бедностью действия; все прочли первую часть, заметили ее слабую сторону, а между тем продолжение романа, так богатое жизнью и так мастерски построенное, еще лежало в типографии! Люди, знавшие весь роман, восхищенные им до глубины души, в течение долгих дней трепетали за г. Гончарова; что же должен был перечувствовать сам автор, пока решилась судьба книги, которую он более десяти лет носил в своем сердце. Но опасения были напрасны. Жажда света и поэзии взяла свое в молодом читающем мире. Наперекор всем препятствиям «Обломов» победоносно захватил собою все страсти, все внимание, все помыслы читателей. В каких-то пароксизмах наслаждения все грамотные люди прочли «Обломова». Толпы людей, как будто чего-то ждавших, шумно кинулись к «Обломову». Без всякого преувеличения можно сказать, что в настоящую минуту во всей России нет ни одного малейшего, безуездного, заштатнейшего го356 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века рода, где бы не читали «Обломова», не хвалили «Обломова», не спорили об «Обломове». Почти в одно время с романом г. Гончарова в Англии появился «Адам Вид», роман Эллиота, человека тоже высокоталантливого, энергического и предназначенного на великую роль в литературе, да сверх всего человека совсем нового. «Адам Вид» имел огромный успех, но сравните этот спокойный, магистральный успех с восторгами, произведенными «Обломовым», и вы не пожалеете о доле русских писателей. Даже в материальных выгодах успеха г. Гончаров чуть ли не опередил счастливого англичанина. Если все это значит «отодвигать искусство на задний план» – то дай Бог, чтобы русское искусство и русские поэты подолее оставались на таком для них выгодном заднем плане! Постараемся же, по мере сил наших, разъяснить до некоторой степени причину необыкновенного успеха «Обломова». Труд наш не будет трудом очень тяжелым – роман так известен всякому, что анализировать его и знакомить читателя с его содержанием – дело совершенно бесполезное. Об особенностях г. Гончарова как писателя с высоким поэтическим значением мы тоже говорить многого не в состоянии – наш взгляд на него уже высказан нами года четыре тому назад, в «Современнике», по поводу книги нашего автора «Русские в Японии». Рецензия, о которой мы упоминаем, в свое время возбудила сочувствие знатоков русской литературы и до сих пор еще не устарела, по крайней мере мы, и весьма недавно, встречали из нее не один отрывок в позднейших отзывах о трудах Гончарова. В писателе, подарившем нашей словесности «Обыкновенную историю» и «Обломова», мы всегда видели и видим теперь одного из сильнейших современных pycских художников – с таким суждением, без сомнения, согласится всякий человек, умеющий с толком читать по-русски. Об особенностях гончаровского дарования тоже больших споров быть не может. Автор «Обломова», вместе с другими первоклассными представителями родного искусства, – есть художник чистый и независимый, xyдожник по призванию и по всей целости того, что им сделано. Он реалист, но его реализм постоянно согрет глубокой поэзиею; по своей наблюдательности и манере творчества он достоин быть представителем самой натуральной школы, между тем как его литературное воспитание и влияние поэзии Пушкина, любимейшего из его учителей, навеки 357 Хрестоматия по истории русской литературной критики отдаляют от г. Гончарова самую возможность бесплодной и сухой натуральности. В нашей рецензии, о которой упоминалось выше, мы проводили подробную параллель между талантом Гончарова и талантами первоклассных живописцев фламандской школы, параллель, как нам и теперь кажется, дает верный ключ к уразумению заслуг, достоинств и даже недостатков нашего автора. Подобно фламандцам, г. Гончаров национален, неотступен в раз принятой задаче и поэтичен в малейших подробностях создания. Подобно им, он крепко держится за окружающую его действительность, твердо веруя, что нет в мире предмета, который не мог бы быть возведен в поэтическое представление силой труда и дарования. Как художник-фламандец, г. Гончаров не путается в системах и не рвется в области ему чуждые. Как Доу, Ван дер-Нээр и Остад, он знает, что ему незачем ходить далеко за предметами творчества. Простой и даже как будто скупой на вымысел, подобно трем сейчас нами названным великим людям, г. Гончаров, подобно им, не выдает всей своей глубины поверхностному наблюдателю. Но, подобно им, он является глубже и глубже с каждым внимательным взглядом, подобно им, он ставит перед нашими глазами целую жизнь данной сферы, данной эпохи и данного общества, – для того, чтоб, подобно им же, навсегда остаться в истории искусства и освещать ярким светом моменты действительности, им уловленной. Несмотря на некоторые несовершенства выполнения, о которых мы будем говорить ниже, невзирая на видимое всем несогласие первой части романа со всеми последующими, лицо Ильи Ильича Обломова вместе с миром, его окружающим, как нельзя более подтверждает собой все нами сейчас сказанное о даровании г. Гончарова. Обломов и обломовщина: эти слова недаром облетели всю Россию и сделались словами, навсегда укоренившимися в нашей речи. Они разъяснили нам целый круг явлений современного нам общества, они поставили перед нами целый мир идей, образов и подробностей, еще недавно нами не вполне сознанных, являвшихся нам как будто в тумане. Силой своего труда человек с глубоким поэтическим дарованием сделал для известного отдела нашей современной жизни то, что сделали родственные ему фламандцы со многими сторонами своей родной действительности. Обломова изучил и узнал целый народ, по преимуществу богатый обломовщиной, – и мало того, что узнал, но полюбил его всем сердцем, по358 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века тому что невозможно узнать Обломова и не полюбить его глубоко. Напрасно и до сей поры многие нежные дамы смотрят на Илью Ильича как на существо, достойное посмеяния, напрасно многие люди с чересчур практическими стремлениями усиливаются презирать Обломова и даже звать его улиткою: весь этот строгий суд над героем показывает одну поверхностную и быстропреходящую придирчивость. Обломов любезен всем нам и стоит беспредельной любви – это факт, и против него спорить невозможно. Сам его творец беспредельно предан Обломову, и в этом вся причина глубины его создания. Обвинить Обломова за его обломовские качества не значит ли то же, что сердиться на то, зачем добрые и пухлые лица фламандских бургомистров на фламандских картинах не украшены черными глазами неаполитанских рыбаков или римлян из Транстевере? Метать громы на общество, рождающее Обломовых, по нашему мнению, то же самое, что сердиться за недостаток снеговых гор в картинах Рюйздаля. Разве мы не видим с разительной ясностью, что в этом деле вся сила поэта порождена его твердым, неуклонным отношением к действительности, помимо всех прикрас и сентиментальностей. Крепко держась за действительность и разрабатывая ее до глубины, еще никем не изведанной, творец «Обломова» и добился до всего, что истинно, поэтично и вековечно в его создании. Скажем более, через свой фламандский, неотступный труд он дал нам ту любовь к своему герою, про которую мы говорили и говорить будем. Не спустись г. Гончаров так глубоко в недра обломовщины, та же обломовщина, в ее неполной разработке, могла бы нам показаться грустною, бедною, жалкою, достойною пустого смеха. Теперь над обломовщиной можно смеяться, но смех этот полон чистой любви и честных слез, – о ее жертвах можно жалеть, но такое сожаление будет поэтическим и светлым, ни для кого не унизительным, но для многих высоким и мудрым сожалением. Новый роман г. Гончарова, как это известно всякому, кто прочел его в «Отечественных записках», распадается на два неровные отдела. Под первою частью его, если не ошибаемся, подписан 1849 год, под остальными тремя 1857 и 58. Итак, почти десять лет отделяют первоначальный, многотрудный и еще не вполне выискавшийся замысел от его зрелого осуществления. Между Обломовым, который безжалостно мучит своего Захара, и Обломовым, влюбленным в Ольгу, может, лежит целая пропасть, которой никто не в 359 Хрестоматия по истории русской литературной критики силах уничтожить. Насколько Илья Ильич, валяющийся на диване между Алексеевым и Тарантьевым, кажется нам заплесневшим и почти гадким, настолько тот же Илья Ильич, сам разрушающий любовь избранной им женщины и плачущий над обломками своего счастия, глубок, трогателен и симпатичен в своем грустном комизме. Черты, лежащие между этими двумя героями, наш автор не был в силах сгладить. Все его старания в этой части пропали даром – как все художники по натуре, наш автор бессилен везде, где требуется деланная работа: то есть сглаживания, притягивания, объяснения, одним словом, то, что легко дается талантам обыкновенным. Поработав, и тяжело поработав, над невозможною задачею, г. Гончаров наконец убедился, что ему не сгладить черты, нами указанной, не загрузить пропасти, лежащей между двумя Обломовыми. На пропасти этой лежала одна planche de salut1, одна переходная доска: неподражаемый «Сон Обломова». Все усилия прибавить к ней что-нибудь оказались тщетными, пропасть оставалась прежней пропастью. Убедясь в этом, автор романа махнул рукой и подписал под первою частью романа все объясняющую цифру 49 года. Этим он высказал свое положение и откровенно отдавал себя как художника на суд публики. Успех «Обломова» был ему ответом – читатель прощал несовершенства частные за наслаждения, доставленные ему целым творением. Не будем же и мы чрезмерно взыскательными, а лучше воспользуемся распадением романа на две части, чтобы по обеим проследить любопытный процесс творчества, выданный нам по поводу самого Обломова и обломовщины, его окружающей. Нет никакого сомнения в том, что первые отношения поэта к могущественному типу, завладевшему всеми его помыслами, были вначале далеко не дружественными отношениями. Не ласку и не любовь встретил Илья Ильич, еще не созрелый, еще не живой Илья Ильич, в душе своего художника. Время перед 1849 годом не было временем поэтической независимости и беспристрастия во взглядах; при всей самостоятельности г. Гончарова он все же был писателем и сыном своего времени. Обломов жил в нем, занимал его мысли, но еще являлся своему поэту в виде явления отрицательного, достойного казни и по временам почти ненавистного. Во всех 1 Букв.: доска спасения (фр.). 360 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века первых главах романа, до самого «Сна», г. Гончаров откровенно выводит перед нами того героя, который ему сказывался прежде, того Илью Ильича, который представлялся ему как уродливое явление уродливой русской жизни. Этот Обломов embryo1 достаточно обработан, достаточно объективен для того, чтоб действовать на два или на три тома, достаточно верен для того, чтоб осветить собою многие темные стороны современного общества, но, Боже мой, как далек от теперешнего, сердцу милого Обломова этот засаленный, нескладный кусок мяса, носящий тоже имя Обломова в первых главах романа! Каким эгоизмом безобразного холостяка пропитано это существо, как оно мучит всех его окружающих, как оскорбительно-равнодушно оно ко всему унизительному, как лениво-враждебно к тому, что только выходит из его узенькой сферы. Злая и противная сторона обломовщины исчерпана вся, но где же ее впоследствии проявившаяся поэзия, где ее комическая грация, где ее откровенное сознание своих слабостей, где ее примиряющая сторона, успокаивающая сердце и, так сказать, узаконяющая незаконное? В 1849 году при дидактических стремлениях словесности и при крайне стесненной возможности проявлять эти стремления Обломов embryo мог бы восхитить собой читателя и ценителя. Какие громы метались бы на него критиками, какие сумрачные толки раздались бы о среде, рождающей Обломовых! Г. Гончаров мог бы явиться обличителем тяжких недугов общественных ко всеобщему удовольствию и даже к небольшой пользе людей, стремящихся полиберальничать, не подвергаясь большой опасности, и показать кукиш обществу в надежде на то, что кукиш этот именно не будет примечен теми, кто не любит показанных кукишей. Но подобного успеха нашему автору было бы слишком мало. Отталкивающий и непросветленный поэзиею, Обломов не удовлетворял идеалу, столько времени им носимому в сердце. Голос поэзии говорил ему: иди дальше и ищи глубже. «Сон Обломова»! – этот великолепнейший эпизод, который останется в нашей словесности на вечные времена, был первым, могущественным шагом к уяснению Обломова с его обломовщиной. Романист, жаждущий разгадки вопросам, занесенным в его душу его же созданием, потребовал ответа на эти вопросы; за ответами обратился он к тому источнику, к ко1 В зачаточном состоянии, в зародыше (англ.). 361 Хрестоматия по истории русской литературной критики торому ни один человек с истинным дарованием не обращается напрасно. Ему надобно было наконец узнать, из-за какой же причины Обломов владеет его помыслами, отчего ему мил Обломов, из-за чего он недоволен первоначальным объективно верным, но неполным, не высказывающим его помыслов Обломовым. Конечного слова на свои колебания г. Гончаров стал выспрашивать у поэзии русской жизни, у своих воспоминаний детства и, разъясняя прошлую жизнь своего героя, со всей свободою погрузился в ту сферу, которая ее окружала. Следом за Пушкиным, своим учителем, по примеру Гоголя, своего старшего товарища, он ласково отнесся к жизни действительной, и отнесся не напрасно. «Сон Обломова» не только осветил, уяснил и разумно опоэтизировал все лицо героя, но еще тысячью невидимых скреп связал его с сердцем каждого русского читателя. В этом отношении «Сон», сам по себе разительный как отдельное художественное создание, еще более поражает своим значением во всем романе. Глубокий по чувству, его внушившему, светлый по смыслу, в нем заключенному, он в одно время и поясняет и просветляет собою то типическое лицо, в котором сосредоточивается интерес всего произведения. Обломов без своего «Сна» был бы созданием неоконченным, не родным всякому из нас, как теперь, – «Сон» его разъясняет все наши недоумения и, не давая нам ни одного голого толкования, повелевает нам понимать и любить Обломова. Нужно ли говорить о чудесах тонкой поэзии, о лучезарном свете правды, с помощью которых происходит это сближение между героем и его ценителями. Тут нет ничего лишнего, тут не найдете вы неясной черты или слова, сказанного попусту, все мелочи обстановки необходимы, все законны и прекрасны. Онисим Суслов, на крыльцо которого можно было попасть не иначе, как ухватясь одной рукой за траву, а другою за кровлю избы, – любезен нам и необходим в этом деле уяснения. Заспанный челядинец, дующий спросонья на квас, в котором сильно шевелятся утопающие мухи, и собака, признанная бешеною за то только, что бросилась бежать от людей, собравшихся на нее с вилами и топорами, и няня, засыпающая после жирного обеда с предчувствием, что Ильюша пойдет затрагивать козла и лазить на галерею, и сотня других обворожительных, миерисовских подробностей здесь необходимы, ибо содействуют целости и высокой поэзии главной задачи. Тут сродство г. Гончарова с фламандскими мастерами бьет 362 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века в глаза, сказывается во всяком образе. Или для праздной потехи всякие художники, нами вспомянутые, громоздили на свое полотно множество мелких деталей? Или по бедности воображения они тратили жар целого творческого часа над какой-нибудь травкою, луковицей, болотной кочкой, на которую падает луч заката, кружевным воротничком на камзоле тучного бургомистра? Если так, то отчего же они велики, почему они поэтичны, почему детали их созданий слиты с целостью впечатления, не могут быть оторваны от идеи картины? Как же произошло, что эти истинные художники, так зоркие на поэзию, до такой степени осветившие, опоэтизировавшие жизнь своего родного края, бросались в мелочи, сидели над подробностями? Видно, в названных нами мелочах и подробностях таилось нечто большее, чем о том думает иной близорукий составитель хитрых теорий. Видно, труд над деталями был необходим и важен для уловления тех высших задач искусства, на которых все зиждется, от которых все питается и вырастает. Видно, творя малую частность, художник недаром отдавался ей всей душою своею, и, должно быть, творческий дух его отражался во всякой подробности мощного произведения, так, как солнце отражается в малой капле воды – по словам оды, которую мы учили наизусть еще ребятишками. Итак, «Сон Обломова» расширил, узаконил и уяснил собою многознаменательный тип героя, но этого еще не было достаточно для полноты создания. Новым и последним, решительным шагом в процессе творчества было создание Ольги Ильинской – создание до того счастливое, что мы, не обинуясь, назовем первую мысль о нем краеугольным камнем всей обломовской драмы, самой счастливой мыслью во всей артистической деятельности нашего автора. Даже оставивши в стороне всю прелесть исполнения, всю художественность, с которою обработано лицо Ольги, мы не найдем достаточных слов, чтоб высказать все благотворное влияние этого персонажа на ход романа и развитие типа Обломова. Несколько лет тому назад давая отчет о «Рудине» г. Тургенева, мы имели случай заметить, что типы вроде Рудина не поясняются любовью, – теперь приходится перевернуть нашу сентенцию и объявить, что Обломовы выдают всю прелесть, всю слабость и весь грустный комизм своей натуры именно через любовь к женщине. Без Ольги Ильинской и без ее драмы с Обломовым не узнать бы нам Ильи Ильича 363 Хрестоматия по истории русской литературной критики так, как мы его теперь знаем, без Ольгина взгляда на героя мы до сих пор не глядели бы на него надлежащим образом. В сближении этих двух основных лиц произведения все в высшей степени естественно, каждая подробность удовлетворяет взыскательнейшим требованиям искусства – и между тем сколько психологической глубины и мудрости через него развивается перед нами! Как живит и наполняет все наши представления об Обломове эта юная, горделиво-смелая девушка, как сочувствуем мы стремлению всего ее существа к этому незлобивому чудаку, отделившемуся от окружающего его мира, как страдаем мы ее страданием, как надеемся мы ее надеждами, даже зная и хорошо зная их несбыточность. Г. Гончаров, как смелый знаток сердца человеческого, с первых сцен между Ольгой и ее первым избранником, отдал большую долю интриги комическому элементу. Его бесподобная, насмешливая, бойкая Ольга с первых минут сближения видит все смешные особенности героя, не обманываясь нисколько, играет ими, почти наслаждается ими и обманывается только в своих расчетах на твердые основы характера Обломова. Все это поразительно верно и вместе с тем смело, потому что до сих пор никто еще из поэтов не останавливался на великом значении нежно-комической стороны в любовных делах, между тем как эта сторона всегда существовала, вечно существует и выказывает себя в большей части наших сердечных привязанностей. Много раз в течение последних месяцев нам случалось слышать и даже читать выражения недоумения о том, «как могла умная и зоркая Ольга полюбить человека, неспособного переменить квартиру и с наслаждением спящего после обеда», – и, сколько мы можем припомнить, все подобные выражения принадлежали лицам очень молодым, очень незнакомым с жизнию. Духовный антагонизм Ольги с обломовщиной, ее шутливое, затрогивающее отношение к слабостям избранника объясняется и фактами и существом дела. Факты сложились весьма естественно – девушка, по натуре своей не увлекающаяся мишурой и пустыми светскими юношами своего круга, заинтересована чудаком, о котором умный Штольц рассказал ей столько историй, любопытных и смешных, необыкновенных и забавных. Она сближается с ним из любопытства, нравится ему от нечего делать, может быть вследствие невинного кокетства, а затем останавливается в изумлении перед чудом, ею сделанным. 364 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Мы уже сказали, что нежная, любящая натура Обломовых вся озаряется через любовь – и может ли быть иначе с чистою, детски ласковой русской душою, от которой даже ее леность отгоняла растление с искушающими помыслами. Илья Ильич высказался вполне через любовь свою, и Ольга, зоркая девушка, не осталась слепа перед теми сокровищами, что перед ней открылись. Вот факты внешние, а от них лишь один шаг до самой существенной истины романа. Ольга поняла Обломова ближе, чем понял его Штольц, ближе, чем все лица, ему преданные. Она разглядела в нем и нежность врожденную, и чистоту нрава, и русскую незлобивость, и рыцарскую способность к преданности, и решительную неспособность на какое-нибудь нечистое дело, и наконец – чего забывать не должно – разглядела в нем человека оригинального, забавного, но чистого и нисколько не презренного в своей оригинальности. Раз ставши на эту точку, художник дошел до такой занимательности действия, до такой прелести во всем ходе событий, что неудавшаяся, печально кончившаяся любовь Ольги и Обломова стала и навсегда останется одним из обворожительнейших эпизодов во всей русской литературе. Кто из стариков не зачитывался этих страниц, кто из восприимчивых юношей при чтении их не чувствовал горячих слез на своих глазах? И какими простыми, часто какими комическими средствами достигнут такой небывалый результат! Какой страх, соединенный с улыбкою, возбуждают в нас эти бесконечно разнообразные проявления обломовщины в борьбе с истинной, деятельной жизнью сердца! Мы знаем, что время обновления упущено, что не Ольге дано поднять Обломова, а между тем при всякой коллизии в их драме сердце наше замирает от неизвестности. Чего мы не перечувствовали при всех перипетиях этой страсти, начиная хоть от той минуты, когда Илья Ильич, глядя на Ольгу так, как глядит на нее нянька Кузьминишна, важно толкует о том, что нехорошо и опасно видаться наедине, до его страшного, последнего свидания с девушкой и до ее последних слов: «Что сгубило тебя, нет имени этому злу!» Чего только нет в этом промежутке, в этой борьбе света и тени, отдающей нам всего Обломова и сближающей его с нами так, что мы мучимся за него, когда он, охая и скучая, пробирается в оперу с Выборгской стороны, и озаряемся радостью в те минуты, когда в его обломовском, запыленном гнезде, при отчаянном лае скачущей на цепи собаки, вдруг является неожиданное 365 Хрестоматия по истории русской литературной критики видение доброго ангела. Перед сколькими частностями означенного эпизода добродушнейший смех овладевает нами, и овладевает затем, чтоб тотчас же смениться ожиданием, грустью, волнением, горьким соболезнованием к слабому! Вот к чему ведет нас ряд художественных деталей, начавшийся еще со сна Обломова. Вот где является истинный смех сквозь слезы – тот смех, который стал было нам ненавистен – так часто им прикрывались скандалезные стихотворцы и биографы нетрезвых взяточников! Выражение, так безжалостно опозоренное бездарными писателями, вновь получило для нас свою силу: могущество истинной, живой поэзии снова воротило к нему наше сочувствие. Создание Ольги так полно – и задача, ею выполненная в романе, выполнена так богато, что дальнейшее пояснение типа Обломова через другие персонажи становится роскошью, иногда ненужною. Одним из представителей этой излишней роскоши является нам Штольц, которым, как кажется, недовольны многие из почитателей г. Гончарова. Для нас совершенно ясно, что это лицо было задумано и обдумано прежде Ольги, что на его долю, в прежней идее автора, падал великий труд уяснения Обломова и обломовщины путем всем понятного противопоставления двух героев. Но Ольга взяла все дело в свои руки, к истинному счастию автора и к славе его произведения. Андрей Штольц исчез перед нею, как исчезает хороший, но обыкновенный муж перед своей блистательно одаренною супругою. Роль его стала незначительною, вовсе не соразмерною с трудом и обширностью подготовки, как роль актера, целый год готовившегося играть Гамлета и выступившего перед публикой в роли Лаэрта. Глядя на дело с этой точки зрения, мы готовы осудить слишком частое появление Штольца, очень же осуждать его как живое лицо мы неспособны точно так же, как осуждать Лаэрта за то, что он не Гамлет. Мы не видим в Штольце ровно ничего несимпатического, а в создании его ничего резко несовместного с законами искусства: это человек обыкновенный и не метящий в необыкновенные люди, лицо, вовсе не возводимое романистом в идеал нашего времени, персонаж, обрисованный с излишнею кропотливостью, которая все-таки не дает нам должной полноты впечатления. Весьма подробно и поэтично описывая нам детство Штольца, г. Гончаров так охлаждается к периоду его зрелости, что даже не сообщает нам, какими именно предприятиями 366 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века занимается Штольц, и эта странная ошибка неприятно действует на читателя, с детства своего привыкшего глядеть неласково на всякого афериста, которого деловые занятия покрыты мраком неизвестности. Если б в Штольце предстояла великая надобность, если б только через него тип Обломова был способен к должному уяснению, мы не сомневаемся, что наш художник, при своей силе и зоркости, не отступил бы перед раз заданной темой, но мы сказали уже, что создание Ольги далеко оттеснило Штольца и его значение в романе. Уяснение через резкую противоположность двух несходных мужских характеров стало ненужным: сухой неблагодарный контраст заменился драмой, полною любви, слез, смеха и жалости. За Штольцем осталось только некоторое участие в механическом ходе всей интриги, да еще его беспредельная любовь к особе Обломова, в какой, впрочем, у него много соперников. И в самом деле, окиньте весь роман внимательным взглядом, и вы увидите, как много в нем лиц, преданных Илье Ильичу и даже обожающих его, этого кроткого голубя, по выражению Ольги. И Захар, и Анисья, и Штольц, и Ольга, и вялый Алексеев – все привлечены прелестью этой чистой и цельной натуры, перед которою один только Тарантьев может стоять, не улыбаясь и не чувствуя на душе теплоты, не подшучивая над ней и не желая ее приголубить. Зато Тарантьев мерзавец, мазурик; ком грязи, скверный булыжник сидит у него в груди вместо сердца, и Тарантьева мы ненавидим так, что, явись он живой перед нами, мы бы почли за наслаждение побить его собственноручно. Зато холод проникает нас до костей и гроза поднимается в нашей душе в ту минуту, когда после описания беседы Обломова с Ольгой, после седьмого неба поэзии, мы узнаем, что в креслах Ильи Ильича сидит и ждет его прихода Тарантьев. К счастию, в свете немного Тарантьевых и в романе есть кому любить Обломова. Всякий почти из действующих лиц любит его по-своему, а эта любовь так проста, так необходимо вытекает из сущности дела, так чужда всякого расчета или авторской натяжки! Но ничье обожание (даже считая тут чувства Ольги в лучшую пору ее увлечения) не трогает нас так, как любовь Агафьи Матвеевны к Обломову, той самой Агафьи Матвеевны Пшеницыной, которая с первого своего появления показалась нам злым ангелом Ильи Ильича, – и увы! действительно сделалась его злым ангелом. Агафья Матвеевна, тихая, преданная, всякую минуту готовая уме367 Хрестоматия по истории русской литературной критики реть за нашего друга, действительно загубила его вконец, навалила гробовой камень над всеми его стремлениями, ввергнула его в зияющую пучину на миг оставленной обломовщины, но этой женщине все будет прощено за то, что она много любила. Страницы, в которых является нам Агафья Матвеевна, с самой первой застенчивой своей беседы с Обломовым, верх совершенства в художественном отношении, но наш автор, заключая повесть, переступил все грани своей обычной художественности и дал нам такие строки, от которых сердце разрывается, слезы льются на книгу и душа зоркого читателя улетает в область тихой поэзии, что до сих пор, из всех русских людей, быть творцом в этой области было дано одному Пушкину. Скорбь Агафьи Матвеевны о покойном Обломове, ее отношения к семейству и Андрюше, наконец этот дивный анализ ее души и ее прошлой страсти – все это выше самой восторженной оценки. Тут в рецензии нужно одно какое-нибудь короткое слово, одно восклицание сочувствия – да, может быть, выписка разительнейших строк отрывка, выписка, годная на случай, если б читатель пожелал освежить воспоминание обо всем эпизоде, не отмечивая книги и не теряя минуты на переворачивание ее листов. «Вот она в темном платье, в черном шерстяном платке на шее <...> На всю жизнь ее разлились лучи, тихий свет от пролетевших, как одно мгновение, семи лет, и нечего было ей ждать больше, некуда идти...» После всего нами сказанного и выписанного, может быть, иной скептический читатель спросит нас: «Да за что же наконец Обломов так любим лицами его окружающими – и еще более, за что именно он любезен читателю? Если для возбуждения выражений и дел преданности достаточно есть и валяться по диванам, не делать никакого зла и сознаваться в своей житейской неспособности, да сверх всего этого иметь несколько комических сторон в своем характере, то значительная масса рода человеческого имеет право на нашу возможную привязанность! Если Обломов действительно добр как голубь, то почему же автор не выразил перед нами практических проявлений этой доброты, если герой честен и неспособен на зло, то почему же эти почтенные стороны его натуры не выставлены перед нами осязательным образом? Обломовщина, как ни тяготей она над человеком, не может же вывести его из круга той вседневной, мелкой, насущной деятельности, которой, как всякий 368 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века знает, всегда достаточно для выражения привлекательных сторон нашей натуры. Отчего же все подобные выражения натуры у Обломова исключительно пассивны и отрицательны? Отчего, наконец, он не совершает перед нами даже самого малого дела любви и кротости, хотя бы дела, которое может быть покончено без разлуки с халатом, – почему он не скажет приветного и задушевного слова хоть одному из второстепенных лиц, стоящих около него, хотя бы в награду за всю их преданность?» В таком замечании читателя отыскивается своя доля правды. Обломов, лучшее и сильнейшее создание нашего блистательного романиста, не принадлежит к числу типов, «к которым невозможно добавить ни одной лишней черты» – над этим типом невольно задумываешься, дополнений к нему невольно жаждешь, но дополнения эти сами приходят на мысль, и автор со своей стороны сделал почти все нужное для того, чтобы они приходили. Германский писатель Риль сказал где-то: горе тому политическому обществу, где нет и не может быть честных консерваторов; подражая этому афоризму, мы скажем: нехорошо той земле, где нет добрых и неспособных на зло чудаков в роде Обломова! Обломовщина, так полно обрисованная г. Гончаровым, захватывает собою огромное количество сторон русской жизни, но из того, что она развилась и живет у нас с необыкновенной силою, еще не следует думать, чтоб обломовщина принадлежала одной России. Когда роман, нами разбираемый, будет переведен на иностранные языки, успех его покажет, до какой степени общи и всемирны типы, его наполняющие. По лицу всего света рассеяны многочисленные братья Ильи Ильича, то есть люди, не подготовленные к практической жизни, мирно укрывшиеся от столкновений с нею и не кидающие своей нравственной дремоты за мир волнений, к которым они не способны. Такие люди иногда смешны, иногда вредны, но очень часто симпатичны и даже разумны. Обломовщина относительно вседневной жизни то же, что, относительно политической жизни, консерватизм, упомянутый Рилем: она, в слишком обширном развитии, вещь нестерпимая, но к свободному и умеренному ее проявлению не за что относиться с враждою. Обломовщина гадка, ежели она происходит от гнилости, безнадежности, растления и злого упорства, но ежели корень ее таится просто в незрелости общества и скептическом колебании чистых душою людей пред 369 Хрестоматия по истории русской литературной критики практической безурядицей, что бывает во всех молодых странах, то злиться на нее значит то же, что злиться на ребенка, у которого слипаются глазки посреди вечерней крикливой беседы людей взрослых. Русская обломовщина так, как она уловлена г. Гончаровым, во многом возбуждает наше негодование, но мы не признаем ее плодом гнилости или растления. В том-то и заслуга романиста, что он крепко сцепил все корни обломовщины с почвой народной жизни и поэзии – проявил нам ее мирные и незлобные стороны, не скрыв ни одного из ее недостатков. Обломов – ребенок, а не дрянной развратник, он соня, а не безнравственный эгоист или эпикуреец времен распадения. Он бессилен на добро, но он положительно неспособен к злому делу, чист духом, не извращен житейскими софизмами – и, несмотря на всю свою жизненную бесполезность, законно завладевает симпатиею всех окружающих его лиц, повидимому отделенных от него целою бездною. Весьма легко нападать на Обломова с точки зрения людей практических, а между тем отчего бы иногда нам не взглянуть на недостатки современных практических мудрецов, так презрительно толкающих ребенка – Обломова. Лениво зевающее дитя в физиологическом отношении, конечно, слабее и негоднее чиновника средних лет, подписывающего бумагу за бумагою, но у чиновника средних лет, без сомнения, есть геморрой и, может быть, другие болезни, которых дитя не имеет. Так и заспанный Обломов, уроженец заспанной и все-таки поэтической Обломовки, свободен от нравственных болезней, какими страдает не один из практических людей, кидающих в него камнями. Он не имеет ничего общего с бесчисленной массой грешников нашего времени, самонадеянно берущихся за дела, к которым не имеют призвания. Он не заражен житейским развратом и на всякую вещь смотрит прямо, не считая нужным стесняться перед кем-нибудь или перед чем-нибудь в жизни. Он сам не способен ни к какой деятельности, усилия Андрея и Ольги к пробуждению его апатии остались без успеха, но из этого еще далеко не следует, чтоб другие люди при других условиях не могли подвигнуть Обломова на мысль и благое дело. Ребенок по натуре и по условиям своего развития, Илья Ильич во многом оставил за собой чистоту и простоту ребенка, качества драгоценные во взрослом человеке, качества, которые сами по себе, посреди величайшей практической запутанности, часто открывают нам область 370 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века правды и временами ставят неопытного, мечтательного чудака и выше предрассудков своего века, и выше целой толпы дельцов, его окружающих. Попробуем подтвердить слова наши. Обломов, как живое лицо, достаточно полон для того, чтоб мы могли судить о нем в разных положениях, даже не замеченных его автором. По практичности, по силе воли, по знанию жизни он далеко ниже своей Ольги и Штольца, людей хороших и современных; по инстинкту правды и теплоте своей натуры он их несомненно выше. В последние годы его жизни супруги Штольц навестили Илью Ильича, Ольга осталась в карете, Андрей вошел в известный нам домик с ценной собакой у калитки. Выйдя от своего друга, он только сказал жене: все кончено или чтото в этом роде и уехал, и Ольга уехала, хотя, без сомнения, с горем и слезами. В чем же заключался смысл этого безнадежного, отчаянного приговора? Илья Ильич женился на Пшеницыной (и прижил с этой необразованной женщиной ребенка). И вот причина, по которой кровная связь расторгнута, обломовщина признана переступившей все пределы! Ни Ольгу, ни ее мужа мы за это не виним: они подчинялись закону света и не без слез покинули друга. Но повернем медаль и на основании того, что дано нам поэтом, спросим себя: так ли бы поступил Обломов, если б ему сказали, что Ольга сделала несчастную mésalliance1, что его Андрей женился на кухарке и что оба они, вследствие того, прячутся от людей, к ним близких. Тысячу раз и с полной уверенностью скажем, что не так. Ни идеи отторжения от дорогих людей из-за причин светских, ни идеи о том, что есть на свете mésalliances, для Обломова не существует. Он бы не сказал слова вечной разлуки, и, ковыляя, пошел бы к добрым людям, и прилепился бы к ним, и привел бы к ним свою Агафью Матвеевну. И Андреева кухарка стала бы для него не чужою, и он дал бы новую пощечину Тарантьеву, если б тот стал издеваться над мужем Ольги. Отсталый и неповоротливый Илья Ильич в этом простом деле, конечно, поступил бы сообразнее с вечным законом любви и правды, нежели два человека из числа самых развитых в нашем обществе. И Штольц, и Ольга, без всякого сомнения, гуманны в своих идеях, без всякого сомнения, они знают силу добра и головами своими привязаны к участи меньших брать1 Мезальянс, неравный брак (фр.). 371 Хрестоматия по истории русской литературной критики ев, но стоило их другу связать свое существование с судьбой женщины из породы этих меньших братьев, и они оба, просвещенные люди, поспешили со слезами сказать: все кончено, все пропало – обломовщина, обломовщина! Продолжим параллель нашу. Обломов умер, Андрюша его вместе с Обломовкой поступил под опеку Штольца и Ольги. Очень вероятно, что и Андрюше было у них хорошо, и обломовские мужики не терпели притеснений. Но Захар, оставшийся без призрения, лишь случайно был найден в числе нищих, но вдова Ильи Ильича не была приближена к друзьям ее мужа, но дети Агафьи Матвеевны, которых Обломов учил чистописанию и географии, дети, которых он не отделял от своего сына, остались на произвол своей матери, слишком привыкшей во всем отделять их от барчонка Андрюши. Ни житейский порядок, ни житейская правда этим нарушены не были, и супругов Штольц никакой закон не нашел бы виноватыми. Но Илья Ильич Обломов, смеем думать, иначе поступил бы с лицами и сиротами, которых присутствие когда-то услаждало собой жизнь его Андрея и в особенности Ольги. Очень может быть, что он не сумел бы быть им полезным практически, но любви своей к ним не стал бы подразделять на разные степени. Без расчета и соображений он поделился бы с ними последним куском хлеба и, говоря метафорически, принял бы их всех равно под сень своего теплого халата. У кого сердце дальновиднее головы, тот может наделать множество глупостей, но в стремлениях своих все-таки останется горячее и либеральнее людей, запутанных сетьми светской мудрости. Возьмем хоть поведение Штольца в ту пору, когда он жил где-то на Женевском озере, а Обломов чуть не повергнут был в нищету ковами друзей Тарантьева. Андрей Штольц, которому ничего не значило изъездить пол-Европы, человек со связями и деловой опытностью, не захотел даже найти в Петербурге дельца, который за приличное вознаграждение согласился бы принять надзор над положением Обломова. А между тем и он и Ольга не могли не знать участи, грозившей их другу. Со своим практическим laissez faire, laisser passer1 они оба были вполне правы, и винить их никто не смеет. Кто в наше время осмеливается совать свой нос в дела самого близкого человека? Но предположите теперь, что до Ильи 1 Не вмешивайтесь в чужие дела (фр.). 372 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Ильича доходит слух о том, что Андрей и Ольга на краю нищеты, что они окружены врагами, грозящими их будущности. Трудно сказать, что бы совершил Обломов при этом известии, но кажется нам, что он не сказал бы самому себе: какое право имею я вмешиваться в дела лиц, когда-то мне дорогих и близких. Может быть, догадки наши покажутся иному читателю не совсем основательными, но такова наша точка зрения, и в искренности ее никто не имеет права сомневаться. Не за комические стороны, не за жалостную жизнь, не за проявления общих всем нам слабостей любим мы Илью Ильича Обломова. Он дорог нам как человек своего края и своего времени, как незлобный и нежный ребенок, способный, при иных обстоятельствах жизни и ином развития, на дела истинной любви и милосердия. Он дорог нам как самостоятельная и чистая натура, вполне независимая от той схоластико-моральной истасканности, что пятнает собою огромное большинство людей, его презирающих. Он дорог нам по истине, какою проникнуто все его создание, по тысяче корней, которыми поэт-художник связал его с нашей родной почвою. И наконец, он любезен нам как чудак, который в нашу эпоху себялюбия, ухищрений и неправды мирно покончил свой век, не обидевши ни одного человека, не обманувши ни одного человека и не научивши ни одного человека чему-нибудь скверному. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения Статья первая Упорствуя, волнуясь и спеша, Ты быстро шел к одной высокой цели! Н. Некрасов Во второй половине прошлого столетия в Лондоне в одно из представлений Шекспирова «Ричарда III» великий Гаррик играл с необычайным одушевлением и успехом, редким даже для Гаррика. Публика беспрерывно переходила от громовых рукоплесканий к тому глубокому, душу возбуждающему молчанию, которое для великих трагиков считается выше всех шумных признаков общего одобрения. Во все время спектакля один только молодой лорд, бледный и, очевидно, одержимый неизлечимым сплином, произно373 Хрестоматия по истории русской литературной критики сил отрывистые слова, не совсем согласные с общим настроением духа в его соседях. Эти слова были: «Жалко... очень жалко... чрезвычайно жалко!» Наконец кто-то из зрителей, всех ближе сидевший к молодому человеку, спросил его: «Да о чем же вы жалеете?» – «Я жалею о том, – ответил печальный господин, – что от всего этого высокого гения чрез тридцать лет не останется ровно ничего, кроме имени Гаррика!» Участь знаменитых журналистов и критиков во многом сходствует с участью гениальных актеров, с той только разницей, что, благодаря обычаю критиков нашего времени, не выставляющих своих имен под статьями, сами имена их иногда не переходят к будущим поколениям. Правда, статьи могут быть собраны, напечатаны вновь, разъяснены, изданы большою книгою – но встретят ли эти disjecta membra poetae1 через одно и два поколения то сочувствие, с которым встречали их современники знаменитого деятеля. Возбудят ли они хоть десятую долю того восхищения, того раздражения, тех споров, тех убеждений, которыми, бывало, приветствовался их первый выход. Нет, такого результата и самый великий критик произвести не в состоянии. Слава поэтов, им прославленных, будет беспрепятственно расти и расширяться, между тем как его собственная слава станет улетучиваться и меркнуть. Благодаря его критическому такту, благодаря его страстному слову, имена писателей второстепенных останутся и могут быть любимы новыми поколениями, но его собственное имя от того нисколько не выиграет. Историки словесности, знатоки литературы своего края воздадут усопшему ценителю похвалою, которая, может быть, со временем перейдет в школьные учебники, и, через пятьдесят лет после смерти критика, мальчики будут вытверживать какуюнибудь фразу о том, что такой-то благородный деятель во многом содействовал к просвещению читателей старого времени. Тем все дело кончится, и оно не может кончиться иначе; оно даже не должно кончиться иначе, ибо известный литературный ценитель, учитель известного литературного поколения, никак не будет учителем поколений последующих. Всякий год приносит за собой новую идею, всякий период народной жизни приводит с собою людей, его разумеющих. Новые художники порождают новых ценителей, и 1 Разрозненные части поэта (лат.). 374 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века тот ценитель, который, не смея быть новым, станет робко повторять выводы своего предшественника, вдастся в литературный фетишизм, как бы даровит ни был сошедший со сцены человек, им выбранный вместо кумира. Карлик, взобравшийся на плечи великана, видит далее, чем видел тот, у кого он сидит на плечах. Если он станет не признавать и уничтожать того, через кого он видит так далеко, позор падет на его собственную голову. Но если он нарочно станет гнуться и умалять горизонт своего зрения, всякий будет вправе сделать такой вопрос: «Для чего же ты, маленький человек, взобрался так высоко?» Во всем, что мы говорим в настоящую минуту, нет ничего горестного для критиков, разумеющих свою деятельность. Точно, для литературного ценителя, даже гениального, невозможна слава Гомера и Шекспира, недоступна даже светлая известность Пушкина и Гоголя. Истинный критик, подобно Давиду Гаррику, есть деятель своего поколения, источник нескольких благотворных преданий для потомства. Ему дано великое могущество, но срок этого могущества не долог. Поколения, еще не родившиеся, не станут плакать над его страницами, но зато поколение, живущее с ним вместе, будет полно его идеями и его стремлениями. В этом его сила и слабость, в этом все его существо, все его значение. Он должен трудиться для потомства, думать о вековечных законах искусства и науки, но все-таки ему нельзя забыть, что его деятельность есть посредственная, а не непосредственная, что он свершает свое назначение, просвещая своих собратий, что он, двигая вперед просвещение, готовит себе будущих судей, в скором времени имеющих обратить его самого в лицо подсудимое. Его поле действия – умы современников, его оружие – идеи и стремления современного ему общества. В ежедневной и преходящей действительности таится причина его страсти, его увлечений, его хвалы и его осуждения. Быть вечным и безапелляционным Аристархом он никогда не может. Ослабевши в своих силах и состарившись, он обязан безропотно сдать свою деятельность младшим труженикам, может быть, тем же карликам, взобравшимся на его великанские плечи. Общество идет вперед, не соображаясь ни с какими критическими авторитетами, литература крепнет и развивается, не справляясь с мнениями людей, когда-то оказавших ей самые великие заслуги. Оттого, по истечении каждого литературного периода, строгий 375 Хрестоматия по истории русской литературной критики пересмотр критики этого периода и необходим, и благотворен. Оттого каждый сильный критический деятель, образователь и наставник своих литературных товарищей, должен радоваться, если на сцену являются новые художники и новые деятели, хотя бы становящиеся в противоположность с теориями, им проведенными. Дело его сделано, подвиг его свершен честным, достохвальным образом. Он может сказать бывшим ученикам своим: «Идите и сейте доброе слово – ваши ученические годы кончились, я же могу быть вашим советником, но никак не учителем». Читатель, как мы надеемся, хорошо понимает цель рассуждений наших о критике и значении даровитых критиков. Собираясь выступить перед публикой как деятели по части критики и истории литературы, мы обязаны прежде всего объяснить наши отношения к журнальным судьям того периода, который был прославлен в художественном отношении деятельностью Гоголя, а в критическом – заслугами ценителей, разъяснивших нам значение Гоголя, его предшественников и его сверстников. Между 1830 и 1848 годами русская критика, сосредоточивавшаяся в журналах «Телеграф», «Телескоп», «Отечественные записки» и «Современник»5, сделала много для нашей науки и для нашей литературы. Она имела свои слабости, свои ошибки, свои увлечения, свои худые стороны, но так велика была ее любовь к просвещению, так богата была она силами всякого рода, что результат ее заслуг много превышает недостатки, от нее родившиеся. Она разработала историю старой литературы нашей; она сделала строгую поверку всех критических начатков, до нее существовавших; она нанесла жестокий удар французской рутине, много лет у нас существовавшей; она оценила деятельность всех наших великих поэтов и прозаиков; она приветствовала гений Пушкина и первые начинания Гоголя; она внесла в критику элементы, до той поры ей чуждые, то есть горячность и изящество, любовь к науке, беспредельное сочувствие ко всему святому, прекрасному, справедливому в жизни и поэзии. Рядом живых, увлекательных уроков она заставила холодную публику привязаться к делу родного искусства. По мере сил своих она старалась популяризовать в России глубокие теории иностранных критиков, черпая из них то, что казалось ей вечным, полезным для искусства, согласным с понятиями нашими. На всякий талант, на всякое правдивое слово, на всякий полезный труд она откликалась 376 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века радостным голосом и часто, увлекаясь своей восторженностью, заглаживала самые свои ошибки с помощью любви и восприимчивости. Она воспитала новое поколение литераторов и каждому из них в трудные минуты первых усилий протягивала дружескую и братскую руку. По самому ходу дел она должна была создать в литературе множество поклонников, учеников, подражателей, преемников и – что гораздо хуже – ослепленных жрецов, умевших состряпать себе рутину от самого начала, враждебного всякой рутине. Значение критики гоголевского периода таково, что всякий журнал, всякий литературный ценитель, сколько-нибудь понимающий свое призвание, не имеет права не знать ее, не изучать ее вполне, не проверить всех ее выводов, не определить собственных своих отношений к этой сильной и благотворной критике. Она живет и дышит всюду, даже в упорных своих ненавистниках. Она отразилась даже в суждениях людей, в юности своей смотревших на всю русскую словесность сквозь очки Баттё и Лагарпа. Она не умрет вся – хотя ее страсть, ее увлечения, ее огонь, ее симпатии и антипатии во многом уже утратили свое значение. Она пришла кстати и сделала много. <...> Но как бы велики ни были заслуги старой критики, как бы мы сами ни сознавали ее заслуги для нашего собственного развития, мы никогда и ни за что не поддадимся тому критическому фетишизму, о котором говорилось недавно. Все наши инстинкты возмущаются, когда нам, по несчастию, приходится в наше время, через десять лет после того, как окончился упомянутый нами период, встречать рабские, бледные, сухие, бездарные копии старого оригинала. В русской литературе, которая во сто лет времени сделала такие гигантские шаги к своему развитию, десять лет деятельности значат весьма много. Предположить, что в эти десять лет мы все, художественные и критические деятели, измельчали самым жалким образом, мы не имеем ни малейшей причины. Вообразить себе, что все новые писатели, явившиеся за эти десять лет, не могут сообщить публике ничего нового, может лишь один какой-нибудь дикий труженик, лишенный всякой литературной зоркости. И, однако, подобного рода заблуждения не новость ни в России, ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции. Первые годы после всякого сильного деятеля в науке и словесности никогда не обходятся без иеремиад и какого-то затхлого возвеличения литературного бессилия. Звезда скатилась с горизонта. Мы остались по377 Хрестоматия по истории русской литературной критики среди темноты. Все пропало – сильного деятеля сменили карлики. Тот дерзок и глуп, кто теперь силится сказать что-нибудь дельное. Надо повесить голову и вяло повторять то, что было сказано прежде нас. Всякая самостоятельность литературного взгляда есть проявление дерзости и самодовольствия. Поверка прежних выводов есть глумление над прахом великого человека. Несогласие с ним должно считаться преступлением! Такого рода возгласы раздаются после смерти каждого великого ученого, великого поэта, великого романиста, и в особенности после кончины великого критика. <...> Вполне ценя и уважая всех наших товарищей но делу современной русской критики, мы не можем не признаться, однако же, в комических впечатлениях, иногда производимых на нас некоторыми из отчаянных поклонников старой критики. Разве мы не видали, и много раз, критических статей о деятельности старых русских писателей, от Державина до Гоголя, статей, в которых просто и открыто высказывалась мысль такого рода: «Сказанный писатель уже превосходно оценен критиками сороковых годов; не имея возможности сказать от себя ничего хорошего, приводим выписки из рецензии, писанной около двадцати лет назад»1. Не стыдимся признаться, что подобные отзывы, плод бессилия, соединенного с упрямым фетишизмом, возбуждали в нас не один только смех, но вместе со смехом и порядочную досаду. Вместе с шутливым запросом новому критику: «А что же ты будешь говорить о писателях, явившихся позже критики сороковых годов?» – мы готовы были спросить, и гораздо строже: «Для чего же ты взялся за перо, новый критик, не имея ни силы, ни желания сказать что-либо, кроме повторения старых литературных выводов?» Мы никогда не строили для себя литературных кумиров, никогда не принимали чужих мнений без строгой поверки – и вследствие этих обстоятельств смело можем сказать, что даже во времена полного владычества критики сороковых годов достаточно видели все ее слабые стороны. <...> Сохраняя всю нашу независимость в тот период, когда увлечение авторитетом было извинительно и возможно, мы не думаем расстаться с нею в настоящее время, время анализа и поверки прежних теорий. Мы следили за жизнью и 1 Л. И. Соболев предполагает, что здесь имеется намек на Н. Г. Чернышевского, который в «Очерках гоголевского периода русской литературы» постоянно цитировал В. Г. Белинского. 378 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века словесностью Европы, видели разрушение иллюзий, еще недавно считавшихся действительностью. Опыт недолгих, но обильных событиями годов не мог не служить лучшей поверкою многих прежних ошибок. На наших глазах вконец разрушились неодидактические германские теории, имевшие вес и силу в сороковых годах. Толпы европейских деятелей, когда-то обещавших многое, были сброшены в хаос и не выполнили ни одного из своих обещаний. Женщины-поэты, являвшиеся восторженными пифиями, провозвестницами новых истин, мирно сошли в ряд талантливых писательниц и отказались от своих прорицаний. Мыслители, ревностно бравшиеся за преобразование общества, науки, поэзии, в короткое время превратились в пустых говорунов, несостоятельных перед практической жизнью. Гонители искусства чистого обратились к служению чистому искусству. Дидактики, ненавидевшие Гёте за его невозмутимое поэтическое спокойствие, распростерты во прах пред пьедесталом великого человека, ими когда-то оскорбленного. Все эти перемены, все эти перевороты в области искусства и жизни не могли не утвердить нашей независимости во взгляде на жизнь и искусство. Ошибки старой нашей критики, еще смутно сознаваемые нами в период ее преобладания, нынче, вследствие всего нами пережитого и подсмотренного, стали и ярче, и осязательнее. Уважение наше к ней осталось прежним уважением, но отклонение наше от теорий, ею высказанных, сделалось и вполне законным, и вполне понятным, и даже вполне необходимым. Главная и существенная слабость критики гоголевского периода заключалась не столько в этой самой критике, сколько в той литературной среде, на которую и среди которой ей было суждено действовать. Критика сороковых годов не имела ни над собою, ни против себя никакой основательной критики. Далеко ниже ее, в неведомых литературных безднах, раздавалась пристрастная и жесткая полемика, не основанная ни на каких теориях, не приносившая с собой никакого плода, никакой полезной заметки. Противники критики сороковых годов или не поднимали против нее своего голоса, или позволяли себе нелитературную, задорную хулу, на которую никакой литератор, сознающий в себе чувство собственного достоинства, никогда отвечать не станет. Критики, равной себе – добросовестной и твердой, обильной проницательностью и правдою, – критика сороковых годов никогда не имела. На всякий ее 379 Хрестоматия по истории русской литературной критики вывод, на всякую мысль, ею высказанную, она встречала в литературе или полное молчание, или проявление полной симпатии, или жесткую брань, по существу своему бесплодную: всего чаще и то, и другое, и третье приходило разом. Возражений искренних, серьезных, проникнутых знанием дела и желанием истины, она не встречала ни разу; даже до сих пор, когда ее слабые стороны признаны почти всеми деятелями новой словесности, мы можем назвать лишь весьма малое число страниц, на которых означенные слабые стороны разобраны беспристрастно. Итак, не встречая ниоткуда основательного противодействия, критика, теперь нами оцененная, должна была понести вред от избытка собственной своей силы. Она стала утрачивать терпимость и хладнокровие, так необходимые для понимания истины. Привыкнув к жесткости и неправде своих шумливых соперников, она слишком привыкла видеть жесткость, отсталость и неправду во всяком противоречии. Потеряв благоразумный контроль над собою, она вдалась в парадоксы, поспешные заключения, крайности всякого рода, – и могло ли быть иначе, когда парадоксы, ею высказываемые, не встречали серьезного противоречия, когда ложные заключения и крайности не возбуждали возражений, достойных быть принятыми к сведению? Пересматривая блистательнейшие и благотворнейшие из критических статей гоголевского периода, мы беспрерывно подмечаем в них страницы невыносимо лживые, выводы более чем детские, мысли, от которых сам критик впоследствии при нас самих отказывался с простодушной честностью. Мы спрашиваем: как же могли сказанные недостатки идти рядом с целыми главами, истинно безукоризненными? Как могли люди, руководящие общим вкусом, развитые, образованные, богатые смыслом и поэтическим чутьем, написать страницы, подобные отзыву о Татьяне Пушкина, о повести «Похождения господина Голядкина», о слабейших романах Жоржа Санда? Как могли они создать что-либо вроде дифирамба о бесполезности изучения древней русской жизни? Ответ будет очень прост: они писали, не ожидая ниоткуда ни возражений, ни добросовестного контроля. Всякий человек, беседуя мысленно с самим собою, выскажет себе много такого, чего ни за что в свете не скажет, говоря с умными людьми. Всякий смертный, беседуя с приятелями, станет говорить осторожнее, чем он думает; составляя статью, он будет смотреть за собой гораздо зорче, чем смотрит он 380 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века за собой в минуты приятельской беседы. Наконец, составляя статью, он будет необходимо иметь в виду читателей, для которых статья пишется. Если читатель опытен, взыскателен, проницателен и даже придирчив, труд выйдет несравненно осмотрительнее того труда, который составляется для публики доверчивой и неразвитой, для ценителей, способных только или браниться без толку, или хранить бесплодное, но величавое молчание. А для критики сороковых годов, от самого ее появления до последних годов ее деятельности (и особенно в последние годы, о чем скажем мы ниже), был необходим контроль, незлобный и твердый. Мы не нарушим законов литературной скромности, если скажем, что разбираемая нами критика, в период всей ее деятельности, была голосом целого круга образованных, талантливых молодых людей, сгруппировавшихся около одного, а может быть, и нескольких критических деятелей, столько же молодых, как и они сами. Весь круг или кружок изобиловал бескорыстной любовью к науке, тонким пониманием поэзии, стремлением к добру, к правде, к полезной деятельности. По он был молод, а следовательно – опрометчив, иногда даже заносчив. Полный жизни и сил, он печатно высказывал сегодня то, чему успел выучиться вчера, торопясь беседовать с читателем о законах искусства, он сам учился, поучая, и стремился скорее пускать в оборот идеи об искусстве, им самим только что добытые. Такая метода, обусловленная горячностью молодости, имела в себе всю увлекательность, всю симпатичность молодых сил человека, но в то же время изобиловала поспешностью, шаткостью, легкомысленностью молодости. Как симпатии, так и антипатии юной критики были порывисты, исключительны, временами непостоянны, но всегда пламенны. Редко взвешивала она свои выводы, редко подходила она к своему делу с спокойным величием, еще реже умела она охватывать pro и contra каждого вопроса. Она знала много, но не была богата многосторонним, установившимся знанием, так необходимым для критики. Ко всему новому и молодому тянулась она с безграничным доверием; по ее мнению, всякая новая теория вела за собой конечное уничтожение всех прежних теорий, всякий новый мыслитель губил насмерть мыслителей, до него живших. Каждая новая идея была зерном великих преобразований, каждая новая книга, умно написанная, была неизмеримо полезнее книг старого времени. Мир кипел мировыми молодыми ге381 Хрестоматия по истории русской литературной критики ниями – новое европейское поколение одно носило в себе всю мудрость старых поколений, не считая собственного своего величия, непонятного людям отсталым. Нам, которые теперь ясно видим несостоятельность недавних гениев, которые давно примирились с падением мимолетных, когда-то много обещавших теорий, вся слабость такого юношеского взгляда видна в совершенстве. Но, ценя ее но достоинству, мы вправе удержаться от суждения и насмешки, ибо и мы сами были молоды, и для нас новизна казалась пророчеством, и для нас ученические годы нашего поколения представлялись чем-то по преимуществу великим и прекрасным! При самом начале своей деятельности критика, охарактеризованная нами по мере слабых сил наших, встретила две важные задачи или, скорее, одну важную задачу, распадавшуюся на два обширных отдела. Она должна была сделать с старой русской критикою то самое, что должна сделать с ней самой наша теперешняя критика. Ей предстояло проверить теории и выводы старых ценителей русской словесности, зорким глазом проследить всю историю литературы нашей и назначить место каждому из первых деятелей словесности старого времени. В то же время, работая над историей периодов, уже отживших, критика сороковых годов должна была произносить свои суждения над произведениями ей современных писателей. Обе задачи, сливаясь в одну, представляли из себя труд колоссальный. Не только Карамзин и Жуковский, но Ломоносов и Херасков еще не были основательно определены прежней критикой. Ряды усопших знаменитостей, настоящих и подложных, законных и незаконных, имели явиться перед судилище истинного вкуса. С другой стороны, литература современная приняла могучее развитие. Пушкин сошел в могилу, Россия была полна песнями Пушкина, а между тем ни один из поклонников великого певца не имел возможности сказать, сидя над его книгою: «Я знаю и понимаю, чем и почему этот поэт меня восхищает». Богатырский талант Лермонтова пророчил отечеству будущего наследника пушкинской славы; беспредельный юмор Гоголя услаждал всю просвещенную Русь наперекор ошибочным оценкам, наперекор ложной чопорности читателя. И в то же время посреди людей высоко одаренных, рядом с ними, иногда выше их, стояли писатели, может быть, трудолюбивые и почтенные, но во всяком случае далеко не подходящие к ним по дарованию. Вкус публики, пробужденный перво382 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века классными поэтами и прозаиками, жаждал научной и поэтической пищи. Дальнейшее развитие этого вкуса вполне зависело от той пищи, которая будет ему предложена. Извратить понятия жадного читателя весьма легко, но сызнова навести их на правду, сызнова расшевелить в нем остывшее сочувствие к искусству – есть труд почти геркулесовский. Критика сороковых годов застала русскую публику под влиянием ошибочных школ в поэзии и прозе. Даровитые поэты и прозаики переходили в манерность, увлекались мелодраматической французскою литературой, портили русский язык и развивали в читателе фальшивые понятия об искусстве. Старая критика не только молчала, но даже поощряла заблуждения литераторов. Мягкость, снисходительность, скорость на похвалу – эти качества, составлявшие такую прелестную сторону в восприимчивой натуре Пушкина и друзей Пушкина, под пером людей, не столь одаренных, перешли в вялую пассивность. <...> Литератор, самый снисходительный, считал бранью ту рецензию, в которой делалось ему какое-нибудь замечание. Писателей сильных или кажущихся сильными следовало хвалить без оговорок – слабых и ничтожных талантом позволялось терзать без устали, для увеселения читателя. Следуя таким путем, словесность наша не могла прийти к результатам утешительным. Критика сороковых годов вывела ее с этой рутинной дороги – вот в чем состоит первая заслуга этой критики. Взглянем же теперь на то, каким образом она действовала на своем поприще, где она приносила несомненную пользу и где она вдавалась в слабости, не менее несомненные. Вся историческая сторона нашей критики гоголевского периода, все ее отношения к русской литературе – от времен Кантемира до времен Пушкина – не только заслуживает великих похвал, но даже в частностях своих не подлежит хотя сколько-нибудь важному осуждению. Знатоки дела справедливо говорят, что по этой части критика не выказала глубоких сведений, что народная наша литература допетровского периода знакома ей менее, чем, например, литература старой Франции, что эрудиция ее (особенно по части литературы и журналистики Екатерининского времени) весьма и весьма поверхностна – заметки знатоков, при всей своей правде, ничего не доказывают против слов наших. Никто не в праве требовать от критики известного, весьма непродолжительного периода, 383 Хрестоматия по истории русской литературной критики периода, исполненного задач и работы, полных археологических, филологических, библиографических сведений, способных по частям составить занятие целого круга ученых. Лорд Джеффри мог вовсе не знать древней великобританской поэзии и все-таки стоять в голове первого критического журнала своей родины. Лессинг имел право знать некоторые отделы своей словесности поверхностным образом и, несмотря на то, остаться Лессингом. Сила критики, подобно силе полководца, заключается прежде всего в умении действовать там, где прежде всего требуется действовать. Русская публика 1830 года могла с спокойным духом ожидать разысканий о журналистах прошлого столетия, но ей пора, очень пора была иметь в руках верную оценку Ломоносова, Державина, Карамзина, Фонвизина, просветителей, на которых она была воспитана. Без полезных, безукоризненных этюдов о древней песне и о старой русской сказке она имела возможность пробыть несколько лет. Но нельзя было ей оставаться еще несколько лет при пристрастных, рутинных, лагарповских, ничтожных общих местах по поводу всей современной родной словесности. Ей уже не под лета было, основываясь на прежних приговорах, считать Хераскова нежным поэтом, Державина образцом чистого слога, Богдановича певцом, достойным муз и граций, Сумарокова великим трагиком, а Ломоносова стихотворцем по преимуществу. Русская публика жаждала речей о русской старой и новой литературе, ей было необходимо историко-критическое объяснение ее собственных впечатлений, сведений, привязанностей и антипатий. Со всем своим уважением к Державину, Озерову, Ломоносову, Княжнину наш читатель смутно сознавал, что эти деятели не могут быть единственными питателями современного русского общества. К Жуковскому, Пушкину, Лермонтову, Грибоедову, Гоголю лежало сердце русской публики, а между тем слава этих великих писателей по учебникам и литературным преданиям не могла заменить собою славы тружеников старого классического или псевдоклассического времени. Пушкин, по отзывам тогдашних литературных судей, был милым человеком, ноющим сладенькие песни, тогда как, например, Сумароков считался отцом русского театра и великим человеком. «Водопад» Державина следовало знать наизусть и читать с благоговением, а «Горе от ума» Грибоедова считалось не более как приятною шалостью. Мы не оспариваем великого дарования в Держа384 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века вине, мы даже готовы признавать все заслуги Сумарокова, но всетаки не видим причины, отчего бы возвеличение отживших поэтов непременно должно вести за собой унижение писателей современных. А между тем оно так было до гоголевского периода и его критики. Живому и пишущему поэту почти ставилась в укор его поэтическая деятельность: деятельность Костровых, Петровых, Бобровых считалась вполне серьезною и почтенною. Суд публики и суд литературных Аристархов постоянно расходились во многом. Поэты современные, писатели, считавшиеся просто приятными писателями, раскупались и читались с жадностью; поэты образцовые, умершие и великие, прославлялись на словах, но творения их не шли с рук и не находились ни в чьих руках! «Есть что-то гнилое в нашей Дании», – говорит Гамлет. Было что-то гнилое в старых наших понятиях о литературе – скажем и мы, подобно Гамлету. Нужно было разъяснить весь хаос заблуждений, предрассудков, противоречий, общих мест, о которых мы сейчас говорили. Потребно было взглянуть на всю нашу словесность с исторической точки зрения, определить значение старых писателей, отделить в их творениях все временное от вечного и всегда прекрасного. Надо было, не стесняясь никакими авторитетами, сделать оценку каждому деятелю по части русского слова и произнести над ним окончательный суд сообразно понятиям современного общества. Только подобным процессом можно было водворить порядок в литературных понятиях, дать общий тон развитию читателя и подготовить звенья нерушимой цепи, связывающей старые литературные периоды с периодом, за ними следующим. Повторяем еще раз: в историко-критической оценке русской литературы допушкинского периода наша критика сороковых годов оказала вечную, нерушимую заслугу всей русской науке. Характеризуя, анализируя, воскрешая, ставя на свое место всех наших писателей, от Кантемира до Карамзина включительно, она создала ряд этюдов, великолепных по исполнению и еще более великолепных по истинам, в них заключающимся. Плодом этюдов этих вышел ясный, самостоятельный, чрезвычайно верный взгляд на ход всей нашей словесности, в ее различные периоды, ознаменованные деятельностью писателей, особенно важных по своему влиянию. После трудов, о которых говорим мы, хаос и путаница в истории литературных понятий навеки исчезли. История нашей словес385 Хрестоматия по истории русской литературной критики ности получила прочные основы, основы, до сей поры незыблемые. Вместо прежних сбивчивых сведений, вместо рутины, завещанной нам псевдоклассическими критиками, русский читатель увидел перед собою стройный ряд литературных деятелей, разделенных на однородные группы, оцененных и разъясненных, рассмотренных и с исторической и с современной точки зрения. И неправду сказал бы человек, который осмелился бы утверждать, что старые поэты и прозаики, от Ломоносова до Карамзина, были унижены нашей критикой, были принесены в жертву новым светилам нового русского общества. Перемещение не есть унижение, а здравая историческая критика никогда не может назваться заносчивостью молодого поколения перед старым. Одни близорукие педанты могли оскорбляться тем, что новая критика ставила Ломоносова-ученого выше Ломоносова-поэта, что она не восторгалась «Бедной Лизой» Карамзина и язык Державина ставила ниже языка пушкинского. Все эти и им подобные истины уже сознавались самим читателем – критика только дала им выражение и привела их в систему, исполнив тем долг всякой истинной и разумной критики. Поступая таким образом, она оказала услугу всему обществу, оказала услугу самым старым писателям, о которых говорится. Ломоносов, Державин, Карамзин даже с каждым годом утрачивали сочувствие современной публики именно оттого, что эта публика еще не была выучена глядеть на них с настоящей точки зрения. Наперекор панегирикам со стороны блюстителей вкуса русский читатель, особенно если он был молод и неопытен, приучался скучать над старыми, образцовыми поэтами и прозаиками. Повесть Карамзина, трагедия Озерова, ода Державина не давали ему того наслаждения, к которому он привык, читая Пушкина, Грибоедова и Жуковского; оттого Карамзин, Озеров и Державин поступали на отдаленные полки библиотек, а имена их, вопреки преданиям, уже не были дороги для читателя. Чуть эти самые деятели снова явились перед ним в историческом порядке, в полном величии своего времени и своей почтенной деятельности, точка зрения изменилась. Величие современников перестало вредить славе учителей и предшественников. При помощи даровитого объяснителя любитель поэзии снова нашел возможность помириться с старыми формами старых поэтов, мало того: под этими устарелыми формами различить дух чистой поэзии и мысли, высокий по своему благородству. 386 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Мы не говорим и никогда не будем говорить, что область нашей старой словесности, от времен Кантемира до карамзинского периода включительно, была окончательно оценена и измерена критиками сороковых годов. <...> Равным образом, при последующей переоценке непременно должна быть смягчена, а иногда и вовсе уничтожена резкость общих приговоров, к которым критики гоголевского периода были весьма наклонны. В сказанной резкости мы их не упрекаем, однако: критик, действуя на умы современников, разрушая литературные предрассудки, часто бывает обязан действовать слишком решительно. «Если хочешь выпрямить кривую трость, – говорит индийская пословица, – гни ее в противоположную сторону от ее сгиба». <...> Предрассудки ложного классицизма еще жили, выражались в крайностях, вызывали на крайность. Без резкости нельзя было идти навстречу их резкости. Пушкин был унижаем за упрощение поэтического языка; предания о высоком слоге еще гнездились повсюду; все, что носило на себе печать простоты и таланта всем доступного, подвергалось осуждениям, о невежливости которых не может дать понятия даже полемика между теперешними журналообразователями. О каком-нибудь «Кадме и Гармонии» требовалось говорить пышными хвалебными фразами; на такое нелепое требование устарелых Жеронтов всего лучше было отвечать злою шуткою но поводу «Кадма и Гармонии». Мы кончили с первой частию деятельности нашей критики и переходим ко второй – то есть ее отношениям к литературе, ей современной. И тут мы повсюду видим деятельность, исполненную честности, богатую дарованием, но, к сожалению, обильную и великими слабостями. Из роли ее к поэтам и прозаикам старых периодов легко усмотреть, как должно было обозначиться ее положение к деятелям ее собственного периода. Старые писатели грешили искусственностью языка, угловатой высокопарностью слога, подражательностью чужим образцам, отсутствием современных воззрений в идеях, отсутствием пленительной простоты в изложении. Писатели нового периода, богатого опытом периодов прежних, должны были восполнить все эти недостатки и во многом их восполняли. Поэтический язык упростился и, по-видимому, установился окончательно; проза, по своей безыскусственности, все более и более сближалась с живой речью человека. Оковы фран387 Хрестоматия по истории русской литературной критики цузского вкуса и французской пиитики давно были свергнуты новым поколением. Уже не Олимп, не герои древности, не сухие моральные тонкости служили предметом песен Пушкина, стихов Грибоедова, рассказов Гоголя, страстных страниц Лермонтова. Писатели эти, стоявшие в главе образованнейшего класса в России, брали предметы из русской истории, из русского общества, из вседневной русской жизни, из светлых и темных сторон нашего родного быта. Что может быть похвальнее, что может быть разумнее этой деятельности, истинно обильной великими надеждами. Так, литература должна быть цветом и отголоском своей родины, ее усладительницей и наставницей, ее славой, ее сокровищем, ее живым голосом! Простая русская сцена, если она хорошо выполнена, для русского читателя выше всей истории Атридов; песня Кольцова, воссоздающая поэзию степей и лесов родины, дает нам больше, нежели все моральные рассуждения но поводу Телемака, сына Улиссова. Простота, народность и правда, живущие в первоклассных деятелях лучшего, позднейшего периода словесности, должны быть первым достоянием молодой нашей литературы. Надо объявить войну изысканности, сухости, высоконарности, надо поддерживать словесность в положении, случайно ей приданном трудами ее лучших деятелей, надо ополчаться против попыток возвращения к старому ложному классицизму, к старой пиитической рутине! Вот малая часть выводов, которыми новая критика приветствовала лучшие труды лучших писателей своего периода. Им самим, этим самым писателям, она разъяснила их силу и значение, их самих она побудила взглянуть внутрь себя и торжественно согласиться с ее приговорами. Взгляд критики был зорок и правдив, ибо он происходил от светлых глаз и от сердца, богатого пониманием поэзии. Первые отношения критики сороковых годов к первоклассным русским писателям отличались безукоризненною справедливостью. Ни одно сильное дарование не было ею просмотрено, ни один обманчивый метеор не был ею признан за звезду первой величины, ни одно дельное возражение не было ею оставлено без ответа, ни один зоркий противник, способный вредить, не был оставлен без заслуженной отплаты. Относясь с величайшей правдою к писателям первостепенным и достойным высокой роли, в них угаданной, критика гоголевского периода была менее справедлива к талантам второго разряда, по 388 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века каким-нибудь случаям получившим до ее времени славу первостепенных поэтов и прозаиков. На этой ошибке мы не остановимся долго, ибо не признаем ее ошибкою особенно многозначительною, но в ней уже проявлялись будущие слабые стороны новой критики, потому мы и должны, хотя вскользь, коснуться этого предмета. Из поэтов и прозаиков, которых недавняя слава была безжалостно разрушена новой критикою, многие живут и благородно трудятся до нашего времени. Избегая полемических оттенков в этюде нашем, мы не будем их касаться, а для примера назовем хоть имя Марлинского, из любимейших и прославленных повествователей одною статьей превращенного в олицетворение напыщенной, уродливой, высокопарной бездарности. До сих пор Марлинский еще нуждается в хладнокровной оценке, до сих пор ценители, истинно признающие в нем, при всех его недостатках, и дарование, и силу истинной поэзии, еще не могут решиться поднять свои голоса в защиту лучших вещей Марлинского. Так силен был удар, ему нанесенный, так полезны были последствия этого удара для дела упрощения русского повествовательного слога! А между тем через много лет после критической статьи о повестях Марлинского, признавая важность и пользу этой статьи, мы не можем не читать ее с самым тяжелым чувством. В ней, чуть ли не в первый раз, выказался тот дух исключительной нетерпимости, который со временем, под влиянием неблагоприятных обстоятельств, наложил темное пятно на критику, нами теперь разбираемую. В разборе произведений Марлинского ценитель является не учителем литературного деятеля, а его необузданным противником. Увлекаясь похвальной любовью к простоте идеи и формы, автор разбора забывает великую обязанность поощрителя и побудителя даровитых людей, строгого, но нелицеприятного указателя их слабостей. Марлинский, при его уме, гибкости и наглядности, при славе, им добытой, при живой поэтической струе, его наполнявшей, мог легко уразуметь свои ошибки, возобновить свою литературную деятельность, отказаться от мишурной риторики, так ему вредившей, – одним словом, мог бы сделать многое для себя и для публики, если б урок был ему дан не столь жестокий. Ни одно из его достоинств не было признано, сам он осыпан язвительными приговорами; критик, по званию своему обязанный развивать и создавать писателей, с каким-то диким смехом уничтожал всю его деятельность. Вообще, не 389 Хрестоматия по истории русской литературной критики только наша русская, да и вообще вся европейская критика еще далеко не понимает всей примиряющей, творящей роли в ценителе, но, несмотря на это извинительное обстоятельство, статья о Марлинском составляет резкую крайность даже в старой резкой критике. В ней слышится какой-то озлобленный голос нетерпимости, вся она будто выговаривает известную фразу: «Если ты не со мной, значит, ты против меня. Если ты не со мной, значит, ты никогда не будешь и не можешь быть со мною». Оскорбительная нетерпимость убеждений, сейчас нами замеченная в разбираемой нами критике, доходила до еще более опасных пределов в ее отношениях к периодическим изданиям и журнальным партиям старого времени. Тут наша критика зачастую вредила себе по собственной своей горячности и перебрасывала свои стрелы гораздо далее той цели, в которую они были направлены. Элементом, примиряющим и согласующим спорящие стороны, она никогда не была богата, ибо ей недоставало той практической опытности, которая одна, в соединении с даровитостью критика, строит прочное здание из материалов, имеющихся под рукою, и неотразимо привлекает к себе все живые силы, какие только находятся налицо в известную литературную эпоху. Журналы и литературные круги, с которыми критика сороковых годов находилась в постоянном и никогда не смягчавшемся антагонизме, ярко делились на два разряда, из которых один оправдывал собой все ее обвинения, тогда как другой заключал в себе те честные и живые силы, с которыми надо было обходиться, даже при спорах, с полным уважением. Если одна часть антагонистов, имевшая, например, свой голос в критике «Северной пчелы» (когда-то и «Северная пчела» имела свою критику), действовала во вред всей литературе, не принося ни малейшей пользы делу родной словесности, зато другая трудилась не напрасно и имела полное право на признание заслуг, ею сделанных. Литераторы, ныне имеющие свой, всеми уважаемый орган в журнале «Русская беседа», действовали и в сороковых годах, частью в журнале «Москвитянин», частию в других сочинениях и сборниках однородного с ним направления. Дарования их были значительны, с идеями, ими приводимыми, можно было не соглашаться, но во всяком случае то были идеи людей добросовестных и убежденных, имеющих будущность и стоящих своей будущности. С ними критика сороковых годов должна была ладить, 390 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века как с товарищами, идущими не по одной дороге с нею, но она не ладила, даже не спорила с ними серьезно, а, полная отрицания и заносчивости, относилась к ним так, как относилась в то же время к фельетонной брани г. Булгарина. Время вполне показало несостоятельность такого отношения. Критика «Северной пчелы», по началу своему бесплодная, теперь читается в веселый час любителями всего смехотворного; в течение десяти с лишком лет ни один уважающий себя литератор не отвечал на ее нападения, если даже они были полны явным искажением фактов. Не то с убеждениями круга лиц, ныне трудящихся в «Русской беседе»; вся Россия их уважает, большинство литераторов слушает их слово, часто не соглашаясь с ним; их критика разрослась и имеет свой голос, повсюду возбуждающий симпатию, противоречия и споры, не принадлежащие к области бесплодной полемики. Смешать оба направления и с обоими обходиться одинаково значило сделать не только великий литературный промах, но отклонить от себя целый круг благомыслящих и дельных товарищей. Отношения критики гоголевского периода к старой «Библиотеке для чтения» были столько же ошибочны. Не имея ничего общего с старой редакцией журнала нашего в годы его успеха, мы можем говорить о нем с полным беспристрастием. Эстетическая критика «Библиотеки для чтения» имеет на своей совести не одну ошибку – главная из них состоит в непризнавании значения Гоголя и беспристрастном, не совсем дружеском взгляде на новейшее движение, принятое русскою словесностью. Против такого заблуждения следовало ополчаться, но опять-таки ополчаться с разбором, не смешивая отсутствия критической зоркости с недоброжелательством и журнального упорства с зловредными стремлениями. Старая «Библиотека для чтения» много сделала для русской публики и русской журналистики; капризы ее критики ни под каким видом не имели ничего общего с выходками рецензентов «Пчелы», ровно ничего не сделавших ни для русской публики, ни для русской журналистики. «Библиотека для чтения» в годы ее успеха издавалась честным и просвещенным образом. Она владела большими силами, возбуждала симпатию в публике и – вполне того стоила. Круг ее сотрудников был значителен и состоял из людей, получивших почетную известность безукоризненными трудами. Сверх всего этого, журнал, нами названный, особенно в первые годы своей деятельно391 Хрестоматия по истории русской литературной критики сти, представлял начало элемента, который, если бы его понять и оценить как следует, мог принести значительную пользу нашей критике. «Библиотека для чтения» издавалась в духе великобританских обозрений и знакомила читателя с английской литературой. Редакция ее имела то, чего именно недоставало критике гоголевского периода, а именно основательное знакомство с великобританской критикой. Надо прибавить, что она не вполне применила к делу это знакомство, не высказала всего, что знала, и, благодаря своему преувеличенному понятию о литературном джентльменстве, не вступала в споры о предметах искусства. И, обвиняя ее в том, мы все-таки не можем оправдать и разбираемую нами критику, постоянно придерживавшуюся девиза, обильного нетерпимостью. Трудно было спорить с людьми, говорившими вам с первого раза: «Если ты не со мной, значит, ты мой враг и деятель бесполезный». Коснувшись таких важных предметов, каковы английская литература и английская критика в ее применении к воззрениям русских ценителей искусства, мы наконец приступаем к рассмотрению тех эстетических источников, и которых были почерпнуты воззрения нашей критики гоголевского периода. Всякому из наблюдательных читателей хорошо известно то стройное течение европейских литератур, которое, особенно проявляясь в эпоху нам современную, видимо ведет все образованные народы к тому умственному братству, вследствие которого разнородные европейские литературы сближаются между собой и становятся общим достоянием каждого образованного смертного. Это явление, начавшееся весьма недавно, замечательно по своему быстрому ходу и обильно результатами самыми благотворными. Не прошло ста лет с той поры, как французский вкус и французская словесность господствовали по всей Европе, ныне это господство утрачено, и сами французы, нисколько тем не оскорбляясь, берут уроки у немецких и великобританских мыслителей. Нет ста лет с тех пор, как имя Шекспира в первый раз было произнесено французом как имя дикаря, не лишенного дарования, ныне всякий обитатель Франции, знающий грамоту, может составить себе библиотеку из переводов Шекспира и всего, что было писано о великом поэте французскими учеными. Не далее как в начале нашего столетия «Эдинбургское обозрение» в первый раз знакомило английского читателя с талан392 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века том Гёте, «писателя странного, но все-таки даровитого»: через двадцать пять лет после этого снисходительного отзыва слава Гёте прочно установилась во всех краях, где только звучит англосаксонское наречие. При Наполеоне, во времена французской империи, парижский академик, имя которого выскользнуло из нашей памяти, составлял отчет о немецкой литературе; в отчете этом – «Кант, Сведенборг и им подобные безумцы» относились к «явлениям, составлявшим позор рода человеческого», opprobre du genre humail, ни более ни менее. Теперь последний школьник последней коллегии не смешает Канта с Сведенборгом и не назовет одного из первых германских мыслителей позором чего бы то ни было. Взаимное действие избранных умов каждого края до нашего времени идет в подобной прогрессии. Всякий литератор нашего периода знает как нельзя лучше свою обязанность – следить за тем, что делается вокруг него литераторами и мыслителями других стран Европы. Конечно, никто не принуждает его погружаться в шведскую беллетристику или проверять свои выводы по теориям португальских критиков. Но он знает, что из европейских семей нашего времени, больших и малых, только три великие семьи – германская, французская и великобританская – одарены голосом, которого нельзя не слушать. Быстро идет к этому же разряду и наша могучая семья, а может быть, мы, современные деятели современного поколения, доживем до той поры, когда русская поэзия и русская критика займут важное место в мире поэзии и критики старейших государств Европы. Мы сказали уже, что всякий русский писатель, в особенности если он принимает на себя обязанность литературного ценителя, должен быть знаком с ходом идей и словесности трех самых литературных государств Европы. Каковы бы ни были его критические способности, он не в силах обойтись без этого знакомства. Обходясь без путеводителей в своей области, он истратит всю свою энергию на первые шаги и на первые тропинки, будет истощать себя на решение вопросов, давно решенных, станет цепляться за теории, давно опровергнутые и свершившие свое назначение. Усиленно расчищая дорогу перед собою, он выйдет на чистое место только тогда, когда его силы, ослабленные долгой искусной борьбою, откажутся ему повиноваться. Но, с другой стороны, критик должен строго держаться своей национальной самостоятельности 393 Хрестоматия по истории русской литературной критики и, черпая сведения из разнородных перед ним находящихся источников, не предпочитать одного полюбившегося ему источника всем остальным. Воспринимая чужеземную идею, помогающую нашему труду, мы должны иметь над ней две критики – одну свою, а другую чужеземную. Учась у немца, мы должны знать, что думает француз об идеях нашего учителя, – заимствуя понятия у француза, нам не мешает поверить то, как смотрят англичане на это понятие. Из взаимного международного контроля, проведенного через русский ум и примененного к русскому миру, и выйдет та истина, которою мы можем руководиться. Критик лишается половины всей своей силы, если он поддается влиянию какой-нибудь чуждой народности, а самое лучшее спасение от такого влияния есть всестороннее европейское образование. История наших русских ценителей служит подтверждением нашего замечания. Прежде всего мы поддались французскому воззрению на искусство и за то поплатились периодом псевдоклассицизма. Потом к элементу французскому, возрожденному и украшенному, присоединился германский элемент, приведший нас сперва к романтизму, а потом к общественной дидактике. Великобританский элемент, явившийся к нам позже всех, мог бы быть вреден своей излишней практичностью, явно ведущей к заменению эстетических начал личными воззрениями критика, но влияние его, смягченное всем тем, чему научились мы от французов и немцев, никогда не может быть исключительным влиянием. <...> Критики сороковых годов были знакомы с старой и повой французской словесностью, зорким глазом, по мере своих сил, следили они за умственным движением Германии, по части великобританской словесности познания их были более чем ничтожны. Поэзия и критика целого народа, занимающего столь важное место в образованной Европе, народа практического, много знающего и мастерски оценившего всю чужеземную мудрость, были ими оставлены без внимания. Впоследствии убедимся мы и проследим за тем, как печально отразилось это невнимание на дальнейших судьбах нашей критики, в то самое время, когда здравое изучение новейших английских мыслителей могло бы быть верным противуядием против германской неодидактики и сентиментального жоржсандизма. Но мы еще не дошли до этого периода времени. Основа394 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века ния, на которых наша критика строила свое здание, еще не имели в себе ничего шаткого. Теории, ее сперва вдохновлявшие, понятия, дававшие ей прочную опору в самом начале ее деятельности, встречали голос общего одобрения и во Франции, и в Германии, и в Англии. Лучшая пора деятельности критики гоголевского периода совпадает с последними годами полного владычества философии Гегеля. Эстетические его теории, его воззрения на благородное значение искусства, даже его терминология, – все это было воспринято нашей критикой, и воспринято не рабски. Мы не можем в краткой статье сообщить читателю о всем труде, о всей страсти, о всех почти невообразимых усилиях, с какими воспринимались, изучались и истолковывались эстетические теории Гегеля главными деятелями критики гоголевского периода; сколько препятствий, по-видимому непреодолимых, было здесь обойдено; сколько понятливости и способности всякого рода было истрачено для борьбы с теми техническими трудностями, без которых ни идеи, ни даже терминология Гегеля не могли быть усвоены русским человеком. Главные представители критики, нами разбираемой, не могли следить за пояснениями Гегеля на самом языке великого профессора и между тем, невзирая на это обстоятельство, умели не только освоиться с этими понятиями, но даже истолковать их русской публике, даже применить их ко всей системе своих литературных приговоров. С помощью любви к делу и неутомимости, при посредничестве немногих людей, слушавших Гегеля или изучавших его творения, начат был путь, на котором, как казалось, первые шаги должны были привести к затруднениям безвыходным. Но критика шла далее и далее, и путь ее с каждым годом становился шире. Русская публика, не приученная к глубоким эстетическим воззрениям, несмотря на то, оценила все воззрения новой критики. Русский читатель, на короткое время ставший в тупик перед новою для него терминологиею, ознакомился с нею и понял ее необходимость. Шутки невежд по поводу субъективности и объективности, замкнутости и конкретности смешили лишь одних невежд: образованная часть русских читателей не принимала участия в этом смехе. Надо отдать одну великую справедливость нашей критике. Она явилась русскою, чисто русскою критикою, невзирая на свои теории, заимствованные от германского мыслителя. Она не удалялась на туманные вершины трансцендентализма, вершины 395 Хрестоматия по истории русской литературной критики слишком часто посещаемые самим Гегелем; она не увлекалась желанием пощеголять туманностью фразы, не копировала, дагерротипным манером, манер своего учителя. По естественному ходу вещей, не имея возможности изучить всего Гегеля непосредственно, она восполняла этот недостаток своим умением истолковать те части Гегелева учения, которые были ей доступны. Мы не настолько знакомы с немецкой философиею, чтоб считать себя вправе подробно разбирать отношения критики нашей к эстетическим воззрениям Гегеля, но на этот счет мы можем руководиться отзывами людей беспристрастных и знающих дело. Гегелева философия в ее применении к оцениванию предметов искусства (так говорят эти люди) была разработана нашей критикой гоголевского периода гораздо шире и плодотворнее, нежели была она разработана в то же самое время во Франции, людьми, специально посвятившими себя изучению новой немецкой философии. Таким образом, положивши, по мере сил и возможности, широкое основание своим художественным воззрениям, критика гоголевского периода начала применять воззрения эти ко всем главным явлениям текущей русской литературы. Гегелевское воззрение, искусно приложенное к потребностям русского искусства, начинало укореняться в нашей словесности, как вдруг посреди тишины и успехов в направлении критики, нами разбираемой, начали появляться печальные симптомы, заставлявшие предполагать в ней начала разлада с теориями, недавно ею высказанными. Мысли, почерпнутые у Гегеля и в первый раз проведенные Гегелем, начали появляться реже и реже; с каждым месяцем чаще стали показываться в критике нашей понятия и убеждения, составлявшие странный контраст с принципами, недавно ею высказанными. Человек, привычный к терминологии, взятой у Гегеля, своими ушами слушавший живую речь усопшего профессора, мог легко подсмотреть фундаментальные уклонения от теорий великого мыслителя. Читатель, постоянно следивший за ходом новейших эстетических воззрений в Германии, один был в состоянии уяснить себе причину таковых уклонений, но читателей подобного рода было немного между русскими читателями. Мы все, ученики критики гоголевского периода, долгое время следили за ее первыми аберрациями не без смутного чувства, едва понимая собственные свои ощущения. Людям, более близким к литературному кругу, дело было понятнее. Слово Гегеля 396 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века начинало утрачивать свою силу в самой Германии. Бывшие ученики великого мыслителя, далеко низшие его дарованием, составили новую философскую школу33 – школу отрицательного направления, и воззрения этой странной, ныне расслабленной, школы быстро пошли в ход в Германии, как идет в ход все эффектное, яркое, задорное. Долго было бы говорить о значении школы, нами названной. Мы судим не о немецкой философии, а только о той ее части, которая повела за собою изменение эстетических воззрений на искусство. Германская философия никогда не оставляла в тени литературных вопросов,– напротив того, она умела действовать на Германию и на чужие земли посредством этих самых вопросов, обсуждаемых с точки зрения философских школ, в ней преобладающих. В следующей статье нашей мы покажем, какой великий, хотя и скоропреходящий, вред был нанесен всей европейской критике эстетическими воззрениями мыслителей и новых дидактических поэтов Германии. Статья вторая Все критические системы, тезисы и воззрения, когда-либо волновавшие собою мир старой и новой поэзии, могут быть подведены под две, вечно одна другой противодействующие теории, из которых одну мы назовем артистическою, то есть имеющею лозунгом чистое искусство для искусства, и <другую > дидактическою, то есть стремящейся действовать на нравы, быт и понятия человека через прямое его поучение. Постараемся в кратких и по возможности общедоступных выражениях изложить цель и значение той и другой теории, заранее извиняясь в неизбежных неполнотах нашего объяснения. Журнальная статья имеет свои пределы, и предстоящее отступление, как ни важно оно для предмета этюда нашего, не должно переходить в многословие. Теория артистическая, проповедующая нам, что искусство служит и должно служить само себе целью, опирается на умозрения, по нашему убеждению, неопровержимые. Руководясь ею, поэт, подобно поэту, воспетому Пушкиным, признает себя созданным не для житейского волнения, но для молитв, сладких звуков и вдохновения. Твердо веруя, что интересы минуты скоропреходящи, 397 Хрестоматия по истории русской литературной критики что человечество, изменяясь непрестанно, не изменяется только в одних идеях вечной красоты, добра и правды, он, в бескорыстном служении этим идеям, видит свой вечный якорь. Песнь его не имеет в себе преднамеренной житейской морали и каких-либо других выводов, применимых к выгодам его современников, она служит сама себе наградой, целью и значением. Он изображает людей, какими их видит, не предписывая им исправляться, он не дает уроков обществу или если дает их, то дает бессознательно. Он живет среди своего возвышенного мира и сходит на землю, как когда-то сходили на нее олимпийцы, твердо помня, что у него есть свой дом на высоком Олимпе. Мы нарочно изображаем поэта, проникнутого крайней артистической теорией искусства, так, как привыкли его изображать противники этой теории. На первый взгляд положение дидактического поэта кажется несравненно блистательнейшим и завиднейшим. Для писателя, отторгшегося от вечных и неизменимых законов изящного, для поэта, бросившегося, по дивному выражению Гоголя, в волны мутной современности, по-видимому, и путь шире, и источников вдохновения несравненно более, чем для служителей чистого искусства. Он смело примешивает свое дарование к интересам своих сограждан в данную минуту, служит политическим, нравственным и научным целям первостепенной важности, меняет роль спокойного певца на роль сурового наставника, и идет со своей лирой в толпе волнующихся современников не как гость мира и житель Олимпа, а как труженик и работник на общую пользу. Здравомыслящий и практически развитый поэт, отдавшись дидактике, может произвести много полезного для современников – этого мы отвергать не будем. Кстати скажем здесь, что, по всей вероятности, прилагательное дидактический покажется крайне оскорбительным всем противникам идеи «искусство для искусства». По нашей рутине, со словом «дидактика» непременно соединяется мысль о французском кафтане, феруле, псевдоклассиках, трех единствах, париках и тогах, престарелых актерах, декламирующих монолог Терамена среди общего посмеяния! Увы! Если б дидактика всегда занимала собой одних стариков, чтителей Терамена, и давала нам поэмы вроде «Послания о пользе стекла» и «Art Poetique» Боало! Дидактическая поэзия не умерла с тремя единствами, она недавно еще цвела во Франции, в Германии, отпускала философские дифирамбы устами 398 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Жоржа Санда, руками Берне бросала грязью в великого Гёте, участвовала в аберрациях романтической школы поэзии, убила эту школу, попробовала смешаться со всеми интересами наших годов, опозорила себя окончательно и, полная тревоги, уверившаяся в своей слабости, пугливо остановилась на своем пути, сама не зная, что делать и куда броситься! <...> Изложив, по возможности, сущность обеих теорий, перейдем к их историческому значению. Во все года, во все века и во всех странах видим мы одно и то же. Незыблемо и твердо стоят поэты, чтители искусства чистого, голос их раздается из столетия в столетие, между тем как голоса дидактиков (часто благородные и сильные голоса) умирают, едва прокричавши кое-что, и погружаются в пучину полного забвения. Дидактики-моралисты, несмотря на сатиры и насмешки, возбуждаемые их трудами, еще играют некоторую роль в словесности, благодаря вечному нравственнофилософскому элементу в их деятельности, но дидактики, приносящие свой поэтический талант в жертву интересам так называемой современности, вянут и отцветают вместе с современностью, которой служили. В великом наступательном движении человека и общества десятки годов, составляющие срок жизни целого человеческого поколения, – есть атом, минута, кратчайший срок из вечно переходной эпохи. То, что сегодня было ново, смело и плодотворно, – завтра старо и неприменимо и, что еще грустнее, не нужно обществу! Горе поэту, променявшему вечную цель на цель временную; горе мореходцу, доверчиво бросившему свой единственный якорь не в твердое дно, а в наносную отмель без устойчивости и крепости! И странное дело – и странная сила чистого гения – поэты-олимпийцы, поэты, так невозмутимые, поэты, удалявшиеся от житейских тревог и не мыслящие поучать человека, делаются его вожатаями, его наставниками, его учителями, его прорицателями в то самое время, когда жрецы современности теряют все свое значение! К ним народы приходят за духовной пищею и отходят от них, просветлев духом, подвинувшись на пути просвещения. Их чтит потомство, давно позабывшее возгласы поэтовдидактиков, служителей элемента преходящего. Их каждое слово умягчает душу смертного, с ними сбывается сказание про Орфея, под вдохновенные песни которого города строились сами, битвы прекращались, люди подавали руки друг другу и даже дикие звери 399 Хрестоматия по истории русской литературной критики забывали свою жестокость. Добро, красота и правда, вдохновлявшие этих поэтов, отражались во всех их произведениях. И произведения эти, пропетые в минуту вдохновения, набросанные для одного наслаждения, без всякой поучительной цели, стали зерном общего поучения, основанием наших познаний, наших добрых помыслов, наших великих деяний! Переходя к примерам, мы затрудняемся только их обилием. Раскройте книги Гомера и задумайтесь над этими дивными творениями. Гомер, одинокий слепец, не поучал никого и не делал никаких наставлений своим современникам. Он принимал факты жизни, как он нашел их, не указывая нам ни на какие недостатки, не изобретая никаких утопий, не делая никаких поучительных рассуждений. Мы читали недавно, что один из новых французских писателей замышляет сделать Ферсита героем драмы с современными воззрениями,– посмотрим, сколько лет проживет новый Ферсит, воскрешенный дидактиком нового времени! Гомер не стоит ни на стороне Ферсита, ни на стороне Одиссея, но и Одиссей и Ферсит знакомы всякому грамотному человеку и не забудутся, пока просвещение не перестанет существовать. Без малейшего стремления поучать кого бы то ни было Гомер есть учитель всего рода человеческого, Александр Македонский возил «Илиаду» во все свои походы, и через тысячу лет великие люди следующего тысячелетия станут плакать над «Илиадою», учиться из «Илиады». Гомер не учит нас ничему – а чему нельзя выучиться из Гомера? Сблизим настоящее с прошлым – слабых современных дидактиков с великим певцом «Илиады». О женщине, о значении женщины, об отношениях мужа и жены в последние тридцать лет сочинена была целая дидактическая библиотека. Каждый из поэтов и особенно каждая из женщин-писательниц имеют право думать, что на этот счет они достаточно просветили своих современников. Гомер, конечно, не мог иметь в виду подобного рода предметов, но он написал прощание Гектора с Андромахой. Эти две страницы, над которыми рыдал всякий человек, имеющий сердце в груди, конечно, принесли всякому человеку и всякой женщине более прямой пользы, нежели целый океан дидактических умствований. В них все, что может решать запутаннейшие вопросы такого рода, – в них бесконечная любовь, безграничное мужество, безграничная женственность! В них красота, добро и правда. Для того, кто сердцем 400 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века оценил эти две страницы Гомера, не стоит писать философских романов по поводу женщины и отношений между супругами! Возьмем второй пример, из второго поэта, почти столь же великого, как Гомер, и одинаково с ним удаленного от всяких дидактических помыслов. Шекспир, по-видимому, мог бы взяться за роль учителя своих современников, образование его было обширно, время его не могло назваться временем первобытных песнопений, при нем умер Бакон, реформация торжествовала в Англии. Несмотря на то, Шекспир жил и умер олимпийцем в отношении поэзии, по жизни он, всего вероятнее, был человеком минуты, философом настоящего, мирным и веселым жителем всего, что вокруг него творилось. Шекспир не мог разбирать, например, римской истории с точки зрения девятнадцатого столетия и хитро приисканными выводами сеять политические мысли в умах читателя. А между тем возьмите его «Кориолана», эту драму, для охарактеризования которой мы не находим слов на языке, ибо это не драма, а пророчество! Прочитайте это произведение для поучения собственно, и вы не поверите глазам своим, вам будет казаться, что какойто «исполин из человеков» только вчерашний день написал «Кориолана», что в нем каждое слово, каждый характер навеяны недавними европейскими событиями, которых величавым свидетелем еще так недавно была наша великая Россия! Разве геройское упрямство Кориолана, его ненависть к безумной черни, его нежное сердце, прикрытое железной бронею государственного мужа, не разъяснят вам многих вопросов, о которых было столько писано и столько еще будет писано? Разве слепое безумство черни, изгнавшей своего спасителя, не поразит вас собою? Разве вы не увидите в римском воине одного из тех суровых героев, о которых Томас Карлейль недавно читал целые лекции? Кто не увидит в драме «Кориолан» целого курса политической мудрости, тот никогда не будет видеть ничего далее своего носа. Драма, сочиненная беззаботным Виллиамом в несколько дней времени, есть драгоценная скрижаль для правителей, экономистов, друзей человечества, мыслителей, государственных мужей, пекущихся о своей родине! Третий великий поэт, читатель искусства чистого, представитель артистической теории во всей ее современности, жил между нами, хотя мы еще были детьми, когда он угас во всем своем величии. Это Гёте. Наполеон мысли, величайший гений поэзии, вели401 Хрестоматия по истории русской литературной критики чайший представитель нашего столетия. Влияние Гёте только что начинается, оно продлится на тысячелетия и нескоро еще будет оценено в точности. Для нашего примера Гёте замечателен тем, что пережил, на одной своей родине, две неодидактические школы, в ребяческом своем безумии усиливавшиеся сбросить с пьедестала того певца, которого один час жизни стоил всего их эфемерного существования. Одна из этих школ умерла и сгнила при его жизни; едва закрылся гроб великого олимпийца, как у его подножия испустила дыхание и вторая школа, ему враждебная. Теперь она догнивает, всеми забытая и всеми осмеянная. Кто не знает этих двух школ и их отношений к великому Гёте? Наступал 1813 год, победоносный русский государь остановил напор Европы на Россию и начал освобождение Германии от Наполеона. Германия поднялась и пошла в бой. Певцы кинули лиру и схватились за меч, но, по немецкой привычке, не совсем охотно сражались в рядах простых воинов, предпочитая философствовать о войне, удивляться – почему за их философское ратование им не дают корпусов или по крайней мере дивизий под начальство. Наполеон, недавно так страшный, был презренным врагом, по словам воинственных немецких поэтов. Унижение сил врага, самое опасное начало при войне, выражалось во всех дифирамбах немецких поэтов. Все французское, чужое, надо было сбросить с отвращением, надо было вернуться к старине Германии, к Арминию, к рыцарским временам, к романтическим битвам, к романтическим песням, от которых, конечно, рассыплется в прах сила императора французов. Арнт, Кернер и их товарищи, не дожидаясь победы, затянули воинственную победную песнь, перед которой на время забылись все песнопения Гёте. Посреди благородных порывов литература Германии стала не только дидактическою, но воинственно и старинно-дидактическою. Пока русские клали свои головы под Кульмом и выдерживали напор Наполеона под Дрезденом, немецкие поэты и немецкое юношество, ими руководимое, совершенно кстати занималось воспеванием величия древней Германии да бранью на всякого, кто не пламенел душою при имени древней Германии и Арминия, победившего легионы Вара. В заблуждении этом было много благородного, старая Германия имела в себе много поэзии, но мы позволяем себе усомниться в том, что гимны в честь Арминия и слепые проклятия на имя Наполеона могли освободить Германию 402 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века 1813 года одной своей силою. Нам кажется, что русская кровь и русские пушки были в этом деле полезнее брошюр Арнта, гимнов Кернера и всего литературного стремления к прелестям древней Германии. И Гёте, который во время славной войны, конечно, сердцем своим был с воинами своей родины, но песнями своими не примыкал к. ряду тиртеев-романтиков, нам кажется правым как нельзя более. Своим светлым умом он распознавал бессилие своих собратий, их расчет на увлечение минуты, их детскую заносчивость, их способность ликовать до победы, их стремление увлекаться в крайность, их самонадеянность и честолюбие, едва прикрытое возвышенными фразами. Роль поэта, думал Гёте (и эту мысль он высказывал в разговоре), состояла в том, чтобы или молча биться за родину, или тихо следить за событиями, не прерывая своих занятий искусством. Кричать, не двигаясь ни шагу, не хотел Гёте – его олимпийское величие не согласовалось с таким делом. Затягивать романтическую песнь там, где свистали пули и сталкивались полки, он предоставлял пустым мечтателям. Воскрешение старой Германии было близко его благородному сердцу, но он мог петь, делать свое дело и кончать свое поприще посреди всякой Германии, какая бы она ни была. <...> Пора кончить характеристику обеих школ и перейти к предмету, о котором мы начали говорить. Противодействие теориями чистого искусства, давно уже зародившееся в новой Германии, но еще сдерживаемое авторитетами Гёте и первых философов, ему современных, получило новую силу, когда эти старые великие люди наконец сошли со сцены. Новая германская поэзия и новая германская философия, взаимно поддерживая одна другую, сделали крутой поворот к полному отрицанию чистого искусства. Общественная дидактика водворилась в Германии, молодые ее представители восторжествовали и, непривычные к своему торжеству, дошли до всех крайностей философского и поэтического отрицания. Новая французская литература, отчасти вследствие своего сближения с германскими идеями, а еще более вследствие временных причин, понятных для всякого читателя, знакомого с историею последнего времени, быстрыми шагами пошла к неодидактизму. Один из первых талантов Франции, в лице Жоржа Санда, увлекся новыми общественно-эстетическими теориями. Молодые экономисты и историки Франции стали вносить тот же элемент в свою науку, романи403 Хрестоматия по истории русской литературной критики сты вроде Евгения Сю, популярные в обширном классе невзыскательных читателей, увидели себя в возможности ковать деньги из идей новой дидактики. Великая масса молодых деятелей как в Германии, так и во Франции стала в прямой антагонизм с идеями искусства чистого, начала пересоздавать все эстетические воззрения, до нее существовавшие, и примером своим увлекла огромное количество людей, всегда благоговеющих перед новизной, соединенной с проявлениями юношеской самоуверенности. В этот-то странный период литературного кризиса, в эту эпоху упадка убеждений, так недавно считавшихся великими и плодотворными, – великобританская словесность, во всех ее отделах, была спасительным прибежищем от неогерманской и неофранцузской дидактики. Счастливы были в то время мыслящие люди, имевшие возможность читать английских историков, английских экономистов, английских поэтов, английских критиков. Никогда еще глубоко практический разум британских мыслителей не высказывался в таком сокрушающем блеске, как при общем увлечении новой Европы к ложным теориям. Английская словесность была готова на критическую деятельность, ей предстоявшую – ее литераторы вполне ознакомились с германской литературой, сентиментализм новых французских ученых был им хорошо известен; по исторической части Англия имела людей гениальной проницательности, ее экономисты славились своей деятельностью, ее обозрения получили твердое и обширное развитие, сотни ценителей сильных талантов, ценителей, имена которых часто оставались неизвестными, были готовы произносить свое слово о новых воззрениях, волновавших собою умы Франции и Германии. Заслуги, в это время оказанные английскою словесностью, до сих пор еще не оценены по достоинству. Всюду и на всех пунктах представители этой словесности представляли целебное противодействие современным увлечениям. <...> Великое количество холодной воды было вылито на все эти беспорядочные, пылающие, молодые головы, стремившиеся извратить в несколько лет все спокойное течение европейской мысли и европейской поэзии. Жестокость урока мы опровергать не намерены – англичанин никогда не спорит уклончиво, он силен в споре, он беспощаден в насмешке. Но и спор, и насмешки были весьма полезны в деле такой великой важности. 404 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Наша русская критика гоголевского периода (мы возвращаемся к ней после длинного нашего отступления) была лишена возможности следить за тем, в высшей степени занимательным, процессом, который тянулся между представителями новых философских воззрений и английскими ценителями европейской литературы. Видя одну только сторону вопроса, критика, нами разбираемая, подверглась всей невыгоде своего положения. Теории чистого искусства, теории, до сей поры составлявшие основу всех ее убеждений, были поминутно опровергаемы новейшею деятельностью людей, стоявших в голове как французской, так и немецкой словесности. А между тем критика над смелыми дидактиками, безжалостно совершаемая великобританскими мыслителями, была ей совершенно не известна. Собственные побуждения влекли наших деятелей сороковых годов в две разные стороны. По своей страстной любви к искусству, по своему убеждению в величии поэзии они никак не могли признать авторитета новых мыслителей, цинически утверждавших, что фантазия никогда не произведет ничего подобного действительности, что поэзии нет дороги никуда, как только в сторону грубого реализма, обязанного служить целям практическим, сегодняшним, насущным. С другой стороны, наши критики были молоды, доверчивы ко всему новому, их, по справедливости, следовало назвать современными людьми, не чуждыми ничему современному. После довольно долгих колебаний, заметно отразившихся в ее деятельности, критика гоголевского периода поступила так, как она не могла не поступить в своем положении, лишенная помощи, лишенная указаний. Она восприняла эстетические теории неогерманских дидактов, но от применения их во всей их жестокой непоэтичности она не могла не уклониться, благодаря своей талантливости. Она ясно видела бедность новых представителей германской поэзии. Идти но одной дороге с такими ограниченными деятелями она не могла ни за что в свете. Сердце наших критиков лежало к той стороне новых дидактических партий, которая была богаче талантом. Жорж Санд стал ее идеалом и кумиром, новые французские историки и экономисты приковали к себе ее сочувствие. Убегая от сухости немецких мыслителей-дидактиков, она сделала огромный шаг навстречу дидактическому сентиментализму. 405 Хрестоматия по истории русской литературной критики Снова должны мы сказать несколько слов по поводу термина сентиментализм, может быть, опять-таки оскорбительного для небольшого числа лиц, до сих пор сочувствующих прежним теориям той школы, в которой Жорж Санд был блистательнейшим деятелем. У нас привыкли под именем сентиментальности разуметь розовую водицу любовных страданий, собирание желтых цветов (смотри «Обыкновенную историю» Гончарова), глядение на луну, слезы, достойные пастушка Тирсиса, и, в самом крайнем случае, тоску Стерна по поводу околевшего осла. Такое воззрение несправедливо, потому что оно узко. Сентиментальность есть не что иное, как всякое проявление горестных или радостных чувств человека, проявление несоразмерное с его причиною, бесполезное по своей неприменимости и оттого без надобности нарушающее ту спокойную твердость духа, без которой человеку существовать невозможно. Сентиментализм имеет бесконечное число видов, он может вторгаться во все науки, кроме разве наук математических, он входит во все житейские дела наши, и особенно в поэзию, где он часто принимается за страсть и даже практичность – тенденции. Сентиментальность в литературе есть вернейший признак талантов болезненных, слабых, заблуждающихся. То, что в нем кажется силою, есть один пароксизм, то, что в нем имеет вид сочувствия к современному, есть или заблуждение юношеской пылкости, или расчет недобросовестности, или совершенное отсутствие практичности. «Сила человека, – говорит нам Карлейль, – оказывается не в припадках горячки, а в перенесении тяжестей». Мысль эта исполнена глубины беспредельной. Всякий человек знает, что люди не ангелы, что в свете много горя и страданий, что обязанность мудрого человека состоит в том, чтоб бороться со злом жизни и делать добро своим собратиям. Но не всякий человек способен, увидавши перед собой горе и страдание, приступить к своей человеческой обязанности с той спокойною твердостью, которая отличает мудрого. И тут-то предстоит нам встретить сентиментальность вместо мудрости, крикливое коверканье вместо спасительного совета и быстрой помощи. Поэт, который при зрелище человеческого зла начнет коверкаться и произносить дифирамбы с пеной у рта, есть поэт сентиментальный, хотя бы его дифирамбы не имели ничего тирсисовского. Врач, который при виде больного станет бледнеть от жалости и лить слезы, будет врачом-сентименталистом – не из406 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века за одного того, что он льет слезы, а из-за того, что его волнение вредит зоркому глазу, необходимой медицинской твердости при виде чужого страдания. Литературный судья, который вследствие личных горестей или по причине житейского зла, им виденного, станет обращать литературу в собрание человеколюбивых и наставительных трактатов, будет сентименталистом, хотя бы личные воззрения его изобиловали твердостью духа. Он сентименталист оттого, что действует несоразмерно своему назначению и, имея в виду интерес близкой современности, упускает из вида безмерно важнейший интерес поэзии как учительницы не одного настоящего, но и будущих, еще не родившихся поколений. С той поры, как русская критика гоголевского периода усвоила себе дидактическую сентиментальность представителей новой французской словесности, ее влияние, произносим с горестью, начало, видимо, клониться к упадку. Поспешим сказать, однако же, что то не был упадок безнадежный, упадок старческий, упадок, замечательный одним бессилием. Святая любовь к поэзии и истине продолжала гореть на жертвеннике, только сияние этого пламени страдало от облаков тумана, на него налетевших. Всем сердцем и всей душой нашею убеждены мы в том, что критика, теперь нами разбираемая, выбилась бы из-под гнета ложных теорий, если б судьбе было угодно продлить жизнь ее главных деятелей, сделать их свидетелями того, чего мы были свидетелями. Критика сороковых годов покинула сцену, далеко не сказавши своего последнего слова: в этом нас никто не переуверит. Она имела все, что нужно для новых успехов и новой благотворной деятельности, при ее талантливости, зоркости, восприимчивости, готовности сознаваться в своих ошибках она не была способна долго идти об руку с дидактическим сентиментализмом Франции и Германии. Если мы, деятели второстепенного разбора, так много выучились из опыта последних лет, то как должен был этот опыт на нее подействовать? Если мы, когда-то с любовью следившие за литературными школами новой Германии и новой Франции, извлекли прочное поучение из падения школ этих, то каким поучением должна была обогатиться наша критика гоголевского периода, переживши то, что мы пережили? Как бы то ни было, перед нами то, что сделано, а не то, что могло бы быть совершено впоследствии. Дидактические заблужде407 Хрестоматия по истории русской литературной критики ния критики гоголевского периода прежде всего отразились на текущей журнальной литературе и деятелях второклассных. Беллетристика наша, поощряемая одобрением своих судей и указанными образцами, быстро наводнилась потоком самых странных произведений. Реализм, сентиментальность нового покроя, дидактическая тенденция основной мысли – вот три условия, которыми стоило только ловко распоряжаться для того, чтоб явиться в печати с похвалою. Во всех литературах беллетристическая деятельность хорошо награждается и служит лучшим проводником завидной известности, потому и немудрено, что во всякой литературе мы видим большое количество людей, берущихся за художественные произведения без малейшего к ним призвания. Первый признак дидактического направления в словесности заключается в том, что деятельность чисто научная или по крайней мере деятельность людей, к ней способных, устремляется на артистическое поприще, во вред писателям, призванным к артистической карьере. Там, где поэзию превращают в служительницу непоэтических целей (как бы благородны эти цели ни были), всякий считает себя вправе обращать форму поэтического произведения для оболочки своим идеям, своим трактатам, своим воззрениям. Экономисты бросаются в лиризм, историки начинают подражать романистам, и литературная путаница, начавшаяся вторжением научного элемента в художество, кончается переходом поэтов и нувеллистов к деятельности научной. Где ученый Гервинус начинает писать стихи, поэт Гейне увидит себя вправе сочинить книгу об истории немецкой литературы, и стихи профессора и ученое сочинение поэта выйдут неудовлетворительны. Если историк Мишле станет набрасывать страницы вроде глав из "Парижских тайн", стихотворец Ламартин, в свою очередь, возьмется за историческую деятельность. К таким странностям, вредным для искусства, ведет самый принцип литературной дидактики, допускающий, даже поощряющий смешение временного с вечным, научного с поэтическим, художественного с наставительным. Чуть наша критика сороковых годов увлеклась новой дидактикой, она лишила себя права быть художественно взыскательною. Если сочинение, ею разбираемое, вело к прямому поучению современного читателя, развивало животрепещущую мысль и не грешило против грамотности, оно считалось удовлетворительным и замечательным. Литература наша закипела деятелями, 408 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века может быть годными на сочинение памфлетов или экономических брошюр, но предпочитавшими давать своей мысли артистическое одеяние и поучавших публику через повести и стихотворения даже. В свою очередь литераторы, по складу дарования своего предназначенные для деятельности чисто художественной, долгом считали отклоняться от своего призвания, проводя в своих артистических вещах мысли и воззрения временные. Дух партии, неразлучная с ним нетерпимость начали разгораться в литературе, ибо все пишущие и мыслящие люди никак не могли сгруппироваться вокруг временных воззрений, признанных критикою. Писателю достаточно было лишь в нескольких временных тенденциях отклониться от принципов нашей критики для того, чтоб она начала смотреть на него как на антагониста и разрушителя всего ею созданного. Суровые споры вспыхивали повсюду, и злонамеренные ненавистники всякого литературного дарования искусно пользовались этими спорами для того, чтоб клеветать на литературу и вредить ее величию в глазах читателя. И читатель верил многим обвинениям, ибо его собственный инстинкт сказывал ему, что как в новой критике, так и в литературе нового времени находилось что-то неладное. Читатель понимал, что ему беспрестанно навязывали новых талантов в лице людей очень умных и красно пишущих, но не имеющих в себе почти ничего талантливого. Он был свидетелем, как критика громила других писателей, ему симпатических, громила их за то только, что мысли и воззрения этих деятелей признавались мыслями и воззрениями устарелыми. Артистическое чувство, врожденное во всякой публике, говорило ей, что так нельзя ценить литературных деятелей, что – на основании идей новой дидактики – вся история европейской литературы не имеет права существовать в ее настоящем виде, ибо, доведя ее выводы до логических результатов, всякая новая идея должна убивать собой все старые идеи и всех их служителей. С таким направлением не мог согласиться читатель, да и сама критика не решалась произнести его с откровенностью. Новогерманские мыслители давно уже писали в своих эстетических памфлетах о том, что поэзия без применения к насущным общественным целям есть ничтожество; но наши критики, надо им отдать справедливость, с неудовольствием глядели на такие заблуждения. 409 Хрестоматия по истории русской литературной критики Разлад русских читателей с критикою, нами разбираемою, становился заметнее со всяким годом. Уже многие похвалы, ею произнесенные по поводу новых повествователей (у нас дидактическое направление особенно проявлялось в повестях), не встретили ни малейшего отголоска в публике – симптом весьма многознаменательный. Сегодня проходила без успеха повесть нового писателя, "обильного надеждами", завтра читатели оставляли неразрезанным такой-то перевод Жорж-Сандова романа, – месяц спустя сочинение писателя, давно осужденного критикою на забвение, возбуждало сочувствие в образованной части публики. Вслед за первыми признаками несогласия пошли признаки более печальные. В ряде капитальных и мастерских статей, составлявших лучшее право нашей критики на любовь читателя, начали появляться выходки, исполненные важных заблуждений. Мы говорили уже об огромном и совершенно заслуженном успехе, каким пользовались этюды о лучших русских поэтах старого и нового времени, этюды Виссариона Григорьевича Белинского, лучший труд этого замечательного человека. В те года, когда критика гоголевского периода усвоила себе дидактическое германское направление, расцвеченное сентиментальностью французских дидактиков, в «Отечественных записках» печатался ряд превосходных статей о Пушкине. Кто не помнит, с каким восторгом их перечитывали, сколько благородных мыслей извлекали они из этого труда, так изящно разъяснявшего перед нами всю великую сторону в деятельности бессмертнейшего, благороднейшего, любимейшего и любезнейшего из поэтов России? И вдруг к общему наслаждению начало примешиваться явное неудовольствие. Масса публики сама хорошенько не понимала, почему статьи о Пушкине, писанные с горячностью, стали производить на нее тягостное и раздражительное впечатление, подобное впечатлению от нескольких чересчур резких аккордов в прекрасной оратории. Ценители более зоркие и внимательные поняли все дело скорее, нежели публика. Наш Пушкин, наш любящий поэт, наш художник в полном смысле слова, разбирался уже не с художественной, а с резко дидактической точки зрения. Критика, сама исполненная страстной любви к поэзии Пушкина, не решалась произносить над ним того дерзкого суда, который должен был 410 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века явиться прямым выводом из неодидактического воззрения на спокойную деятельность Пушкина1. Усиливаясь примирить два воззрения, никогда не совместимые, разбираемая нами критика придумала меру в высшей степени необыкновенную. Не находя в себе силы нападать на Пушкина как на человека, гений которого был совершенно противоположен с ее воззрениями, она решилась в самой его поэзии найти элемент преднамеренно дидактический. Увлекаясь своей жаркой любовью и к поэзии Пушкина, и к современным воззрениям новой дидактики, она пламенно приступила к тому, чтоб слить и то и другое в одно стройное целое. Мы верим, что усилия ее проистекали из сердца, полного страстных убеждений, что кажущаяся недобросовестность предприятия не имела в себе и тени дурного помысла. Так нежный сердцем человек, страдая от того, что его два лучшие друга не ладят между собой, делает все возможное для их сближения, сводит их у себя и простодушно радуется их приходу, не подозревая того, что оба приятеля только тешат его благородное сердце своим послушанием, на самом же деле и не помышляют о невозможном примирении. Первая попытка представить Пушкина поэтом новодидактического направления была совершена до того блистательно, что почти заставила призадуматься упорнейших спорщиков. Разбор «Цыган» нам до сей поры памятен по своей странности, по своему мастерству и жару, достойному более справедливой цели. Точно, основная мысль «Цыган», одного из самых изумительных и мудрых произведений поэта нашего, поражает не одной своей гениальностью, но возможностью самого современного применения. Толпы новых дидактиков, подступавших к общественным отношениям, к воззрениям на ревность, неверность и другие катастрофы любовных отношений мужчины и женщины, не высказали десятой доли великих идей, сказанных почти ребенком Пушкиным в одном из первых произведений его юности. Лучшие вещи Жоржа Санда в лучшую эпоху его деятельности едва могут, по важности вопросов, 1 К чести малого числа почтенных и истинно убежденных лиц, до сих пор глядящих на словесность сквозь очки когда-то сильной дидактики, надо сказать, что ни одно из них не позволяло себе в печати никаких нападений на Пушкина, кроме немногих косвенных намеков. Впрочем, смеем думать, что ни один из ныне существующих журналов не потерпел бы нападений на имя Пушкина. 411 Хрестоматия по истории русской литературной критики в них затронутых, идти в параллель с «Цыганами» Пушкина. Но остается еще вопрос, и основной вопрос, о том, имел ли Пушкин, бравшись за свою ношу, преднамеренное стремление поучать современное общество и быть поэтическим, сознательным проводником тех идей, которых Жорж Санд был впоследствии непризванным представителем. Следует ли нам думать, что наш поэт, равно отзывавшийся на все жизненные стороны и стремления, заранее подчинил себя известной стороне жизни, известным временным стремлениям, хотя и справедливым, может быть, но стеснительным для его поэтического горизонта? Этого-то никак и не следует, ибо горизонт Пушкина, как горизонт великого художника, был беспредельно шире горизонта всех дидактиков, прошедших, настоящих и будущих. Судить о всем его миросозерцании по «Цыганам» так же странно, как определять все общественные воззрения Шекспира, во всю его жизнь, по «Кориолану», о котором мы говорили недавно. Оба поэта дали но великому уроку на известную тему будущих поколений и затем перешли к деятельности другого рода ибо им было не чуждо все человеческое, а не одна случайная сторона человеческого1. И наконец, рассмотревши «Цыган» с более широкой точки, мы видим в них ту широту, ту общепоучительность, из которой все стороны должны извлекать полезные уроки, не кичась и не признавая себя правыми. Разве знаменитый стих, достойный Шекспира: «Ты для себя лишь хочешь воли», не может быть понят, как смертный приговор всей новодидактической школе в ее отношениях к обществу и другим литературным школам, по идее от нее отделенным? Как же нам после этого смотреть на Пушкина, и какие преднамеренно дидактические цели откроем мы еще в его поэме? Раз начавши дело заблуждения относительно поэзии Пушкина, критика сороковых годов продолжала его с горячностью. В разборе «Евгения Онегина» выводы ее стали еще резче и еще страннее. Нам 1 В одной из последующих статей наших мы покажем в подробности, до какой степени теория искусства чистого, взятая в своем широком значении, значении Гёте, Вордсворта, Крабба, Шиллера, совмещает в себе все данные для полезного поучения человека, – и даже, понятая как следует, в известной степени не отвергает дидактической деятельности в самом временном ее применении. Мы расскажем о том, как мы разумеем теорию свободного творчества, в которой Скотт дает право существованию Гуду и Гёте узаконяет появление Кернера. 412 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века некогда останавливаться на всей отрицательной стороне, открытой критиками в плане поэмы, над софизмами, какими она, например, оправдывала бесплодную хандру Евгения: со всем этим кое-как мирилась внимательная часть читателей. Но все поэтические инстинкты, вся правдивая сторона читателя глубоко возмутилась, когда новодидактическое воззрение наконец коснулось пленительнейшего лица в создании поэта нашего, его Татьяны, его стыдливой, любящей, поэтической русской женщины, всегда прекрасной, всегда правдивой – и в бессонную ночь первой любви, и в тяжкий час последнего свидания с Евгением. Каким волшебством мог Белинский, критик-поэт, существо так страстное по натуре, человек так поэтический по складу своего высокого дарования, унизиться до столь грубого непонимания поэзии, какое он выказал в своем отзыве о Татьяне Пушкина? По его воззрению, Пушкин, изображая Татьяну, писал сатиру на холодность, бесчувственность, узкость понятий в современной женщине! Татьяна не имела права отвергнуть любви Евгения, того тщеславного и сухого душой Евгения, который не оценил ее первой привязанности и капризно полюбил Татьяну только тогда, как увидал ее в блеске и почете, идолом пышных гостиных! Татьяна не должна была противиться влечению сердца – героини дидактических романов Жоржа Санда никогда ему не противятся. Пленительнейший идеал русской непорочной красавицы, создание пленительнейшего из русских поэтов было брошено под ноги героиням сентиментальных романов, хотя и имеющих свое значение, но не стоящих но своей поэтической истине одной главы нашего «Онегина»! Грустно вспомнить об этом. К другому писателю мы должны перейти и переходим к нему с удовольствием. Отношения критики сороковых годов к другому сильному поэту современной нашей словесности, именно к Гоголю, были по крайней мере логичнее ее отношений к Пушкину. Здесь величие заслуги восполняет собой заблуждения, довольно значительные и на последних порах тягостные. Талант Гоголя при первом выходе в свет «Вечеров на хуторе» был понят, оценен и приветствован тою критикою, которая теперь получила свое название от периода нашей словесности, украшенного Гоголевой деятельностью. Наша критика широко разнесла имя Гоголя между русскими читателями, истолковала им истинное значение поэта, яркой звездой засветив413 Хрестоматия по истории русской литературной критики шегося на нашем литературном горизонте. Чтоб понять всю важность этого дела, стоит только вспомнить о том, как еще не готова была наша публика и наша журналистика к уразумению творений человека, подарившего России «Мертвые души». Смешно было бы думать, что весь океан хулы, брани, насмешек, ложных оценок, возбужденный деятельностью Гоголя, с самого начала происходил от одной злобы, недобросовестности и преднамеренной слепоты ценителей. Гоголь не мог возбудить особенной злобы своими первыми трудами, литературным аристархам его времени не было расчета систематически унижать начинающих писателей, да сверх того, литературная злоба не в духе русского человека. Мы твердо уверены, что причиной горячих нападков на Гоголя было нечто более упорное, чем злоба и преднамеренное непонимание его таланта, а именно – непонимание гоголевского таланта вовсе не преднамеренное, непонимание совершенно чистосердечное. Даже люди, которые, по прекрасному выражению г. Погодина, «не стыдились обвинять Гоголя в злонамеренности», дошли до этого унижения, начавши с простой неспособности ценить заслуги нашего писателя. И тут-то заслуга критики сороковых годов является нам в лучезарном свете. Бороться с ценителями слепыми труднее, чем бороться со злобой зоилов по призванию, уяснить вкус публики, еще не доросшей до понимания известного поэта, несравненно затруднительнее, чем иметь дело с читателем просто предубежденным. Борьба за Гоголя, споры о значении Гоголя тянулись долго и кончились со славою. Всюду, где нужно было оградить поэта от ложных толкований, от едких нападений, везде, где следовало объяснить его труд, растолковать его значение читателю, – беспрерывно являлась критика, нами разбираемая. Она лелеяла Гоголя, ясно понимала его великое значение, прикрывала его имя щитом своего авторитета, как великий Аякс в «Илиаде» прикрывает своим семикожным щитом Тевкра, первого стрелка во всей греческой рати. Не от одних упорных хулителей защищала Гоголя наша критика, она не раз восставала против чересчур восторженного воззрения на Гоголя, воззрения, способного навлечь насмешки на поэта вследствие своей преувеличенной восторженности. Всей зоркости, всего критического такта, всего мастерства, выказанного критиками сороковых годов в их отношениях к Гоголю до появления его «Переписки с друзьями», мы изобразить не в состоянии – по414 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века хвальное слово самого восторженного поклонника тут будет слабее простой истины. Благодаря этой заслуге, и именно благодаря ей, мы теперь видим Гоголя признанным поэтом целого литературного периода, любимцем читающей публики, писателем, которого издания расходится по России в тысячах экземпляров в несколько месяцев времени. Когда наша критика стала впадать в увлечения новым сентиментализмом и дидактическими теориями, ее отношения к Гоголю, по-видимому, не изменились нимало. Она по-прежнему продолжала популяризировать и объяснить его творения с прежним знанием дела. Правда, она уже начинала видеть в Гоголе писателя, совершенно убежденного в теориях об искусстве, близких ее сердцу, и приветствовать в нем поэта, воплотившего в себе все воззрения новейшей общественной дидактики. Такой взгляд не был верен, однако он не имел в себе ничего вопиющего. Гоголь, по великому своему уму и по юмористическому складу своего дарования, оправдывал этот взгляд «Мертвыми душами» – «Шинелью» – «Записками сумасшедшего» – «Невским проспектом», – оправдал его даже более, чем, например, Пушкин своей поэмой «Цыганы». Гоголь приносил прямую, насущную пользу, поучая современного человека, раскрывая недостатки современного общества, осмеивая порок и заступаясь за слабых. Из книг Гоголя можно было обильной чашей черпать поучения самые современные и самые временные, но не следует нам забывать того, что кроме этих поучений гений Гоголя был богат истинами вечными, истинами независимыми от взглядов известного поколения, истинами, никогда не преходящими, как всякая настоящая поэзия. Время побудило читателей видеть в Гоголе дидактика, время склонило нас к тому, что мы с особенной яркостью видим некоторые, почти дидактические стороны его дарования, но сила Гоголя не в стремлениях известного времени, не в толкованиях известного читающего поколения: Гоголь вечен, потому что поэзия, которой он служит, имеет вечное начало, неразрывное со всеми ее проявлениями. Не одни стремления, недостатки, слабости известного общества в известном периоде времени олицетворены музой Гоголя; эта муза смотрела гораздо далее, нежели смотрели сентименталисты-дидактики, думавшие, что поэт обязан трудиться лишь для временных, всегда изменяющихся целей. Гоголь не есть поэт отрицания, а между тем критика 415 Хрестоматия по истории русской литературной критики сороковых годов, сама вдавшись в одностороннее отрицательное направление, силилась видеть в Гоголе его полное воплощение. Поэт «Ревизора» есть вместе с тем поэт «Майской ночи» – перо, написавшее «Шинель», набросало «Старосветских помещиков»; у Гоголя «Вий» составляет противоположность «Игрокам», комедия «Женихи» не вредит поэме «Тарас Бульба». Какое нам дело до того, что к поэзии, природе и людям своей родной Украины поэт относится нежнее, чем к поэзии, природе и людям того города, где проживает Акакий Акакиевич, – Украина тоже Россия, и, воспевая ее прелесть, Гоголь выказывается человеком любящим, поэтом всесторонним! Критика наша погрешила тем, что налегла лишь на одну сторону Гоголева воззрения – сторону отрицательную, и мало того, что налегла на нее со всей страстью, но даже провозгласила Гоголя поэтом новодидактического направления, поэтом отрицательного общественного воззрения. Она провозгласила это, не имея на то права, и тем посягнула на сокровеннейшие сокровища великого писателя, то есть на его личный взгляд и личные убеждения. Пока не было антагонизма между личными убеждениями Гоголя и личными убеждениями его критиков, согласие между поэтом и его лучшими ценителями не было нарушено. Года шли, однако же, и зачатки раздора возникали между двумя сторонами, достойными иной участи. Всему свету известны сомнения Гоголя по поводу «Мертвых душ», его великие труды по продолжению этой поэмы, его жизнь за границей, его борьба со своим собственным дарованием, его болезненные годы, исполненные горячих испытаний, исполненные моральных потрясений. Гоголь вступал в годы полного развития своих сил и, зная это, стремился к тому, чтобы в «Мертвых» его «душах» явилась книга, навсегда способная увековечить имя Гоголя в его отечестве. Тяжел, мрачен и ужасен по нравственному труду этот период, о котором мы можем судить только гадательно. Здесь не место излагать наши догадки о том, что могло выйти из Гоголя после этих геркулесовских работ над собою. Когда-нибудь мы об этом скажем свое слово. По отрывкам, нам оставшимся от упомянутой поры, можно делать много предположений. В сказанных отрывках Гоголь является мыслителем гениальным. Шел ли у него гений художественного творчества заодно с развитием его почти беспримерного ума – этого, нам кажется, ни один критик решить не в состоянии. 416 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века «Переписка с друзьями», изданная в самую последнюю пору деятельности критики гоголевского периода, появилась в эпоху полного развития критической дидактики с ее сентиментализмом и отрицательным направлением. Книга Гоголя, как известно всякому, не имела никакого художественного значения, была издана для облегчения стесненных обстоятельств автора и заключала в себе много личных убеждений знаменитого писателя, с которыми очень можно не соглашаться, но в которых не было ровно ничего предосудительного. Великий ум человека, набросавшего эти письма, сиял на многих страницах; еще большее число страниц свидетельствовало о великой, болезненной борьбе, с которою совершалось артистическое развитие Гоголя как писателя. В письмах было много дидактики, конечно, не новой, не германской и не французской дидактики, а той почтенной дидактики религиозных людей, немного поддающихся мистицизму, которая не помешала Мильтону быть Мильтоном, Краббу Краббом и Ньютону Ньютоном. Нападать на нее, как на проявление никому не навязываемых личных стремлений, было недостойно, а если взять в соображение болезненное состояние Гоголя, даже безжалостно. Гоголь не враждовал ни с кем, не отступался от своей прежней деятельности, только находил ее неполною и недостаточной с точки своего настоящего развития. В одном только отношении он мог огорчить критику, до той поры им восхищавшуюся, – он отрекался от отрицательного направления, ему приписываемого. Вместо того чтоб оскорбляться этим поступком, критике нашей следовало прежде всего пересмотреть свои прежние отзывы, разобрать свою собственную деятельность относительно Гоголя и признать неосновательность своего суда о направлении его творений. Затем она могла ждать Гоголя как художника, с его новым будущим созданием. Если б воззрения, ей антипатичные, невыгодно отразились на продолжении «Мертвых душ», она имела бы право высказать свое мнение о недостатках этих воззрений в их применении к творчеству. Ничего подобного не было сделано. Дидактика новой критики столкнулась с дидактикой Гоголя, а результат подобных столкновений всегда бывает ужасен. Отыщите где-нибудь поклонника общественных романов Санда и скажите ему, что он идет по одной дороге с дидактиками, писавшими о «пользе стекла» или «искусстве быть счастливым», – вы увидите, какою яростью он исполнится. 417 Хрестоматия по истории русской литературной критики Нападите на какого-нибудь поэта Гервеговой школы с точки зрения искусства чистого, он станет спорить не без достоинства, но сообщите ему, что ранее его Свифт писал дидактико-политические стихотворения, ныне преданные забвению, поэт потеряет всякое приличие в диспуте. Ожесточение, с каким наши критики встретили переписку Гоголя, превосходит все, до того происходившее в литературе. В пылу негодования были забыты все приличия, вся обязанность критики в отношении к великому деятелю (хотя бы и заблуждающемуся), вся осторожность в споре, вся трезвость воззрения на предмет спора. Утратив ту благотворную, примиряющую сторону воззрения, которая создает нечто даже из элементов прямо противоречащих, ту сторону, без которой никогда нет истинной критики, – критика наша могла идти только по пути к оскорблениям. «Авторская исповедь» Гоголя навеки будет свидетельствовать о том, как принял настоящий Гоголь нападения на воображаемого Гоголя, на Гоголя-неодидактика, на Гоголя, созданного фантазией критики гоголевского периода. Защита великого человека перед нами, и нечего прибавлять к этой защите. <…> Страшно подумать о том, какое малое количество хладнокровия потребно было для того, чтоб озарить весь выше изображенный спор ясным светом примирения, чтоб положить конец распре, так гибельной для обеих сторон, ей предавшихся. Несколько талантливых людей с критиком, почти гениальным, в голове, с жестокостью обвиняли гениального художника и человека, обвиняли в чем же? В том, что образ его мыслей, еще не проявившийся ни в одном новом создании его гения, был не сходен с их собственными, личными воззрениями. Защитники терпимости и правды житейских отношений отказывали великому писателю в праве думать то, что он хотел думать, в праве развиваться тем путем, к которому влекло его сердце. Даже признавая Гоголя человеком вполне заблуждавшимся (чего мы не признаем вовсе), мы никак не видим основания, по которому какая-нибудь критика могла мешать Гоголю заблуждаться. Его идеи были по крайней мере столь же искренни, как идеи противников, поднявших против него свой голос. Его воззрения делились миллионами людей умных и высоких душою. Его воззрения были воззрениями первых поэтов за много столетий. Его воззрения не препятствовали созданию какого бы то ни было великого художественного произведения. Наконец, понятия 418 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Гоголя в последние годы его жизни до сей поры понятны и трогательны, тогда как неодидактические теории искусства, во имя которых поднялась такая гроза на Гоголя, нынче памятны нам как литературное предание, предание светлое, но за какие-нибудь восемь лет со дня своего полного развития покрывшееся туманом, со всяким годом делающимся непроницаемее! <…> Будем же продолжать дело критики, предшествовавшей нашему периоду, по возможности стараясь поучаться ее благими сторонами и чистосердечно отрекаясь от той части ее деятельности, которая кажется нам плодом заблуждений. <…> Уничтожать старые теории, ведущие к нетерпимости, сбрасывать с дороги все преграды к единодушной деятельности всех просвещенных литераторов на благо родной словесности – вот что должны мы поставить себе вечною и постоянною целью. По мере сил и способностей, проводя критические теории, нам кажущиеся неопровержимыми, мы не намерены критике журнала нашего установить один только наш голос, одни только убеждения, нам кажущиеся истинными. По именам новых сотрудников наших читатель может видеть, что в журнале он не встретит постоянного критического унисона, всегда ведущего к исключительности воззрения. По праву редакции, она предоставляет себе большую часть критических статей, подписывая их одной и той же подписью и отвечая за них как за полное проявление своих эстетических понятий. Но одними подобного рода статьями критическая деятельность «Библиотеки для чтения» ограничиваться не будет. Литераторы, не во всем сходящиеся с нами и даже прямо противоречащие нашему воззрению на литературу, могут смело рассчитывать на радушный прием своих статей, своих воззрений, основательно и прилично высказанных. За каждую критическую статью, не подписанную редакцией, за истины или заблуждения, в ней значащиеся, отвечает перед публикой сам ее автор. В наш журнал не могут быть допущены лишь одни лица, питающие явное нерасположение к делу всем нам родной и любезной словесности; к чести русской литературы надо прибавить, что подобных литераторов в ней теперь немного. Заключая этюд наш неполный и в некоторых местах, может быть, не совсем ясный, мы должны сказать хотя несколько слов 419 Хрестоматия по истории русской литературной критики еще об одном условии, без которого не будет существовать деятельность наша. Это условие есть не что иное, как великая критическая осторожность в изложении и применении идей, составляющих основу всех наших литературных воззрений. Торопливость оценок, быстрота выводов – это лучшее средство ошибаться и делать подрыв своему кредиту, от них страдала не одна критика во всем свете, от них и наша критика сороковых годов впала в большую часть своих ошибок. Времени перед нами много, и то, чего не даст литературе наша критическая деятельность, будет в свое время выполнено нашими журнальными наследниками. Из неторопливости, про которую говорим мы, исходят для нас две задачи, равно для нас важные. Мы будем проверять оценки и приговоры критики, нам предшествовавшей, с полной независимостью воззрения, мы станем обсуживать с нашей неторопливой точки зрения все новые идеи по части критики, имеющие возникнуть как в русской, так и в иноземной словесности. Увлекаться новизной новых теорий, унижать настоящих литературных деятелей по поводу новых деятелей, которые непременно будут являться с каждым годом, мы никогда не будем. Мы слишком много видали гениев, оканчивавших весьма печально свою блистательно начатую славу, – при нас угасли Виктор Гюго и Гейне, Жорж Санд и Ламартин, Гервег и Фрейлиграт, не считая сотни историков, экономистов, философов, которых эфемерное существование началось и кончилось в наше время. Были и в нашей литературе свои звезды первой величины, которых нынче не увидишь на литературном горизонте с помощью лучшего телескопа. Нам кажется, что время увлечения как новыми гениями, так и новизною мимолетных эстетических теорий прошло безвозвратно. Мы будем соразмерны в наших восторгах и в наших охуждениях, дабы не впасть в ту несоразмерность пафоса с предметом, его возбудившим, несоразмерность, которую мы определили словом сентиментальность. Мы будем трудиться много, но осмотрительно, при каждом излишнем стремлении увлекаться, при каждом появлении какой-нибудь блистательной, но еще не утвердившейся критической теории повторяя великое слово величайшего мыслителя, выставленное эпиграфом всего нашего издания: Ohne Hast, ohne Rast (без торопливости, без отдыха). 420 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века Примечания Николай Александрович Добролюбов (1836–1861) Что такое обломовщина? Впервые – «Современник», 1859 (№ 5). Источник текста: Критика 50-х годов XIX века / [сост., вступ. ст. и примеч. Л. И. Соболева]. – М. : Олимп : АСТ, 2002. – С. 334–382. – (Библиотека русской критики). – Печ. с сокр. Александр Васильевич Дружинин (1824–1864) «Обломов». Роман И. А. Гончарова Впервые – «Библиотека для чтения», 1859 (№ 12). Источник текста: Там же. С. 382–405. Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения Впервые – «Библиотека для чтения», 1856 (№ 11, 12). Статья первая Упорствуя, волнуясь и спеша… – неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти Белинского». Великий Гаррик – известный английский актер XVIII века Гаррик Дэвид (1716– 1779). Батте Шарль – французский философ, занимался вопросами эстетики и литературы (1713–1780). Жан-Франсуа де Лагарп – французский писатель, эстетик (1739–1803). «Похождения господина Голядкина» – речь идет о повести Ф. М. Достоевского «Двойник», которая в первой публикации имела подзаголовок «Приключения господина Голядкина». Лорд Джеффри – Фрэнсис Джеффри (1773–1850) – английский литератор, редактор «Эдинбургского обозрения». Костровых, Петровых, Бобровых – речь идет о поэтах Ермиле Ивановиче Кострове (1752–1796), Василии Петровиче Петрове (1736–1799), Семене Сергеевиче Боброве (1763–1810). «Кадма и Гармония» – роман М. М. Хераскова (1786). …одною статьей превращенного… – речь идет о статье В. Г. Белинского «Полное собрание сочинений А. Марлинского» (1840). «Русская беседа» – журнал А. И. Кошелева и И. С. Аксакова, выходивший с 1856 по 1860 гг. «Москвитянин» – журнал издавался с 1841 года М. П. Погодиным. Сотрудничали в нем А. С. Хомяков и И. В. Киреевский, который был в 1845 году приглашен в качестве редактора. «Библиотека для чтения» – журнал издавался с 1834 года книгопродавцем А. Ф. Смирдиным под редакцией О. И. Сенковского, с 1856 по 1860 гг. его редактировал А. В. Дружинин. …имя Шекспира …произнесено французом – речь идет Вольтере и его оценке «Гамлета» в работе «Рассуждение о древней и новой трагедии». Статья вторая волны мутной современности – цитата из письма Н. В. Гоголя В. Г. Белинскому 1847 года. 421 Хрестоматия по истории русской литературной критики Берне – Людвиг Берне (1786–1837) – немецкий публицист, упрекавший Гете в аполитичности в «Письмах из Парижа» (1832–1834). Бакон – Фрэнсис Бэкон (1561–1626) – английский государственный деятель и философ-эмпирик. Томас Карлейль – английский историк (1795–1881), автор книги «О героях, культе героев и героическом в истории» (1841). Арминий – вождь одного из германских племен, разбивший римлян в 9 г. н. э. книгу об истории немецкой литературы – речь идет о книге Г. Гейне «Романтическая школа» (1833). историк Мишле – Жюль Мишле (1798–1874) – французский историк. стихотворец Ламартин – Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790–1869) – французский поэт, автор книг «История жирондистов» (1847), «История Реставрации» (1852). насмешки на поэта вследствие своей преувеличенной восторженности – речь идет о брошюре К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842), где автор устанавливал родство между произведением Гоголя и «Иллиадой» Гомера. поэта Гервеговой школы – Георг Гервег (1817–1875) – немецкий поэт, активный участник движения «Молодая Германия», в чьи ряды входили такие литераторы, как Людвиг Берне (1786–1837), Генрих Лаубе (1806–1884), Карл Гуцков (1811–1878) и др. Ohne Hast, ohne Rast – по мнению В. К. Кантора и А. Л. Осповата, неточная цитата из «Коротких ксений» Гете. Источник текста: Там же. С. 16–77. Вопросы и задания 1. Какую роль отводят писателю А. В. Дружинин и Н. А. Добролюбов в современной им России? 2. Охарактеризуйте образ современной авторам действительности в предложенных статьях. С какой целью образ современности вводится критиками в их работы? 3. Какие задачи ставят перед собой Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин как литературные критики в статьях о романе И. А. Гончарова? 4. На каких основаниях А. В. Дружинин проводит параллель между фламандскими живописцами и творчеством И. А. Гончарова? 5. К какому типу героев русской литературы возводит Н. А. Добролюбов Обломова и почему? 6. Чем разнится трактовка характера Обломова у полемизирующих критиков? 7. Чем А. В. Дружинин объясняет недостатки формы романа И. А. Гончарова? 8. Как трактует «растянутость» романа Н. А. Добролюбов? 422 Тема 6. Литературная критика «после Белинского» второй половины XIX века 9. Образ Штольца невысоко оценен обоими критиками. Объясните основания его оценки с позиций А. В. Дружинина и Н. А. Добролюбова. 10. Чем отличаются истолкования образа Евгения Онегина в статьях Н. А. Добролюбова и В. Г. Белинского? 11. В чем, по вашему мнению, проявилась традиция В. Г. Белинского в критике Н. А. Добролюбова? 12. Кому из героев романа И. А. Гончарова отданы симпатии Добролюбова и почему? 13. Найдите и прокомментируйте примеры иронии в статье Н. А. Добролюбова. 14. Какие положения статьи Н. А. Добролюбова наиболее очевидно раскрывают общественно-политическую программу журнала «Современник»? 15. Каковы, по мнению А. В. Дружинина, заслуги «критики гоголевского периода»? 16. Какие недостатки литературной критики 40-х годов отмечает Дружинин? 17. Попробуйте сформулировать положительную программу такого литературного критика, как А. В. Дружинин. 423 Хрестоматия по истории русской литературной критики Учебное издание Автор-составитель Подрезова Наталья Николаевна Хрестоматия по истории русской литературной критики. Часть первая (XVIII–XIX вв.) Учебное пособие ISBN 978-5-9624-0191-1 Редактор: Г. А. Никифорова Дизайн обложки: М. Г. Яскин Верстка: А. В. Врон Темплан 2007. Поз. 66. Подписано в печать 25.07.2007. Формат 60x90 1/16 Печать трафаретная. Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 22,2. Тираж 100 экз. Заказ 83. ИЗДАТЕЛЬСТВО Иркутского государственного университета 664003, Иркутск, бульвар Гагарина, 36 424