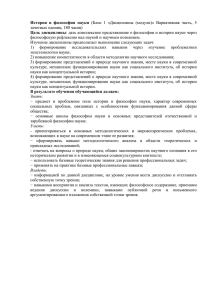ТРАГЕДИИ ФИЛОСОФИИ
реклама
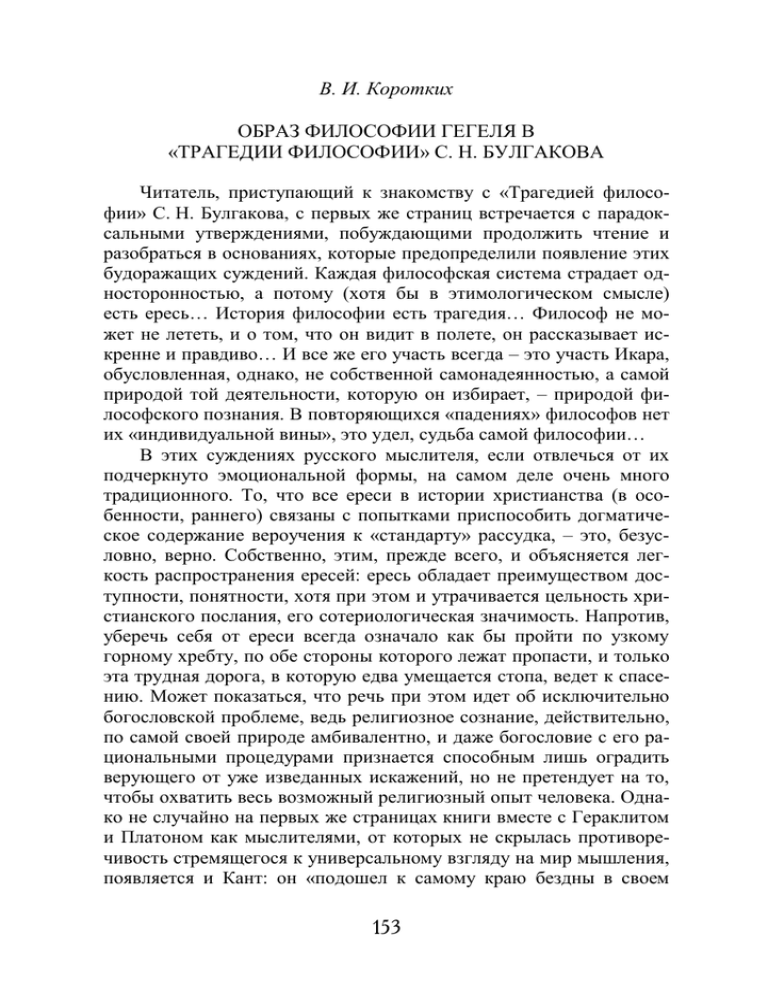
В. И. Коротких ОБРАЗ ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯ В «ТРАГЕДИИ ФИЛОСОФИИ» С. Н. БУЛГАКОВА Читатель, приступающий к знакомству с «Трагедией философии» С. Н. Булгакова, с первых же страниц встречается с парадоксальными утверждениями, побуждающими продолжить чтение и разобраться в основаниях, которые предопределили появление этих будоражащих суждений. Каждая философская система страдает односторонностью, а потому (хотя бы в этимологическом смысле) есть ересь… История философии есть трагедия… Философ не может не лететь, и о том, что он видит в полете, он рассказывает искренне и правдиво… И все же его участь всегда – это участь Икара, обусловленная, однако, не собственной самонадеянностью, а самой природой той деятельности, которую он избирает, – природой философского познания. В повторяющихся «падениях» философов нет их «индивидуальной вины», это удел, судьба самой философии… В этих суждениях русского мыслителя, если отвлечься от их подчеркнуто эмоциональной формы, на самом деле очень много традиционного. То, что все ереси в истории христианства (в особенности, раннего) связаны с попытками приспособить догматическое содержание вероучения к «стандарту» рассудка, – это, безусловно, верно. Собственно, этим, прежде всего, и объясняется легкость распространения ересей: ересь обладает преимуществом доступности, понятности, хотя при этом и утрачивается цельность христианского послания, его сотериологическая значимость. Напротив, уберечь себя от ереси всегда означало как бы пройти по узкому горному хребту, по обе стороны которого лежат пропасти, и только эта трудная дорога, в которую едва умещается стопа, ведет к спасению. Может показаться, что речь при этом идет об исключительно богословской проблеме, ведь религиозное сознание, действительно, по самой своей природе амбивалентно, и даже богословие с его рациональными процедурами признается способным лишь оградить верующего от уже изведанных искажений, но не претендует на то, чтобы охватить весь возможный религиозный опыт человека. Однако не случайно на первых же страницах книги вместе с Гераклитом и Платоном как мыслителями, от которых не скрылась противоречивость стремящегося к универсальному взгляду на мир мышления, появляется и Кант: он «подошел к самому краю бездны в своем 153 учении об антиномиях и остановился»1. Последнее, «остановился», мы комментировать не будем, это потребовало бы обсуждения представлений Канта о судьбе «метафизики» после выступления на философскую арену «критической философии», но то, что Кант продемонстрировал неизбежность возникновения противоречий в философском познании, делает его принципиальным сторонником той постановки вопроса, которую мы встречаем здесь у русского мыслителя. Но Гегель? Почему в этом ряду мы не видим Гегеля? Был ли в истории философии мыслитель, который острее, чем Гегель, осознавал бы опасность односторонностей и более последовательно боролся с ними? Далее, предпринятую Гегелем попытку «вместить всю историю философии» в «цепь диалектики мысли» Булгаков оценивает как «не неосновательную»2, но разве не оказывается в этом случае естественным стремление видеть во всей истории философии «диалектически развертывающуюся»3 историю собственной философии? Конечно, для стороннего наблюдателя гегелевская философия, которая претендовала на то, чтобы быть «биографией духа», приобретала комические черты, если удавалось заметить в ней и следы «автобиографии» («прусская монархия», «конец истории» и т. п.), но могут ли «слишком человеческие» детали смутить знатока и ценителя философии в ситуации принципиально правильной постановки самой задачи философского познания? Булгаков со всей страстностью, которая была присуща его натуре, сразу же указывает и на исток «односторонности-еретичности» всякой философии – это «дух системы и пафос системы, а система есть не что иное, как сведение много и всего к одному и, обратно, выведение этого всего или многого из одного»4. Вряд ли следует оспаривать положение о монистическом характере гегелевской философии, но не он ли, снова, больше всех трудился над тем, чтобы вскрыть «конкретность» того единства духа, экспликацией которого и является вся его философия, исходящая, действительно, из единого принципа? Однако «логический монизм, являющийся естественной потребностью разума», Булгаков считает причиной того, что всякий создатель философской системы притязает считать свой «эскиз бы1 Булгаков С.Н. Трагедия философии // Булгаков С.Н. Соч. В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 314. 2 Там же. С. 312. 3 Там же. С. 313–314. 4 Там же. С. 312. 154 тия» «системой мира»1. Кажется, смешение «логического» и «реального» – это более серьезное обвинение в адрес гегелевской философии, которая, как принято считать, именно в этом вопросе отступила к точке зрения тождества «порядка и связи идей» и «порядка и связи вещей» классического рационализма, и именно его основательность мы и попытаемся здесь проверить. «Гегель имел две основные и главные неудачи: одна – невыводимость субъекта из предиката (имеется ввиду ипостасный сверхмыслимый субъект, «я», которого Гегель, впрочем, и не намеревался выводить, – В.К.), а другая, не меньшая, – невыводимость бытия, реальности, из мысли, точнее, из мыслимости, одной отвлеченной возможности»2. Думается, однако, что позиция Гегеля в этих пунктах не столь прямолинейна, как на протяжении длительного времени казалось критикам. Сформулируем и более общий вопрос, на который в этих заметках мы, по-видимому, не сможем ответить в полной мере: не следует ли воспринимать то отношение к гегелевской философии, которое мы обнаруживаем в важнейшем концептуальном произведении Булгакова, как некий след специфически русского восприятия немецкой философии как «отвлеченной», ко времени написания «Трагедии», впрочем, уже преодоленного (труд И. А. Ильина)? Кажется, уже сама принципиальность такой фигуры, как Гегель, в обсуждении проблемы природы философии и ее места в культуре может служить оправданием для исследователя, который ставит задачу оценки, «перепроверки», предложенной русским мыслителем интерпретации гегелевской философии. Впрочем, имеются и некоторые дополнительные обстоятельства, которые также оправдывают значимость поставленной задачи. В основе всей книги Булгакова лежит взгляд на философию через призму «структуры суждения» – тема, которую вряд ли кто-то разрабатывал подробнее и глубже, чем Гегель. «В форме суждения, – пишет Булгаков, – тайна и природа мысли, ключ к уразумению философских построений. Я (модель логического субъекта и сущего, каково оно до акта мысли. – В.К.), самозамкнутое, находящееся на неприступном острове, к которому не досягает никакое мышление или бытие, находит в себе некоторый образ бытия, высказывается в «сказуемом» и этот образ познает как свое собственное порождение, самораскрытие, каковое и есть связка. В этом смысле вся наша жизнь, а потому и все наше мышление является непрерывно 1 2 Там же. С. 312–313. Там же. С. 363. 155 осуществляющимся предложением, есть предложение, состоящее из подлежащего, сказуемого и связки»1. «В предложении, – читаем чуть ниже, – заключена сущность и образ бытия, предложение несет в себе его тайну, ибо в нем сокрыт образ троичности»2. Между тем, существовавшая до сих пор философия, утверждает Булгаков, эту тему, якобы, «просмотрела»: «либо подлежащее, либо связку, либо сказуемое объявляет она единственным началом и из него все выводит или к нему все приводит»3. «Изначальное и исходное единство, отрицающее тройственную природу предложения, – продолжает он, – таков корень всякой философской системы и ее трагедии. Это единство есть не только постулат, но и исходная аксиома для мысли, и эта аксиома лежит в основе всей истории философии. Между тем эта аксиома неверна, а потому и все усилия философии тщетны и не могут не представлять собою ряда трагических неудач… Ибо как свидетельствует форма предложения-суждения, отражающая на себе самое строение сущего, основа сущего не единична, но тройственна во единстве, триедина»4. (Нетрудно заметить, что в этих замечаниях воспроизводится один из значимых мотивов критики западного богословия отцами восточной церкви по тринитарной проблеме.) Вообще, первая глава («О природе мысли») первого очерка «Трагедии философии» – это своеобразное эссе о триединстве суждения как выражении триединства бытия, теоретические и художественные достоинства которого вряд ли следует ставить под сомнение, – и притом, независимо от того, сможем ли мы обнаружить на этих страницах какие-либо технические или концептуальные погрешности. Представленная здесь концепция Булгакова, рассматривающая подлежащее, сказуемое и связку как некие «корни бытия, в своей совокупности являющие жизнь субстанции»5, является примером такой самобытной философской теории, которые, однажды возникнув в истории философии, навсегда остаются в ней как ее «классика», ориентир для будущих поколений философов, независимо ни от какой критики последователей или историков философии. И все же посмотрим более пристально на основания полемики Булгакова с гегелевской философией в надежде понять благодаря 1 Там же. С. 318. Там же. 3 Там же. С. 319. 4 Там же. С. 319. 5 Там же. 2 156 этому что-то существенное как в позиции русского мыслителя, так и в природе западноевропейской философии. Уточним, что упрек в игнорировании рассмотрения структуры суждения, высказанный относительно всей европейской философии, обращается Булгаковым и непосредственно к Гегелю: «Гегель с небрежностью и предубеждением проходит мимо проблемы суждения»1, – парадоксально, но при этом он ссылается как раз на те фрагменты «Энциклопедии» и «Логики», в которых Гегель дает «свое» решение этой проблемы, именно поэтому, по-видимому, и неузнанное русским мыслителем. Правда, этот сюжет Логики Гегеля начинается с «понятия», а не с «суждения», и к проблеме ограниченности форм суждения (на что ссылается Булгаков) он переходит именно от обсуждения эволюции понятия: «Связка «есть» вытекает из природы понятия, согласно которой оно в своем овнешнении тождественно с собой; единичное и всеобщее (субъект и предикат. – В.К.) как его моменты суть такие определенности, которые не могут быть изолированы»2. Это важный пункт: «субъект» в гегелевской Логике – не «вещь в себе», не «трансцендентное», это «понятие», «смысл», поэтому он и не может содержать чего-то, что не нашло бы выражения в «предикате»; «предмет», «единичное», в конце концов, полностью перейдет и в «речь», «всеобщее». Можно констатировать, что гегелевское «суждение», ведя свое происхождение из «понятия», изначально пребывает в той сфере, которую правильно было бы (следуя, кстати, самому Аристотелю) называть «определенностью», «бытием-определенностью». В более широком смысле, конечно, и вся сфера Логики – это «бытие-определенность», «живой», самодвижущийся предмет последнего формообразования «Феноменологии» – «Абсолютного знания». Таким образом, тот переход от «сказуемого» к «подлежащему», как Булгаков его представляет, Гегель в «Логике» не осуществляет и не планирует осуществить – все его построения не выходят за границы «бытияопределенности», мыслимого, постигаемого разумом бытия. Причисление Гегеля к «панлогистам», то есть к тем, кто исходит из сказуемого, тем не менее, верно, именно сказуемое первоначально в движении суждения несет содержание, определенность. При этом, бытие в гегелевском смысле, бытие как исходная, содержательно «пустая» категория «Логики», – это, конечно, не сказуе1 Там же. С. 360. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1: Наука логики. М., 1974. С. 350. 2 157 мое, а связка. Связка в гегелевской теории суждения – это как бы прозрачная среда, в которой происходит непрерывное опосредование субъекта и предиката, накапливается содержание, последовательно раскрываемое субъектом в форме «нанизываемых» на нее предикатов, некий «резервуар смысла». Булгаков, исходя из того, что «ипостасное я неопределимо по самому своему существу»1, сущность ипостаси «стоит за пределами слова и понятия»2, с самого начала оказывается «вне» гегелевского понимания предмета философии как движения смысла, определенности. И хотя, в принципе, с некоторыми содержащимися у Булгакова парадоксальными выражениями о связи «мысли» и «жизни» Гегель мог бы согласиться («В основе мысли лежит жизненный акт, свидетельствуемый живым образом мысли, то есть предложением»3), но в границах гегелевской системы подобные утверждения оказались бы более уместными в «Феноменологии», а не в «Логике». Однако и в «Феноменологии» Гегель движется именно к тому взгляду на суждение как форму движения и «накопления» смысла, который будет столь подробно представлен в «Логике». Об этом можно судить, в частности, по Предисловию к «Феноменологии», тексту, написанному уже после завершения работы над основной частью работы и рассматриваемому современными гегелеведами как введение в «Систему науки» как целое. В связи с традиционными характеристиками Бога как «вечного», «морального миропорядка», и т. д., характеристиками, в которых не отражается потребность мыслить субъект как то, что способно «приводить в движение» определения мысли, Гегель пишет: «В таких положениях истинное прямо устанавливается только как субъект, но не представляется как движение рефлексии в самое себя. … Только предикат говорит, что есть он (субъект, “Бог”. – В.К.), то есть наполняет его [содержанием] (синтезирующимися в связке предикатами. – В.К.) и сообщает ему смысл. … Субъект (в подобных способах выражения. – В.К.) принимается за устойчивый пункт, к которому, как к своей опоре, прикрепляются предикаты – посредством движения, которое составляет принадлежность знающего об этом пункте и которое не считается принадлежностью самого этого пункта (подобный подход – “внешняя рефлексия”. – В.К.); а ведь лишь посредством такого движения (выражающегося в движении предикатов раскрытии са1 Булгаков С.Н. Трагедия философии. С. 319. Там же. С. 320. 3 Там же. С. 322. 2 158 мого субъекта. – В.К.) можно было бы представить содержание как субъект»1. Итак, понятие – не «покоящийся пункт», с которым внешняя рефлексия лишь соотносит те или иные предикаты, нет, раскрывающееся в суждении понятие в действительности есть «самодвижение». Ниже Гегель дает и конкретное раскрытие этой темы: в философском, спекулятивном, мышлении, в отличие от внешней рефлексии, субъект есть «понятие, которое само приводит себя в движение и принимает в себя обратно свои определения. В этом движении пропадает сам… покоящийся субъект»2. Субъект переходит в предикат и снимается в этом движении: «То, что кажется предикатом, стало цельной и самостоятельной массой, мышление не может свободно блуждать, а задерживается этой тяжестью»3 (тема «обращения», «die Umkehrung», столь важная в гегелевской философии). Пафос этих рассуждений Гегеля убеждает в том, что традиционно понимаемые логические формы – понятие как механическое единство представлений и суждение как соотношение мнимо независимых друг от друга структурных элементов – вообще не удовлетворяют потребностям философского, диалектико-спекулятивного, мышления: «Природа суждения или предложения вообще, заключающая в себе различие субъекта и предиката, разрушается спекулятивным предложением»4. Именно это учение через десять лет Гегель воспроизведет и в «Учении о понятии», где в итоговой главе напишет, что форма суждения «неспособна объять собой спекулятивное и истину» и т. д.5. Что такое «спекулятивное предложение», не вполне понятно; речь идет о новом для философии опыте работы с языком; он должен стать пластичным, полностью подчиняющимся мышлению; с одной стороны, Гегель часто восхищается «спекулятивным духом» языка, в котором одновременно могут быть выражены противоположные моменты мысли, еще в первой главе «Феноменологии» произносит знаменитую, повторяемую и Булгаковым, формулу о «божественной природе речи», которая выражает только всеобщее; с другой же стороны, он видит, что традиционное восприятие грамматических и логических форм как неподвижных и независимых от содержания структур неспособно передать спекуля1 Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. IV. М., 1959. С. 11–12. 2 Там же. С. 33. 3 Там же. 4 Там же. С. 34. 5 Гегель Г.В.Ф. Наука логики. С. 299–300. 159 тивную мысль и включается (почти одновременно с романтиками) в поиски нового образа философского языка1. И когда Булгаков пишет, что «одним из главных аргументов, ведущих к панлогизму уже в «Феноменологии духа», является эта неверная и односторонняя ссылка на природу слова как всеобщего и только всеобщего, и под этим же углом зрения Гегель рассматривает и Я только как общее понятие»2, то эти слова следует понимать именно как констатацию принципиально иной философской позиции, «не замечающей» грандиозную гегелевскую концепцию языка в качестве «решения» обсуждаемой проблемы; только так можно объяснить те характеристики Булгаковым позиции Гегеля, которые приводились выше. Понятно, что у каждой из этих позиций имеются свои исторические прообразы: для Булгакова – принятые восточной патристикой в качестве модели философского осмысления Писания Платон и неоплатоники с их учением о сверхбытийном едином, по отношению к которому бытие выступает как первопредикат, для Гегеля – Аристотель с его учением об Уме как действительном бытии; в первом случае форма – след того, что не имеет формы, во втором – замкнутое на себя движение формы («мыслящее себя мышление») есть последний объясняющий принцип бытия; «Своими силами мысль не может дать ответа на вопрос о том, каким образом трансцендентное мыслится, и то, что не-мысль, входит в мысль, становится мыслимым»3, – пишет Булгаков; Гегель же принципиально не упоминает трансцендентное бытие как предмет забот философии – ей просто нечего о нем «сказать». И поэтому то, что Булгаков пишет о философии Гегеля как философии сказуемого, то есть о его диалектико-спекулятивном методе4, свидетельствует о глубоком понимании русским философом этой проблематики, выраженным к тому же необыкновенно живым и ярким языком. Современное прочтение старых онтологических споров, делающее акцент на вопросах метода, на логике и языке, не меняет, разумеется, их содержания, оно свидетельствует о включении философии в новые культурные контексты. «Выбор» Булгакова – а он, несомненно, делает свой выбор, – свидетельствует о том, что философия продолжает жить и в трагическую эпоху, хотя, разумеется, и на саму философию падают «трагические блики» времени. Собст1 Сухачев Н.Л. Концепции языка в европейской философии. СПб., 2007. С. 18–159. 2 Булгаков С.Н. Трагедия философии. С. 358. 3 Там же. С. 322. 4 Там же. С. 421–422. 160 венно, Булгаков отказывает философии в праве выступать в качестве самостоятельного элемента современной культуры, – в этом и состоит ее «трагедия». Возможно, избранная русским мыслителем тональность размышлений о судьбе философии в культуре свидетельствует о его (признаем, присущей многим русским философам начала прошлого века) «завышенных» требованиях к философии. В действительности большинство западноевропейских философов уже не считали свои построения «системой мира», отводя им роль лишь «эскиза бытия». Но можно ли сегодня, почти через столетие, говорить об «ошибке» философа в ситуации, когда русская культура – невзирая на то, что на смену «сумеркам» над Европой уже легла «глубокая ночь» – сохранила страстное желание излить свое содержание и в форме философии? Подобно тому, как христианину трудно пройти по самому гребню горного хребта, так и философу трудно удержаться как от недооценки философии перед лицом критики скептиков, так и от переоценки ее мощи, простирающейся, якобы, на само бытие… Классическая западноевропейская философия завершилась мыслью, что сфера ее заботы – это бытие-определенность, прозрачное для мысли бытие, которое, однако, в отличие от науки, философия пытается представить в его целостности, а потому оказывается обреченной и на «соприкосновение» с мифом и религией, нравственностью, искусством как теми формами жизни, которые непосредственно претендуют на постижение (пусть и «бессознательное», лишенное «логической дисциплины») самого бытия. Молодая русская философия переоценивала возможности философского знания, стремясь увидеть постижение мира там, где имел место лишь «эскиз бытия», «витраж», через который в человеческий разум падают лучи сверхмыслимого сущего. 161