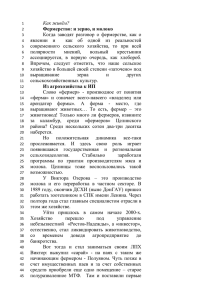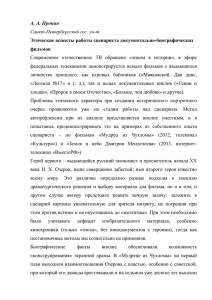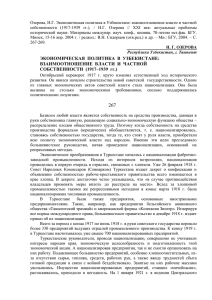Драматургия В - Орловский Государственный Университет
реклама
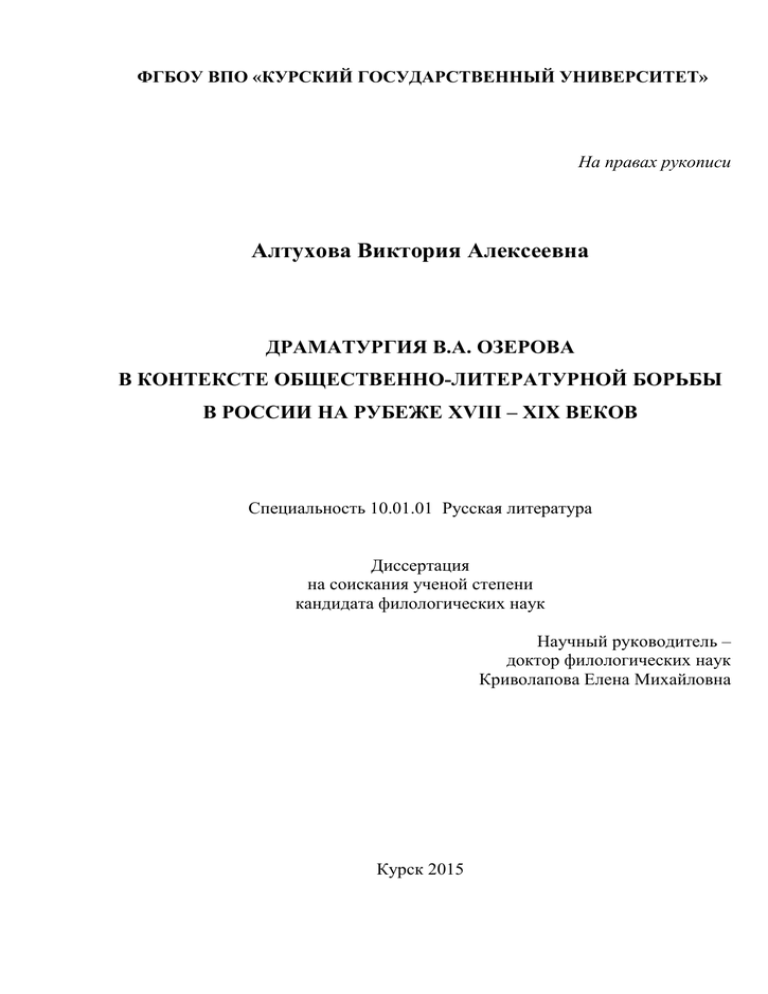
ФГБОУ ВПО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» На правах рукописи Алтухова Виктория Алексеевна ДРАМАТУРГИЯ В.А. ОЗЕРОВА В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЙ БОРЬБЫ В РОССИИ НА РУБЕЖЕ XVIII – XIX ВЕКОВ Специальность 10.01.01 Русская литература Диссертация на соискания ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель – доктор филологических наук Криволапова Елена Михайловна Курск 2015 Оглавление Введение ....................................................................................................................... 3 ГЛАВА I. Основные тенденции общественно-литературной и культурной жизни России конца XVIII – начала XIX веков, повлиявшие на формирование художественного мировосприятия В.А. Озерова ................................................. 18 1.1. Роль «биографического фактора» в становлении Озерова-драматурга.... 18 1.2. Сентименталистская направленность первого произведения «Элоиза к Абеляру. Ироида»...................................................................................................... 28 1.3. В.А. Озеров и основные тенденции в русской драматургии начала XIX века ..................................................................................................................................... 38 Глава II. Между классицизмом и романтизмом ................................................... 52 2.1. «Чувствительные» герои и «мятущиеся» злодеи в трагедии В.А. Озерова «Ярополк и Олег» ...................................................................................................... 52 2.2. «Элегическая» трагедия «Эдип в Афинах» ..................................................... 66 2.3. Предромантические веяния в трагедии «Фингал» ......................................... 85 2.4. Соединение разнородных тенденций в трагедии «Димитрий Донской» ..... 94 2.5. «Поликсена»: нравственный поединок жизни и смерти .............................. 107 ГЛАВА III. Полемика вокруг Озерова: «озеровский миф» и реальность ........ 116 3.1. Противники и апологеты ................................................................................. 116 3.2. «Кленовый венок» Г.Р. Державина как неприятие литературной позиции В.А. Озерова ............................................................................................................ 128 3.3. «Арзамасцы» и «беседчики» в литературной борьбе за наследие В.А. Озерова ..................................................................................................................... 146 Заключение .............................................................................................................. 164 Список литературы ................................................................................................. 176 2 Введение Имя драматурга Владислава Александровича Озерова практически не встречается в современных исследованиях. Его творчеству посвящена всего лишь одна монография М.А. Гордина «Владислав Озеров» 1 и обстоятельная статья И.Н. Медведевой, являющаяся предисловием к сборнику трагедий Озерова.2 Между тем сама фигура драматурга в историко-литературном процессе эпохи рубежа XVIII – XIX веков представляется не только значительной, но и в какой-то степени загадочной. Его литературное наследие составляют всего пять трагедий, несколько дошедших до читателя поэтических произведений и басен. Тем не менее в памяти многих современников В.А. Озеров остался непревзойденным «трагиком», который в начале XIX века дал новую жизнь русскому театру, обеспечив своими творениями расцвет сценического искусства. Не лишним будет вспомнить и тот факт, что выразительная и яркая строка Озерова из его трагедии «Димитрий Донской» – «Рука Всевышнего Отечество спасла» – с 1834 года становится «визитной карточкой» Н.В. Кукольника, назвавшего так свою драму. При этом ссылка на «первоисточник» стирается до такой степени, что название теряет всякие ассоциации с ее настоящим автором – Владиславом Озеровым – и закрепляется за Нестором Кукольником в памяти последующих поколений. Несмотря на то, что трагедии Озерова имели «успех замечательный», слава драматурга продержалась недолго: к 1798 году относится постановка его первой трагедии «Ярополк и Олег», а к 1809 году последней – «Поликсена». Между первой, во многом ученической, подражательной, а потому не имевшей особого успеха пьесой, и последней, выдержавшей всего два представления, пролегает период блистательной славы драматурга, его истинного триумфа, 1 Гордин М.А. Владислав Озеров. Л., 1991. Медведева И.Н. Владислав Озеров // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 5 – 72. 2 3 признания его таланта как самим императором Александром I, так и простыми театральными зрителями, выражавшими свой восторг так бурно, что «театр стонал от рукоплесканий».1 Столь же непродолжительным был и жизненный путь Озерова, сопровождавшийся не только признанием его драматургического таланта, но весьма разноречивыми суждениями относительно его творчества, нередко переходившими в ожесточенные споры, многочисленными пародиями на его сочинения, злобными рецензиями прежних друзей и покровителей. Помимо этого, сами жизненные обстоятельства сложились также не в пользу Озерова: после долгих лет службы ему было отказано в пенсионе, и, выйдя в отставку в звании генерал-майора, он был вынужден жить на скудные средства в своем имении Красный Яр Казанской губернии, вдали от Петербурга, от литературной жизни, от своих друзей-единомышленников, что привело его к тяжелой душевной болезни и преждевременной смерти. Это послужило причиной того, что после кончины драматурга в литературных кругах сложился миф о гениальном трагике Озерове, затравленном завистниками и недоброжелателями. Находясь в эпицентре литературной и театральной жизни России конца XVIII – начала XIX века (А.А. Шаховской, А.Н. Оленин, Г.Р. Державин, П.А. Вяземский, В.В. Капнист), Озеров оказался и в эпицентре литературной борьбы между «беседчиками» и «арзамасцами». Уже после первого триумфа Озерова, вызванного постановкой трагедии «Эдип в Афинах», мнения по поводу его драматургического таланта разделились. Защитники классицизма усматривали в трагедиях Озерова вопиющее нарушение основных канонов жанра, что не только умаляло многие достоинства его пьес, но и практически сводило на нет все заслуги трагика. Представители сентименталистского направления и нарождающегося романтизма, напротив, ставили в заслугу Озерову все те «новшества», которые «разрушали» старую «сумароков- 1 Энгельгарт Н. Литературная деятельность Озерова // Семенов А.К. Темник-хрестоматия: Сочинения с планами. Курс VII. Вып. 1. Одесса: Кн-во М.С. Козмана, 1914. С. 33. 4 скую» трагедию, а блестящее сценическое воплощение творений драматурга лишний раз подтверждало несомненность трагического таланта Озерова. Исследуя ситуацию, сложившуюся в литературном мире в начале XIX века, М.И. Гиллельсон выделил три литературных поколения, по-разному относящихся к творчеству драматурга: «Первое (Карамзин, И.И. Дмитриев) критикует, но в то же время признает его роль в некотором обновлении жанра трагедии; второе (Жуковский, Батюшков, Вяземский, Д.Н. Блудов) восторженнo принимает, порой полемически преувеличивая заслуги Озерова в борьбе с “Беседой”, создавая легенду о том, что трагик был жертвой несправедливых нападок и преследований со стороны членов “Беседы”; третье (Пушкин) считает, что трагедии Озерова безнадежно устарели и отвергает его творчество, не видя “в нем ни тени драматического искусства”».1 Следует отметить, что мнение А.С. Пушкина о творчестве Озерова в дальнейшем существенно повлияло на литературную репутацию трагика. Высказанное в «Заметках на полях статьи П.А. Вяземского “О жизни и сочинениях В.А. Озерова”» приблизительно в 1827 году (в 1827 – 1928 годах готовилось 5-е переиздание сочинений Озерова со статьей П.А. Вяземского), оно вошло в литературный обиход только после опубликования «Заметок» в 1897 году. Великий поэт, походя признаваясь в нелюбви к Озерову, предрекал ему скорое забвение: «Слава Озерова уже вянет, а лет через 10, при появлении истинной критики, совсем исчезнет».2 Скорее всего, Пушкин имел в виду конкретное историко-литературное обстоятельство: уже к 30-м годам интерес публики к классицистической трагедии стремительно угасал, поэтому творчество Озерова, имевшее в основе своей эклектичный характер и вобравшее в себя все «нюансы» переходной эпохи, на глазах теряло свою актуальность. Так или иначе, но мнение Пушкина оказалось своеобразным приговором Озерову, и уже к середине XIX века «элегический слог» Озерова, которым бы- 1 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова // Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 375. 2 Пушкин А.С. Заметки на полях статьи П.А. Вяземского «О жизни и сочинениях В.А. Озерова» // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., Наука, 1978. Т. 7. С. 383. 5 ли написаны монологи его героев, цитируемые наизусть в великосветских гостиных и украшавшие альбомы начала века, представлял собой архаическое явление. На творчество Озерова в свое время неоднократно обратил внимание и В.Г. Белинский. Его суждения о драматурге были лишены пушкинской резкости и прямолинейности, заключали в себе много тонких наблюдений и обобщений, которые сводились к непосредственной связи особенностей озеровской драматургии с тенденциями эпохи. Определяя место Озерова в истории русской литературы, Белинский подчеркнул, что «Озеров и Крылов являются <…> самостоятельными деятелями в карамзинском периоде нашей литературы, хотя и принадлежат к школе преобразователя русского языка». 1 В драматургической иерархии Княжнин, по словам критика, «далеко оставил за собою предшественника своего, Сумарокова. Но еще дальше его самого оставил за собою Озеров. Это был талант положительный, и появление его было эпохою в русской литературе, которая имела в нем своего Расина».2 «Отзвуки» былой славы знаменитого трагика становятся для Белинского предметом серьезных размышлений о русской литературе, ее эволюционных процессах, западноевропейских влияниях и заимствованиях, о смене литературных направлений, наконец, о выдающихся деятелях «отдельных эпох русской литературы». В целом исследования, посвященные жизни и творчеству В.А. Озерова, условно можно разделить на несколько групп с учетом хронологического принципа. Первая представляет собой критические суждения современников драматурга: это статьи и рецензии в журналах «Северный Вестник», «Лицей», (В.В. Капнист, Н.И. Бутырский), «Вестник Европы» (А.Ф. Мерзляков), а также высказывания и критические статьи Г.Р. Державина, А.С. Шишкова, П.А. Вяземского, И.И. Дмитриева, Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, К.Н. Батюшкова, А.С. Пушкина. 1 Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина // Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. М.: Изд. АН СССР. 1953 – 1959. Т. 7. С. 130. 2 Там же. 6 Вторая группа содержит исследования, которые начали появляться через некоторое время после смерти Озерова, их временной диапазон – от середины XIX века до начала XX. К ним относятся статьи В.Г. Белинского, первые биографии В.А. Озерова, созданные Р. Зотовым и П.О. Потаповым. 1 Сведения о драматурге можно было почерпнуть из автодокументальных свидетельств, какими являлись «Записки» С.Н. Глинки, «Воспоминания» Ф.В. Булгарина, «Записки современника» и «Воспоминания старого театрала» С.П. Жихарева, «Записки Сергия Григорьевича Волконского», «Литературные и театральные воспоминания» С.Т. Аксакова, «Записки» Ф.Ф. Вигеля. Небезынтересным будет и обращение к так называемым «темникамхрестоматиям» – учебным пособиям начала XX века, в которых творчество Озерова трактуется в соответствии с «гимназическими циркулярами» того времени.2 Это позволяет проследить эволюцию в отношении к Озерову, к восприятию его творчества литераторами последующего века. Третью группу составляют исследования, относящиеся к первой трети XX века и включающие сегодняшнее время. Именно тогда имя Озерова начинает широко употребляться в многочисленных работах, посвященных литературной полемике «арзамасцев» и «беседчиков». Они связаны с именами Г.А. Гуковского, Ю.Н. Тынянова, Н.И. Мордовченко, Б.В. Томашевского, М.И. Гиллельсона, Ю.М. Лотмана, В.Э. Вацуро, О.А. Проскурина.3 Заслуживают внимания и отдельные статьи об Озерове в учебных и справочно-библиографических 1 Зотов Р. Биография Озерова. Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров. 1842. Кн. 6. Отд. II. С. 1 – 21; Потапов П.О. Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В.А. Озерова Одесса: Тип. «Техник», 1915; Классика русской литературы. Ч. I-ая. М.: Товарищество «Печатня» С.П. Яковлева, 1911. 2 Корик Г. Энциклопедия сочинений для учащих и учащихся. Выпуск 5-й. Карамзин. Дмитриев. Озеров. Батюшков. Одесса, 1891; Семенов А.К. Темник-хрестоматия. Планы и сочинения. Курс VII Кл. гимназий. Вып. 1. Одесса: Книгоизд-во и Типография «Порядок» С.К. Цесарского, 1912; Семенов А.К. Темникхрестоматия: Сочинения с планами. Курс VII кл. Вып. 1 – 2. Одесса: Книгоизд-во М.С. Козмана, 1914. 3 Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит.,1965; Тынянов Ю.Н. Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М.: Наука, 1969. С. 23 – 121; Тынянов Ю.Н. Предисловие к книге «Архаисты и новаторы» // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 395 – 396; Мордовченко Н.И. Русская критика первой четверти XIX века. М.:Л.: Изд-во АН СССР, 1959; Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. (1813 – 1824). М.:Л.: Изд-во АН СССР, 1956; Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л.: Наука, 1974; Лотман Ю.М. Архаисты-просветители // Лотман Ю.М. Русская литература и культура Просвещения. М.: ОГИ, 1998. С. 239 – 252; Вацуро В.Э. Пушкин и литературное движение его времени // НЛО. 2003. № 59. С. 307 – 336; Проскурин О. Новый Арзамас – Новый Иерусалим. Литературная игра в культурно-историческом контексте // НЛО. 1996. № 19. С. 73 – 129. 7 изданиях, таких, как «История русской литературы: В 10 т.» (А.Я. Максимович), «Русские писатели: Биобиблиографический словарь: В 2 ч.» (Н.Н. Зубков), «Русские писатели. 1800 – 1917: Биографический словарь» (А.Л. Зорин). Имя Озерова встречается и в исследованиях, посвященных общественнолитературному движению начала XIX века, его связям с общеевропейским культурным процессом, а также работах ученых по теории и истории отечественной драматургии конца XVIII – начала XIX веков (А.А. Аникст, В.А.Западов, Ю.В. Стенник, В.А. Луков, С.А. Фомичев, Т.В.Федосеева1). В статьях Н. Богословского, В.А. Бочкарева, Ю.Д. Левина, А.В. Архиповой дается общая характеристика творчества драматурга, приводится выборочный анализ его произведений.2 Отдельные исследования, посвященные непосредственно творчеству драматурга и самой его личности, в отечественном литературоведении попрежнему отсутствуют. Лишь в 1960 году в связи с выходом сборника трагедий В.А. Озерова появляется вышеупомянутая статья И.Н. Медведевой, в которой обстоятельно представлена биография драматурга, а также дан частичный литературоведческий анализ его трагедий. Вместе с тем исследовательница отмечает, что многие факты личной и творческой биографии трагика по-прежнему остаются загадочными, как, впрочем, и «истинные причины» недолговечности его славы.3 В 1990-х годах интерес к забытому драматургу вновь возрождается. Это проявляется не только в стремлении «раскрыть» саму личность Озерова, но и 1 Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М.: Наука, 1972; Западов В.А. Сентиментализм и предромантизм в России // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л.: Наука, 1983. С. 86 – 127; Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха Классицизма. Л.: Наука, 1981; Луков В.А. Взаимодействие классицизма и предромантизма в драматургии конца XVIII – начала XIX в. (трагедии М.-Ж. Шенье, В. Альфьери, В. Озерова) // Типологические соответствия и конкретные связи в русской и зарубежной литературе: межвуз. сб. науч. тр. Красноярск: Изд-во Красноярского гос. ун-та, 1984. С. 33 – 47; Фомичев С.А. Драматургия начала XIX в. Творчество А.С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума» // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1981 – 1983. Т. 2. 1981. С. 204 – 234; Федосеева Т.В. Литература русского предромантизма (1790 – 1820): развитие драматических и прозаических жанров: автореф. дис…. доктора филол. наук. М., 2006. 2 Богословский Н. Спор Пушкина с Вяземским об Озерове. Красная новь. 1937. № 1. С. 98 – 104; Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия нач. XIX в. (1800 – 1815): Ученые записки. Вып. 25. Куйбышев: Куйбыш. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева, 1959; Левин Ю.Д. Оссиан в русской литературе. Л.: Наука, 1980; Архипова А.В. О русском предромантизме // Русская литература. 1978. № 1. С. 14 – 25; 3 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 5. 8 попытаться постичь феномен его блистательной славы, осмыслить его творчество в широком литературном и культурном контексте переходной эпохи конца XVIII – начала XIX в. В 1991 г. выходит монография М.А. Гордина «Владислав Озеров», в которой автор на основе ранее неизвестных архивных материалов пытается восстановить канву жизни В.А. Озерова, объяснить причины его небывалой славы, сравнимой только с «державинской» и «пушкинской». Личность драматурга представлена на широком фоне исторической, литературной и театральной жизни России рубежа XVIII – XIX веков. Основное внимание исследователь уделяет процессам, происходящим в русском театре, – именно в контексте этих преобразований трактуется личность драматурга и его творчество. И все же приходится констатировать, что на сегодняшний день исследования, посвященные непосредственно творчеству В.А. Озерова, ограничиваются несколькими работами, в основном диссертационного характера. В одной из них – «Драматургия В.А. Озерова и проблемы развития русской трагедии начала XIX века» (1998) – Е.А. Вильк основное внимание уделяет самому жанру русской классицистической трагедии, в контексте изучения которой драматургия В.А. Озерова представляет сугубый интерес, поскольку впитала в себя самые разнообразные тенденции, характерные для порубежного времени, что, по мнению автора, «позволяет лучше понять сам момент перелома традиции, смены жанровых доминант, открывающий путь к пушкинскому творчеству».1 В этом диссертационном исследовании драматургия Озерова рассматривается в широком контексте как русской, так и мировой драмы. Необходимо отметить, что еще при жизни драматурга разгорелась полемика по поводу его художественного метода, который так и не получил однозначной трактовки. Эклектичность поэтических средств Озерова снискала ему репутацию «неправильного классициста», «псевдоклассициста», грубо нарушающего законы драматургического искусства в жанре трагедии. Так, напри1 Вильк Е.А. Драматургия В.А. Озерова и проблемы развития русской трагедии начала XIX века. Автореф… канд. филол. наук. Санкт-Петербург. 1998. С. 2. 9 мер, А.Я. Максимович определял творения Озерова как сентиментальные трагедии (заметим, что в 1915 году П.О. Потапов относил трагедии Озерова к психологической драме). Современная исследовательница О.Д. Брусенцова в своей диссертационной работе «В.А. Озеров и романтизм» (1995 г.) придерживается мнения, что творчество драматурга было связано с идеями предромантизма и элементами романтизма. Так склонны были думать и современники драматурга, например, П.А. Вяземский, который в своей статье об Озерове относит его трагедии к нарождающемуся направлению: «Они уже несколько принадлежат к новейшему драматическому роду, так называемому романтическому…»1 О.Д. Брусенцова преследовала цель «рассмотреть трагедии Озерова с точки зрения формирования в них поэтики предромантизма», «определить, в чем заключается своеобразие его романтизма».2 Исследовательница соотносит художественный метод Озерова в первую очередь с романтическими тенденциями, наиболее ярко проявившимися в переходный для русской литературной жизни период. Вызывают интерес и работы, опосредованно касающиеся творчества В.А. Озерова. Так, например, Д. Иванов в своей диссертации на соискание ученой степени magistrum artium по русской литературе «Становление литературной репутации А.А. Шаховского», 3 обращаясь к личности драматурга, подробно рассматривает «озеровский миф», предпринимая попытку доказать полную непричастность Шаховского к «гонениям» на Озерова. Обвиненный в 1815 году «арзамасцами» по сути дела в гибели трагика, Шаховской снискал репутацию интригана, завистника, губителя истинных талантов. «Их стараниями был создан устойчивый “миф” о гонениях на трагика, который не только определил восприятие биографии Озерова современниками, но и в дальнейшем серьезно трансформировал представление историков литературы о взаимоотношениях 1 Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. Спб.: Тип. Имп. Театра, 1817. С. XLII – XLIII. Брусенцова О.Д. В.А. Озеров и романтизм: Дис… канд. филол. наук. Харьков. 1995. С. 4 3 Иванов Д. Становление литературной репутации А.А. Шаховского. Диссертация на соискание ученой степени magistrum atrium по русской литературе. Тарту 2005. URL: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/1125/ivanov.pdf?sequence=5 2 10 Озерова и Шаховского».1 Интерес Д. Иванова к самой личности Озерова побудил его к написанию ряда статей, непосредственно посвященных драматургу.2 Нельзя обойти вниманием и работы, посвященные литературным процессам рубежа XVIII – XIX вв.: Е.И. Кузьминой «Неоклассицизм как литературноэстетическое явление рубежа XVIII – XIX веков» (2001); Т.В. Федосеевой «Литература русского предромантизма (1790 – 1820): развитие драматических и прозаических жанров» (2006); Дудиной Т.П. «Эволюция этико-эстетической мысли в русской исторической драматургии XIX» (2006).3 Авторы перечисленных работ стремятся выявить закономерности в историко-литературном процессе рубежа веков, специфические особенности развития русской драматургии в переходный период. В контексте этих проблем они обращаются и к творчеству В.А. Озерова, воплотившему в своей драматургии признаки «переходности». Актуальность работы определяется отсутствием в современном литературоведении исследований, посвященных непосредственно творческому феномену В.А. Озерова, тогда как именно его трагедии явились толчком к одной из самых значительных в истории русской словесности общественно- литературной полемике между двумя идейно-эстетическими группировками – «беседчиками» и «арзамасцами». Помимо этого, обращение к творчеству Озерова-драматурга определяется возрастающим вниманием современных исследователей к переходным периодам в истории русской литературы, когда происходила смена культурных парадигм, вследствие чего в едином историколитературном пространстве наблюдалось сосуществование разнородных тен- 1 Там же. С. 9. См.: Иванов Д. В.А. Озеров и А.А. Шаховской: история взаимоотношений // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. V (Новая серия). Тарту: Тartu Ülikooli Kirjastus, 2005. С. 37–64; Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: русский Расин // University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/index.shtml; Формирование «озеровского мифа». Расин и Еврипид // URL: http://arhaist.livejournal.com/82431.html 3 См.: Кузьмина Е.И. Неоклассицизм как литературно-эстетическое явление рубежа XVIII – XIX веков: автореф. дис. … канд. филол. наук, Оренбург, 2001; Федосеева Т.В. Развитие драматургии конца XVIII – начала XIX века (русский предромантизм): Учебное пособие. Рязань: Изд-во Рязанск. гос. ун-та им. С.А.Есенина, 2006; Дудина Т.П. Эволюция этико-эстетической мысли в русской исторической драматургии XIX века: автореф. … доктора филол. наук. Елец, 2006. 2 11 денций.1 В этом отношении творчество Озерова и сама его личность являются своеобразным «эталоном» переходных эпох, в которых смешение идеологий, культурных доминант, жанровых и стилевых модификаций предстает предельно открытым и в то же время предельно сложным сплетением, «распутать» которое стремится несколько поколений в пределах – теперь уже – трех веков. По-прежнему актуальной остается и проблема «литературного спора», поскольку именно в этой ситуации выявляются скрытые культурные механизмы, являющиеся двигателем литературного процесса во всей его динамике. Ситуация с Озеровым, вылившаяся в устойчивый литературный «миф», выявляет важность биографического фактора, так как именно он помогает реконструировать личность, вскрыть ее внутренние интенции, прояснить психологическую подоплеку того или иного поступка, что в свою очередь поможет адекватному восприятию личности и не позволит «исказить» литературную репутацию того или иного деятеля эпохи.2 Актуализация биографического фактора в контексте исследования творчества драматурга приобретает особое значение еще и потому, что в центре внимания литературной полемики, начавшейся сразу после смерти Озерова, находилась именно его личность. Помимо этого, в диссертации предпринимается попытка исправить «разночтения» – фактические неточности, имеющиеся в работах предыдущих исследователей и касающиеся отдельных сторон биографии В.А. Озерова. Все вышеизложенные обстоятельства позволили прийти к убеждению, что исследование творчества В.А. Озерова нуждается в комплексном освещении, поскольку здесь равнозначны и равноценны несколько составляющих: общественно-политическая, культурно-историческая, собственно литературная и биографическая. 1 Лихачев Д.С. Два типа границ между культурами // Русская литература. 1995. № 3. С. 4 – 6; Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 3 – 38; Пахсарьян Н.Т. К проблеме изучения литературных эпох: понятие рубежа, перехода и перелома // Литература в диалоге культур – 2. Материалы международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 2004. С. 12 – 17. 2 См., например: Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте (К типологическому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 365 – 376. 12 Объект исследования – драматургия В.А. Озерова в контексте общественно-литературной борьбы в России конца XVIII – начала XIX вв. Предмет исследования – жанровая специфика трагедий В.А. Озерова, рассматриваемая во взаимодействии драматургических систем классицизма, сентиментализма и предромантизма. Материал исследования – трагедии, оды, лирические стихотворения, переводы В.А. Озерова, а также его эпистолярное наследие. Помимо этого, привлекается корпус литературно-критических материалов и автодокументальной литературы, касающийся деятельности драматурга и самой его личности и рассматриваемый в контексте общественно-литературной борьбы на рубеже XVIII – XIX веков. Цель данного исследования – изучение драматургического творчества В.А. Озерова с точки зрения жанрово-тематических модификаций, обусловленных общественно-литературной борьбой рубежа XVIII – XIX веков. Поставленная цель обусловила следующие задачи: 1. Рассмотреть ключевые признаки переходности историко- литературного процесса в плане взаимодействия художественных систем классицизма, сентиментализма, предромантизма на рубеже XVIII – XIX веков. 2. Исследовать жанровое своеобразие драматургии с точки зрения литературных процессов переходного периода. 3. Выявить роль биографического фактора в становлении Озеровадраматурга, определить основные этапы формирования его духовно- эстетических представлений и художественных принципов. 4. Определить художественные принципы изображения персонажей в трагедиях В.А. Озерова в свете процессов преемственности и переходности. 5. Установить своеобразие художественного метода В.А. Озерова, определить типологическую и историко-литературную значимость его новизны. 6. Выявить идейно-эстетические позиции «противников» и «апологетов» В.А. Озерова в процессе общественно-литературной борьбы за наследие драматурга. 13 7. Раскрыть причины возникновения «озеровского мифа», его функционирование в историко-литературном контексте XIX века и его актуализации в настоящее время. Теоретическую и методологическую базу исследования составляют работы, посвященные: – жизни и творчеству В.А. Озерова: А.Я. Максимовича, М.А. Гордина, И.Н. Медведевой, И.З. Сермана, Е.А. Вилька, О.Д. Брусенцовой, Д.А. Иванова; – общественно-литературному движению на рубеже XVIII – XIX веков: Г.А. Гуковского, Б.В. Томашевского, Н.И. Мордовченко, М.И. Гиллельсона, Ю.Н. Тынянова, Н.Д. Кочетковой, А.В. Архиповой, Ю.М. Лотмана, Ю.Д. Левина, В.Э. Вацуро, О.А Проскурина; – проблемам изучения переходных эпох в историко-литературном процессе: Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, А.Н. Веселовского, М.Л. Гаспарова, Ю.М. Лотмана, Н.Т. Пахсарьян, В.А. Лукова, А.Л. Зорина; – теории и истории отечественной драматургии конца XVIII – начала XIX веков: А.А. Аникста, Л.И. Кулаковой, Ю.В. Стенника, В.А. Западова, В.А.Бочкарева, С.А. Фомичева, Г.Н. Моисеевой, Н.И. Ищук-Фадеевой, Т.В.Федосеевой, К.А. Кокшеновой, Н.В. Нечипоренко; – истории русского театра: П.А. Маркова, Б.Н. Асеева, Т.М. Родиной, А.Г. Морова, С.И. Мельниковой, В.Д. Кузьминой. Данное исследование базируется на комплексном подходе, что определило использование следующих методов: историко-литературного, биографического, сравнительно-исторического, типологического, метода системного анализа. На защиту выносятся следующие положения: 1. Для постижения личности Озерова необходимо учитывать «биографические факторы», повлиявшие на его становление как драматурга, поскольку творчество Озерова носит сугубо личностный характер. Это вполне согласуется с тенденциями переходной эпохи, когда формировался новый тип художественного сознания, совершался переход от жанрового мышления к личност14 ному, когда «центральной категорией поэтики» становится «не стиль или жанр, а автор».1 2. Произведения В.А. Озерова сочетали в себе как традиции классицизма, так и новые веяния сентиментализма и романтизма. Это особенно проявилось в обрисовке характеров героев трагедии, среди которых можно выделить следующие типы: чувствительные, добродетельные герои, им противостоящие абсолютные злодеи, «мятущиеся» герои, в характере которых уже видны начатки будущих психологических типов. Кроме этого, новаторство драматурга проявилось и в его «медитативных» монологах, свойственных «мятущимся героям», и в монологах элегических, более характерных для чувствительных героев. Элегическая составляющая является преобладающим элементом в трагедиях В.А. Озерова. 3. Сентименталистская поэтика Озерова, привнесенная в классицистическую трагедию, была принята далеко не всеми. Это явилось причиной ожесточенной полемики, которая имела не только сугубо литературный, но и общественно-политический характер. 4. Неправомерно связывать неожиданный уход Озерова из литературы «происками» его литературных противников. Он был вызван целым комплексом причин различного характера: изменением политической и литературной ситуации, обстоятельствами личной жизни, особенностями характера драматурга. 5. «Озеровский миф» использовался «арзамасцами» в общественнолитературной борьбе с «беседчиками». Но с прекращением борьбы «миф» исчерпал свою актуальность. Творчество Озерова подверглось переоценке со стороны «арзамасцев», и в первую очередь А.С. Пушкиным, не в пользу драматурга. Этим объясняется тот факт, что творчество Озерова не получило должной и 1 Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994. С. 33. 15 объективной оценки как со стороны критиков – современников драматурга, так и со стороны литературоведов более позднего периода. Научная новизна состоит в том, что в работе впервые представлена концепция целостного изучения творчества малоизученного и «нераскрытого» писателя порубежной эпохи: творчество В.А. Озерова рассматривается комплексно, с учетом широкого общественно-политического и историко-культурного контекста конца XVIII – начала XIX века, в свете основных тенденций развития русского театра в переходный период, с учетом биографического фактора. Такой подход позволил выявить соответствие творчества Озерова так называемой «неканонической эпохе»1 в отечественной словесности, наступившей на сломе XVIII-XIX веков и связанной с радикальным изменением художественного сознания, что, в свою очередь, позволило продемонстрировать жанровую специфику драматургии В.А. Озерова, художественные принципы изображения персонажей в свете процессов преемственности и переходности. Из личности, безусловно подчиненной канону, художник превратился в центральный «персонаж» литературного процесса, чьи человеческие пристрастия, а также индивидуально-личностные характеристики определяли поэтику и проблематику произведения, обрисовку персонажей, трактовку характеров. Теоретическая значимость работы. Именно в трагедиях В.А. Озерова в нарушение всех канонов классицизма проявилась очевидная элегическая составляющая, что явилось несомненным новаторством драматурга и обеспечило его произведениям успех при постановке на сцене. Выявление элегической составляющей позволило автору диссертации впервые применить в отношении драматургических произведений Озерова определение «элегическая трагедия». При исследовании творчества В.А. Озерова разработана модель применения биографического метода исследования жизни и творчества драматурга переходной эпохи с учетом философских идей и концепций, характерных для историко-литературного периода конца XVIII – начала XIX вв., позволяющая ре1 См.: Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода: типология, история, поэтика: автореф. дис. … доктора филол. наук. Москва, 2013. 16 конструировать личность писателя, не допускающая искажения его литературной репутации, выявляющая скрытые механизмы взаимовлияний и взаимоотталкиваний в творчестве писателей переходного времени. Практическая значимость работы заключается в возможности использования материалов данного исследования при разработке специальных курсов по истории русской литературы конца XVIII – начала XIX века, теории и анализу жанра трагедии, истории критики и театра. Полученные в процессе исследования результаты и выводы могут быть в дальнейшем использованы при изучении писателей «второго ряда», творчество которых еще не стало предметом исследования. Кроме этого, наблюдения и выводы, сделанные в работе, могут быть использованы и развиты при изучении жанра трагедии в порубежные периоды русской истории, а также при выявлении взаимовлияний различных тенденций в переходные периоды. Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены в докладах на следующих научных конференциях: «Юдинские чтения» (Курский гос. ун-т, 2010), «Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: традиции и инновации: XII Международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвящённая 50-летию образования РУДН (Москва, РУДН, 2010г), «Знаменские чтения» ( Курск, ВЗФИ, 2011г), «Фетовские чтения» (Курский гос. ун-т, 2010, 2013, 2014). Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав и заключения и списка литературы, содержащего 219 наименований. Общий объем диссертации –193 страницы. 17 ГЛАВА I. Основные тенденции общественно-литературной и культурной жизни России конца XVIII – начала XIX веков, повлиявшие на формирование художественного мировосприятия В.А. Озерова 1.1. Роль «биографического фактора» в становлении Озерова-драматурга В.А. Озерову за свой недолгий век довелось пережить три царствования: Екатерины II, Павла I и Александра I. Особенности правления каждого из русских монархов выражались в определенных тенденциях, которые не могли не повлиять на формирование личности драматурга и на его творчество.1 «Золотой век» Екатерины застал Озерова кадетом Сухопутного шляхетского корпуса, куда он поступил 19 мая 1776 года. Дух просвещенного абсолютизма, характерный для правления Екатерины II вплоть до 1789 года, в полной мере ощущался и в этом привилегированном учебном заведении, призванном готовить не только верных защитников своего отечества, но и просвещенных чиновников. «У императрицы были грандиозные планы. И для их осуществления мало было хороших солдат. Нужны были деятели. Люди напористые, находчивые, ловкие – и при том широко мыслящие, дальновидные и просвещенные». 2 В основу системы воспитания были положены идеи французских просветителей, и в первую очередь, Ж.-Ж. Руссо. Именно на его педагогические принципы ориентировался И.И. Бецкой, вступивший в 1765 году в должность главного директора Сухопутного шляхетского кадетского корпуса: организация воспитания по возрастным периодам жизни, изолированность от общества, развитие у ребенка заложенных природой способностей. 1 Об особенностях историко-литературных процессов в периоды царствования Екатерины II, Павла I, Александра I см.: Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла. Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: НЛО, 2001. 2 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 22. 18 Через год И.И. Бецкой счел необходимым ввести новый устав, согласно которому в этом закрытом учебном заведении должны воспитывать «новую породу людей» – не просто «русских рыцарей», как во времена основателя Шляхетского корпуса Миниха, а «рыцарей свободного духа», осознающих свое собственное достоинство, добродетельных граждан, верно служащих своему монарху. Так, в преамбуле к новому Уставу отмечалось: «…учредить сей Корпус так, чтобы научению в нем военной и гражданской науки по самый выпуск кадета, яко часть никогда не отделяемая в юноше, всегда сопутствовало воспитание пристойное его званию и добродетельное, а сверх того и плоды прочих НАШИХ учреждений соответствовали плодам сего в новый порядок приведенного установления, и чрез то самое взаимною помощью каждое из них одно другому новую придавало силу».1 Хотя воспитание будущих офицеров и требовало строгости, в то же время в уставе подчеркивалось, что «не будут препятствовать, чтоб и при сем также как и при других случаях кротость, учтивство, человеколюбие с неразрывною от прямого воспитания благопристойностию соединены были».2 Инспекторам, воспитателям и учителям было вменено в обязанность выявлять у обучающихся склонность к определенным областям знания, «дабы для пользы их можно было употреблять заблаговременно приличные средства».3 В этом учебном заведении были запрещены телесные наказания, нельзя было пользоваться и услугами своих крепостных крестьян: «Крепостных своих служителей ни под каким видом никому в Корпусе для услужения не иметь, что и во всех таковых для воспитания учрежденных местах накрепко запрещается». 4 Из всего сказанного можно сделать вывод, что во времена Екатерины II «золотой век» был и для Сухопутного шляхетского корпуса. Владислав Озеров, происходивший из древнего, но обедневшего дворянского рода, имеющего польские корни (отсюда и необычное для тогдашнего 1 Устав Императорского шляхетного http://www.ruscadet.ru/history/doc/ustav-1766.htm 2 Там же. 3 Там же. 4 Там же. сухопутного 19 кадетского корпуса // URL: времени имя), был устроен в это привилегированное заведение не без помощи влиятельных родственников умершей матери. За время, проведенное в Шляхетском корпусе (почти двенадцать лет), он в полной мере освоил все «учения» и по окончании был награжден золотой медалью и выпущен в чине поручика. Идеи французских просветителей Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Локка, положенные в основу воспитания в Шляхетском корпусе, сформировали в будущем драматурге все качества, характерные для гуманистической педагогики: признание самоценности личности, необходимость внутренней свободы, осознание своего высокого предназначения. Один из воспитанников Корпуса вспоминал о том, «что кадеты бредили честолюбивыми мечтаниями: выходя из школьных стен в чине поручика или подпоручика, часто без гроша за душой, они тем не менее веровали в свое великое предназначение и были преисполнены “несоразмерным самолюбием”».1 Озеров не был исключением. Пребывание в Корпусе наложило отпечаток и на всю последующую жизнь Озерова – как писателя и как человека. Сформировавшись как личность в эпоху Екатерины II, он на протяжении всей жизни уже не изменит своим юношеским идеалам, которые впоследствии претворит в своих драматургических опытах. Можно сказать, что время, проведенное в Сухопутном шляхетском корпусе, стало для Озерова тоже «золотым веком», в который он осознал себя как суверенную личность и как деятеля одновременно – ведь именно там он увлекся театром и сочинительством. Необходимо отметить, что в корпусе для этого была самая благоприятная почва. По воспоминаниям бывшего воспитанника Ф. Булгарина, «дух литературный преобладал над всеми науками».2 Подтверждением тому могут служить имена знаменитых литераторов А.П. Сумарокова и М.М. Хераскова. Помимо этого, в корпусе большое внимание уделялось и театральному искусству. Вместе с Сумароковым учился и Ф. Волков, который впоследствии стал одним из 1 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 23 – 24. Булгарин Ф. Воспоминания Фаддея Булгарина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни: В VI ч. СПб.: Изд. М.Д. Ольхина, 1846 – 1849. Ч. II. URL: http://dugward.ru/library/bulgarin/bulgarin_vosp2.html 2 20 основателей первого русского профессионального театра. П. Арапов, составляя «Летопись русского театра», отметил, что Сухопутный кадетский корпус «можно было почесть» «первоначальным рассадником двигателей драматического искусства в России»: «…кроме Сумарокова, который там получил свое образование, из него вышли многие драматические русские писатели, приобретшие славу и известность впоследствии».1 П. Арапов приводит имена воспитанников Сухопутного корпуса: Хераскова, Елагина, Крюковского, Ефимьева, Сергея Глинки и преподававшего там Княжнина. «Именно в Шляхетском корпусе во времена Сумарокова и Волкова возник взаимодействующий союз актера и драматурга, созидающий русский театр. Актеры были столь же озабочены драматургией, как драматурги школой актерского мастерства».2 Эта тенденция сохранится и при постановке первых пьес Озерова «Эдип в Афинах» и «Фингал». Наконец, в корпусе преподавали знаменитые артисты – русские и французские – Плавильщиков, Офрен, И.А. Дмитревский, и литераторы – П.С. Железников и Я.Б. Княжнин, учеником которого был Озеров. «Екатерининское время» отразилось в одном из первых поэтических опытов Озерова – оде, написанной в связи со смертью Екатерины II. Заметим, что в небогатом наследии писателя, дошедшем до современников, сохранилось всего четыре оды, две из которых посвящены царям – Екатерине II и Александру I. «Ода на кончину государыни императрицы Екатерины Великой в 1796 году», по-видимому, создавалась Озеровым непосредственно после известия о ее смерти. Поэт во многом ориентируется на классические каноны оды, и в первую очередь на Г.Р. Державина. В традиционном для оды вступлении поэт не славит императрицу, а предается «вздохам тяжким» и «горьким слезам» вместе со всеми «россиянами», узнавшими скорбную весть. Озеров передает разнообразные чувства, охватившие людей, узнавших «весть»: это тревога, скорбь, «страх невольный», волнение – скорбит не только «царский двор», но и все русские люди: 1 2 Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 48 – 49. Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 11. 21 …Никто в ту ночь не знает сна. Вокруг дворца народ, как море, В волнении вопит: «О горе! Прешла великая жена Прешла…» и вопли те, как громы, Раздавшись меж высоких гор, Преносятся из дома в домы, Разят и град, как царский двор. И сердце русских безутешно.1 Чтобы выразить всю силу скорби россиян, поэт прибегает к «помощи» Г.Р. Державина. Именно его цитата из «Описания Потемкинского праздника» (1791) венчает «скорбную» часть оды: Стогласна вестница поспешно Летит вселенной возвещать, Что навсегда закрыла очи Царица сильна полуночи, «Россиян храбрых нежна мать!» (Курсив мой. – В. А.) (С.380). Описывая исторические заслуги Екатерины II, Озеров опирается на опыт своих предшественников – Ломоносова и Державина. «Золотой век» Екатерины будет помниться потомкам тем, что она заботилась об интересах государства, отражала удары «исполинов», грозящих «ужасом войны», что «пахари, при ней счастливы, / Свои орали щедры нивы, / Сиял над ними кроткий луч». 2 Не забывает поэт сказать и о «законах» императрицы, о «мудрых ее уставах», о ее покровительстве «искусным наукам», чему поэт был непосредственный свидетель. Не случайно Озеров называет Екатерину II славным державинским именем – Фелица, более достойной характеристики, он, по-видимому, себе не представлял. Перекличка с Державиным возникает и в следующей части оды, когда речь заходит о неизбежности и неумолимости смерти, которая: 1 Озеров В.А. Ода на кончину государыни императрицы Екатерины Великой в 1796 году // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 379. Далее текст цитируется по этому изданию. 2 Озеров В.А. Ода на кончину государыни императрицы Екатерины Великой в 1796 году. С. 381. 22 В своем владычестве над нами Не рознит смерть царей с рабами И всех равно косою жнет. Как к морю рек и речек воды Текут влечением природы, Так смерть всех к вечности влечет. (С. 381) Сравним у Державина: Ничто от роковых когтей, Никая тварь не убегает: Монарх и узник – снедь червей… ........................... Зияет время славу стерть: Как в море льются быстры воды, Так в вечность льются дни и годы; Глотает царства алчна смерть.1 В заключительных строках оды вновь появляется торжественный, пафосный слог, настроение меняется: сам Бог представляет преемника императрицы: Уже венец Екатерине В блаженстве изготовив ныне, Я Павла оправдал владеть. (С. 382). Традиционная для этого жанра мораль также присутствует у Озерова: она выражена в назидании новому царю и в надежде на его мудрое правление: Цари, свершившие долг трудный, В державстве кротки, правосудны, Должны в созвездиях блестеть. Враги твои да посрамятся, Твою в печали радость зря, Как силы русских утвердятся Под скиптром мудрого царя. (С. 382). Но моралью ода не кончается. Завершающий аккорд – это строки, передающие состояние природы и вносящие умиротворение в человеческую душу. Печали скрылась мрачна тень; Взыграли волны в спящем понте, Заря блеснула в горизонте, 1 Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского // Державин Г.Р. Сочинения. Л.: Художественная литература. 1987. С. 77. 23 И воссиял нам новый день. (С. 382). Такая концовка знаменательна для начинающего поэта, поскольку элегический элемент в общей стилистике оды для него далеко не случаен – он обнаруживает внутреннюю склонность будущего драматурга именно к жанру элегии, использование которого в дальнейшем будет характерно для Озеровадраматурга. В связи с этим уместно будет вспомнить еще одно обстоятельство, связанное с пребыванием Озерова в Сухопутном шляхетском корпусе, куда он вернулся в сентябре 1792,1 но уже не в качестве обучающегося, а наставником и одновременно адъютантом начальника корпуса графа Ф.Е. Ангальта. Влияние этого человека на будущего драматурга было огромно. Его «методы» воспитания по сути были продолжением гуманистической педагогики екатерининских времен, сформировавшей нравственные принципы Озерова: «Ангальт был проникнут передовыми духовно-просветительскими идеями новиковского толка, и журналы Новикова были постоянным корпусным чтением. “Душевное чувство нравственности” предпочитал Ангальт “холодной учености”».2 При нем у воспитанников появились тетради, в которых они записывали свои непосредственные впечатления от чтения книг или понравившиеся цитаты. «“Достоинство, а не порода, не богатство, не степени блистательные составляют человека; <…> Истинная слава – подруга истинного достоинства. <…> Воспитание – нежная матерь. Оно усеивает цветами путь учения. Идите за мной этим путем… <…>” Так начинал и так оканчивал речи свои граф Федор Евстафьевич Ангальт, и это все изображено на корпусной садовой стене, названной графом г о в о р я щ е ю с т е н о ю», – так вспоминал о нем воспитанник Шляхетского корпуса С.Н. Глинка.3 1 Согласно точке зрения И.Н. Медведевой, Озеров служил адъютантом начальника корпуса Ангальта с 1790 г. Но по сведениям, содержащимся в «Месяцеслове… на лето… 1791 г.», имя поручика Владислава Озерова числится в списке членов Казенной палаты Курского наместничества. См: Месяцослов с росписью чиновных особ в Государстве, на лето от Рождества Христова. 1791. В Санкт Петербурге, при Императорской Академии Наук. С. 139. 2 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 12. 3 Глинка С.Н. Записки. Спб., 1895. С. 57. 24 Озерову, по-видимому, были близки взгляды начальника корпуса, его пристрастие к афоризмам, нравственным изречениям, цитатам, которые писались прямо на каменной стене, отделявшей корпусную территорию. И.Н. Медведева предполагает, что «склонность к афоризмам в трагедиях Озерова имела своим началом <…> “говорящую стену” и “тетрадки”».1 Даже с резким изменением общественно-политической ситуации, связанной с французской революцией 1789 г., граф Ангальт по-прежнему остался верен своему «гуманистическому курсу» воспитания, чем заслужил немилость Екатерины II. Но до своей неумолимо приближавшейся отставки он не дожил: в 1794 году Ангальт умер. Как пережил его смерть Озеров, можно судить по тому факту, что у гроба своего начальника дежурил именно он с двенадцатью кадетами. Тогда же им были написаны стихи на французском языке в память о графе Ангальте («Стихи… на кончину… гл. начальника… кадет. корпуса»),2 которые Озеров читал кадетам. «Стихи Озерова, – отмечает М. Гордин, – имевшие посвящение “господам кадетам”, не блещут оригинальностью, но возражают мнению двора об Ангальте. Вполне традиционно поэт сравнивал графа Ангальта – добродетельного героя – с могучим древом, в тени которого находили покой и отраду усталые путники. Тогда как смерть представлялась поэту безжалостным дровосеком, сокрушающим величавый дуб».3 Преемником графа Ангальта был назначен М.И. Голенищев-Кутузов, поскольку увеличивающееся в Европе влияние Наполеона требовало серьезной подготовки русских офицеров. Возможно, новый «устав» нового начальника противоречил внутренним устремлениям Озерова, поскольку он подал прошение об отставке и 24 февраля 1795 года, получив чин капитана, был отправлен в статскую службу. Начало царствования Павла I ознаменовалось для Озерова продолжением службы в канцелярии генерал-прокурора Сената. Судя по фактам биографии, 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 13. Опубликованы: «Маяк», 1840. Ч. 1. 3 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 49. 2 25 реконструированной двоюродным братом Озерова Д.Н. Блудовым, служба для будущего драматурга представлялась скорее тяжким бременем, суровой необходимостью, чем поводом для достижения «степеней известных»: «…Он тогда ж удалился бы в деревню, есть ли бы бедность состояния и воля отца не принудили бы его заниматься службою. В продолжение семи или восьми лет он только что служил, имел успехи, но очень мало ими радовался и не мог снести первой неприятности». 1 Доказательством служат частые увольнения на первый взгляд без каких-либо видимых на то причин: увольнение в начале марта 1797 года из канцелярии генерал-прокурора; затем служба в Лесном департаменте – и довольно успешная: за пять лет, как отмечают исследователи, он прошел путь от поручика до генерал-майора, а генералом стал в тридцать лет. «На что Вам знать отличия, полученные нашим трагиком? – писал Д.Н. Блудов П.А. Вяземскому, которому было поручено составить вступительную статью к первому изданию сочинений Озерова. – Он был генерал-майором, имел 3-го Владимира: но это не имеет отношения к литературным трудам его».2 В начале царствования Александра I Озеров неожиданно подает в отставку «по прошению его за болезни».3 Причины такого поведения Озерова называются разные: «недоразумение», «пустая мнительность», «болезненное самолюбие», и наоборот, «обыкновенная порядочность», когда он «счел неприемлемыми для себя разговоры о реформах в департаменте».4 Но истинные причины, возможно, заключаются в другом. «Озеров служил почти против воли, ради заработка, – отмечает М. Гордин, – и роль государственного человека его отнюдь не прельщала, так как он был увлечен великими событиями собственной частной жизни».5 Стоит добавить, что эти «великие события», о которых речь пойдет дальше, включали в себя, помимо прочего, увлечение Озерова сочинительством, проявившееся еще в годы обучения в Сухопутном шляхетском корпусе. Не 1 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 373. Там же. С. 374. 3 Там же. С. 376. 4 См.: Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 63 – 64. 5 Там же. С. 57. 2 26 случайно свои первые трагедии он создавал в промежутках между увольнениями и поступлениями на службу. В этом отношении Озеров не был «профессиональным» литератором, и данные обстоятельства отчасти объясняют немногочисленность художественного наследия драматурга. Д.Н. Блудов, намечая жизненную канву своего двоюродного брата, подчеркивает, что «с начала его жизни в свете литература была для него если не шутка, то по крайней мере не более как забава».1 Из письма драматурга к И.И. Заикину выясняется, что Озеров сам не «искал звания автора», и соглашался издавать свои трагедии «по одним убеждениям… приятелей, никогда не был любопытен видеть в печати то, что писал единственно по склонности… к театральным зрелищам и без всякого искания звания автора и стихотворца».2 Именно этими причинами исследователь объясняет равнодушное отношение Озерова ко всяким «вмешательствам» в свой собственный текст: «При отправлении из деревни (в конце 1808 г.) последних актов “Поликсены” он писал А.Н. Оленину: “Погрешности или слабости в слоге… вы и кн. А. Ал. <Шаховской> и Ив. Андр. <Крылов> можете сами поправить”».3 Это обстоятельство необходимо учитывать, когда упреки в адрес Озерова по поводу его несостоятельности как создателя новых тенденций в русской драматургии (которые он и не стремился создавать!) переносятся на недостаточность его художественного дарования и этим же фактом объясняются. При этом роль Озерова-трагика в историко-культурном процессе рубежа XVIII – XIX веков существенно умаляется. Таким образом, сформировавшись в «золотой век» Екатерины, Озеров определил для себя нравственные приоритеты, которым неизменно будет следовать в жизни: признание самоценности личности, необходимость внутренней свободы, вера в свое великое предназначение и, что немаловажно, предпочтение «душевного чувства нравственности» «холодной учености». Все это получит отражение в творчестве Озерова-драматурга, где личностная составляющая 1 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 372. Цит. по: Медведева И.Н. Примечания // В.А. Озеров. Трагедии. Стихотворения. С. 416. 3 Там же. 2 27 явилась фундаментом той самобытности, которая отличала драматургию автора. 1.2. Сентименталистская направленность первого произведения «Элоиза к Абеляру. Ироида» «Великие события собственной частной жизни» Озерова, в большей степени повлиявшие на его становление как драматурга, были связаны с «жизнью сердца». В этом отношении он оказался вполне соответствующим духу своего времени, когда сентименталистские тенденции стали доминирующими в историко-литературном процессе конца XVIII века. Природные свойства характера Озерова нашли живой отклик и поддержку в методах воспитания графа Ангальта, и «душевное чувство нравственности» получило дальнейшее и, самое главное, естественное развитие в его первых литературных опытах, в основе которых была «жизнь сердца». Не случайно В.Г. Белинский, говоря о «яркозамечательном даровании» Озерова, в первую очередь выделил его зависимость от сентиментализма – «преобладающего элемента» в трагедиях драматурга: «Он был результатом направления, данного русской литературе Карамзиным».1 «Чувствительные» герои произведений Озерова в большинстве своем декларируют идеи своего автора, и в отдельных случаях драматург демонстрирует полное тождество автора и героя. Показательно, что, вспоминая Озерова, С.Н. Глинка связывает его трагический конец с особенностями его «сентименталистского мироощущения»: «Среди славы своей Озеров безвременно угас от той чувствительности, которая творит писателя, а нередко и ведет его к жребию певца освобожденного Иерусалима».2 Сошлемся на воспоминания и другого современника Озерова Ф.В. Булгарина. Будучи свидетелем ошеломительного триумфа драматурга, публицист невольно отмечает то главное, что обеспечило трагедиям Озерова грандиозный успех: «В одном месте театра раздавались радостные восклицания, в другом 1 2 Белинский В.Г. Статьи о Пушкине// Белинский В.Г. ПСС в 13 т. М.: Изд-во АН СССР,1955. Т.7. С.140. Глинка С.Н. Записки. С. 171. 28 рыдания <…>... Тогда еще умели жить сердцем! Тогда не стыдно было выказывать чувства, и жалкая холодность ко всему еще не была принадлежностью хорошего тона!..»1 Но «жизнь сердца» имела и обратную сторону: отказывая «холодному разуму», чувствительность как бы заполняла собой освободившееся место, становилась самодовлеющей в характере человека, лишая его тех нужных качеств, которые требуются в экстремальных жизненных ситуациях, когда необходима именно «жалкая холодность» для усмирения чрезмерности чувств. «Жертвой» такого сентиментального воспитания, считает С.Н. Глинка, был В.А. Озеров. Вспоминая воспитанников Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса Железникова, Черныша, Озерова, талантливо игравших в любительских спектаклях, Глинка замечает некую закономерность: «Все наши любители театра корпусного отличались счастливыми способностями ума, все они пламенели живою чувствительностью и прежде времени сошли с поприща жизни. <…> Озеров, вызвавший на театр и шотландского барда Оссиана и слепца Эдипа, и героя Донского, в живых как будто сошел в могилу или от волнения собственного воображения, или от стрел зависти, неразлучной тени, следующей за достоинством и дарованием. Чудное воспитание! Первый шаг на поприще деятельности общественной был первым шагом к унынию или гробу».2 Рассматривая значение категории меланхолии в творчестве В.А. Жуковского, Ю.М. Прозоров справедливо замечает, что «меланхолия – не исключительно психологическое состояние, которое склонен был поэтизировать Жуковский, и не просто эмоциональная атмосфера его лирики, но целая система культурно-исторических воззрений XVIII – начала XIX столетий, большой мир творческих идей, общественных умонастроений, эстетических вкусов, поэтических откровений».3 Именно в такой системе историко-культурных и эстетиче- 1 Булгарин Ф.В. Воспоминания Фаддея Булгарина. URL: http://dugward.ru/library/bulgarin/bulgarin_vosp2.html 2 Глинка С.Н. Записки. С. 61. 3 Прозоров Ю.М. «И меланхолии печать была на нем…» Об основаниях поэтического мышления В.А. Жуковского. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. С. 51. См. также: Виницкий И.Ю. Русская «меланхолическая школа» конца XVIII – начала XIX веков и В.А. Жуковский: дис. … канд. филол. наук. М., 1995; Дубровина 29 ских координат представляется продуктивным рассмотрение творческого феномена Озерова и самой его личности. Говоря о непростом характере трагика, о его замкнутости, погруженности в себя, о перепадах настроения, о вечном недовольстве собой и людьми, о состоянии уныния, грусти и тоски и в то же время нежного отношения к близким его душе друзьям, необходимо учитывать не только индивидуальный психотип драматурга, но и социокультурный контекст эпохи, смену философско-эстетических парадигм переходного периода – от Просвещения к романтизму, когда формируется новая концепция человека. Все эти факторы обусловили своеобразие озеровской драматургии, ее новаторский характер, стремление «вырваться» из классицистических рамок и соответствовать духу времени и вкусам публики одновременно. Эти же обстоятельства способствовали тому, что элегическая составляющая оказалась достаточно ощутимой в драматургическом творчестве Озерова. О том, какие последствия имели особенности «чувствительного» характера Озерова, вспоминает и Д.Н. Блудов: «Рожденный с пылкими страстями, и воображением романтическим, он искал наслаждений и счастия не в грудах ума, а мечтах своего сердца: в людях, в обществе, в женщинах, или, справедливее сказать, в одной женщине. Для нее он жил несколько лет, почти все лета своей молодости; с нею питался восторгами платонической страсти; был часто возле счастия и не был счастлив, ибо любезная ему женщина была замужняя и добродетельная. Для нее он играл французские трагедии, писал французские стихи, читал французские романы».1 В этом отношении показателен первый поэтический опыт будущего знаменитого трагика. Нельзя не согласиться с мнением И.Н. Медведевой, которая утверждает, что «ключом к поэтике Озерова» является одно из первых его произведений «Элоиза к Абеляру. Ироида. Вольный перевод с французского тво- И.В. Функционирование сентименталистских кодов в поэтике современной драмы (на материале драматургии Николая Коляды): автореф. … канд. филол. наук. Москва, 2014. 1 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 372. 30 рения Колардо».1 В нем отразилась трагическая история любви самого Озерова к женщине, имя которой так и осталось тайной. Как это ни парадоксально, ни один из современников драматурга, знавших его лично и в своих воспоминаниях не обходя эту страницу жизни Озерова, в то же время не называет имя его возлюбленной. В этом отношении показателен пример Д.Н. Блудова. После кончины драматурга он собирался писать вступительную статью к первому изданию сочинений Озерова, но потом препоручил сделать это П.А. Вяземскому. В материалах, которыми Д.Н. Блудов снабдил будущего автора статьи «О жизни и сочинениях Озерова», он очень тактично обходит подробности любовной трагедии своего брата, но в то же время именно Блудов приоткрывает завесу над ее именем, сообщая начальную букву фамилии возлюбленной Озерова. Вяземский же, перенеся почти дословно в свою статью выдержки из письма Блудова, не упоминает даже этой подробности. И.Н. Медведева высказала предположение, что она была француженкой, посещала театр Шляхетского корпуса и как-то была связана с ним, возможно, жила неподалеку: «Можно догадываться, что роман происходил в 1789 – 1794 годах, когда Озеров, выпущенный из корпуса, оставался там в качестве адъютанта. Потеря этой службы со смертью Ангальта ввергла Озерова в иную среду, заставила подолгу отлучаться из Петербурга. Видимо, 1794 году был годом разлуки и кульминацией любовных страданий».2 С.Е. Кутейников добавляет новые штрихи к образу возлюбленной Озерова: «Вяземский деликатно не называет имени женщины. Однако в петербургском свете она была хорошо известна. Другие источники говорят, что эта женщина была много старше Озерова, француженка по крови и к тому же многодетная мать. Ее следует искать при царском дворе или в среде крупнейших вельможных домов. Даму сердца Озеров впервые увидел со сцены, когда еще в бытность кадетом, играл в любительском спектакле. Она сидела в зале… <…> 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 17. Первый сборник В.А. Озерова «Собрание стихотворений», изданный в 1792 г., не сохранился. 2 Там же. С. 15. 31 Пик этой любви приходится на начало 90-х годов, когда Озеров служил адъютантом директора Шляхетного корпуса и, только начинал свою литературную деятельность. Платоническая страсть молодого, начинающего литератора была предметом пересудов в светских салонах. Это способствовало, если не популярности, то, как бы, интересу публики к личности Владислава Озерова».1 В этом высказывании обращают на себя внимание два обстоятельства: вопервых, Озеров был неродовит, поэтому не мог быть вхож в дом «крупнейших вельмож», тем более близких к царскому двору, следовательно, и общение с любимой женщиной в этом случае было весьма проблематично. Во-вторых, стоит только удивляться, как могло остаться в тайне ее имя, если платоническая любовь Озерова была «предметом пересудов в светских салонах». Наиболее убедительной представляется точка зрения М.А. Гордина. Опираясь непосредственно на свидетельства Д.Н. Блудова, он предпринимает попытку расшифровать имя женщины, которую страстно любил В. Озеров. Исследователь исходит из того, что сообщил Блудов об отношении драматурга к этой женщине: «Несколько раз он так сказать бросал целый свет: сначала после смерти своей милой Л…ой; тогда он оставил и начатые труды литературные, и общество, которое любил, потому что в глазах его оно украшалось ею…»2 По мнению исследователя, фамилия, пусть и неназванная, непрописанная, скрытая, все же поддается расшифровке. Основываясь на фактах биографии Озерова, его взаимоотношениях с бывшими воспитанниками по кадетскому корпусу, сопоставляя обширные архивные документы (соборные метрические книги), сравнивая свидетельства современников Озерова, запечатленные в их воспоминаниях, исследователь приходит к выводу, что «милая Л…ва» – это Варвара Максимовна Литвинова.3 Именно эта версия представлена в авторитетном био- 1 Кутейников С. Последний луч классической зари (К 240-летию со дня рождения В.А. Озерова) // Неизвестные знаменитости. Тверская старина. 2009. № 29. С. 150 – 162. URL: http://www.tverbook.ru/tver_old_29.php 2 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 373. 3 См. об этом: Гордин М.А. Владислав Озеров. Л.: Искусство, 1991. 32 графическом словаре «Русские писатели. 1800 – 1917» в статье А.Л. Зорина об Озерове.1 В 1794 году выходит первое печатное произведение Озерова «Элоиза к Абеляру. Ироида. Вольный перевод с французского творения Колардо» с эпиграфом: «Прелестному полу посвящаю». Озеров обращается чуть ли не самому известному в европейской литературе сюжету о разлученных возлюбленных, которые остались верны своему долгу. «Ситуация вечной разлуки влюбленных и неугасающей страсти в стенах монастыря оказалась созвучной русским сентименталистам и преромантикам», – отмечал В.Э. Вацуро.2 Озеров не случайно взял за основу переложение поэмы английского поэта Александра Поупа, сделанное французским поэтом-элегиком Шарлем-Пьером Колардо, бывшим к тому же и драматургом-трагиком, поскольку элегический характер соответствовал литературным пристрастиям Озерова. Текст предваряется предисловием автора, которое также имеет значение для постижения смысла этого произведения в целом. Можно сказать, что преамбула, сделанная автором к переводу, – это своеобразная декларация эстетических принципов Озерова, в которой он утверждает главенствующее место чувства перед разумом: «Человек с холодною душою, с тусклым воображением будет писать рифмы, но родиться искусным стихотворцем невозможно…»3 Авторская интенция, побудившая взяться за перевод «столь трудного творения», выражена Озеровым весьма лаконично: «…на сие отвечаю, что природа в том виновата».4 Обратим внимание, что слово «природа» в дальнейшем станет у Озерова одним из частотных и будет «переходить» из одного сочинения в другое, поскольку оно заключает в себе главный постулат: жить надо по естественным законам сердца и души, и, следовательно, «природа» у Озерова превращается в центральную нравственную категорию в его творчестве. Имен1 Русские писатели. 11-20 вв. М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия»; Научновнедренческое предприятие ФИАНИТ. М. 1992 – 1999. Т 4. Русские писатели. 1800-1917. С. 405 – 408. 2 Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». С. 60- 61. См. также: Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб.: Академический проект, 2000. 3 Озеров В.А. Элоиза к Абеляру. Ироида. Вольный перевод с французского творения Колардо // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 361. 4 Там же. 33 но в переводе Колардо Озеров нашел то, что не удовлетворяло его в других переводах, сделанных ранее и, возможно, «превосходящих» предпринятый им, поскольку в них «описания» содержали «более ума, нежели чувства»: «Читая г.Колардо, я был восхищен, мне открылся путь парнасский, и я почувствовал вдохновение Аполлона, о котором прежде и мысли не имел».1 Решение Озерова обратиться к истории взаимоотношений Элоизы и Абеляра, которую он излагает в «Выписке о жизни Абеляра», предваряющий сам текст, было вызвало реальной жизненной ситуацией, в которой находился сам Озеров. Параллелизм ситуации прослеживается прежде всего в неразрешимости любовной коллизии: Элоиза «отдана» Богу, заключена в монастырь, возлюбленная Озерова – замужняя женщина, которая так же никогда не сможет ему принадлежать. Трагедия заключается в невозможности подчинить себе страсть, потушить огонь любви, исцелить ее жар: «Все тщетно для меня: и огнь мой не исчез…»2 Так говорит Элоиза, но так же мог сказать о себе и поэт. Центральная идея – несокрушимость подобной любви. Е. Вильк замечает, что само обращение Озерова к «героиде» – уже факт знаменательный, поскольку она посвящена «тому самому сюжету любви к Богу и к человеку, который изначально определил контуры конфликта русской трагедии. У каждого из русских трагиков эта тема нашла эксплицированное выражение в произведении, посвященному уходу героя в монастырь. Напомним, что в этот ряд входят “Пустынник” Сумарокова, “Венецианская монахиня” Хераскова, “Письмо графа Коминжа” Княжнина. Как и в двух последних случаях, сюжет этот получил реализацию в самом начале творческого пути трагика».3 Произведение пронизано духом страсти, это стенания мятущейся души, стон любящего сердца, переходящий в плач, а в отдельных случаях, когда отчаяние берет верх, и в бред. С одной стороны, любовь представляется для героини «злосчастной» – источником всех ее бед и страданий, «вредной сердцу», раз1 Там же. Озеров В.А. Элоиза к Абеляру. Ироида. Вольный перевод с французского творения Колардо. С. 366. Далее текст цитируется по этому изданию. 3 Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19 th Century. Research Support Scheme, 1999. С. 131. URL: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001056/01/56.pdf 2 34 рушающей все мечты, более того – кощунственной, поскольку теперь «слезы» «лить для Бога должно», но не для любимого. Душа героини подобна келье, где заточённой любви уже не вырваться на волю. Но с другой стороны, сила этой любви так велика, что ей ничто не подвластно: Ни рок, враги – ничто не может запретить Томиться, рваться нам и в скорбях слезы лить. (С. 367). В жертву такой любви приносятся все блага мира: богатство, слава, честь, власть: Пущай могущий царь великость повергает, С престола низойдя, мне скипетр предлагает, Державой за любовь наградою сулит, Тем блеском он меня, ни честью не прельстит: Презрю, отвергну всё; и скипетр и державу Ногами я поправ, в тебе зреть буду славу. Ты знаешь, Абеляр, в душе твоей мой трон, Величества и честь и пышный блеск корон. Любезной быть твоей – вот титло дорогое! (С. 368). Несмотря на то, что в «Ироиде» описываются конкретные обстоятельства трагической истории любви Элоизы и Абеляра, произведение в то же время представляет собой явную проекцию любовной ситуации, в которой оказался сам драматург, полюбив замужнюю и добродетельную женщину. Это прежде всего выражается в его манифестациях такой любви, которая не страшится преград: «Свободною родясь, любовь не терпит уз».1 Причем, даже брачные узы не залог счастливой любви: Сколь часто видим мы, что брачные венцы Сильнейшей страсти суть несчастные концы. (С. 367). Несмотря на воспевание любовной страсти, платонический характер любви самого автора также проявляется в произведении. Вынужденные жить в разлуке, любящие все же могут прикоснуться к любви в своих мечтаниях: Обняв меня рукой, прижми к груди своей, Хоть то любви мечта, но предадимся ей. 1 Озеров В.А. Элоиза к Абеляру. С. 367. 35 О восхищение… в весельях утопаю… В восторге злу судьбу твою я забываю! Целуй меня, целуй… без чувств и чуть дышу… Я в мыслях пламенных веселье совершу… (С. 369 – 370). Бесконечные горестные и страстные стенания героини выливаются в отчаяние, приводящее к мысли о непобедимости власти любви: Непобедима власть, любви влиянье злое! Обеты я несла, а мыслю здесь другое. (С. 371). Ей предстоит сделать по сути кощунственный выбор: «Меж веры и любви я колебаться смею».1 Ради своей любви героиня даже пытается вступить в противоборство с Богом, обвиняя его в жестокости, «Жестокий Бог! Смягчись над слабостью моею…», 2 но в то же время она готова подчиниться его власти: «Волнующим страстям законы положи, / Могущество свое над мною покажи».3 Но все-таки в своих душевных метаниях героиня предпочитает своего возлюбленного Абеляра, который для нее важнее самого Бога: Мой бог меня зовет, иду… Но нет; приди, Сразися за меня и бога победи! Приди, дерзай ты стать между небес и мною, – Оставлю небеса и шествую с тобою. Верховным благом ты душой моей сочтен, В объятиях моих ты богу предпочтен… (С. 374). По мнению исследователя, «драма героев вызвана смешением двух сфер ценностей» – «природных» и «внеприродных» – «их непредусмотренным взаимным проникновением. Герои ввергнуты судьбой в несчастье, коллизия их делает явной непереходимость границы двух состояний, но сами они лишены возможности какого-либо активного выбора».4 В отличие от героев Сумарокова и Княжнина, которые «были обращены к высшей силе в дерзновенном требовании соединения “дольнего” и “горнего”, осуществляли некий жертвенный шаг, понимаемый и как шаг к спасению другого, и в то же время как экзистенциаль- 1 Там же. С. 372. Там же. 3 Там же. 4 Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19 th Century. С. 131. 2 36 ный риск гибели собственной души, поступок-вызов, требующий ответ Высшей Силы»,1 герои Озерова остаются пассивны. Не случайно в конце «Ироиды» Элоиза слышит голос, доносящийся из могилы, в котором чудятся «вопли» и «стоны», но которой, несмотря на все стенания, пытается внушить ей мысль о забвении страданий после смерти, когда в «жилище мертвых» двое возлюбленных соединятся в одном гробу. Но такая перспектива не представляется для героини спасительной: поскольку страсть, любовь может быть потеряна только с самой жизнью, бедная могила возлюбленных способна внушать только ужас, напоминая в назидание смертным о «любви злой повести»: «Могущая любовь, Се ты виной их бед, смутив в них жарку кровь. Теките токи слез на гроб четы несчастной, И да страшимся все Любови столько страстной!» (С. 375). Уже в этом первом опыте Озерова проявился его талант поэта-элегика, наметились будущие основы его драматургической поэтики. Заметим, что «ироида» или «героида» (Колардо позаимствовал это название у Овидия) – это и есть особого вида элегия, представленная стихотворным письмом от лица известной личности. Отметим и то обстоятельство, что такая форма произведения была для Озерова отнюдь не случайным выбором, поскольку, в соответствии с основной идеей произведения показать великую силу любви, это можно было сделать только посредством писем: «Конечно, дар письма любовь изобрела…»2 В «Элоизе» есть несколько пейзажных зарисовок, передающих движения души героини и характерных для будущих романтиков: Ни ток чистейших вод, что с шумом с гор стремится И на лугах, журча, по камешкам катится, Ни красота полей, ни тень густых древес, Что с гордостью верхи возносят до небес, Ни тихи озера, что небо отражают, Луч солнечный прияв, струями ослепляют, – Ничто уж без тебя меня не веселит: 1 2 Там же. С. 132. Озеров В.А. Элоиза к Абеляру. С. 367. 37 Природы зрелище печаль не уменьшит. (С. 371). Выразительна картина бури, которая разразилась, как только в храме против воли героини была произнесена ею клятва, унижающая ее любовное чувство: Но клятву лишь свою из уст я испустила, Как с речью скрылся вдруг луч дневного светила, Ветр бурный заревел, раздался в тучах гром, Померк лампадный свет, потрясся храм и дом… (С. 369). Таким образом, уже первый поэтический опыт В.А. Озерова предвосхитил будущие элегические монологи героев его трагедий,1 именно они в первую очередь обеспечили небывалый успех их постановок. Помимо этого, во многих женских образах трагедий Озерова можно увидеть черты его первой, хоть и «переводной» героини Элоизы: беззаветная преданность своему избраннику, готовность принести себя в жертву во имя любви, несокрушимость перед лицом рока. Присутствие в творчестве Озерова ощутимых сентименталистских тенденций объясняется не только склонностью автора к меланхолии, но в большей степени культурно-исторической ситуацией рубежа XVIII – XIX веков, общественными умонастроениями и эстетическими вкусами и пристрастиями 1.3. В.А. Озеров и основные тенденции в русской драматургии начала XIX века Время вхождения В.А. Озерова в литературу представляет собой переходный период, который можно коротко охарактеризовать одним, но выразительным словом «смешение»: смешение литературных направлений, жанров, стилей, понятий. В этом отношении уместно высказывание А.Н. Веселовского: «Каждая новая поэтическая эпоха не работает ли над исстари завещанными образами, обязательно вращаясь в границах их, позволяя себе лишь новые комби- 1 О переходе героиды в элегию см.: Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. 38 нации старых и только наполняя их тем новым пониманием жизни, которое собственно и составляет ее прогресс перед прошлым».1 Несмотря на риторичность вопроса ученого, в случае с Озеровым хочется ответить утвердительно, поскольку в его творчестве очевидность этого положения проявляется достаточно ярко: это и работа «над исстари завещанными образами» в рамках системы классицизма, и «новые комбинации» в соответствии с «новым пониманием жизни» – сентименталистские и предромантические тенденции. В этом состояла новизна Озерова как драматурга и в этом же была его уязвимость как невольного реформатора, а значит, нарушителя классицистических канонов новой русской трагедии. Литературная борьба представителей этих направлений – сентименталистов и нарождающихся романтиков с классиками – началась еще в конце XVIII века, а развернулась как раз в тот период, когда Озеров выступил со своими первыми трагедиями «Эдип в Афинах» и «Фингал», принесшими ему оглушительный успех. Необходимо отметить, что «с внешней стороны борьба велась по вопросам языка и стилистики, а по существу – по основным вопросам русской жизни. Спор на литературные темы превращался в политическую дискуссию. Политическая подоплека литературно-филологической борьбы была ясна многим современникам».2 Ее осложняло то обстоятельство, что теоретики классицизма, отстаивая его категории, часто не учитывали потребностей современной литературы, связанной с изменением общественного сознания. В этом отношении драматургия более, чем другие жанры, «сопротивлялась» новым веяниям времени. Атмосферу «смешения» отмечает А. Аникст: «Начало века отмечено в русской литературе скрещением самых разнородных художественных течений. Классицистская по форме драма впитывает сентиментальный дух, сентиментальная поэзия осваивает романтические мотивы, просветительство перерастает 1 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. С. 51. Очерки по истории русской журналистики и критики. Том первый. XVIII век и первая половина XIX века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1950. С. 157. 2 39 в революционный романтизм, сентиментализм дает реалистические плоды. Историку литературы и драмы нетрудно запутаться в этом смешении художественных идей и тенденций».1 П.А. Марков называет первую четверть XIX века эпохой перелома, временем расчета с XVIII веком и подготовкой нового века русского искусства. «Может быть, – замечает он, – потому так трудно дать определенный образ театрального искусства этой эпохи, что в его текучем и неопределенном облике одновременно мелькают черты XVIII века и ясно проступают новые эстетические явления».2 Описывая ситуацию, сложившуюся в русской драматургии в начале XIX века, многие исследователи в качестве иллюстрации приводят известные строфы из первой главы «Евгения Онегина» А.С. Пушкина. В данном случае будет интересен взгляд на литературную ситуацию критика начала XX века Н. Энгельгардта. В своих наблюдениях он также прибегает к помощи Пушкина, цитируя строки из «Онегина» и комментируя их применительно к драматургическому творчеству начала века: «Волшебный край! там в стары годы Сатиры смелый властелин, Блистал Фонвизин, друг свободы, И переимчивый Княжнин; Там Озеров невольны дани Народных слез, рукоплесканий С младой Семеновой делил; Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый; Там вывел колкий Шаховской Своих комедий шумный рой… (Гл. I. Строфа XVIII).3 В описанную Пушкиным драматургическую атмосферу Энгельгардт вносит несколько коррективов: «Должно только вычеркнуть приятельскую лесть Катенину, – к тому же его переводы французского трагика относятся ко второ- 1 Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М.: Наука, 1972. С. 10. Марков П.А. О театре: в 4 т. М.: Искусство, 1977. Т 1. Из истории русского и советского театра. С. 9. 3 Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 2 5. С. 14. 40 му десятилетию, – да пополнить строфу именем Коцебу с его “мещанскими или слезными драмами”, руководствуясь стихом Горчакова: …И Коцебятина господствует на сцене».1 В данном случае критик имел в виду знаменитое послание Д.П. Горчакова к князю С.Н. Долгорукому, известное под названием «Невероятные», в котором автор выражает неприятие художественной манеры драматурга Августа фон Коцебу, «слезные драмы» которого пользовались большой популярностью у публики. 2 Помимо этого, в послании выражается досада, что вместо пьес Н.П.Николева, друга Горчакова, «ставят» Коцебу, вследствие чего в театре «процветает» пошлость, «иностранщина», выразившиеся в «Послании» презрительном слове «коцебятина»: «Гуситы, Попугай предпочтены Сорене, И коцебятина одна теперь на сцене…»3 Анализируя ситуацию, сложившуюся в русской литературе первого десятилетия XIX века и, в частности, драматургический репертуар, Н. Энгельгардт в качестве основной приметы времени выделяет «странное смешение» «имен», «взглядов», которое характеризует, по его словам, «переходное состояние сцены»: «Кроме драм Коцебу, находим попытки оригинальной русской драмы Ильина и Федорова, трагедии Озерова и рядом Хераскова, “Ирода и Марианну” Державина (1808 г.), против ожидания кн. Шаховского имевшую большой успех, патриотические драмы Глинки, “Леара” в переделке Гнедича, “Танкреда” Вольтера в переводе его же, и “Заговор Фиеско” (1803); “Отелло” Шекспира в подражании Веньяминова. Наконец рядом с комедиями Николева, Лукницкого, Павл. Ив. Сумарокова, Судовщикова – комедии Шаховского и Крылова и “Днепровская Русалка” с ее фантастическим содержанием».4 1 Энгельгарт Н. Литературная деятельность Озерова. С. 30. См.: Мельникова С.И. Коцебу в России. Санкт-Петербург.: Изд-во СПб. ГАТИ, 2005. 3 Н. Энгельгарт неточно цитирует Д.П. Горчакова. «Попугай», «Гуситы под Наумбургом» - пьесы А. Коцебу; «Сорена и Замир» - пьеса Н.П. Николева. 4 Энгельгарт Н. Литературная деятельность Озерова. С. 30 – 31. 2 41 Среди этого разнообразия знаменитых и второстепенных имен критик выделяет Озерова – это «центральное имя русской сцены той эпохи». 1 Его творчество Н. Энгельгардт рассматривает с учетом «переходного состояния», главным образом – смены мировоззенческих парадигм в сознании русского общества – в первую очередь, отразившемся на основных тенденциях русской драматургии. Отмечая «смешение взглядов» в критической литературе, Энгельгардт приводит книгу немецкого историка философии и религии К. Мейнерса «Главное начертание теории и истории изящных наук» (1803 г.), в которой находит «самые смелые новаторские взгляды». Автор поднимает вопрос о том, «какое действие должна производить трагедия в наши времена, при теперешних образцах правления и при нынешнем просвещении и нравах». 2 К. Мейнерса не смущает явное «уклонение» «новейшей» трагедии от греческой: несоблюдение единства времени и места действия, «действующие лица взяты из среднего состояния», «и сия новость почтена столь важным распространением трагического стихотворства, что изобретено для сего название мещанской трагедии…»3 Чтобы продемонстрировать неоднозначность взглядов на драматическое искусство в начале XIX века, Энгельгардт цитирует выдержки из другой книги, вышедшей в Петербурге в 1809 году: «Общие правила театра, выбранные из полного собрания сочинений Г. Вольтера и расположенные по порядку драматических правил А. Писаревым», в которой «установлен ряд истин, диаметрально противоположных смелым идеям Мейнерса».4 Так, например, автор отрицательно относится к тому, чтобы героями трагедий были «особы частных сословий», совершенно не признает «мещанской трагедии» и «слезной комедии», считая, что они «подобны уродам, порожденным от неумения быть забавными или трагическими».5 А.А. Писарев негативно принимает отступление от «трех правил единства», к писанию трагедий белыми стихами или прозой. 1 Там же. С. 30. Там же. С. 31. 3 Там же. 4 Там же. С. 32. 5 Там же. 2 42 Иными словами, автор придерживается незыблемых «канонов» стиля и очень неохотно допускает нарушение сложившихся «правил». Анализируя трагедии Озерова, Энгельгардт находит в них некоторые отступления от классицистических канонов, за которые критика на него «ополчилась», но которые, впрочем, никак не повлияли на зрительский успех. Главная проблема для Озерова, по мнению, Энгельгарта, заключалась в интригах завистников. Это будет рассмотрено позже в контексте проблемы «озеровского мифа». Далее необходимо остановиться на особенностях русской драматургии. О ее стремительном движении и развитии можно судить по следующим фактам: «В 1804 году В.А. Озеров поставил трагедию “Эдип в Афинах”, а в 1825 году Пушкин закончил “Бориса Годунова”. В 1806 году И. А. Крылов поставил свою “Модную лавку”, а в 1823 году Грибоедов создал “Горе от ума”». Сопоставляя эти даты, легко убедиться в том, какой поразительный скачок делает русская драма на протяжении первой четверти XIX века».1 Одной из существенных черт русской жизни рубежа XVIII – XIX веков является небывалый интерес к театру. Особую роль в «мире кулис» стали играть театралы-любители – «светские знатоки драматического искусства». Среди них были и царь Александр I, и его приближенные – Сперанский, Аракчеев. Остро ставятся проблемы формирования нового репертуара, изменение приемов актерской игры. Такое «вмешательство» в «дела сцены» (с разрешения Театральной дирекции) способствовало возникновению своеобразного тандема: актеров и зрителей, когда те и другие делают общее дело: «Светский театрал стремился к такому преобразованию профессиональной сцены, при котором публика оказалась бы равноправным партнером в театральной действе».2 В новом театре, в отличие от прежнего, где зритель всегда ощущал «расстояние» между происходящем на сцене и собственной жизнью, ему предлагали «отре- 1 Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. С. 10. См. также о театральной жизни начала XIX в.: Родина Т.М. Русское театральное искусство в начале XIX века. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 2 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 94. См. также: Кузьмина В. Д. Русский демократический театр XVIII века. М.: Академия наук СССР, 1958. 43 шиться от обыденности и сделаться не просто свидетелем происходящего, но вжиться в него и тем самым побудить и театр к более открытому, прямому общению с публикой».1 Результаты усилий такого «реформирования» не замедлят сказаться в драматургии В.А. Озерова. Складываются и новые отношения «театралов» и актеров.2 При директоре театров Нарышкине формируется репертуарный комитет, в обязанности которого входил не только тщательный отбор пьес для постановки, но и «рекомендательные советы» актерам, иными словами, необходимо было «соединить выучку профессиональных лицедеев и утонченный вкус просвещенных любителей и создать истинно светские по стилю и духу театральные зрелища».3 В этом отношении большую роль сыграл кружок Оленина, в котором готовились к постановке первые пьесы Озерова «Эдип в Афинах» и «Фингал», принесшие ему грандиозный успех. Настоящим «открытием» такой драматургической стратегии, основывающейся на особых отношениях актеров, драматургов и постановщиков пьесы, стремящихся к новому стилю театрального представления, явилась Е. Семенова, которой удалось понять внутренний нерв трагедий Озерова и блестяще претворить на сцене его замыслы. А.С. Пушкин, характеризуя театральную жизнь России начала XIX века, соединяет имена Озерова и Семеновой как равноправных партнеров, в равной степени заслуживших славу на русской сцене: «Там Озеров невольны дани / Народных слез, рукоплесканий / С младой Семеновой делил…»4 Представляется закономерным, что после Озерова прославленная актриса не проявила свой талант с такой силой, как при трагике. На рубеже XVIII – XIX вв. меняется характер восприятия спектакля. Зрителя интересует уже не сама пьеса, а ее сценическое воплощение, игра актеров. Не случайно одни и те же спектакли зрители могли смотреть по нескольку раз, 1 2 Там же. Об этом см.: Марков П.А. О театре: в 4 т. М.: Искусство, 1977. Т 1. Из истории русского и советского театра. 3 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 94. Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т.5. С. 14. 4 44 вникая в тонкости игры полюбившихся актеров. «Происходит общая переоценка актерского искусства. Теперь публика воспринимает спектакль гораздо более эмоционально, чем прежде. Она не стесняется открыто выражать свои чувства».1 Стремление поразить зрителя, вызвать в нем сочувствие, сделать его соучастником представления вызывало естественную заботу о том, как будет «смотреться» пьеса на сцене. Не случайно, помимо текста самой пьесы, большое значение имели «внетекстовые» факторы: тщательно продумываются театральные эффекты – костюмы, реквизит, декорации, музыкальное сопровождение, хоры – пьеса должна быть зрелищной. И это соответствовало той цели, которую ставили перед собой театралы-реформаторы: «преобразовать русское общество посредством искусства, и прежде всего посредством театра. Приверженцы Оленина уверяли, что несколько хороших пьес могут изменить вкус партера, а занимательные представления в простонародном духе отвлекут раек от питейных домов…»2 Исследователи считают, что «сама зависимость литературной основы произведения от его театрального воплощения, пьесы от спектакля, на протяжении первых десятилетий XIX в. была в общем плодотворна», поскольку литература драматургического жанра «оказывалась тесно связанной с иными родами искусства, более развитыми: с актерским мастерством, с живописью, с музыкой и танцем».3 В этом отношении особенно наглядным выглядит пример постановки трагедии Озерова «Эдип в Афинах», в которой были задействованы все перечисленные средства художественного воздействия. Такой синкретизм оказывался очень полезным для дальнейшего развития драматургии. «Хотя в драматургической теории тех лет классицистический канон казался прочным, театральная практика этот канон постоянно размывала, обусловливая взаимо- 1 Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX века. М.: ГИТИС, 1986. С. 8. См. также: Моров А.Г. «Три века русской сцены»: В 2-х томах. М.: Просвещение, 1978. 2 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 95. 3 Фомичев С.А. Драматургия начала XIX в. Творчество А.С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума» // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1981 – 1983. Т. 2. От сентиментализма к романтизму и реализму. 1981. С. 206. 45 обогащение жанров драматургии, которые подвергались различным, весьма прихотливым модификациям».1 Отмечая в развитии русской трагедии «попытку выйти за пределы, очерченные классицистическим каноном, отразив общественные настроения современности», С.А. Фомичев считает, что наиболее ярко это отразилось в творчестве В.А. Озерова. Именно в его драматургии «отчетливо» обозначилась «тенденция к поглощению трагедии драмой».2 Но этот процесс в развитии русской драматургии оказался достаточно сложным. Сам жанр трагедии оказался плохо приспосабливаемым к новым философско-эстетическим условиям, а именно, к сентименталистской системе координат. По справедливому замечанию исследователя, «новая сентиментальная эстетика подчиняла себе в первую очередь те жанры, которые находились на периферии классической эстетики, которые сами по себе готовы были выпасть из ее системы: легкую поэзию, повесть, роман».3 Что касается трагедии – центрального жанра классицизма – ее жанровые каноны отличались «законченностью» и «консерватизмом» (не случайно А.М. Панченко писал об ореоле самоуверенности, окружающем сам термин «классицизм» 4 ). И эти особенности жанра «делали его почти недоступным никаким разрушительным влияниям времени – трагедия оставалась основной крепостью классицизма. Сцена поддерживала ее существование».5 Новые тенденции, которые принес с собой сентиментализм и далее предромантизм, существенно меняли концепцию личности и художественный способ ее выражения. На первом месте оказался внутренний мир человека, движение его души и чувств, которые «обязаны» быть выражены в произведении в соответствии с новым художественным методом. Это создавало вполне обоснованную зависимость способа выражения и жанра. Что касается драма1 Там же. Там же. С. 212 3 Максимович А.Я. Озеров // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т лит. (Пушкинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941 – 1956. Т. V. Литература первой половины XIX века. Ч. 1. 1941. С. 167. 4 Панченко А.М. «Великие стили»: терминология и оценка // Русская литература и культура Нового времени. СПб.: Наука, 1994. С. 170. 5 Максимович А.Я. Озеров. С. 167. 2 46 тургии, то лирический герой «не укладывался» в ее жанровую систему координат: «субъективность сентиментализма по существу противоречила драматической объективности».1 А.Я. Максимович считает, что «сентиментализм, в его русской формации, был органически неспособен создать собственную драматургическую систему. Для создания новой драмы литература должна была пройти через романтизм, вновь прийти к объективности и полноценности художественного образа – словом, был необходим шекспиризм Пушкина».2 Все эти причины обусловили трудности, с которыми столкнулся В.А. Озеров, невольно реформируя русскую трагедию, вводя в нее элементы сентименталистского и в отдельных случаях предромантического методов. В контексте вышесказанного представляется закономерным и то непонимание литераторов и критиков, с которым столкнулся драматург в самом начале своей литературной карьеры, неприятие его трагедий бывшими друзьями и сподвижниками, увидевшими в них только бездарное «искажение» классицистических образцов. Подобные настроения противников Озерова «подогревались» блистательным успехом его пьес, которые, несмотря на многочисленные критические отзывы, продолжали жить своей жизнью, вопреки распространенным мнениям об их литературной незначительности. Более всего досталось «Димитрию Донскому». Стоит вспомнить, что Г.Р. Державин, раскритиковав трагедию Озерова, решил преподнести ему урок и в назидание также написал трагедию. Но его трагедия «Ирод и Мариамна», главный пафос которой в победе гражданского чувства над страстью, не выдержала постановки на сцене. Такая же участь ожидала и все последующие трагедии Державина. Таким образом, вопрос о реформаторстве Озерова в области драматургии еще при жизни трагика был поставлен довольно остро. На сегодняшний день остается открытой и проблема художественного метода драматурга. В современном литературоведении существуют различные точки зрения по поводу специфики жанра трагедий Озерова. Так, например, А.Я. Максимович исходил 1 2 Там же. Там же. 47 из того, что Озеров – это единственный представитель русской сентиментальной трагедии, и, руководствуясь этим положением, ученый выделял в трагедиях Озерова те специфические особенности, которые присущи сентименталистскому методу: новое образно-эмоциональное содержание, в основе которого «раскрытие чувствительной, страдающей души меланхолического героя», «построение по психологическому принципу – психологическая подготовка, психологический контраст», «все действия сводятся к раскрытию единого (хотя противоречивого чувства) в его оттенках». 1 Исследователь считает, что трагедии Озерова «по своему внутреннему содержанию» – это психологические драмы.2 Здесь следует остановиться на существе его психологизма. По мнению некоторых исследователей, говорить о психологизме как таковом применительно к произведениям, написанным в классицистических традициях, не представляется целесообразным (хотя первый исследователь творчества Озерова П.О. Потапов использовал этот термин, говоря об особенностях творчества драматурга).3 Скорее, речь идет о разнообразии чувств героев, переданных, как уже отмечалось, во всевозможных их оттенках, в динамике, придающим пьесам особое настроение сопереживания. Причем, это касается как положительных, так и отрицательных героев, которые, в свою очередь, лишены статичности в своих чувствах: они страдают от своей ненависти к врагу, сомневаются в правильности своих поступков, им не чужд голос совести. Все это дало основание некоторым исследователям относить трагедии Озерова к предромантизму. Уже современники Озерова поднимали вопрос о присутствии в его произведениях элементов романтического метода. Но единого мнения по этому поводу не было уже тогда. Так, например, П.А. Вяземский, причисляя Озерова к «новейшему драматическому роду, так называемому романтическому»,4 делает это с явной долей осторожности, употребляя слово «несколько»: «Он уже несколько принадлежит…» Обращение драматурга к теме Оссиана – своеобраз- 1 Максимович А.Я. Озеров. С. 156, 168. Там же. 3 Это мнение И.Н. Медведевой. См.: Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 21 – 22. 4 Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. 1817. С. XLII – XLIII. 2 48 ному эпониму романтизма – еще не достаточно, чтобы отнести Озерова к приверженцам нового «драматического рода». Следовательно, романтические элементы в поэтике драматурга были еще не столь зримы, чтобы претендовать на самостоятельное значение. Исследуя проблему «В.А. Озеров и романтизм», О.Д. Брусенцова приходит к убеждению, что творчество драматурга нужно рассматривать в контексте предромантических исканий, явления переходного, но имеющего «ряд признаков», которые «ведут к романтизму»: «ясное выражение личного, субъективного отношения к описываему, наличие чувствительности – у предромантиков – преимущественно мечтательно-меланхолической; чувство природы... <…> изображаемый пейзаж всегда гармонировал с настроениями поэта. Отмеченные признаки характеризуют творчество Озерова как явление переходного периода, движение его трагедий от классицизма к романтизму».1 Наиболее подробно рассматривает признаки предромантизма в русской литературе конца XVIII – начала XIX века Н.В. Нечипоренко. Исследовательница считает, что в этот период «предромантизм проявил себя больше в поэтических и драматических жанрах, причем происходит взаимопроникновение различных жанровых форм и модификаций. Драматизируются лирические жанры, и, что еще важнее, лирическая поэтика проникает в драматургию».2 Основываясь на современных исследованиях, Н.В. Нечипоренко выделяет основные признаки предромантической поэтики в драматургии: «взаимовлияние жанров, художественный синтез и явление так называемой “жанровой размытости”»; а также «растущий интерес к внутренней жизни героев драматического произведения; аллюзионность драматического произведения, которая связана с возросшим интересом авторов к античной драматургии, западной литературе, народному творчеству, легендам, историческому прошлому; становление индивидуального авторского стиля…»3 1 Брусенцова О.Д. В.А. Озеров и романтизм: автореф. дис…. канд. филолог. наук. Харьков, 1995. С. 19. Нечипоренко Н.В. Традиции жанров драматургии русского предромантизма в пьесах Н.В. Гоголя: автореф.. дис. … канд. филол. наук. Казань, 2012. С. 10. 3 Там же. С. 11. 2 49 Принимая мнение современных исследователей, в первую очередь, Т.В. Федосеевой,1 Н.В. Нечипоренко также использует термин «лирическая трагедия», относя к этому жанру и драматургию Озерова (как, впрочем, и Державина). Прослеживая процесс трансформации жанра трагедии и его преобразования в жанр лирической трагедии на рубеже XVIII – XIX веков, исследовательница выделяет следующие специфические признаки: смещение традиционного конфликта долга и чувства во внутренний мир персонажа; противоречивость чувств героя, неизбежно приводящая его к страданиям; наличие принципа аллюзивности, который позволяет соотносить историко-мифологический материал с современной драматургу действительностью, его нравственными идеалами.2 Все, отмеченные исследовательницей особенности можно увидеть в трагедиях В.А. Озерова, чему будет посвящена отдельная глава. Отдельного внимания заслуживает особый характер лиризма в трагедиях Озерова, который тесно связан с элегической традицией, причем, восходящей к античным представлениям: с преобладающими мотивами личных переживаний, одиночеством, вызванным любовной тоской, страданием, разочарованием. Элегическое мировосприятие было характерно для творчества Озерова еще и потому, что было обусловлено обстоятельствами личной жизни. «…Для нас существенно, – отмечает Е. Вильк, – что личная трагедия Озерова сопряжена с трагедией его творчества, отнюдь не столь полно осмысленной в критикобиографической и научной литературе». 3 Именно в трагедиях В.А. Озерова в нарушение всех канонов классицизма проявилась очевидная элегическая составляющая, что явилось несомненным новаторством драматурга и обеспечило его произведениям успех при постановке на сцене. Таким образом, необходимо учитывать, что творчество Озерова пришлось на переходный период, характеризующийся наличием в литературной и 1 См.: Федосеева Т.В. Литература русского предромантизма (1790 – 1820): развитие драматических и прозаических жанров: дис…. доктора филол. наук. М., 2006; Федосеева Т.В. Развитие драматургии конца XVIII – начала XIX века (Русский предромантизм). Рязань: Изд-во Рязанск. гос.ун-та им. С.А.Есенина, 2006. 2 Нечипоренко Н.В. Традиции жанров драматургии русского предромантизма в пьесах Н.В. Гоголя. C. 11 – 12. 3 Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19 th Century. С. 129. 50 театральной жизни противоположных и даже нередко взаимоисключающих тенденций. Литературная борьба представителей классицистов с сентименталистами и нарождающимися романтиками началась еще в конце XVIII века, а развернулась как раз в тот период, когда Озеров выступил со своими первыми трагедиями. Сентименталистская эстетика в принципе оказалась несовместимой с классицистической системой координат. Изображение внутреннего мира человека как обязательного условия нового направления вызвало противостояние жанра трагедии, требующей иного способа художественного отображения. Представляется закономерным, что Озеров, невольно реформируя русскую трагедию посредством использования в ней элементов сентименталистского и в отдельных случаях предромантического методов, снискал непонимание литераторов и критиков и даже неприятие его трагедий бывшими друзьями и сподвижниками, увидевшими в них только бездарное «искажение» классицистических образцов. 51 Глава II. Между классицизмом и романтизмом 2.1. «Чувствительные» герои и «мятущиеся» злодеи в трагедии В.А. Озерова «Ярополк и Олег» Традиционно первый драматургический опыт В.А. Озерова – трагедия «Ярополк и Олег» – признается далеко не совершенным, как, впрочем, и должно быть, поскольку, как говорил в отношении этой пьесы П.А. Вяземский, «редко случается, чтобы дарование с первого шага стало на ту дорогу, которую оно прокладывает себе возмужавшими силами». 1 Но тем не менее именно с первой трагедией Озерова связан ряд вопросов, вызванных не только противоречивыми суждениями о пьесе, но и фактическими неточностями, содержащимися в статьях ее критиков. Во-первых, в исследовательских кругах бытует устойчивое мнение, что первая трагедия Озерова имеет подражательный характер, об этом еще писал П.А. Вяземский: «В плане трагедии “Смерть Олега”, в самом составе стиха видны погрешности Княжнина, не искупленные красотами, ему принадлежавшими». 2 Поэтому вполне закономерным представляется тот факт, что постановка этой трагедии на сцене петербургского Большого театра не имела успеха и после первого представления пьеса была исключена из репертуара. Но если брать во внимание свидетельства П. Арапова, зафиксированные им в «Летописи петербургского театра», то неуспех озеровской пьесы окажется под большим вопросом, поскольку там присутствует совершенно противоположное мнение. П. Арапов, перечисляя главные события в театральной жизни России начала 1898 года (появление оригинальных комедий А.Я. Княжнина и Н.Ф. Эмина, все возрастающую популярность драм Коцебу), особо отмечает, что «16 мая в первый раз давали первую трагедию, в стихах, Владис. Алек. Озерова: Ярополк и 1 2 Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В,А. Озерова. С. XVIII. Там же. 52 Олег; Ярополка играл Яковлев; успех был замечательный». 1 Положительно оценил первую пьесу начинающего драматурга Н.Н. Булич, отметив в числе ее достоинств «и самый язык, который ничем не хуже прочих трагедий Озерова».2 Вероятные причины, по которым пьеса была снята, будут рассмотрены далее. Следует обратить внимание и на другое обстоятельство: название первой трагедии Озерова его современники воспроизводят, мягко говоря, не совсем верно. Так, например, П.А. Вяземский, автор первой вступительной статьи к сочинениям В.А. Озерова, называет ее «Смерть Олега». На это обратил внимание современный исследователь творчества драматурга М.А. Гордин. «Очевидно, что Вяземский не читал пьесы, о которой писал, и свой отзыв о ней основывал на мнении Блудова, иначе озеровскую трагедию «Ярополк и Олег» в своей статье не назвал бы дважды “Смертью Олега”. Просто потому, что здесь Олег Древлянский, в отличие от своего исторического прототипа, не умирает и его спасение как раз и есть главное событие в пьесе».3 Исследователь объясняет «ошибку» Вяземского «справедливостью суждений о невысоких литературных достоинствах “Ярополка и Олега”», 4 мол, «читатели не заметили его неточности, то есть тоже не дочитали трагедии до конца». 5 Примечательно, что Вяземский, спустя десять лет, перепечатывая свою статью, так и не исправил ошибку, более того, ее вообще никто не заметил. Позволим себе не согласиться с мнением исследователя, который объясняет никем не замеченную ошибку Вяземского индифферентным отношением публики к первой пьесе начинающего драматурга вследствие ее подражательного характера и низкого литературного качества. Причина кроется в другом. Дело в том, что впервые пьеса Озерова была опубликована только в 1828 году в «Сочинениях Озерова»,6 до этого она по сути дела была неизвестна читающей 1 Арапов П. Летопись русского театра. С. 137. Булич Н.Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. В 2-х т. СПб., 1902 – 1904. Т. 1. 1902. С. 246. 3 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 90. 4 Там же. 5 Там же. 6 Сочинения Озерова, чч. 1 – 3. СПб., 1828. «Ярополк и Олег» опубликован в ч. 3, с. 1. 2 53 публике, поэтому «ошибка» Вяземского, возможно, так и не читавшего первой пьесы Озерова, выглядит вполне закономерной. Заметим, что Д.Н. Блудов в своих письмах Вяземскому называет его первую пьесу «бедным Олегом». 1 По этому определению трудно догадаться, почему «Олег» назван «бедным» – по своей участи (здесь опять сталкиваемся с проблемой незнания сюжета трагедии) или по недолгой жизни пьесы на сцене. Блудов называет Озерова «учеником Княжнина: ибо Олег его есть точно произведение этой школы».2 Правда, потом Блудов делает весьма существенное добавление, что «Озеров был учеником Княжнина более в отношении к слогу; план его Олега, как ни слаб, но оказывает более таланта и искусства, нежели все трагедии Княжнина и Сумарокова». 3 Оценка двоюродного брата Озерова при всей своей неоднозначности все же довольно высока, поскольку содержит невольное «ниспровержение» самого Сумарокова и популярного и любимого публикой Княжнина. Ю.В. Стенник заметил сходство первой пьесы Озерова с последней трагедией Сумарокова «Мстислав», которое проявляется в сюжетной ситуации (соперничество двух братьев, влюбленных в княжну), в самом ходе развития действия, расстановке противоборствующих сил. Различие наблюдается в мотивировке «поступков коварного вельможи, по наветам которого в обеих пьесах совершаются несправедливые гонения добродетельного героя, возлюбленного княжны».4 Любопытна будет точка зрения еще одного исследователя, также обратившего свое внимание на «загадки» первой трагедии Озерова. Е. Вильк называет «историко-литературным казусом» тот факт, что П.А. Вяземский не знал текста трагедии, о которой писал в своей статье к первому собранию сочинений Озерова. Однако Е. Вильк приводит свидетельство С.Н. Глинки, где тот в своей последней книге о Сумарокове упоминает эпизод, когда Озеров в 1796 году ра- 1 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 365. Там же. С. 366. 3 Там же. 4 Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха Классицизма. Л.: Наука, 1981. С. 130. 2 54 ботал над трагедией «Ольга», в которой присутствовал эпизод смерти Игоря: «Вслед за этим Владислав Александрович начал мне читать первый свой драматический опыт: трагедию “Ольгу”. Охотно принимал он мои замечания и при мне делал поправки. Наконец, я сказал ему: “вы сейчас сказали, что действие душа трагедии”, а потому вместо рассказа о смерти Игоря заставьте очам Ольгу (так!) представить труп ея супруга на ратных щитах, осияясь знаменами». 1 Приведя этот фрагмент воспоминаний в комментариях к своей книге, исследователь замечает: «Если мы имеем здесь дело не с ошибкой престарелого мемуариста, то перед нами свидетельство о самом раннем опыте озеровской трагедии, предшествовавшей «Ярополку и Олегу».2 Вследствие этого ученый «оправдывает» «ошибку» Вяземского, замечая, что ее «можно истолковать как контаминацию двух реальных замыслов, о которых у него было смутное представление».3 Более того, Е. Вильк предполагает, что в случае с «Олегом», «мы имеем дело с заменой Озеровым первоначального замысла более “мягким” вариантом трагической коллизии из древнерусской истории. Судя по всему, подобным же образом изменился замысел “Эдипа в Афинах” уже в процессе работы над ним». 4 На наш взгляд, положительный финал в трагедиях Озерова был обусловлен сугубо русской традицией, идущей от Сумарокова, когда добродетель непременно должна была восторжествовать. Заметим, что сегодняшние исследователи, в отличие от современников драматурга, при общем мнении о слабости первой трагедии Озерова, ее художественном несовершенстве уделяют ей гораздо больше внимания, чем остальным, принесшим Озерову неожиданную славу. Анализ трагедии «Ярополк и Олег», производимый современными литературоведами, гораздо более подробный и содержательный и занимает подчас значительно больший объем по сравнению с разбором других трагедий. И это еще одно обстоятельство, заставля- 1 Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19th Century. С. 207. Там же. С. 134. 3 Там же. 4 Там же. 2 55 ющее обратиться к первой пьесе Озерова, чтобы прояснить некоторые аспекты ее литературной и сценической жизни. Внимание современных исследователей к первому драматургическому опыту Озерова отнюдь не случайно, поскольку уже в нем проявилось новаторство драматурга, его оригинальность и своеобразие стиля – все то, что отразится в последующем творчестве Озерова и обеспечит его триумф. В выборе сюжета для своей первой трагедии он шел по стопам своих предшественников Сумарокова и Княжнина, также обратившихся к истории киевского князя Ярополка, снискавшего в русской истории скандальную славу. Но если Сумароков в своей трагедии «Ярополк и Димиза» (1758) практически исключает историческую основу, «абстрагирует действие, обрывая связи с историей»1 и оставляя лишь имя главного героя, то Княжнин обращается к «конечному» эпизоду летописи – убийству Ярополка Владимиром в трагедии «Владимир и Ярополк» (1777). Озерова же привлек «начальный» период распри между сыновьями Святослава, пожалуй, самый трагический сюжет – убийство Ярополком своего младшего брата Олега. Остановимся на тех источниках, которыми пользовался Озеров при работе над трагедией. Прежде всего, это Лаврентьевская летопись, из которой взяты не только имена героев, но и их основные характеристики. Так, например, озеровский Свенальд не случайно «сделан» драматургом «злодеем». При всей популярности в русских летописях этого исторического лица – воеводы отца Святослава Игоря – его деятельность, поступки могут истолковываться двояко: именно он, пытаясь спасти Святослава от неминуемой смерти, дает ему мудрый совет, который князь, к сожалению, не принимает. С другой стороны, на его совести братоубийство, поскольку он является подстрекателем Ярополка к убийству Олега, таким образом осуществив месть за смерть собственного сына. Кроме того, обращает на себя внимание имя сына Свенальда – Лют, в летописном источнике– «Свенельдич, именем Лют». 1 Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII – XVIII вв. М.: Просвещение, 1988. С. 115. 56 В обрисовке героев Озеров пытается следовать историческим фактам. Не случайно И.Н. Медведева, отрицательно относясь к термину «историзм» применительно к классицистической трагедии, все же делает некое исключение для Озерова: «При традиционно-классической трактовке исторической темы и героев, у Озерова есть некоторая склонность к историческому колориту и подробностям».1 Драматург действительно ориентируется на летописные факты: «Однажды Свенельдич, именем Лют, вышел из Киева на охоту и гнал зверя в лесу. И увидел его Олег, и спросил своих: “Кто это?”. И ответили ему: “Свенельдич”. И, напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же. И поднялась оттого ненависть между Ярополком и Олегом, и постоянно подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь отомстить за сына своего: “Пойди на своего брата и захвати волость его”».2 Вот та первооснова, которую взял драматург из Лаврентьевской летописи, опустив другие, действительно трагические эпизоды, когда «пошел Ярополк на брата своего Олега в Деревскую землю» и победил, когда при отступлении Олега столкнули с моста в ров. «Много людей падало, и кони давили людей. Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть и послал искать своего брата, и искали его, но не нашли. И сказал один древлянин: “Видел я, как вчера спихнули его с моста”. И послал Ярополк найти брата, и вытаскивали трупы изо рва с утра и до полдня, и нашли Олега под трупами; вынесли его и положили на ковре. И пришел Ярополк, плакал над ним и сказал Свенельду: “Смотри, этого ты и хотел!”»3 Разумеется, в трагедии повод к убийству Олега вызван у Ярополка совершенно иными причинами, да и Олег убивает сына Свенальда отнюдь не за то, что он охотился в том же лесу. Конфликт заключается в другом: внешняя его основа – любовная интрига, внутренняя – это столкновение двух типов героев: положительного, благородного, «чувствительного» человека (Олег) и того, в ком «хладны чувства» и сильно «злодейство» (в данном случае этот тот, к 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 18. Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г. // Повесть временных лет. СПб.: Наука, 1996. Серия «Литературные памятники». С. 172. 3 Там же. 2 57 кому обращены слова: «Смотри, этого ты и хотел!»). Кроме того, есть и «промежуточный» тип: «мятущийся» злодей – это потрясенный смертью брата Ярополк. «Противоречивость, непоследовательность в поступках», за которую упрекают Озерова исследователи, объясняется тем, что драматург как раз и следует изложенному в Лаврентьевской летописи материалу.1 Особенно характерен в этом отношении Ярополк, о котором речь пойдет далее. О том, что Озеров при работе над трагедией опирался на материалы Лаврентьевской летописи, подтверждается и текстом трагедии, а именно, эпизодом, в котором Посол печенегов вспоминает о подробностях смерти Святослава: Спасаясь от врага, другими пал врагами; Его мы слили кровь с днепровскими струями, А череп нам служил в народных торжествах, Когда богам вино лил жрец при алтарях.2 В Летописи читаем: «Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него».3 Помимо сюжета из Лаврентьевской летописи, Озеров использовал и другие источники: «Историю Российскую» В.Н. Татищева и «Историю Российскую М.М. Щербатова (именно из этого источника Озеров позаимствовал имя болгарской княжны Предславы).4 В трагедии «сливаются» два исторических сюжета: первый – об убийстве Ярополком своего младшего брата Олега, второй – об убийстве Ярополка Владимиром и захвате его невесты Рогнеды. Объединив эти две исторические основы и произведя некоторые «перестановки», Озеров получил сюжет с традиционной любовной интригой, где Олег и Ярополк являются соперниками, а Предслава (Рогнеда), невеста Олега, остается верной в любви, несмотря на все обстоятельства. 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 22. Озеров В.А. Ярополк и Олег // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 91 – 92. Далее текст цитируется по этому изданию. 3 Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г. С. 172. 4 См. об этом: Медведева И.Н. Владислав Озеров // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 418; Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия нач. XIX в. Ученые записки. Вып. 25. Куйбышев, 1959. 2 58 Но главное «новаторство» Озерова состояло в том, что вопреки всем источникам, совершенно неожиданно Олег остается жив: «летописное» убийство в трагедии «заменяется» тщательно подготовленным, но в последнюю минуту неудавшимся покушением. Это также определяет динамику повествования и в то же время закономерно вызывает вопросы у исследователей творчества Озерова. Так, И.Н. Медведева в связи с этим отмечает: «Здесь возникает два вопроса: зачем понадобилась Озерову эта контаминация фактов, судя по деталям пьесы хорошо ему известных, и что заставило драматурга отказаться от эффектного, трагического, исторически достоверного конца?» 1 Ответы видятся ей в определении идейных целей трагедии и в своеобразии стиля Озерова, проявившегося уже в первой его пьесе. Идейные цели первой пьесы Озерова связываются с попыткой драматурга «намекнуть о возможности добрых начал» в период царствования Павла I. «Эта попытка тем очевиднее, – пишет И.Н. Медведева, – что “применения” в пьесах были давней, даже древней традицией. Классический репертуар Франции кишел намеками на действия королей, их министров и т. д. Чем глубже забирался драматург в дебри истории, тем удобнее и безопаснее были «применения». 2 Возможно, считает исследовательница павловская цензура эти «применения» уловила, по крайней мере, именно этим обстоятельством объясняется ученым кратковременность сценической жизни озеровской пьесы: сразу после первого представления ее сняли с репертуара, хотя, как было уже замечено, пьеса имела замечательный успех, а актер Яковлев был очень увлечен ролью Ярополка», автор же «замолчал вплоть до нового царствования».3 Действительно, политические аллюзии присутствуют в тексте, но, помимо этого, первая трагедия Озерова была тесно связана и с традициями русской классицистической трагедии, призванной манифестировать торжество Закона и Добра, возможных только при условии справедливого, твердого, доброго и 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 19. Там же. С. 20. 3 Там же. 2 59 мудрого Правителя. Заметим, что Н.Н. Булич объяснял «непродолжительность» сценической жизни первой трагедии Озерова «нетрагической развязкой» – вопреки всему обреченный Олег остается жив.1 Ответ на другой вопрос исследовательницы заставляет обратиться не только к индивидуальной творческой манере Озерова, но собственно к его новаторству, без которого бы не состоялся его «своеобразный стиль». Это прежде всего касается выбора и обрисовки персонажей трагедии. Драматурга в первую очередь привлекают характеры «неустойчивые», «мятущиеся», колеблющиеся между добром и злом – это не злодеи, но и не полярные им добродетельные герои. Таков «летописный» Ярополк, который сначала «идет на брата», а потом сокрушенно оплакивает его мертвого, при этом упрекая в его гибели отнюдь не себя, а своих аморальных вельмож: «Смотри, этого ты и хотел!» Такие герои не отдают себе отчета в том, что действуют не по своей воле, становясь пешками в чужой игре. Именно на примере такого, внутренне сложного героя Озерову удалось показать душевные движения, смену мыслей и настроений, приблизить героя классицистической трагедии к миру обыкновенных людей. Уже в первой трагедии Озерова процесс движения от абстракции к индивидуализации, который в большей степени проявился в трагедиях Княжнина, достиг другой, более высокой стадии. Стараясь в своей пьесе придерживаться традиций классицизма (противостояние добродетельных героев и злодеев, пять действий, александрийский стих), Озеров обогатил трагедию новыми тенденциями – не только «чувствительными», сентименталистскими, но и романтическими. Уже здесь проглядывает «элегический стиль» драматурга, впоследствии составивший основу монологов прославивших Озерова трагедий «Эдип в Афинах» и «Димитрий Донской». В первой трагедии Озерова образ Олега, заведомо обреченного на смерть, пополняет ряд «добродетельных героев» традиционной классицистической драмы, и в этом отношении он гораздо менее интересен, чем другие персонажи 1 Булич Н.Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. Т. 1. С. 246. 60 трагедии. Олег, скорее, является рупором авторских идей о добродетельном правителе. Но некоторые моменты в обрисовке его образа довольно любопытны. С первых страниц трагедии Олег предстает храбрым воином, благородным, мудрым и справедливым. Первая его характеристика звучит из уст его врага – Свенальда, который люто ненавидит его и жаждет отомстить. Но и он вынужден признать достоинства Олега: «… в боях всегда счастливый, / Древлянский князь мечом смирил народ строптивый; / Опять подвластен нам мятежный печенег…» 1 Извед подтверждает слова Свенальда, добавляя к характеристике Олега новые подробности: «Весь Киев восхищен Олеговым приходом…»; «Приход Олега к нам раздоры окончает».2 Слава его закономерна, но характерно то, что он прославился не только «чрез сражения», но и через милосердие, и это чрезвычайно важно для драматурга, потому и звучит как декларация: Но чрез сражения прославится ль герой? Случайности одни решат нередко бой. Но кротким в счастии, в злосчастии быть твердым И, случай мстить имев, явиться милосердным – Вот истинный герой; велик везде, всегда, И непременен он, как боги, никогда, Таков Древлянский князь, нам мирных дней содетель. (С. 78). Сам Олег считает своей главной задачей заботу о подданных: Пещись о подданных едина мне отрада: Любовь народная царям в трудах награда, И славы сей хоть тих, но тем приятней свет. (С. 90). Помимо этого, Озеров показывает и проницательность своего героя. От глаз Олега не укрывается странное поведение брата при встрече через три года: «Но ты смущаешься и хочешь скрыть вздыханье».3 Правда, в дальнейшем Олег «теряет» свою проницательность, ослепленный взаимной любовью, но его характер «пополняется» другими чертами. Драматург раскрывает, в чем состоит «жизнь Олеговой души и существа»: 1 Озеров В.А. Ярополк и Олег. С. 77. Там же. 3 Там же. С. 90. 2 61 …Я всем гласил: любовь руки ведет движенье, Так именем твоим блаженствовал народ, Сражалися враги; и если смертных род Я превзойти хотел и в путь стремился славы, Желал достойным быть руки моей Предславы. (С. 98). Олег открывает галерею благородных и чувствительных героев трагедий Озерова. Слова «чувство», «чувствительность», «природа» буквально сопровождают героя на протяжении всей трагедии. И сам он говорит о себе как о чувствительном человеке («И я чувствителен, и оскорблен несносно…»). Узнав о коварстве Ярополка, потрясенный Олег произносит: За дружбу, Ярополк, ты брату мог нанесть Удар мучительный и язву толь глубоку! Не испытал бы я такую грусть жестоку, Лишася навсегда и трона, и венца… Не в них отраду зрят чувствительны сердца, Но потерять княжну… лишенным быть Предславы! (С.103). Благородный Олег пытается оправдать поступок своего брата: «Он страстью ослеплен, но коль услышит долг, / Природу, честь, пройдет постыдно ослепленье…»,1 старается понять ненависть и ожесточение Свенальда, сына которого он казнил за то, что тот «законы, правы, честь ногою попирал»; объясняет причины своего поступка: «Неистов… от него мой весь народ страдал. Я правосудием обязан был народу».2 В то же время Олег проявляет великодушие по отношению к самому Свенальду и удивительное понимание его души: Но сына злобного величествен отец; Я, сына наказав, к отцу храню почтенье. ................................... Вражда – несчастие, мучение сердец. Я зрю, что страждешь ей. Прощаю: ты отец; И я не оскорблен и дерзость позабуду: Несчастлив ты, Свенальд! (С. 104.). Олег не сомневается в благородстве своего брата («…Ярополк мне брат, рожден от Святослава; / Я мыслить не могу, чтоб он коварен был»), несмотря 1 2 Озеров В.А. Ярополк и Олег. С. 103. Там же. С. 104. 62 на то, что брат фактически уже выступил против него; он не желает спасаться бегством («Дней бегством никогда не сохранял Олег»); наконец, он верит в судьбу, рок: Ужель ты думаешь, что днесь для человека Нарушится предел, назначенный от века, И чудо для меня ниспóшлют небеса? Вселенная богов являет чудеса, Но, мира учредив единожды законы, Не нарушают их для нашей обороны…» (С. 116). В отличие от остальных героев, Свенальд не чтит законов, считая, что его многолетняя верная служба Святославу, а потом Ярополку позволяет ему пренебрегать ими, считая, что законы – для «ничтожного народа». Далеко не случайно в трагедии звучит реплика и о сыне Свенальда, убитом Олегом: «Несправедливая вражды твоей причина: / Твой сын преступник был».1 И Свенальд не возражает. Но его мораль отлична от той, которую декларирует Извед: «Не мстит лишь только тот, кто духом мал и слаб».2 На первый взгляд, именно таким представлен Ярополк: в свой слабости, терзаемый сомнениями («Увы, терзаюсь я сомнением моим!), да он и сам о себе говорит: «Довольной твердости к злодейству не имею».3 Причем, слово «слабость» является частотным применительно к образу Ярополка. Он и сам осознает это свойство своего характера. Он легко поддается влиянию Свенальда, который пытается его убедить в том, что Олег коварен, его замыслы люты. Тем не менее, Ярополк пытается ему возражать: Притворства, о Свенальд, душа его чужда: Когда б исполнен был желанием отмщенья, Он случай бы имел вовремя возмущенья; Не против печенег – сражался бы за них. (С. 81). 1 Там же. С. 78. Там же. С. 79. 3 Там же. С. 114. 2 63 Слабость характера Ярополка подтверждается поведением Свенальда, который исподволь «воспитывает» его («Я вскоре возмущу его нетверду грудь»), наставляет на «правильный путь»: Страдавши, будь велик, – вот мой тебе совет! Победа над собой славнейша из побед. (С. 81). Но Ярополк показан неспособным одержать победу над собственными чувствами. Едва Предслава объявляет ему о своем отказе, в душе у Ярополка поднимаются все худшие, низменные чувства. Он не жалеет бранных слов в адрес Предславы: она «свирепая», «жестокая», «противная», не жалеет и угроз: Но трепещи: на всё решусь в моем стремленье! Еще от рук моих твоя зависит часть: Чего нельзя любви, свершить то может власть. ......................................... Любимого тобой ты вечно не увидишь, Твой истомится дух, ты жизнь возненавидишь, И горестью твоей моя отдóхнет грудь. (С. 85 – 86). Все помыслы Ярополка умело направляются рукою Свенальда: Ярополк убежден, что Олег хочет отнять у него не только Предславу, но и трон. С одной стороны, он понимает суть характера злодея Свенальда, но, с другой стороны, оправдывает его: Свенальдов гордый дух забыл законы чести! Ах, нет: то честно всё, служить что может мести. Отмщением могу мою обиду стерть…. (С. 94). Но если бы герой был изображен только в своей слабости, временами переходящей в бессильную ярость, «свирепость», или все время следующим советам злодея Свенальда, он был бы однозначен и неинтересен как персонаж. Озерову удалось показать целую гамму чувств, сосредоточенную в одном герое: как Ярополк страдает от своего слабоволия, мучается сомнениями относительно совершение злодейства против брата, ужасается при мысли, что может стать братоубийцей. Все четвертое действие представляет по сути дела нравственный поединок между Ярополком и Свенальдом, внутреннюю борьбу Ярополка с самим собой. Свенальд буквально вынуждает его пойти на преступленье, но 64 «природа» Ярополка сопротивляется всему тому, что говорит вельможа. Все наветы на Олега опровергаются одним аргументом Ярополка: «Но брат!..» Правда, потом он добавляет: «Но добродетели, и совесть, и природа…» Не случайно герой называет Свенальда «мучительным». Минутная слабость по отношению к брату сменяется убеждением: Сей мир меж нами ложен. Совет приемлю твой. Соперник должен пасть. Любовь моя, и честь, и оскорблена власть, И всё велит… (С. 112). Интрига пьесы заключается в том, что развязка оттягивается до последнего момента. Пятое действие начинается с «прозрения» Ярополка, которому предшествует своеобразная «медитация» героя, в результате которой он постигает весь ужас готового свершиться братоубийства. Кроме того, глубокие размышления приводят его не только к осознанию своей вины перед напрасно осужденным им Олегом, но и помогают «прозреть» того, кто подвиг его на преступление против брата: Увы, как молния, в сей час блеснул мне свет! О варвар, ты враждой внушал мне свой совет, Ты, дружбой говоря, дышал единой местью И мною овладел изменнической лестью! Брат к сыну твоему был строг, но справедлив, А ты за сына мстишь, вельможа горделив! И мстишь моей рукой, свою скрывая злобу! (С. 119). ...................................... Я друга видел в нем, он крови лишь алкал… (С. 120). В начале пятого действия, в явлении первом, смерть Олега преподносится как свершившийся факт, и на протяжении второго, третьего, четвертого и пятого явлений герои предаются скорби и отчаянию, вплоть до попытки Предславы покончить жизнь самоубийством. Трагедия «Ярополк и Олег» – единственная, в которой есть особое явление, названное Озеровым «Последнее» (похожее явление есть и в «Поликсене»). Именно в нем появляется чудесным образом спасенный Олег, что делает развязку пьесы и ее финал совершенно неожиданным. Но в то же время подобный финал вполне соответствует законам классицизма: 65 всем героям воздается по заслугам – злодей Свенальд наказан, добродетельные Олег и Предслава наконец соединились, Ярополк, прошедший «чрез свет раскаяния», получил урок, заключенный в типичной для классицистического жанра моральной сентенции, которая равно относится как к героями трагедии, так и к сидящим на престоле: На сердце сохраню, что ложный друг и льстец Есть язва злейшая носящему венец. Таким образом, уже первая трагедия Озерова представляла собой произведение оригинальное, сочетавшее в себе как традиции классицизма, так и новые веяния сентиментализма и романтизма. Это особенно проявилось в обрисовке характеров героев трагедии, среди которых можно выделить следующие типы: чувствительные, добродетельные герои, им противостоящие абсолютные злодеи, «мятущиеся» герои, в характере которых уже видны начатки будущих психологических типов. Такая расстановка драматургических персонажей будет характерна и для других трагедий Озерова. Кроме этого, новаторство драматурга проявилось и в его «медитативных» монологах, свойственных «мятущимся героям», и в монологах элегических, более характерных для чувствительных героев. Монологи героев, – заметил Ю.В. Стенник, – «это цепь лирических излияний, которые, будучи вычленены из контекста, могли бы рассматриваться как своеобразные элегии».1 2.2. «Элегическая» трагедия «Эдип в Афинах» Если с первым драматургическим опытом Озерова его почитатели познакомились в основном посредством печатного варианта, то в случае со второй трагедией они имели непосредственную возможность увидеть ее сценическое воплощение. Трагедия «Эдип в Афинах», поставленная в Петербурге 23 ноября 1804 года, произвела фурор, доселе невиданный в русских театрах, и в одноча- 1 Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха Классицизма. С. 131. 66 сье сделала Озерова знаменитым. Эта дата стала «великим днем русского театра», «и в этот день для русского театра начался его XIX век».1 Успеху трагедии предшествовала тщательная подготовка. А.А. Шаховской, назначенный в начале 1804 года заведующим театральным репертуаром, А.Н. Оленин, любитель-театрал, знаток античного искусства, и другие члены «оленинского кружка» увидели в пьесе Озерова трагедию «нового типа». По мнению исследователя, в оленинском доме «ее приняли как откровение: светский театр получил первую, по-настоящему светскую пьесу».2 Несмотря на то, что пьеса была поставлена «в долг», успех ее превзошел все ожидания.3 Постановка «Эдипа в Афинах» замышлялась как типично античная трагедия, в которой будут присутствовать хоры, составляющие часть действия; декорации же, костюмы – весь антураж должен был максимально передавать дух античных трагедий. Оленин сам рисовал эскизы костюмов, обговаривал с художником детали реквизита: «Он заботился об археологической достоверности деталей вовсе не ради соблюдения правдоподобия, но для того, чтобы в глазах просвещенного зрителя живая мелочь выглядела вещественной цитатой древних греков». 4 Стоит добавить, что художником спектакля был известный Пьетро Гонзага. Но успех спектакля был предопределен не только грандиозными приготовлениями к постановке трагедии «нового типа» – для такой постановки нужен был и «новый» театр, который, можно сказать, рождался в течение всей работы над трагедией. Если проводить литературные параллели, то здесь невольно возникают ассоциации с А.П. Чеховым: обнаруживается некое сходство в истории постановки озеровского «Эдипа» с постановкой первой пьесы Чехова «Чайка», когда 17 декабря 1898 года артисты Московского художественного театра, поняв существо новизны, сыграли так, как того требовала пьеса. Именно тогда постановкой «Чайки» было сказано Чеховым новое слово в русской 1 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 103 Там же. С. 97. 3 См.: Медведева И.Н. Владислав Озеров // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 5 – 72; Гордин М.А. Владислав Озеров. Л.: Искусство, 1991. 4 Там же. С. 98. 2 67 драматургии.1 Веком раньше свое «новое слово» сказал и Озеров, представивший на суд публике «Эдипа в Афинах». Тогда актеры тоже поняли, что играют необычную пьесу, которая, в отличие от других, на первый взгляд, была лишена динамики действия, но содержала в себе много необычных монологов, через которые это действие и проистекало. Именно в трагедиях Озерова проявился талант Е. Семеновой, которая смогла понять своеобразие трагедий драматурга, их эмоциональный пафос и внутренний нерв.2 Мы уже обращали внимание на широко известные строки А.С. Пушкина из романа «Евгений Онегин», в которых подчеркивается «единение» драматурга и актрисы, обеспечившее их взаимный успех: «Там Озеров невольны дани народных слез, рукоплесканий с младой Семеновой делил».3 Но гораздо раньше Пушкина это же творческое взаимовлияние подметил К.Н. Батюшков. В 1809 году он написал стихотворение, посвященное Семеновой, в котором напрямую связал ее артистический дар с трагедиями Озерова, в которых она обрела свое сценическое лицо, а драматург, в свою очередь, получил достойное воплощение своих драматургических опытов: Я видел красоту, достойную венца, Дочь добродетельну, печальну Антигону… Опору слабую несорчастного слепца; Я видел, я внимал ее сердечну стону… ................................... О дарование, одно другим венчанно! В примечании к «Стихам г. Семеновой» Батюшков пояснил: «Дарование поэта и актрисы».4 Уже с первой трагедией Озерова началось формирование нового типа зрителя – не просто пассивного наблюдателя интересных театральных зрелищ, но и активного их участника – сопереживающего, находящегося на одной волне 1 См.: Ищук-Фадеева. Н.И. Новаторство драматургии Чехова. Тверь: Изд-во Тверск. ун-та, 1990. См.: Медведева И. Екатерина Семенова. Жизнь и творчество трагической актрисы. М.: Искусство,1964. 3 Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т.5. С. 14. 4 Батюшков К.Н. Стихи г. Семеновой // Батюшков К.Н. Сочинения. М.: Худож. лит-ра, 1955. С. 107. 2 68 с героями трагедий и актерами их изображающими. Классицистическая «холодность» разума сменялась непосредственной чувствительностью сердца. Подтверждением этому могут служить впечатления С.П. Жихарева от спектакля «Эдип в Афинах», зафиксированные в его дневниках. Так, например, 28 сентября 1805 года он, возвращаясь к воспоминаниям о спектакле, делает следующую запись: «…такой трагедии, какова “Эдип в Афинах”, конечно, у нас никогда не бывало ни по стихам, ни по правильному, расположению. Последнее достоинство соблюдено в ней от первой до последней сцены – а это главное; стихи бесподобные; действующие лица говорят все свойственным им языком, без чего, впрочем, стихи не были бы и хороши; мысли прекрасные, чувства бездна; есть сцены до того увлекательные, что невольно исторгают слезы; никакой напыщенности: все так просто, естественно – словом, “Эдип” такое произведение, от которого нельзя не быть в восхищении. Театр был полон – ни одного пустого места, и восторг публики был единодушный. <…> Я не мог хорошо запомнить стихов, потому что плакал, как и другие, и это случилось со мною в первый раз в жизни, потому что русская трагедия доселе к слезам не приучала».1 В своей записи, отразившей непосредственное впечатление о постановке трагедии Озерова, Жихарев невольно выделяет то новое, что пришло на русскую сцену благодаря драматургу, что вызвало единодушное восхищение публики и определило ошеломляющий успех трагедии. В первую очередь, Жихарев выделяет стихи, которые, по его мнению, «бесподобны» и которые, что немаловажно, позволили действующим лицам говорить «свойственным им языком». Те же самые стихи обусловили такую «бездну чувств», при которой у зрителя «невольно исторгались слезы», что было совсем уж в диковину, поскольку воспитанный на образцах классицистических трагедий русский зритель постигал происходящее на сцене более разумом, чем чувством, а о слезах и вовсе говорить не приходилось. Впервые на русской сцене так очевидно столкну1 Жихарев С.П. Записки современника. Воспоминания старого театрала: В 2-х т. Л.: Искусство, 1989. Т. 1. С. 123 – 124. 69 лись несколько противоположных и разнородных тенденций, в результате чего классицистическая основа была существенно размыта сентименталистской составляющей, причем с элегическими вкраплениями – предвестниками будущего романтизма. Вполне закономерной потому представляется следующая запись Жихарева от 1 октября, где он с удивлением и даже с некоторым негодованием пишет об отсутствии единодушия в оценке трагедии Озерова: «Всюду толки об “Эдипе”, и странное дело, есть люди из числа староверов литературных, которые находят, что какая-нибудь “Семира” Сумарокова или “Росслав” Княжнина больше производят эффекта на сцене, чем эта бесподобная трагедия».1 Автор «Записок» склонен объяснять такое положение дел «упрямством», «недобросовестностью» и даже нравственными изъянами тех, кто не принимает «Эдипа»: «Мне кажется, что можно безумствовать так из одного только упрямства. Все лучшие литераторы: Дмитриев, Карамзин, Мерзляков – отдают полную справедливость автору; да и нельзя: труд его достоин не токмо хвалы, но и уважения: до него никто у нас на театре не говорил еще таким языком, и те, которые показывают вид, что предпочитают ему Сумарокова и Княжнина, действуют не весьма добросовестно, потому что хотя и запрещается спорить о вкусах, но это запрещение относится скорее к огурцам и арбузам и прочему, нежели к произведениям ума. Впрочем, и то сказать: если человек иногда может быть вещественно-близорук, косоглаз и даже слеп, то почему ж ему не быть близоруким, косоглазым и слепым в нравственном отношении?»2 Действительно, расхождения во мнениях по поводу художественных достоинств трагедии Озерова «Эдип в Афинах» имели под собой более веские основания, чем споры «о вкусах». Современник драматурга и заядлый театрал С.П. Жихарев запечатлел в своих «Записках» первые признаки общественнолитературной борьбы между сторонниками карамзинского направления и защитниками «старого слога», которая впоследствии достигнет такого масштаба, 1 2 Там же. С. 125. Там же. 70 что составит целую отдельную главу в истории русской литературы. Постановка трагедии Озерова «Эдип в Афинах» была толчком, сигналом к началу этой борьбы, а сам драматург оказался в эпицентре разноречивый мнений, критических суждений, нередко переходящих в осуждения, далеко не безобидных эпиграмм. Драматург обратился к одному из самых популярных античных сюжетов, имеющих многочисленные литературные переосмысления: от Гомера, Эсхила, Софокла и Эврипида до Г. Гофмансталя. Судьба Эдипа, по словам С.С. Аверинцева, «слагается из двух моментов – бессознательно совершенного преступления и сознательно принятого наказания. Ибо Эдип – преступник бессознательный: это выражение благоразумно предпочесть таким распространенным формулам, как “безвинный преступник”, “преступник против своей воли”, “преступник по воле случая” и т. п.».1 Озеров обратился ко «второму моменту», когда Эдип сознательно принимает наказание, ниспосланное ему судьбой, покоряется воле рока. Вопрос о литературных источниках, которые были использованы драматургом, достаточно подробно освещался в работах А.Я. Максимовича, Е. Вилька, Д. Иванова и др.2 Лишь упомянем, что исследователи указывают на переосмысленные варианты античной трагедии Дюси «Эдип у Адмета» (1778) и «Эдип в Колоне» (1797). Но это не единственные источники. Как отмечает Е. Вильк, «пьеса Дюси представляет собой не просто модернизацию “Эдипа в Колоне” Софокла, но основана на контаминации трагедии Софокла и “Финикиянок” Сенеки, незаконченной трагедии римского драматурга, трактующей кол- 1 Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972. С. 90 – 102. 2 Максимович А.Я. Озеров // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т лит. (Пушкинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941 – 1956. Т. V. Литература первой половины XIX века. Ч. 1. 1941. С. 156 – 182; Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха Классицизма. Л.: Наука, 1981; Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19th Century. Research Support Scheme, 1999. URL: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001056/01/56.pdf; Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: русский Расин // University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/index.shtml. 71 лизии тех же героев».1 Для Озерова такая эклектика была далеко не случайна: в соответствии с литературно-эстетическими установками своего времени он поиному расставляет сюжетные и смысловые акценты. Прежде всего место действия для его героев – это «страна, где нáйдутся чувствительны сердца».2 Отсюда интерпретации Озерова Софокла, Дюси и Сенеки. Так, например, следуя Дюси, Озеров включает сцену прощения Полиника Эдипом, что для античной трагедии Софокла было неприемлемо. Но в то же время Озеров «восстанавливает» Креона, присутствующего у Софокла и отсутствующего у Дюси, поскольку «абсолютный злодей», противопоставляемый добрым и чувствительным героям, был необходим как для классицистической трагедии, так и для новой, сентименталистской. Помимо этого, в «первой сцене второго действия трагедии Озерова, источники которой наиболее явственно восходят через Дюси к пьесам Сенеки и Софокла, удалены все “чрезмерности” нагнетания ужаса и отчаяния, восходящие к Сенеке и смягченные уже в пьесе Дюси. Так, “забвенье страшное ума”, в которое впадает озеровский Эдип вслед за героями Сенеки и Дюси, описано у Озерова в 28 стихах вместо 85 у Дюси, да и сами страшные мечтания Эдипа поданы в значительно мягкой манере».3 Меняется и трактовка образа Антигоны. По сравнению с Дюси, где в поддержку старику-отцу из уст ее звучат, скорее, моральные сентенции, чем слова утешения, у Озерова Антигона – глубоко трогательный образ любящей и самоотверженной дочери, готовой – даже не пожертвовать собой – но с радостью отдать свою жизнь за отца. По мнению Е. Вилька, «история Эдипа и его детей в озеровской трактовке включает основные мотивы сентиментальной драматургии: это история добродетельного отца, попавшего в несчастье из-за происков злодея, верной и заботливой дочери, слабого, но раскаявшегося “блудного сына”».4 В схему «сентиментальной драматургии» вполне вписывается и наличие благородного героя, спасающего Эдипа от всех его несчастий и наказывающего злодея. Кроме 1 Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19 th Century. Research Support Scheme. С.135. 2 Озеров В.А. Эдип в Афинах. С. 144. 3 Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19 th Century. С. 139. 4 Там же. С. 134. 72 того, в свете сентиментальных традиций закономерным представляется и финал пьесы, который в принципе опровергает «законы» античной трагедии рока: Эдип остается в живых и даже прощает своего сына, вопреки тому, что категории «прощения» попросту не было в античной драматургии. До сих пор нельзя однозначно ответить на вопрос, почему Озеров решил изменить финал трагедии. Согласно свидетельствам Д.Н. Блудова, у драматурга был «первый план», в соответствии с которым Эдип приносит себя в жертву и своей смертью оплачивает «благодеяние Афин и Тезея». Но «когда Озеров уж писал четвертое действие, вдруг старый лицедей и враль Дмитриевский вздумал ему доказывать, что лучше уморить не Эдипа, а Креона, ссылаясь по обыкновению на ветхое правило, что театр есть училище нравов и что должно в конце всякой драмы наказывать порок и награждать добродетель».1 Д.Н. Блудов считает, что таким финалом Озеров слишком упростил трагедию, лишил ее «блистательного окончания», что подобная развязка больше подходит для романа, чем для греческой трагедии. П.А. Вяземский, с одной стороны, соглашается с Д.Н. Блудовым, принимая его упреки Озерову в том, что он лишил главного героя трагедии того величия, которого он заслуживает: «Наш трагик изменил прекрасному концу Греческого Эдипа, освященного перед смертью, и уже не хилого слепца, имеющего нужду в подпоре смертных; но слепца, руководимого промыслом богов и твердою стопою идущего к могиле, назначенной ему от них наградою за долгие страдания и пристанищем после житейских треволнений. Сей прекрасной кончине предпочел он холодную смерть Креона в угождение ложному правилу, проповеданному нам новейшими трагиками, что нравственная цель трагедии должна быть казнь порока и торжество добродетели». 2 С другой стороны, нельзя не обратить внимание на «оговорку» Вяземского, которая следует сразу же за приведенными словами и несколько меняет акценты: «Но трагик не есть уголовный судья. Обязанность его и всякого писателя есть согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку, а не забо1 2 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 366. Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. С. XXVI. 73 титься о жребии и приговорах Провидения. Великие трагики из новейших чувствовали сию истину…»1 Критик пытается доказать, что Озеров следует духу времени, учитывает его основные тенденции, и «если иногда в Эдипе Озеров был ослушным учеником древних наставников: то по крайней мере с блистательным успехом оказался он достойным воспитанником, а часто и счастливым соперником новейших образцев».2 В этой связи представляет интерес мнение современных исследователей по поводу оригинального финала трагедии Озерова. Так, например, точка зрения Н.Д. Кочетковой в общих чертах совпадает с трактовкой П.А. Вяземского. Исследовательница считает, что главное отступление Озерова от классического сюжета как раз и содержится в финале, когда Эдип остается в живых, что не противоречит самим канонам трагедии: «добродетель, таким образом, восторжествовала, а порок в лице Креона был наказан».3 Иной точки зрения придерживается И.З. Серман. Он видит причины благополучного финала трагедии в обстоятельствах политических: интерпретируя миф об Эдипе, Озеров оправдывает невольного отцеубийцу, тем самым заявляя о своей поддержке Александра I: «В этом оправдании невольного преступника, в создании вокруг него атмосферы сочувствия, жалости и прощения заключались одновременно художественное новаторство и политическая смелость Озерова».4 Говоря о новаторстве драматурга, И.З. Серман особо выделяет одно качество озеровских трагедий – аллюзивность, «переплетение» условностей классицизма «со срывами в современность»: «Озеров нашел для трагедии удачное сочетание политических и идеологических аллюзий с новым эстетическим истолкованием драматического характера. В комедии сделать это оказалось невозможно ни Крылову, ни Шаховскому…»5 1 Там же. Там же. С. XXVII. 3 Кочеткова Н.Д. Трагедия и сентиментальная драма начала XIX века // История русской драматургии. XVII – первая половина XIX века. Л., 1982.С. 186. 4 Серман И. Явленье Озерова // Русская литература. 1999. № 1. С. 5. 5 Там же. 2 74 В трагедии «Эдип в Афинах» встречаются те же оппозиции, что и в «Ярополке и Олеге»: справедливый, милосердный правитель и злодей вельможа. Идейный акцент – противоборство двух сил – Добра и Зла, олицетворенных в образах Тезея и Креона. Начало этой борьбы намечается уже с первых строк пьесы, которая открывается славословием «доброму царю». Сам Тезей «в ответном слове» обнаруживает свои лучшие качества, какими только может обладать правитель: О славный мой народ, сыны мои любезны! Когда для вас могли мои быть дни полезны, Я счастлив, и сей глас от искренних сердец Лестнее для меня, чем скипетр и венец.1 Почти сразу в пьесе «обозначается» антагонист Тезея Креон, в котором царь Афинский «зрит злодея» еще до его появления. Негативно-презрительное отношение к нему Тезея выражается достаточно ярко: Креон? Кем ныне горды Фивы Приближились к концу и стали несчастливы; Сей Этеоклов друг, сей родственник царей, Которых вверг в беды он хитростью своей… (С. 132). В этой трагедии Креон по сути выполняет ту же функцию, что и Свенальд в «Ярополке и Олеге», – «ложного друга» и советчика, провоцирующего раздоры в царском семействе и ждущего своего часа мести. Его коварства уже принесли плоды, но им намечаются и новые жертвы: Тезей, не желающий вступить с ним в союз и защитить Фивы, Эдип, по вине которого он лишился венца, наконец, Антигона – последнее утешение бедного отца. Тезей – это герой, вполне отвечающий духу сентименталистских традиций. У него доброе чувствительное сердце: он проявляет сострадание к Эдипу и его самоотверженной дочери, для него бывший царь Фивский – «преступник невольный», который своими страданиями уже искупил свою вину: Я знаю, что Эдип страдальчеством прославлен, Преступник, но почтен, в убожестве велик 1 Озеров В.А. Эдип в Афинах // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С.131 – 132. Далее текст цитируется по этому изданию. 75 И что принять его велит мне долг владык. (С. 149). Тезея до глубины души трогает участь Антигоны: О дева юная! Среди цветущих лет Ужель ты можешь быть преследована роком? (С. 147). В «Эдипе» отсутствует типичная для классицистической трагедии любовная интрига, хотя сама тема любви – одна из основных в пьесе. Но в этом случае сама категория любви представлена в более широком ракурсе. Как и в предыдущей трагедии, это жертвенная, бескорыстная и самоотверженная любовь, но только иного свойства не к своему возлюбленному, а к отцу, брату, ко всем добрым и дорогим сердцу людям. Это дочерняя любовь: Ах, не жалею я о пышной славе той; Горжусь сим рубищем, моею нищетой, Предпочитаю их сиянию короны. Опорой быть твоей – вот счастье Антигоны. (С. 141). Движение чувств героев – основная пружина действия. В основном это касается нескольких персонажей. На протяжении всего действия трагедии Эдип переживает множество чувств. В начале трагедии его отчаяние, тоска, воспоминания о «прошедших печалях» вызывают в нем одно желание – поскорее завершить свой век, но в то же время Эдип соглашается ради дочери принять «покров» Тезея и жить дальше до тех пор, пока ему «к вечности отверсты будут двери». Далее его помыслы и стремления опять меняются: чтобы сохранить жизнь Антигоне, Эдип просит принести его в жертву: «Пролейте кровь мою: уж я давно как мертвый» (С.179). Совершенно неожиданно немощный и жалкий озеровский Эдип проявляет силу характера и удивительную твердость по отношению к своему сыну Полинику, отказывая ему в прощении и проклиная его. В трагедии именно Полиник представляет «мятущегося» героя. Но, в отличие Ярополка, преступный замысел которого практически оформляется на глазах у зрителей, а его последующие сомнения и терзания представляют настоящий момент, раскаяние По- 76 линика, «вынесенное» на сцену, есть результат его внутренней борьбы, происходившей до начал действия пьесы, то есть, в прошлом. П.А. Вяземский не случайно отметил, что «характер Полиника начертан мастерскою рукою». 1 Нравственные муки своего героя Озеров передает с большой убедительностью и выразительностью. Перед зрителем предстает уже не «злобный брат», как называет себя Полиник, а глубоко страдающий, «мятущийся», обуреваемый страстями человек, с первого своего появления в пьесе сраженный великодушием простившей его сестры. Он «изгнан», так же, как она и несчастный отец. Но причины их изгнания разные, потому и переносятся ими различно: С твоею ли душой сравнится сердце злобно? Могу ль судьбу свою, как ты, спокойно несть? Твое изгнание твоя есть слава, честь, Утеха сладостна и радости сердечны, Но я, жестокий брат и сын бесчеловечный, Изгнание терплю как казнь, достойну мне. Ты дни свои ведешь в всегдашней тишине… ....................................... Но я, отягощен проклятием отца, Терзаюсь в день страстьми, и злобой, и отмщеньем, Тоской раскаянья и совести мученьем… (С. 166). Полиник пытается объяснить свои «преступления» чрезмерностью чувств, образующих в его душе сцепление различных страстей, укротить которые он не в силах. Тем неистовее его желание получить прощение отца, надеясь на помощь со стороны бескорыстной и самоотверженной Антигоны: Не осуждай меня: вини мои ты чувства, Которых умерять не знаю я искусства, Вини сей огнь, в моей пылающий крови. Чрезмерен я во всем: и в злобе, и в любви, В самом раскаяньи, которым вслед за вами Я приведен к отцу и, пред его ногами Упав, хочу стопы его слезами оросить И преступлению прощенье испросить! 1 Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. С. XXIV. 77 Ко гласу моему глас съедини свой нежный… (С. 167). Полиник у Озерова – это типичный сентименталистский герой, главное преступление которого состоит в том, что он «добродетели, природу оскорбил». Еще раз напомним, что слово «природа» является ключевым в творчестве Озерова и переходит у него из пьесы в пьесу. Например, уже в первой трагедии «Ярополк и Олег» слово «природа» употребляется в разных контекстах, но смысл имеет одинаковый: «Он страстью ослеплен, но, коль услышит долг, / Природу, честь, пройдет постыдно ослепленье»; «Но добродетели, и совесть, природа…»; «К коварству он прибегнул. / Ревнив он, ты любим: природу он отвергнул»; «Отмстите за любовь, отмстите за природу!»1 То же самое наблюдаем и в «Эдипе»: «Но царь, ожесточась и презря глас природы, / Изгнал из Фив отца…» (С.134); «Как мог природы зреть нарушенным закон?» (С.135); «Тщеславье вспламеня, природу усыпивши, / В их души поселил полезный мне раздор» (С.154). Эдип не хочет слышать о Полинике (не говоря уж о том, чтобы простить его!) именно потому, что тот нарушил «закон природы»: Священнейший союз ты ниспроверг природы, Который первым чтут по всей земле народы (С.172). Эдип не воспринимает слова оправдания сына, звучащие в его страстном монологе. Он яростно отвергает все мольбы Полиника о прощении, а его упоминание о пылкой, чувствительной душе, данной ему от рождения отцом, о «сердце нежном» только усугубляют ожесточение Эдипа, который в своем неистовом гневе доходит до отцовского проклятия. С образом Полиника связано еще одно отступление Озерова от «закона древних», а именно, прощение отцом сына-нечестивца. Такой сюжетный ход взят у Дюси, несмотря на некоторые сюжетные различия. Так, например, у Дюси Полиник прощается отцом в течение одной сцены, у Озерова же Эдип вначале решительно и яростно отказывает сыну в прощении, припоминая все его 1 Озеров В.А. Ярополк и Олег. С. 103, 108, 114, 123. 78 «грехи». В исступлении он бросает ему в лицо жестокие «напутственные» слова, граничащие с проклятием: Иди, жестокий сын, усугубляй вины, Будь истребителем отеческой страны, Союзников своих веди противу брата, Яви еще пример неслыханна разврата! Но там, у фивских стен, не трон тебе готов – Десница мстящая там ждет тебя богов. .................................. Как без пристанища скитался в жизни я, По смерти будет так скитаться тень твоя: Без гроба будешь ты; тебя земля не примет, От недр отвергнет труп, и смрад его обымет… ...................................... Иди, беги, спеши на ново преступленье. (С. 173). Такое развитие действия вполне предполагает «софокловский» финал, поскольку античная трагедия категории прощения не имеет – его заменяет обязательная жертва, которой и искупается грех. По сути к этому и стремится Полиник, предлагая себя в жертву, вместо невинной сестры: Преступник я один, меня разите вы: Подземный огнь и гром небес соедините И нечестивого из мира истребите! (С. 174) Но здесь происходит сюжетный «сбой», и трагедия развивается по другим, отнюдь не «античным» законам: первосвященники не могут принять в жертву Полиника – его «главы, проклятию предáнной», не хотят его кровью «осквернять меч». В отчаянии он пытается совершить еще один «грех» – покончить жизнь самоубийством (этот сюжетный ход взят Озеровым из Дюси), причем, Полиника уже не трогают слова отца о том, что этим он совершит еще одно преступление, осквернит храм: «Бесчеловечен был, пусть буду и безбожен!» – заявляет отчаявшийся Полиник.1 Даже это не сразу заставляет Эдипа простить сына: он по-прежнему сомневается в его искренности. И только после слов Антигоны, напоминающих о том, что «Полиник ей брат» и его раскаяние 1 Озеров В.А. Эдип в Афинах. С. 180. 79 действительно истинно, Эдип произносит фразу: «Восстань, несчастный сын: отец тебя прощает».1 Таким образом, в трагедии Озерова три потенциальные жертвы – Эдип, Антигона и Полиник – сохраняют жизни, а гнев богов обрушивается на Креона – того, кто является «врагом общества» и одновременно «врагом бессмертных». Такой морализаторский финал, по мнению критиков, «убавил» достоинства трагедии Озерова. 2 П.А. Вяземский, характеризуя образ Креона, отмечал, что такие «злодеи, гордящиеся своими преступлениями», «не находятся ни в природе, ни в произведениях гениев, ей подражавших; но <…> … сей род изображения есть один из главнейших пороков Русской трагедии… <…> До сей поры он еще сохраняется на нашем театре (напомним, что статья была написана в 1817 году)».3 В подобной трактовке образа Креона Озеровым нет ничего случайного, поскольку здесь он, несмотря на все новшества своей трагедии, всего лишь следовал правилам классицизма. Современный исследователь Е. Вильк, говоря об этом, по сути подтверждает высказывание Вяземского: «Коллизия Тезея и Креона, построенная по княжнинской схеме и в ее упрощенной форме сводившаяся к антитезе абсолютной справедливости и злодейства, мало согласовывалась с внутренним смыслом коллизии Эдипа и его детей и придавала всей трагедии упрощенное звучание».4 Несмотря на то, что Озеров в своей трагедии отдает дань классицизму, она была по праву оценена и критиками, и зрителями как новый шаг в русском драматургическом искусстве. Прежде всего, следует выделить новую обрисовку образов. Вместо привычных «шаблонных» героев предыдущих трагедий на сцене появляются другие, вызывающие самое живое чувство сострадания и сопричастности к их судьбам. Разумеется, говорить о создании Озеровым характеров героев было бы излишне, но драматург проявил незаурядное мастерство в изображение чувств. Не случайно, по воспоминаниям современников, первое действие трагедии прошло достаточно спокойно, поскольку было традицион1 Там же. С. 181. Гаршин Е. Владислав Александрович Озеров // Гаршин Е. Русская литература XIX в. Опыт истории. Том I. Вып. 2-й. СПб., 1893. С. 52. 3 Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. С. XXIV. 4 Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19th Century. С. 142. 2 80 ным и привычным для всех трагедий. Зрители замерли именно тогда, когда во втором действии появляются Эдип с Антигоной. Вместе с ними возникает и особая атмосфера, в которой ощущалось живое движение чувств, жизнь сердца, что было совершенно новым для русской сцены. Основная «мелодия» трагедии – чувство покинутости. На первый взгляд, это обусловлено трагической судьбой главного героя. «Весь мир оставил нас» – но эти слова произносит не изгнанный и жалкий Эдип, а самоотверженная и стойкая Антигона, что придает им особое звучание – в них сливаются сразу несколько чувств: отчаяния, безысходности, глубокой тоски, и оттого общее настроение трагизма еще больше усиливается. Покинутым, отверженным, оставленным Богом ощущает себя и Полиник, пока не добивается прощения отца. Все это разнообразие чувств героев, их душевные движения Озерову удалось передать посредством монологов, в которых явно ощущались элегические элементы. Такой образ выражения мыслей и чувств тоже был новым для русского театра. Особое настроение в пьесе создавали монологи героев, в которых передавались разнообразные оттенки (и нюансы) чувств. Помимо мотивов покинутости и одиночества, характерных для элегии, в трагедии присутствуют и размышления героев о бренности жизни, о превратностях судьбы и рока, также свойственных элегической поэзии. Жалобы Эдипа на свою судьбу начинаются с первых слов его появления на сцене: «Печаль и бедствия всех сил меня лишили»; дух его «уныл», все его мысли полны «ужасной тоской». Свою жизнь он сравнивает с обломками корабля на морском берегу. В его скорбные раздумья о собственной судьбе вплетаются пейзажные описания, также свойственные элегической поэзии: Печальну жизнь влачить недостает мне сил. Слепец, чтоб слезы лить, осталися мне очи; Дни ясны для меня подобны мрачной ночи. Нет, никогда уже мой не увидит взор Ни красоты долин, ни возвышéнных гор, Ни в вешний день лесов зеленые одежды, Ни с жатвою полей, оратаев надежды… (С. 140). 81 Обреченностью наполнены его рассуждения о бренности, скоротечности жизни, о том, что ему настала пора «исполнить круг природы»: Родится человек лет несколько поцвесть, Потом скорбеть, дряхлеть и смерти дань отнесть. Один, шед малый путь, другой, прошед подоле, В гробу покоятся сном крепким в равной доле. (С. 142). Так же печальны и трогательны монологи «нежной» и самоотверженной Антигоны, ради отца забывшей счастье, «сан светлый, двор царев и юности забавы»: Спокойствие твое дороже мне утех. Увы, родитель мой, гоним людьми, судьбою, Без помощи моей, что б сделалось с тобою? Ты древнюю главу к кому бы преклонил? На чью, на чью бы грудь ты слезы уронил? Прохлады в жаркий день в моей ты ищешь тени, Я сяду, ты главу мне склонишь на колени. Среди густых лесов, в жестокость бурных зим, Ты согреваем мной, дыханием моим. Ах! свет, забывший нас, взаимно мы забудем И утешением один другому будем. (С. 141) Кульминация чувств, их высший накал происходит в начале четвертого действия, когда разлученная с отцом и обреченная на жертву Антигона предается отчаянию. Ее монолог напоминает плач отчаявшейся души и одновременно горестные размышления о скорой смерти, о вечной разлуке с отцом: Сраженная тоской, с родителем в разлуке, Как медленно часы в моей проходят муке! День радости есть миг, печали день есть век, И умирающий несчастный человек Сей оставляет мир, как путник утомленный. ...................................... О нежный мой отец! единый ты предмет, О коем плачу я, сей оставляя свет! .................................... Ужасна ты, о смерть, коль узы разрываешь, Когда чувствительность во хладность пременяешь И дружбу и любовь коль истребляешь в нас… (С. 164 – 165). 82 «Личностный» характер элегического жанра способствовал некоторой индивидуализации героев трагедии, устранению их «абстрактной» сущности, свойственной поэтике классицизма. Интимность, сокровенность чувств и переживаний героев, выносимая на сцену позволяла почувствовать «частное горе» отдельного человека, несмотря на то, что героями трагедий были отнюдь не «частные лица». Элегические монологи стали открытием Озерова. Именно они вызывали «невольны слезы» у зрителей и оставили в памяти современников драматурга «слезящийся партер». Не случайно присутствующий на спектакле «Эдип в Афинах» С. Жихарев впоследствии описал свое «особое» состояние и объяснил причину своих чувств: «Русская трагедия доселе к слезам не приучала».1 В этой связи уместно вспомнить высказывание В.Г. Белинского о значении Карамзина как основоположника нового литературного направления. Говоря о «сантиментальности», которую внес Карамзин в русскую литературу, с присущим этому явлению «болезненною раздражительностью нервов» и «обилием слез и истинных и ложных», он делает вывод о непреходящем значении этого вида «ощущений»: «Как бы то ни было, эти слезы были великим шагом вперед для общества: ибо кто может плакать не только о чужих страданиях, но и вообще о страданиях вымышленных, тот, конечно, больше человек, нежели тот, кто плачет тогда только, когда его больно бьют».2 Критики по-разному относились к сентименталистскому «уклону» в трагедиях Озерова. С одной стороны, он нарушал незыблемые законы классицизма и тем самым способствовал «разрушению» трагедии, делая ее похожей на драму, но с другой стороны, он «очеловечивал» ее, придавая традиционным классицистическим сюжетом общечеловеческое звучание. Для Озерова, отмечает современный исследователь, «нравственная природа человека, ее конкретноисторические черты и внеисторическое значение этических категорий добра и 1 2 Жихарев С.П. Записки современника. Т. 1. С. 124. Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. С. 166. 83 зла, добродетели и порока – это уже не дидактическая сторона текста, а эстетический фактор».1 Новая форма трагедии закономерно повлекла за собой и изменения языка. Рассудочная поэтика классицизма постепенно уступала место более современным формам выражения мыслей и чувств. П.А. Вяземский отмечал «красоту и звучное великолепие стихов» в трагедии «Эдип в Афинах».2 Действительно, по сравнению с первой трагедией «Ярополк и Олег», у Озерова встречается гораздо меньше архаизмов и архаических форм. Разумеется, еще сильно влияние старославянизмов: лексических («десница», «титло», «толико», «потщимся», «сем», «дщерь»), фонетических («нáйдутся», «умáлится», «навык»); морфологических («премена», «зрю», «отнесть», «съедини»). В то же время многие строки трагедии звучат вполне современно. Например, Для славы суетной, мечтательной и лживой Не обнажу меча к войне несправедливой! (С. 137) Или: Я ею лишь дышу, я ею только жив, А ты расстаться с ней мне, варвар, предлагаешь? (С. 160). Достоинства языка Озерова в свое время отмечал и В.Г. Белинский: «Язык русский в трагедиях Озерова сделал большой шаг вперед».3 Сравнивая Озерова с его современником Крюковским, трагедия которого «Пожарский» «имела необыкновенный успех», критик отмечает, что, в отличие от Озерова, успех этот объяснялся отнюдь не литературными достоинствами, а «похвальными чувствами патриотизма», «которые не могли не пробудить сочувствия в эпоху борьбы России с Наполеоном».4 Таким образом, вторая трагедия Озерова «Эдип в Афинах» являла собою трагедию нового типа, в которой сентименталистские тенденции нашли свое воплощение в жанре элегии, тем самым обусловив новизну не только формы, 1 Дудина Т.П. Эволюция этико-эстетической мысли в русской исторической драматургии XIX века: автореф. … доктора филол. наук. Елец, 2006. С. 26. 2 Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. С. XXIII. 3 Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. С. 130. 4 Там же. 84 но и языка. Несмотря на то, что Озеров в своей трагедии отдает дань классицизму, следует выделить новую обрисовку героев, и прежде всего главного героя – Эдипа, больше похожего на персонажей слезной драмы, «чьи добродетели заставляют простить его преступление».1 Вызывают чувство сострадания и сопричастности к их судьбам и другие персонажи, заменившие привычных, «шаблонных» героев предыдущих классицистических трагедий. Это обстоятельство помогает объяснить блистательный успех «Эдипа в Афинах», популярность монологов персонажей и в целом – истоки славы Озерова. 2.3. Предромантические веяния в трагедии «Фингал» Трагедия «Фингал» была написана Озеровым достаточно быстро – в течение одного года. Вдохновленный успехом «Эдипа», драматург почти сразу же приступил к новой пьесе, и 8 декабря 1805 года состоялась премьера трагедии «Фингал». По единодушному мнению исследователей, трагедия обнаруживает в творчестве драматурга романтические тенденции. Причина этого кроется в обращении Озерова к излюбленной романтиками оссиановской теме. Введенная в середине XVIII века в литературный обиход Джеймсом Макферсоном, она получила широкий отклик в культуре разных стран. На сюжеты песен Оссиана сочинялись не только литературные произведения, но и создавались оперы, писались картины. Стоит заметить, что книга переводов песен Оссиана была одна из любимых у Наполеона Бонапарта. Влияние «оссианизма» в России наблюдается уже с конца XVIII века, когда А.И. Дмитриев в своей книге «Поэмы древних бардов» представил вольный пересказ сюжетов Оссиана. «Преромантический Оссиан легко усваивался классицизмом, так как совпадал с ним многими своими особенностями: абстрактностью, героической идеализацией персонажей, схематичностью психики, рационализмом, отсутствием материальной действительности, реальных нужд и т.д.».2 1 Серман И. Явленье Озерова // Русская литература. 1999. № 1. С. 5. Максимович А.Я. Озеров С. 160. См. об этом: Левин Ю.Д. Оссиан в России // Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. Л.: Наука, 1983. С. 502 – 529;.Кафанова О.Б. О статье Н.М. Карамзина «Оссиан» // Русская литература. 2 85 В этом контексте обращение Озерова к оссиановским сюжетам представляется закономерным. Кроме того, его поэтическому мироощущению был близок элегический колорит «поэм древних бардов», сплетение возвышенного и трагического в сюжетных коллизиях, мотивы обреченности и скоротечности жизни. В этой связи уместно вспомнить слова Н.М. Карамзина, передающие его восприятие «поэзии бардов»: «Оссиан! Ты живо чувствовал сию плачевную судьбу всего подлунного мира и до того потряс мое сердце унылыми своими песнями!»1 Добавим, что сам жанр элегии, к которому был склонен Озеров, как нельзя лучше вписывался в романтическую парадигму. Приступая к работе над новой трагедией, Озеров не мог не принимать во внимание шедшую тогда с большим успехом на парижской сцене трагическую оперу «Барды» композитора Лесюэра, «одного из первых романтиков, учителя Берлиоза. Опера блистала смелостью воображения композитора, а постановка ее – декоративной помпезностью».2 «Именно в этом стиле помпезной романтики, – замечает И.Н. Медведева, – задумана была и постановка “Фингала”, осуществленного совместными усилиями Оленина и Шаховского».3 Несмотря на безусловный успех, вторая трагедия Озерова была воспринята неоднозначно – и апологетами драматурга, и его противниками. Несомненные достоинства новой пьесы сочетались с недостатками, которые «просматривались» даже зрителями. Налицо было явное отступление от «канонов» классицизма: вместо традиционных пяти действий, трагедия содержала всего лишь три; в ней по сути не было драматического действия, а герои напоминали больше обыкновенных людей, нежели героических воинов из поэм Оссиана. К тому же следует заметить, что Озеров изменил трактовку оссиановской темы, которая, согласно поэтической традиции, введенной Державиным, предполагала создание таких образов, какими они были представлены в героическом эпосе. Для Озерова же оссианизм был только фоном, усиливающим трагическое 1980. № 3. С. 160 – 163; Иезуитова Р.В. Поэзия русского оссианизма // Русская литература. 1965. № 3. С. 53 – 74. 1 Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Повести. М., 1980. С. 303. 2 Медведева И.Н. Владислав Озеров С. 32. 3 Там же. 86 восприятие происходящего на сцене, иными словами, стилизацией. «Героика битв, суровая дикость характеров отошли на задний план, превратились в своеобразный экзотический фон. О них лишь вспоминают барды в песнях, да герои в своих раздумьях о прошлом, весьма напоминающих мечтательные полеты воображения писателей-сентименталистов».1 Такая позиция драматурга имеет свое объяснение. Для этого обратимся к авторской интенции, которая достаточно четко просматривается в предваряющем текст трагедии посвящении Алексею Николаевичу Оленину. А.Я. Максимович обратил внимание на первые строки посвящения, которые показались ему наиболее важными в трактовке оссиановской темы: «С совета твоего, Оленин, я решился Народов северных Ахилла описать И пышность зрелищу приличную придать. <…> …Эти слова многозначительны. Озеров использует поэзию Оссиана как экзотическую область, являющуюся источником театральной красочности и дающую характерный колорит «унылым» сердечным чувствам. С другой стороны, эта экзотика воспринимается сквозь призму античности: Фингал для Озерова – северный Ахилл, ирландские вожди – переодетые греки».2 На наш взгляд, в посвящении имеются и более важные строки, которые помогают проникнуть в сокровенный замысел автора, а, следовательно, объяснить своеобразие его трагедии. Итак, Озеров обращается к песням бардов, чтобы «извлечь черты разительны, унылы, / В которых Оссиан явил Фингалов дух»: Ах, если бы, ему подобно, не умолк И мой несмелый глас, нестройный, без искусства, Сказал бы в сердце я, платя сей дружбы долг: «Меня переживут мои сердечны чувства».3 1 Левин Ю.Д. Оссиан в России // Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. Л.: Наука, 1983. С. 514. Максимович А.Я. Озеров. С. 160. 3 Озеров В.А. Фингал. С.187. 2 87 Ради того, чтобы изобразить «сердечны чувства», Озеров видоизменяет не только структуру классической трагедии, но и переосмысливает основные категории «оссианизма». Так, например, «возвышенное» трактуется драматургом в контексте «трагического» – но проявляющегося не в героических событиях, как было принято, а любовных чувствах. Именно любовная коллизия обусловила новый, непривычный характер некоторых персонажей, внесла изменение в ход драматургического действия, предопределила финал трагедии. При работе над пьесой Озеров использовал сюжет третьей песни поэмы Оссиана «Фингал», в которой локлинский король Старно заманивает к себе прославленного воина, вождя Морвены Фингала с целью убить его и тем самым отомстить за свое унижение, которое он испытал, попав к нему в плен. «Приманкой» служит дочь Старно Агандекка (в трагедии ее имя заменено именем Моина – также взятым из поэм Оссиана). Когда Старно узнает, что его дочь любит Фингала, он убивает ее. Фингал увозит ее тело на корабле, воздвигает могилу и остается верен ей навсегда. Типично романтический сюжет Озеров попытался «облечь» в одежды классицистической трагедии. При этом он сохраняет некоторые свойственные ей черты: противостояние добродетельного героя и злодея, борьба персонажей между чувством и долгом. Но, повторимся, обрисовка героев уже иная, чем в предыдущих трагедиях. Неоднозначен уже главный «злодей» Старн. Потеряв сына, убитого Фингалом, он мучается, страдает и тоскует. Его душевное состояние описывается самой Моиной: Ах, если б мой отец о смерти сей плачевной Забыть, утешиться от времени возмог… ................................... Но нет, ничто отца не развлекает муки: Ни бардов пение, ни арф согласны звуки… .................................... И мрачный дух его, питаяся тоской, Ни в чем утех не зрит… ..................................... 88 Уныние в душе и дума не челе…1 «Дума» Старна сводится к тому, что он два года вынашивает план мести убийце своего сына: он говорит о своем жестоком гневе, который готовит врагу «смерти зев», «горести и все мученья казни». Но кровожадность Старна не единственное характерное для героя свойство, которое акцентируется Озеровым на протяжении всей трагедии. Наоборот, драматург показывает, насколько широк диапазон всевозможных чувств этого типичного для классицистической трагедии отрицательного персонажа. С помощью элегических монологов драматург показывает, насколько глубоко горе отца, потерявшего сына: Без грусти я бы жить не мог на свете боле. <…> …. без нее, с того плачевна дня, Как сын в бою погиб, вкруг Старна, вкруг меня Безмолвным, мертвым всё казалось бы в природе. С ней прелесть нахожу я в бурях, в непогоде; Со мною говорят и ветров страшный рев, И моря грозный шум, и томный скрып дерев, – Во всем мне слышатся сыновние стенанья…. (С. 195) Изображая душевые муки Старна, Озеров показывает, что вся жизнь героя сводится к ожиданию часа мести («Надеждой сей дышал, для мести только жил»), все остальное для него теряет смысл: «Померкни блеск венца и честь моей державы, / Погибни вся страна, пущай погибну сам, / Лишь бы мой враг погиб, пал мертв к моим ногам» (C/204). Жажда мести Старна настолько сильна, что он пренебрегает советами своего наперсника Коллы, напоминающем о «священном законе гостеприимства», являющегося обычаем Локлинского царства, и о воинских подвигах и бесстрашии Фингала, который способен одержать победу. В своих возражениях Старн воздвигает целую философию бренности человеческой жизни, бессилия человека перед лицом смерти. Об этом свидетельствуют его монолог перед божеством Оденом: Из рода в поздний род, от века в дальний век, Сколь слаб перед тобой сильнейший человек! 1 Озеров В.А. Фингал // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 191 – 192. Далее текст цитируется по этому изданию. 89 Мечтав не знать себе в величестве примера, Он пал, и три шага… его жилищу мера. (С. 202). Подобным образом Старн рассуждает и о бесстрашном и умелом в бою Фингале: Что сей Фингал доднесь никем не побежден, Бессмертным разве он от матери рожден? Иль грудь его тверда, как камень древних башен? Нет, нет, не должен быть, не может быть тот страшен, Которого прервать блестящий может век Кинжалом иль мечом отважный человек, Который так, как мы, и временен и тщетен, Который так же слаб, который так же смертен. (С. 202 – 203). Ради приближения «часа мести» Старн вынужден притворяться радушным, «восхищаться» взаимной любовью Моины и Фингала, что дается ему очень непросто: Еще притворствовать, еще вражду таить, Лишь взором избирать то место, где разить, Чтоб ни один удар не проносился мимо… Для ярости моей притворство нестерпимо! (С. 204). Только в конце трагедии после неудавшейся попытки убийства Фингала Старн позволяет себе проявить истинные чувства по отношению к своему врагу. Таким образом, в трагедии показывается не традиционная борьба страстей героя, а разнообразная палитра его чувств: от грусти, мучительной тоски, стенаний, смущения, лицемерных признаний до жестокого гнева, едва сдерживаемого в присутствии дочери и ее жениха. В этом отношении другие «злодеи» – Свенальд и Креон – «выписаны» более традиционно – как воплощение абсолютного зла, которому чуждо какое бы то ни было душевное смятение. Иным представлен и главный герой трагедии Фингал. Он совершенно не похож на того мужественного, стремительного, не ведающего опасности воина, каким обрисован в третьей песне оссиановской поэмы. Все это осталось как бы за пределами действия трагедии – в прошлом – до встречи с Моиной, хотя сам 90 Фингал упоминает о «воинственности» своей натуры: «во стане возращен, воспитан на щитах». Но чувство к Моине радикально меняет его. При встрече со Старном Фингал признается, что теперь им владеет единственное чувство: О мужественный Старн, ты зришь опять Фингала, Которого пред сим лишь слава занимала, Которого на брань кипела в сердце кровь, Которого сюда ведет теперь любовь, Любовь, души моей единственное чувство. (С. 195). Его мужественный облик как будто меркнет, и перед зрителем предстает уже не бесстрашный и хладнокровный воин, а чувствительный, пылкий, готовый на все ради своей любви, обычный человек. И.Н.Медведева заметила, что Озеров приблизил «этого эпического героя к уровню обыкновенного человека, своего современника». 1 Влюбленный Фингал оказывается во власти Старна, полностью ему доверяется, забывая, что тот когда-то был его врагом, и теперь предлагает в качестве испытания даже идти сражаться за него в тех краях, куда тот его пошлет. Более того, он без колебания, «не рассуждая», соглашается принять и «веру» Старна: сочетаться браком с Моиной в храме, между тем как «в Морвене божество Фингаловых отцов / Оставлено доднесь без храмов, без жрецов» (С.196). Фингал – это чувствительный герой в духе сентименталистских традиций. Он мечтает о том, что, женившись на Моине, обретет в лице Старна «отца», «облегчит его душевные страданья», «развлечет» его тоску, «извлечет» из его глаз «слезу радости». Не случайно В.Г. Белинский, разбирая эту трагедию Озерова, заметил, что он «из Фингала сделал аркадского пастушка».2 В лице Фингала Озеров изображает любовь страстную, самозабвенную, готовую на любые уступки ради возлюбленной. Так, правда, не без внутреннего сопротивления, под натиском Моины, Фингал соглашается «почтить» могилу убитого им Тоскара, тем самым попадая в расставленную ему «ловушку». 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 34. Белинский В.Г. Литературные мечтания // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд. АН СССР. 1953 – 1959. Т. I. M., 1953. С. 61. 2 91 «Чувствительность» героя проявляется и тогда, когда он признается Старну, что ему самому жаль юношу, и это опять противоречит поведенческому стереотипу героя Оссиана: Я сам, сражаясь, чтил Тоскарово геройство, Я прослезился сам о юноше твоем, Когда в бою погиб под роковым мечом, Когда, как твердый дуб, от бури преломленный, Он пал и восшумел сонм воев удивленный. (С. 218). Прозрение Фингала наступает лишь тогда, когда над ним занесен меч воинов Старна. На мгновение Фингал становится прежним, напоминающим оссиановских героев – бесстрашным, сильным, достойно противостоящим любой опасности, готовым стоять до конца. Он столь же мужественен, коль и благороден, предлагая Старну сразиться «на равных»: Но безоружного разит один бесчестный – С моими мыслями поступок несовместный! Сколь сердцу Старнову всегда приятна месть, Мне столько же всегда священна будет честь. (С. 223). Его благородство проявляется и в прощении своего врага – поступке, свойственном только сильному: Обиды от врагов свирепый отомщает, Дух кроткий их простит, великий забывает. Ты мстил; забуду я: вот разность между нас! Ты пленником моим уже один был раз; Теперь в моих руках, но будь опять свободен! (С. 223). Основу трагедии составляют элегические любовные монологи Моины и Фингала. Именно им трагедия обязана своим успехом. Трогательная любовь Фингала и Моины, с самого начала обреченная на трагический исход, также вписывалась в элегические традиции. Несмотря на то, что герои Озерова пассивны, их монологи полны живого чувства. «Лирические излияния Фингала и Моины <…> вызывали в зрителях сочувственную жалость, на которую, видимо, и рассчитывал Озеров, – отмечает Ю.Д. Левин. – Такой эмоциональный 92 эффект трагедии не противоречил оссиановской поэзии с ее доминирующей скорбной тональностью».1 Когда бы знала ты, как много я страдал Со дня, как в первый раз твои красы увидел!.. Дотоле, мыслью дик, любовь я ненавидел, Считал ее мечтой и слабостью умов, Как стужа наших зим, был дух во мне суров. Твой взор переменил нрав дикий и суровый: Он дал мне нову жизнь, дал сердцу чувства новы И, огнь, палящий огнь пролив в моей крови, Мне дал почувствовать страдания любви, Уныние, тоску, отчаянье разлуки, И страх немилым быть, и ревности все муки. (С. 198). По свидетельству Р. Зотова, весь Петербург знал наизусть монолог Моины «В пустынной тишине, в лесах среди свободы...»2 В монологах героев трагедии звучит настоящий гимн любви, которая не умирает даже после смерти одного из них: «Любви лишь может быть одна любовь наградой» (С.199). В этом контексте заслуживает внимания и тема любви к умершей возлюбленной или возлюбленному (трагедия «Поликсена»). Об этом пойдет речь немного позже, поскольку эта тема предусматривает обращение к жизненным коллизиям самого драматурга. А пока можно предположить, что Озеров, изъявляя в посвящении другу свои «сердечны чувства», в трагедии «Фингал» сознательно обратился именно к этому сюжету из «песен бардов». Таким образом, вторая трагедия Озерова представляет собой произведение более элегическое, чем драматическое. Эта особенность была подмечена уже современниками Озерова. Так, А.Ф. Мерзляков, критикуя трагедию, отмечал «недостаточность фабулы», отсутствие «благородства, высокости, завязки трагической». Но в то же время он задается вопросом: «Что же в ней есть, когда нравится?» И сам же отвечает: «Это без сомнения волшебная сила стихов, прелестные чувства Моины и Фингала, милая унылость, соединенная с простосер- 1 2 Левин Ю.Д. Оссиан в России. С. 514. Зотов Р. Биография Озерова. Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров. 1842. Э. 6. Отд. II. С. 10. 93 дечием первых дщерей Природы, откровенность быстрая и беспритворная, относящаяся ко временам патриархальным; с другой стороны – величие души, нежность благородная, честность строгая… <…> наконец – храбрость, мужество, могущество… <…> Стихи в этой пьесе, по моему мнению, лучше нежели во всех других творениях Озерова».1 Критик отметил и новизну трагедии Озерова, обратившегося к оссиановской теме: «Сама новость сцены – дикость характеров и мест, старинные храмы, игры и тризны, скалы и вертепы – все, вместе с арфою и стихами Озерова, облеченное северными туманами, придает пьесе этой какую-то меланхолическую занимательность».2 Обращение к теме Оссиана, использование элегических монологов, создание настроения «меланхолической занимательности» обнаруживает у сентименталиста Озерова наличие романтических традиций, что неоднократно отмечалось исследователями. 3 Ю.Д. Левин назвал трагедию Озерова «наиболее значительным, наиболее масштабным произведением русского оссианизма».4 2.4. Соединение разнородных тенденций в трагедии «Димитрий Донской» Трагедия «Димитрий Донской», поставленная в Санкт-Петербургском Придворном театре 14 января 1807 года, была вершиной триумфа Озерова на драматургическом поприще, но именно с нее начался стремительный творческий закат Озерова, приведший его к трагической кончине. Именно эта трагедия подверглась наиболее резкой и беспощадной критике, несмотря на то, что до нее «ни одна пьеса не производила такого удивительного восторга».5 Более того, она была принята и одобрена Александром I, который смотрел трагедию дважды (на премьере – 14 января и 21 января), автор же удостоился личной по1 Мерзляков А.Ф. Фингал // Вестник Европы. 1817. № 9. Ч. XCIII. С. 46. Там же. С. 46 – 47. 3 Ср., например, мнение П.А. Вяземского (Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. Спб.: Тип. Имп. Театра, 1817. С. XLII – XLIII), П.А. Плетнева (Плетнев П.А. «Кавказский пленник». Повесть А.С. Пушкина // Пушкин в прижизненной критике.1820 – 1827. СПб., 1996. С. 121); Брусенцова О.Д. В.А. Озеров и романтизм: дис. … канд. филол. наук. Харьков. 1995; Дерюгина Л.В. Эстетические взгляды П.А. Вяземского // Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 7 – 42. 4 Левин Ю.Д. Оссиан в России. С. 513. 5 Арапов П. Летопись русского театра. С. 177. 2 94 хвалы и царских «подарков». Сохранились и восторженные воспоминания современников драматурга о трагедии «Димитрий Донской». Подобный разброс мнений заставляет обратиться к самому содержанию трагедии и выявить ее специфические черты, возможно, проясняющие суть внутреннего, «незримого» конфликта апологетов и противников пьесы. Драматург создавал свою следующую трагедию в непростой для России период, когда русские в союзе с Пруссией вели борьбу против наступающего на Европу и приближающегося к России Наполеона. Естественным выглядит поэтому и замысел автора: представить свою новую трагедию как трагедию политическую – это отвечало потребностям исторического момента. Закономерен и тот факт, что пьеса пронизана политическими аллюзиями, которые легко «прочитывались» современниками Озерова. Сам драматург в посвящении Александру I, опубликованном в печатном издании пьесы, вышедшем сразу после постановки, впрямую говорит о цели своего обращения к историческим событиях Куликовской битвы: «Димитрий, поразив высокомерного Мамая на Задонских полях, положил начало освобождению России от ига татарского. Ваше императорское величество возбудили славу россиян на защищение свободы европейских держав. Будущие века благословят твердость и великодушие монарха, принявшего оружие для спасения разноплеменных народов от ига честолюбивого завоевателя».1 В своем посвящении Озеров упоминает о том, что он был «облагодетельствован» «благоволением» Александра I, но, вознося ему хвалу, драматург в то же время не пытается ему льстить. По мнению М.А. Гордина, «надпись-предисловие использовалась, чтобы полемически, злободневно заострить смысл сочинения».2 Кроме того, в посвящении были и такие строки: «Певец Димитрия <…> завидует счастию тех певцов, кои через столетия, воспламеняясь великими деяниями, воспоют кроткое ваше царствование, славу вашего оружия, благоденствие подвластных вам народов и не будут порицаемы ле- 1 2 Озеров В.А. Димитрий Донской. С. 229. Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 149. 95 стью». 1 Исследователь сомневается насчет уверенности Озерова в «одобрительном отношении потомков к Александру» и считает, что «озеровское посвящение в тот момент звучало как одобрение, как щедрый аванс. Потому что момент был крайне опасный – со дня на день ждали решительного сражения с французами. И в случае неудачи Александр легко мог струсить. Озеров счел не лишним заверить царя, что дворянство его поддержит. Он побуждал Александра ни в коем случае не отказываться от геройской твердости и великодушия, обещая в награду признательность потомства».2 Дальнейшие события (поражение при Фридланде, заключение унизительного Тильзитского мира в июне 1807, спустя всего пять месяцев после постановки трагедии) показали, что посвящение Озерова Александру I действительно было «авансом». Кроме того, и посвящение, и сама трагедия имели весьма печальные для драматурга последствия. Обратимся к тексту трагедии «Димитрий Донской». Первое, что необходимо отметить – это ее героико-патриотический пафос, который и оказал на современников Озерова необычайно сильное воздействие. Начиная с первых реплик, зал неоднократно взрывался аплодисментами, так что актерам приходилось останавливаться. Не случайно, С.П. Жихарев, вспоминая о своих впечатлениях от «Димитрия Донского», писал: «Оттого ли, что стихи в трагедии мастерски приноровлены к настоящим политическим обстоятельствам или мы все вообще теперь еще глубже проникнуты чувством любви к государю и отечеству, только действие, производимое трагедиею на душу, невообразимо».3 Действительно, трагедия открывалась страстным призывом Димитрия к свержению завоевателей: Российские князья, бояре, воеводы, Прешедшие чрез Дон отыскивать свободы И свергнуть наконец насильственный ярем! ...................................... Татары губят, жгут и расхищают нас. 1 Озеров В.А. Димитрий Донской. С. 229. Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 150. 3 Жихарев С.П. Записки современника. С. 88. 2 96 К отмщенью нашему я сóзвал ныне вас: Беды платить врагам настало ныне время.1 И таких призывов в трагедии достаточно много: они звучат из уст практически всех героев, например, князя Белозерского: Погибни память тех, которых может дух Беды отечества спокойным видеть взором, Иль лучше имя их пускай прейдет с позором В потомство поздное и в бесконечный стыд! (С. 233) Его монолог был не менее пафосным, чем монолог Димитрия, и возгревал надежды русского общества на то, «что восстановится страны Российской честь, / Что возвратится ей могущество и слава» (С.233). В «алчном тиране» Мамае без труда угадывался Наполеон: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...алчные тираны, Едва возникшие, наш угрожают край. Из них алчнее всех, хитрее всех, Мамай, Задонския Орды властитель злочестивый, Восстал противу нас войной несправедливой. (С. 232) В трагедии как будто предвосхищается и будущий Тильзитский договор, когда речь заходит о «мире» с Мамаем. «Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный! – восклицает Димитрий. – Так предки мыслили, так мыслить будем мы» (С.234). Для него: «Так, лучше жить престать иль вовсе не родиться, / Чем племенам чужим под иго покориться…» (С.235). Самоотверженность Димитрия, стремление одолеть врага, полное бесстрашие перед ним и даже презрение («Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой: / Кто чести, правде враг, тот враг, конечно, мой» (С.238)) выявляют в нем, на первый взгляд, типичного «благородного» героя «высокой» классицистической трагедии. Но уже в первом действии звучит имя Ксении, дочери нижегородского князя, отец которой прочит ее в жены князю Тверскому, ради которой тот готов «отважиться на все опасности». Причем упоминание о ней включено в героикопатриотический контекст размышлений Тверского об историческом прошлом, 1 Озеров В.А. Димитрий Донской // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 231. Далее текст приводится по этому изданию. 97 печальной участи его предков, о необходимости «сражать врагов». В пятом же действии патриотическая тема сменяется любовно-лирической, героический пафос уступает место чувствительно-сентиментальным настроениям. Димитрий предстает в совершенно ином свете. Теперь это не целеустремленный герой, помыслы которого направлены только на борьбу с врагами, это человек, подверженный «несчастной страсти», которую не в силах «истребить». Любовь к «прелестной» нижегородской княжне Ксении для Димитрия одновременно и печальна, и счастлúва. «Не осуждай ее: она счастливый дар», – говорит он Бренскому. Влюбленный герой считает, что «жар» этой любви поможет ему «отечество избавить, / Свободу возвратить и мой народ прославить» (С.241). Но Бренский ему резонно возражает, что воспламенять «геройский жар» должна не любовь, а «верховный долг и честь», кроме того, он видит в этой любви «несчастнейшие последствия». Но Димитрий не слушает его. С этого момента доминирующей в трагедии становится любовная интрига, которая подчиняет себе основное историческое событие – Куликовскую битву. На протяжении всей трагедии Димитрий «не владеет собой», не реагирует на призывы «прийти в себя», а его стремление сражаться «в одиночку», без помощи остальных князей ставит под удар судьбу России. Это снижает героический образ Дмитрия Донского, делает его уязвимым в человеческом отношении и одновременно лишает всякого исторического правдоподобия. В своей статье об Озерове Вяземский, давая высокую оценку творчества драматурга, тем не менее отметил, что «увлеченный романическим воображением, он нанес преступную руку на самый исторический характер Димитрия и унизил героя, чтобы возвысить любовника».1 В этой связи необходимо остановиться на особенностях озеровского толкования нравственной коллизии между чувством и долгом. Любовная линия трагедии связана со сложившейся в русской классицистической драматургии XVIII века концепцией разума и страстей, где любовное чувство не имеет абсо- 1 Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. С. XXXV. 98 лютного негативного значения, оно «даже рассматривается иногда, как это имеет место у Расина, <…> как некое благо».1 По наблюдению В.А. Бочкарева, «вся классицистическая литература, русская и западноевропейская, заполнена сетованиями героев на прельстительную силу и сладкий плен любовной страсти, с которой трудно, но необходимо бороться, когда она вступает в противоречие с выполнением долга, велениями разума».2 Но в случае с Озеровым необходимо учитывать следующее обстоятельство. Во всех его трагедиях слышатся «отголоски» той «сердечной привязанности» к «милой Л.», ради которой Озеров, по словам Д.Н. Блудова, «жил <…> почти все лета своей молодости», а после ее смерти «как будто хотел участием в вымышленных несчастиях любви напоминать себе те страдания нежности, к которым сердце его привыкло». 3 Блудов напрямую связывает особенности творчества Озерова с влиянием этой «долговременной сердечной связи»: «…и самый его поэтический талант получил какой-то цвет романтизма. Черты, напоминающие это расположение души его, разбросаны во всех его трагедиях, иногда некстати, как например в Димитрии, но везде они трогательны, ибо вырвались из сердца автора».4 Примечательно, что в этой связи Д.Н. Блудов упоминает трагедию «Димитрий Донской», в которой любовная интрига явно перевешивает основную, патриотическую тему, которая изначально была задана авторской интенцией. Озеровская концепция любви проявляется в этой трагедии довольно отчетливо. На протяжении всего действия звучит главная мысль драматурга о любви, которую невозможно сокрушить и которая неподвластна времени. Когда Бренский говорит Димитрию, что необходимо «истребить» его «несчастну страсть», тот отвечает: Ты не успеешь в том: нет власти столько сильной; И огнь погаснет мой лишь в хладности могильной. ............................................ 1 Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII – XVIII вв. М.: Просвещение, 1988. С. 75. Там же. 3 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 372. 4 Там же. 2 99 И смертию одной любовь в душе прервется. (С. 241) Димитрий считает, что взаимная страсть дает право расторгнуть договор о браке, нарушить слово, данное Тверскому отцом нижегородской княжны («сердцем жизнь ее сопряжена с моею» (С.256)), поэтому он выступает в трагедии как защитник Ксении – Димитрий не допускает и мысли, чтобы свершился брак поневоле. Но с этим связана и другая мысль драматурга, которая декларируется на протяжении всей трагедии уже не только Димитрием, но и самой Ксенией: Родимся, чтобы несть в терпении ярем В дому родительском, в супружестве своем, Которое всегда отцов решится властью, И редко счастливы четы взаимной страстью. (С. 247) Озеров выступает против насильственного, «по воле отцов», брака, в котором изначально отсутствует любовь и который приносит одни страдания в семейной жизни. Не случайно в трагедии оговаривается, что будущий брак Ксении с Тверским предопределила общая вражда против татар ее отца и Тверского, что брак этот «случайный» и был «назначен» «средь шумныя войны». Ксения пытается донести до Тверского мысль о том, что такой брак никогда не может быть счастливым: Враждою, государь, предположенный брак Полезным может быть, но радостным никак: Взаимная любовь в нем счастье утверждает И узы брачные весельем облегчает; Но без нее, увы, для связанных сердец Союз – как тяжка цепь и брак – тернов венец, Венец вздыхания и долгой муки лютой, Котора кончится лишь смертною минутой. (С. 251) В трагедии слышны и отголоски «Элоизы к Абеляру», когда речь заходит о решении Ксении уйти в монастырь, чтобы не быть женой Тверского и заглушить страсть свою к Димитрию. Но этот выход из любовной ситуации не принимается драматургом, потому что, согласно его концепции, любовь невозмож- 100 но «истребить» даже в монастыре, который представляется ему «гробом для живых». Не случайно Ксении возражает ее наперсница Избранна: Увы, и там сердца страстей не лишены; И там любезный вид, от мыслей неотступный, Питать твой будет огнь, пред званием преступный (С. 246). Озеров не является «первооткрывателем» темы о браке поневоле, здесь он также следует традиции. Еще М.В. Ломоносов выступал против насильственных браков вплоть до их запрещения.1 Это отразилось в его трагедии «Тамира и Селим» (1750), которая в своих основных коллизиях имеет некоторое сходство с «Димитрием Донским».2 Вымышленная любовная интрига, характерная для поэтики классицизма, строится на тех же основаниях, что и у Озерова: героиня не вольна в своих чувствах и вынуждена покоряться власти отца. Но и в той, и другой трагедии присутствует благополучное разрешение любовной истории: герои получают право на счастье, претерпев душевные муки. Сюжетное сходство обнаруживается и в поступках героев: Селим вынужден прекратить военные действия именно из-за любви к Тамире. Она же ради своей любви к нему пытается покончить жизнь самоубийством, когда ей не удается убежать из дома. Селим также готов отдать жизнь за свою любовь, поэтому и вступает в бой с Мамаем. «В сущности, герой и героиня трагедии не совершают ни одного поступка, который явился бы прямым и решительным выполнением того, в чем они видят свой долг, – замечает исследователь. – Зато любовь диктует им не только смелые, но и самоотверженные поступки».3 Если проводить параллели с озеровской трагедией, то в первую очередь надо отметить, что она также основывается на событиях Куликовской битвы. Озеров, как и Ломоносов, включает в трагедию исторические реалии: имена исторических лиц (Дмитрий Донской, Владимир Мономах, Ярослав Мудрый, Олег Рязанский, инок Пересвет, Мамай, Челубей), исторические события (исто1 См.: Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII – XVIII вв. С. 102. По свидетельству самого Озерова, источниками сведений о битве для него послужили перевод «Русской истории» И.Г. Штриттера и трагедия М.В. Ломоносова «Тамира и Селим». См.: Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха Классицизма. Л.: Наука, 1981. С. 142. 3 Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII – XVIII вв. С. 104. 2 101 рия князей Тверских, устранение Олега Рязанского от участия в Куликовской битве, ранение Дмитрия, поединок Пересвета с Челубеем, правда, переосмысленный Озеровым), описание Куликовской битвы (и там, и там о ней рассказывают «специальные» персонажи: у Ломоносова крымский царевич Нарсим, у Озерова боярин, и там, и там она сравнивается с бурей, вихрем). Примечательно, что и у Ломоносова, и у Озерова встречается слово «всевышний», когда речь идет о поражении Мамая. В трагедии «Тамира и Селим»: Всегда есть божий глас – глас целого народа; Устами оного всевышний говорит.1 У Озерова: Рука всевышнего отечество спасла (С.285). Наконец, поступки героев: прекращение Селимом военных действий, вопреки своему долгу у Ломоносова, разлад Димитрия с войском из-за Ксении, несмотря на важность предстоящей битвы; протест Тамиры и ее попытка самоубийства и стремление Ксении уйти в монастырь; единоборство Селима с Мамаем – поединок Димитрия с Челубеем, решивший исход битвы; счастливый и для влюбленных, и для страны финал. Некоторые исследователи видят сходство «Димитрия Донского» с трагедиями Вольтера «Брут» и «Танкред», на которое указывали и современники Озерова. «Сюжетная основа “Димитрия Донского”, – отмечает А.Я. Максимович, – близка к французской классической традиции. <…> …речь Димитрия, открывающая трагедию, находит себе прямое соответствие в речи Аржира в первом действии “Танкреда”. Еще более явны и существенны связи с “Брутом”, начинающимся совещанием римских консулов с сенаторами, где решается вопрос о том, следует ли принять посла от царя Порсена». 2 А.Я. Максимович называет «Димитрия Донского» «перенаряженной в патриотические доспехи французской трагедией с преобладанием любовной интриги», 3 которая, есте- 1 Ломоносов М.В. Тамира и Селим // Ломоносов М.В. Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1986. С. 346. 2 Максимович А.Я. Озеров. С. 162. 3 Там же. С. 163. 102 ственно, не могла быть принята сторонниками Державина, требующими от произведений исторической правды. Вымышленная история любви Димитрия и Ксении, заключающая в себе явное отступление от исторических реалий (взять хотя бы тот факт, что ко времени Куликовской битвы Дмитрий был уже женат) возмутила Г.Р. Державина. Широко известно его негативное высказывание о трагедии, зафиксированное в дневнике С.П. Жихарева и ставшее чуть ли не основным аргументом против озеровской интерпретации исторических событий и одновременно показателем художественной «слабости» его нашумевшей трагедии. Судя по дневниковым записям, Державин весьма «покровительствовал» Жихареву и не стеснялся в его присутствии бранить то, что вызывало всеобщее восхищение. Приведем запись от 18 января 1807 года, в которой Жихарев описывает обед у Державина: «Говорили о “Димитрии Донском”, и на вопрос Гаврила Романовича Дмитриевскому, как он находит эту трагедию в отношении к содержанию и верности исторической, Иван Афанасьевич отвечал, что, конечно, верности исторической нет, но что она написана прекрасно и произвела удивительный эффект. “Не о том спрашиваю – сказал Державин, – мне хочется знать, на чем основался Озеров, выведя Димитрия влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинехонька прибыла в стан и, вопреки всех обычаев тогдашнего времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Димитрию”. – “Ну конечно, – отвечал Дмитриевский, – иное и неверно, да как быть! Театральная вольность, а к тому же стихи прекрасные: очень эффектны”. Державин замолчал, а Дмитриевский, как бы опомнившись, что не прямо отвечал на вопрос, продолжал: “Вот, изволите видеть, ваше высокопревосходительство, можно бы сказать и много кой-чего на счет содержания трагедии и характеров действующих лиц, да обстоятельства не те, чтобы критиковать такую патриотическую пьесу, которая явилась так кстати и имела неслыханный успех”».1 1 Жихарев С.П. Записки современника. С. 99. 103 Дмитриевский заканчивает свой ответ Державину дифирамбами «таланту Владислава Александровича» и предложением «предоставить всякую критику времени: оно возьмет свое, а теперь не станем огорчать такого достойного человека безвременными замечаниями».1 Жихарев не производит ответную реакцию Державина на слова Дмитриевского, но, судя по дальнейшей записи, она была резко негативна, даже если и выразилась в простом молчании, поскольку автор дневника далее продолжает: «Я уверен, что у старика много кой-чего есть на уме, да он боится промолвиться».2 Следует отметить, что «гневные» слова Державина о «небывалой княжне» в трагедии «Димитрий Донской», зафиксированные в дневнике С.П. Жихарева, стали общим местом в рассуждениях о трагедиях Озерова и не в последнюю очередь повлияли на оценку творчества драматурга в целом. И.З. Серман, например, высказывает сомнения в научной состоятельности подобного мнения: «Эти слова Державина в изложении Жихарева переходят из одной работы об Озерове в другую без проверки. Между тем они необыкновенно тенденциозны».3 Взять хотя бы тот факт, продолжает исследователь, что Ксения «прибыла в стан» «не одна-одинехонька», с ней всегда рядом находится ее наперсница Избранна. По убеждению И.З. Сермана, «именно любовь Димитрия к Ксении, ее нежелание подчиниться отцовской воле <…> были в драме Озерова смелой новинкой, непривычной для представлений о русской старине таких консерваторов, как Державин и Шишков».4 Об их «претензиях» к Озерову пойдет речь в отдельной главе. Димитрий как герой трагедии «проигрывает» в сравнении со своим оруженосцем Михаилом Бренским, которого он фактически посылает на верную смерть, обменявшись с ним своим княжеским «облачением», и в сравнении со своим соперником Тверским, который, проявляя «невольную дань уважения» к 1 Там же. Там же. 3 Серман И. Явленье Озерова // Русская литература. 1999. № 1. С. 8 – 9. 4 Там же. С. 9. 2 104 одержавшему победу Димитрию, отказывается от руки Ксении.1 Такая трактовка характера объясняется стремлением драматурга как можно полнее отобразить все разнообразие чувств, переполняющих душу героя, силу его несокрушимой любви. Все это обеспечило драматургу живейшее зрительское сочувствие. Характер Ксении заключает в себе целую палитру чувств. По воле отца она вынуждена приехать в русский «стан», что для нее (кстати, как и для Державина) «ново» и непривычно: Какое зрелище для росских воев ново! Средь стана шумного, где чувствие сурово Одной питается военною грозой, Увидят мирный храм… (С. 245). Но, отдавая «последний долг покорства», Ксения решительно настроена уйти в монастырь, чтобы не быть женой Тверского. По сравнению с влюбленным и находящимся «вне себя» Димитрием, Ксения внутренне собранна, в силах управлять своим чувством. Она останавливает «свирепое исступление» Димитрия, прямо говоря ему Постой, о государь! Куда стремишься ты! И ревности куда влекут тебя мечты? Иль хочешь ты в своем свирепом исступленьи К несправедливости прибавить преступленья? Иль хочешь, пагубный воспламеняя раздор, Явить татарам здесь отечества позор, Приуготовить им победу несомненну, Россию под ярем вести окровавленну? О ты, поставленный щитом ее, главой! ...................................... Не дай увидеть мне бесчестья твоего! (С. 249-250). Ксения полна решимости пожертвовать собой ради спасения возлюбленного. Она понимает, что его бесстрашие – это отчаяние обреченного на смерть, что Димитрий не отступится от своего плана и, побежденный, принесет русским позор новой зависимости от татар. Осознавая себя виновницей создавше- 1 См.: Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. С. XXXV – XXXVI. 105 гося положения («Раздору я виной»), Ксения отдает себя на суд князей, чтобы спасти и Димитрия, и русское войско, и отечество: «В бедах отечества что значит жизнь моя?»; повинуясь воле «жестокого князя» Тверского, пригрозившего ей проклятием отца, она соглашается на брак с нелюбимым: «Мой долг, / Природы стон велит, чтоб глас любви умолк» (С.275, 279). Не теряя самообладания, она ждет исхода битвы, готовая к любым испытаниям, которые приуготовлены ей «роковой десницей», после сражения полна решимости найти Димитрия – раненого или мертвого. Ее любовь к нему остается неизменной. Таким образом, в трагедии «Димитрий Донской» наиболее зримо представлено столкновение двух тенденций, которые, по мнению тогдашних критиков, были «несовместны». Кроме того, любовная интрига, в отличие от политической линии, доминирует на протяжении всей трагедии и в конце концов побеждает, несмотря на эффектную последнюю сцену, когда раненый Димитрий на коленях произносит хвалу «российскому богу». Ожесточенные нападки будущих «беседчиков» на Озерова предрешили как судьбу трагедии «Димитрий Донской», так и будущую личную трагедию Озерова, его посмертную участь как драматурга. Следует отметить, что современные исследователи не так однозначны в отношении трагедии Озерова «Димитрий Донской», как его критикисовременники. И.З. Серман «оправдывает» трагика в том, что он нарушил историческое правдоподобие: «ему как драматургу нужен был конфликт частный – соперничество Донского и Тверского из-за Ксении – для того, чтобы изобразить русских людей XIV века во всей полноте их внутренней жизни, в борьбе за свободу личную и общую».1 Сходного мнения придерживается и Т.П. Дудина, считая, что целеполагание драматурга в трагедии «Димитрий Донской» вполне адекватно способу художественного воплощения, поскольку для В.А. Озерова на первом месте была не «история как коллективная память о прошлом», а «нравственная природа 1 Серман И. Явленье Озерова // Русская литература. 1999. № 1. С. 9. 106 человека», «внеисторическое значение этических категорий добра и зла, добродетели и порока», которые представляют «уже не дидактическую сторону текста, а эстетический фактор».1 В этом отношении трагедия «Димитрий Донской» была шагом вперед в русской драматургии. 2.5. «Поликсена»: нравственный поединок жизни и смерти «Поликсена» – последняя трагедия Озерова, которой завершился творческий путь драматурга. Работа над ней была сопряжена с кардинальными изменениями в жизни Озерова, связанными с неприятностями по службе и вынужденной отставкой, отказом в просьбе о пенсии самим Александром I, с тяжелым материальным положением, наконец, потерей последних иллюзий в отношении своего дальнейшего творчества. В конце сентября 1808 года Озеров уехал в маленькое «закамское» имение Красный Яр в ожидании решения об отставке и надежде на получение пенсии. К тому времени большая часть «Поликсены» (четыре акта) была уже написана. Через месяц готовый текст трагедии Озеров отправляет в Петербург. Премьера состоялась 14 мая 1809 года, а месяцем раньше Озеров получил письмо, в котором было «предписание с изъявлением высочайшей воли государя, который милостиво соглашался уволить Озерова от службы, но в пенсии отказал на основании того, что он не выслужил узаконенного к получению в пенсии половинного жалования тридцатипятилетнего срока».2 «Озеров знал, – пишет И.Н. Медведева, – что правило это непрестанно нарушалось в воздаяние особых заслуг по службе, и, считая решение каким-то недоразумением, написал министру, что “надеялся на рассмотрение трудов его по Лесному департаменту и заслуг обогащения государственных доходов… что уповал на правосудие: не то, которое основывается на узаконениях, но то, на котором основываются и самые законы, когда они мудры”. Такое письмо, конечно, не исправило дела. 1 Дудина Т.П. Эволюция этико-эстетической мысли в русской исторической драматургии XIX века. 2 Цитируется по: Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 44. С.26. 107 Озеров был отказом потрясен…»1 Это означало невозможность жить в Петербурге, общаться с друзьями, вращаться в театральном мире, словом, продолжать писать. Жить же в деревне было для Озерова неприемлемо. Возможно, работая над трагедией «Поликсена», драматург прозревал и свою собственную дальнейшую судьбу, которая не оставит ему право выбора, которая сделает его невинной жертвой сильных мира сего, заставит заплатить за ту славу, которую он по праву заслужил. Несмотря на то, что «Поликсена» вобрала в себя весь предыдущий драматургический опыт Озерова, она во многом отличается от остальных его трагедий: в ней отсутствует любовная интрига, нет раскаявшихся злодеев, Взятый за основу античный миф о Поликсене, дочери троянского царя Приама и Гекубы, принесенной в жертву жениху Ахиллесу, убитому братом Поликсены Парисом, Озеров трактует в соответствии с установками современного ему общества. Вопрос об источниках и заимствованиях Озерова не вызывает разногласий,2 но основная тема трагедии интерпретируется по-разному. Еще Мерзляков говорил о том, что в этой трагедии «одна и везде Поликсена главным предметом нашего сострадания, нашей боязни», а «мечтательное исступление Поликсены превзошло меры. Оно невероятно и странно».3 На специфику чувств главной героини обращает внимание и современная исследовательница, которая считает, что Озеров «наделил свою Поликсену свойствами романтической балладной Леноры Бюргера», поскольку героиня Озерова также желает умереть для того, чтобы соединиться с мертвым женихом: «Поликсену обуревает некое безумие, любовь, страсть к мертвецу, который призывает ее; она живет, “сгорая от огня снедающей любви”».4 «Балладно-элегическая тема» сближает героиню Озерова и с героиней Жуковского Людмилой, считает исследовательница. Действительно, в центре трагедии – судьба Поликсены, но ее стремление к смерти отнюдь не составляет основу сюжетной коллизии. С самого начала 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 44. См.: Максимович А.Я. Озеров; Медведева И.Н. Владислав Озеров. 3 Мерзляков А.Ф. Разбор трагедии «Поликсена» г. Озерова//Вестник Европы,1817. №4. Ч.91. №1. С.287. 4 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 45. 2 108 действия Озеровым акцентируется другое, на первый взгляд, привычное для его трагедий противостояние милосердного, мудрого, справедливого правителя и злодея, помыслами и поступками которого движет низменное чувство мести, облеченное в благородство. Таковы царь Аргосский Агамемнон и сын Ахилла Пирр. Их противостояние, составляющее движение драматического действия, затрагивает не только нравственные проблемы, но и общественно- политические. В то время как Пирр требует жертву для отдания посмертных почестей своему отцу Ахиллу, тень которого явилась ему, Агамемнон возражает против этого, выдвигая свой критерий «отдания чести» павшим: Иль мало почестей мы отдали надгробных Ахилла памяти, чтоб после брани вновь Невинной проливать троянки ныне кровь? Жестокосердие, обидой возбужденно, В победе над врагом быть дóлжно укрощено: Простительно в боях, как гневом дух кипит, Оно постыдно в час, как враг у ног лежит Смирен, уничижен и пленом отягченный.1 Их словесный поединок – это не только поединок двух идейных противников, двух типов политических деятелей, но и двух психологических типов людей, одному из которых, Пирру, отец в наследие «оставил с храбростью жестокость лишь едину». Но в античных мифах и Агамемнон представлен отнюдь не добрым и великодушным. Не случайно Пирр спрашивает: Давно ль Аргоса царь стал жалостлив душей… Конечно, Озеров исказил истинный мифологический характер Агамемнона, который был не жалостлив, а жесток (не случайно звучит имя Ифигении), но, чтобы придать достоверность изображаемому характеру, драматург объясняет со слов самого Агамемнона такие метаморфозы характера: Я молод был тогда, как ныне молод ты, Но годы пронесли тщеславия мечты, И, жизни преходя волнуемое поле, Стал мене пылок я и жалостлив стал боле; 1 Озеров В.А. Поликсена // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 299. Далее текст цитируется по этому изданию. 109 Несчастья собственны заставили внимать Несчастиям других и скорбным сострадать. (С. 301). В трагедии неоднократно подчеркивается, что «боги хранят молчание» по поводу имени троянки, обреченной стать жертвой, Пирр сам «назначает» Поликсену, мотивируя это тем, что ее ждет мертвый жених, в то время как в глубине души, считая ее причиной гибели отца, жаждет отомстить ей. Он убеждает совет царей в том, что принесенная в жертву Поликсена поможет грекам, ждущим ветра «как вожделенну радость», «скорей отплыть под кров своих отцов», в чем Пирру помогает хитрый и «красноречивый» Улисс. Позицию Агамемнона разделяет почтенный царь Пилосский Нестор, которому «настигнувшая древность» дает «право» «советы предлагать». В самом развитии действия этот персонаж статичен, но его «советы», часто принимающие форму афоризмов, выражают позицию самого драматурга. Так, например, узнав, что совет согласился с решением Пирра «осудить» невинную Поликсену, Нестор изрекает: Но знаю я народ. Кто мыслит обуздать Его средь ярости, тот хочет удержать Иль море шумное, иль горный ветр бурливый. (С. 306). Оппозиция разума и чувства, представленная в трагедии, озвучивается «хитроумным» Улиссом, который, поддерживая Пирра, убеждает царей в необходимости принесения в жертву Поликсены: «Но можно ль чувству там предаться нам свободно, / Где должен ум избрать спасение народно?» (С.307). Ему возражает Нестор, декларируя сентименталистскую позицию приоритета разума над чувством: Кто милосердием долг строгий умеряет, Тому и слух богов в день горести внимает. (С. 307). Вернемся к мнению о том, что Поликсена «обуреваема» безумной любовью, «страстью к мертвецу», призывающим ее, что «она живет, “сгорая от огня 110 снедающей любви”»,1 в «мечтательном исступлении», которое «превзошло меры», «невероятно и странно».2 Поликсена появляется во втором действии вместе с Гекубой. Главная ее забота – успокоить «горестную» мать, и в этом она напоминает Антигону, которая также является единственным утешением и опорой страдающему родителю. Так же, как Эдип, Гекуба сетует, что на долю ее «милой, как ранний, нежный цвет» дочери выпали несчастья и страданья, скитанья и нищета. И подобно Антигоне, Поликсена возражает ей: Нет, матерь нежную всегда благословлю, И жизнь и строгий рок в смиреньи претерплю. (С. 311). На протяжении всего действия Поликсена полностью погружена в заботы о матери. И если она вспоминает о погибшем Ахилле, то отнюдь не для того, чтобы соединиться с ним в загробном мире, а, скорее, наоборот: Когда могла прежить того, кто был столь мил, То я найду в себе еще довольно сил, Чтоб жизнью не скучать, как жизнь ни будет слезна, И мыслью отдохну, что я тебе полезна. (С. 312). И когда Улисс объявляет, что в жертву «назначена» Поликсена, ее реакция отнюдь не вызывает радости. «О боги!» – пораженно восклицает она. Ее вторая реплика: «О матерь скорбная!» Поликсена понимает, что надежды на спасение нет, что даже Кассандра не сможет помочь ей. Неминуемая смерть вызывает у нее чувство отчаяния, поскольку она преисполнена жалости к бедной матери: Но я не плачу здесь над смертию моей: Не те несчастливы, которы умирают, Но те, которые любезных преживают. О матерь, я теперь лью слезы над тобой: Какой свирепою гонима ты судьбой! (С. 318). И только после этих слов Поликсена вспоминает мертвого жениха, утешая одновременно и мать, и себя, что скоро наступит конец ее горестям и «мирским бурям»: 1 2 См.: Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 45. Мерзляков А.Ф. Разбор трагедии «Поликсена» г. Озерова. С. 287. 111 Утешься мыслию, что дочь твоя в сей день Супруга своего увидит милу тень! Вообрази себе, когда я смерть приемлю, Что в дальнюю меня ты отпустила землю, Где верный мне жених, любезный мне Ахилл Всю прежнюю любовь к невесте сохранил… (С. 319) Эти слова Поликсены вызывают гнев Гекубы. Именно она в отчаянии обвиняет дочь в том, что та, «тлея внутренно от страстного огня», собирается ее покинуть. Но тут же, правда, и раскаивается в сказанном. В третьем действии Поликсена просит мать не унижаться перед Улиссом, вспомнить о своем царском происхождении, для нее главное – ощутить себя внутренне свободной: Докажем мы в сей день пред греческой толпою, Что Гектору ты мать, что я сестра герою, Что бедства твердости с души не могут стерть, Что унижению предпочитаем смерть! (С. 329). Но в следующей реплике Поликсены звучит ничем не прикрытый страх перед приближающейся смертью: «Смерть… ужас для всего, что бытие имеет, / От мысли коей дух и чувство цепенеет!..» (С.329). Отчаяние ее так велико, что прощание с матерью сопровождается словами: Поверь, не стоит жизнь, чтобы о ней жалеть. И Гектор, и Приам, и смертный, сердцу милый, – Все ждут меня уж там, за темною могилой; Там… мы увидимся. О матерь, отпусти, Прости в последний раз, и ты, сестра, прости! (С. 330) Примечательно, что имя мертвого жениха стоит в одном ряду с другими дорогими Поликсене людьми – братом и отцом. В ее словах не чувствуется «исступленного желания» соединиться с погибшим Ахиллом, скорее, это воспринимается как неизбежность, как некое утешение или оправдание страшной смерти. Мотив оправдания смерти усиливается в четвертом действии: Поликсена предчувствует, что ее отказ выступить в роли жертвы вызовет «ряд несчастных последствий», что прольются потоки крови. Она буквально уговаривает себя принять смерть, и только сейчас как будто «прозревает», что жених «зовет ее», что действительно она – это его «выбор»: 112 Нет, лучше смерть, как мысль об оной ни страшна! Но что я говорю? Страшиться ли должна, Когда я смерть мою угодной зрю Ахиллу, Когда жених в свой гроб зовет меня унылу? (С. 335). Поликсена страстно возражает Кассандре, когда та осмеливается оспаривать «выбор» ее мертвого жениха («Вот нежный знак любви свирепого Ахилла!»), более того она буквально повторяет слова матери об «огне снедающей любви», сказанные тою в отчаянии: Что долее мне жить – страдать лишь только доле, Сгорая от огня снедающей любви, Лиющейся в моей волнуемой крови. (С. 336). Следующие несколько строк действительно позволяют сравнить Поликсену с Людмилой из баллады В.А. Жуковского, стремящейся найти покой в разверстой могиле: Ахилл… <…> Деля мою тоску, томяся в раной муке, Ты отверзаешь мне гробницу на покой, Где б смерть венчала нас иссохшею рукой! (С. 336). Но даже здесь Поликсена не перестает страдать о бедной матери, отчаянно стеная о неизбежном выборе между ней и женихом. По мнению И.Н. Медведевой, лейтмотивом «Поликсены», последней трагедии Озерова, явилась «тема заключительной части письма “Элоизы к Абеляру|, в которой Элоиза говорит о загробном соединении с любимым».1 Решимость Поликсены пойти на заклание предопределяется двумя обстоятельствами: упредить смерть невинных троянок и стремлением Агамемнона разрушить жертвенник Ахилла, срыть «до подошвы» воздвигнутый ему холм. В преддверии смерти Поликсены Пирр наконец обнаруживает свои истинные чувства, которые не в силах больше скрывать: Дождался наконец твоей я казни дня. Давно уже во мне пылает дух желаньем Насытиться твоим пред смертию страданьем… (С. 351). 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 44. 113 Но и перед смертью Поликсена остается гордой и свободной духом дочерью «троянских царей». Она отвергает все наветы «свирепого» Пирра, обвиняющего ее в гибели отца. «Вся хитрость в том была, что я его любила», – возражает Поликсена. Ее любовь к Ахиллу помогает ей «победить страх смерти», сделать нелегкий выбор между матерью и воссоединению с женихом, выбор, который, впрочем, был предопределен с самого начала трагедии. Любопытно, что в последней трагедии Озерова, как и в первой, есть особое явление, названное драматургом «последним» (в данном случае – «явление шестое и последнее»). И в той, и в другой трагедии оно особенно значимо. В первой в нем появляется чудесным образом спасенный Олег, в последней это явление не так оптимистично. На фоне общего настроения мрачной растерянности, связанного с гибелью Поликсены, зловеще звучат пророчества Кассандры, возвещающие участникам трагедии грядущий «гнев бессмертных». Иными словами, всем должно воздаться по заслугам. В трагедии наблюдается сразу несколько «поединков»: между жизнью и смертью, любовью и ненавистью, добродетелью и пороком, милосердием и тиранией. Несмотря на то, что главная героиня погибает, в трагедии ощущается торжество сильной, свободной личности, которую не может сокрушить власть тиранов. Исход поединков у Озерова предопределен нравственной доминантой: это самоотверженная любовь, не заканчивающаяся даже после смерти, это милосердие и справедливость сильных мира сего. Голос драматурга звучит на протяжении всей трагедии: он доверяет свои сокровенные мысли разным героям: Гекубе («Прощают ли тому, пред кем чело краснело?»; «Или желание угодным быть народу / Способно заглушить в душе твоей природу?»), Кассандре («Цари даны земле в залог суда богов»); Агамемнону («…Доколь познаешь сам из участи своей, / Что злополучие – училище царей!») и, конечно, Нестору («Жестокость без предел – души свирепой свойство, / И милосердием красуется геройство»). Именно ему Озеров доверил произнести заключительные слова трагедии, в которых явно видна проекция на собственную судьбу драматурга: Среди тщеты сует, среди страстей борьбы 114 Мы бродим по земли игралищем судьбы. Счастлив, кто в гроб скорей от жизни удалится; Счастливее того, кто к жизни не родится! (С. 356). Таким образом, в последней трагедии Озерова, как ни в какой из предыдущих, биографический акцент выступает наиболее зримо. Проекция драматурга на свою собственную судьбу просматривается в самой сюжетной коллизии. Не случайно в трагедиях, созданных драматургами Нового времени: Лафоесом («Поликсена», 1696), Дегубером («Поликсена», 1792), Шатобреном («Троянки», 1754), Этьеном Аньяном («Поликсена», 1804), – героиня не стремится к смерти для соединения со своим возлюбленным.1 Но тем не менее трагический пафос пьесы связан именно с темой любви – вневременной и бессмертной, с которой начинающий драматург вступил на свое писательское поприще. 1 Это было отмечено И.Н. Медведевой. См.: Медведева И.Н. Владислав Озеров // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 45. 115 ГЛАВА III. Полемика вокруг Озерова: «озеровский миф» и реальность 3.1. Противники и апологеты К настоящему времени в ряде исследований вновь получает актуальность проблема, связанная с так называемым «озеровским мифом», согласно которому талантливый драматург был затравлен толпой завистников и доведен до сумасшествия. Именно со смертью Озерова разгорелась яростная литературная борьба в первые десятилетия XIX века, которая, впрочем, началась еще с постановки «Эдипа в Афинах» и не угасала в течение всего периода короткой литературной деятельности драматурга. Возвращаясь к этой проблеме, ученые пытаются по-новому интерпретировать обстоятельства, повлиявшие на решение В.А. Озерова навсегда оставить литературную деятельность, что в конечном итоге и спровоцировало его душевную болезнь и смерть. Так, например, Д. Иванов считает, что литературная репутация Озерова с самого начала складывалась под влиянием определенного культурного механизма, связанного с соотнесением творчества писателя с именем определенного классика.1 Исследователь опирается на положение Ю.М. Лотмана, согласно которому наименования типа «северный Расин», «наш Мольер» и т. д. определяли восприятие личности писателя современниками, формировали его самооценку и в результате образовывали «целостную программу личного поведения, которая в определенном отношении предсказывала характер будущих поступков и их восприятия». 2 Д. Иванов отмечает, что стараниями критиков (особенно Н.И. Бутырского) за Озеровым закрепилось почетное звание «русского Расина». Под влиянием этой репутации и оказался драматург: «Две последние трагедии были 1 Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: русский Расин // University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/index.shtml 2 Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллин, 1992. Т. 1. С. 259. 116 написаны им с отчетливой ориентацией на Расина», история постановки «Поликсены» «была также обусловлена влиянием на Озерова сложившегося образа “русского Расина”».1 По мнению Д. Иванова, драматург даже «предлагал модель для интерпретации возможного провала» «Поликсены», ориентируясь на тот факт, что зрители Парижа недоброжелательно встретили «Федру» Расина. Подобно Расину, считает исследователь, Озеров и решил оставить «театральное поприще»: «В интригах против Озерова был обвинен А.А. Шаховской, занявший в данной легенде меcто “русского Прадона”. Таким образом, изначальное восприятие Озерова как “русского Расина” определило как последующую “мифологизацию” его литературной репутации, так и его собственный взгляд на свою биографию. Последнее обстоятельство, по нашему мнению, привело к искусственному моделированию самим автором конфликта вокруг “Поликсены”».2 На первый взгляд нельзя не согласиться с Д. Ивановым, поскольку мифологизация как прием создания собственной биографии был достаточно жизнеспособен во все времена и наиболее ярко проявил себя в начале XX века. «Творимой легендой» вовсю пользовались символисты, принимая образы «магов» (В.Я. Брюсов), «андрогинов» (З.Н. Гиппиус). Изначальная позиция Д. Иванова понятна: он защищает А.А. Шаховского от несправедливых наветов, и в этом, нужно заметить, он не одинок. Но в случае с Озеровым все обстояло гораздо сложнее. Взять хотя бы тот факт, что драматург вынужденно должен был жить в своем закамском имении, в маленьком флигеле, фактически без средств к существованию, не имея возможности даже отремонтировать дом. В его письмах Оленину звучат тоска и отчаяние, он рвется в Петербург, где Шаховской начал выпускать журнал «Драматический вестник», где выступает знаменитая трагическая актриса Жорж, следит по журналам за театральной жизнью столицы. Жизнь в деревне для него настолько нестерпима, что он с трудом дописывает последние действия почти готовой «Поликсены», жалуясь Оленину, что «вооб1 2 Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: «Русский Расин». Там же. 117 ражение охладело»: «Главная же причина моей медленности в сочинении есть удаление мое от искренних и просвещенных друзей, в числе которых считаю вас из первых. Никто здесь не в состоянии сказать мне: это дурно, это хорошо, это переменить надобно; никому здесь не решусь я прочитать страницы стихов». 1 Думается, предполагаемый Озеровым неуспех «Поликсены» отчасти объясняется тем напряженным ожиданием, в котором жил Озеров после своей неожиданной отставки, так как от полученных известий напрямую зависела его дальнейшая судьба. Аналогии с Расином напрашивались сами собой, и дело было не в «заимствованиях» и «подражаниях» драматурга, которые, впрочем, отмечали и последующие авторы критических статей о творчестве Озерова,2 а в том, что подобная матрица уже существовала до Озерова. Стоит вспомнить, что А.Н. Сумароков еще при жизни удостоился звания «северный Расин». «…Первый он из россиян, – отмечал Н.И. Новиков, – начал писать трагедии по всем правилам театрального искусства, но столько успел в оных, что заслужил название северного Расина».3 Заслуги Сумарокова в области создания русской трагедии позже отметит и В.Г. Белинский, также не преминув вспомнить о его «заслуженном названии» «северного Расина».4 Уже в первых критических разборах «Эдипа в Афинах» Н.И. Бутырский,5 ориентируясь на «Лицей» Ф. Лагарпа,6 разделяет историю русской литературы, подобно французской литературе XVII века, на две эпохи – «старую» и «новую» – соответственно, Корнеля и Расина, противопоставляя «“Эдипу” всю предшествующую традицию – и, в первую очередь, “Демосфена” Ломоносова, написанного на “греческий” сюжет».7 Д. Иванов отмечает, что в статье Бутыр- 1 Письма В.А. Озерова к А. Оленину. 1808. 1809. // Русский архив. 1869. № 1. С. 126. См.: Зотов Р. Биография Озерова // Репертуар и Пантеон. 1842. Кн. 6; Потапов П.О. Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В.А. Озерова. Одесса: Тип. «Техник», 1915. 3 Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. URL: http://www.rvb.ru/18vek/novikov/01text/02criticism/17.htm 4 Белинский В.Г. Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. С. 110. 5 Бутырский Н.И. Трагедия Эдип в Афинах, сочинения г. Озерова // Северный Вестник. 1805. Ч. 7. №. 7. С. 23-52. 6 Лагарп Ж.Ф. «Лицей, или Курс древней и новой литературы». В 16 т. 1799 – 1805. 7 Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: «Русский Расин». 2 118 ского «сами приемы анализа (категории, аналогии и примеры) подбирались так, чтобы говорить об Озерове как Лагарп говорил о Расине».1 Сравнение Озерова с Расином наблюдается и в разборе Бутырским трагедии «Фингал».2 Нет ничего удивительного в том, что Озеров, еще в начале своего творческого пути удостоившись почетного звания «русского Расина», «оказался под влиянием этой сложившейся репутации».3 Но это отнюдь не означает, что он «смоделировал» свой уход из литературы «по Расину», хотя бы потому, что был потрясен неожиданным отказом ему в пенсионе. И дело даже не в том, что это обрекало Озерова на нищенское существование, главное – теперь он навсегда был отторгнут от мира литературы. Его переписка с А.Н. Олениным, который всячески пытался поддержать Озерова, показывает всю меру отчаяния драматурга, отвечавшего другу, что никаких трагедий больше писать не будет, что жизненные обстоятельства заставляют его «бросить перо». «…Тысячи неприятностей, – писал он Оленину 2-го июля 1809 г., – навлеченных мне званием автора и обиды, которые, может быть, оное навело мне по службе, заставляют меня отстать от стихотворства, бросить перо, приняться за заступ и, обрабатывая свой огород, возвратиться опять в толпу обыкновенных людей».4 «В каком безвыходном материальном положении находился Озеров, – пишет И.Н. Медведева, – можно судить по тому, что, сказав все эти слова и запальчиво потребовав возврата рукописи “Поликсена”, он опять вернулся к обидам, которые терпит от Нарышкина, обещавшего ему и все еще не выславшего эти злополучные три тысячи».5 Д. Иванов считает, что Озеров сознательно шел на конфликт: «Поликсена должна была стать последней трагедией подвергшегося гонениям автора. Оленин выполнил волю драматурга, тем самым дав ему основания считать себя, как Расина, жертвой завистников».6 Думается, если же «проекция» на Расина и 1 Там же. Бутырский Н.И. Разбор трагедии: Фингал // Лицей. 1806. Ч. II. Кн. 1. С. 50-65. 3 Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: «Русский Расин». 4 Русский архив. 1869. Ч. 1. С. 150. 5 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 49. 6 Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: «Русский Расин». 2 119 была в тот период доминирующей в поступках Озерова, то вызвана она была, скорее всего, психотерапевтическими причинами, поскольку Озеров отдавал себе отчет в том, что его вынужденная изоляция означала крах его литературной карьеры, а значит всей жизни. Отчаянием было вызвано его решение «бросить перо», забрать «Поликсену» (хотя он действительно знал, что пьеса имела успех), а позже отказаться от переиздания своих трагедий, мотивируя это тем, что ранее на публикацию своих трагедий соглашался «по одним убеждением… приятелей, никогда не быв любопытен видеть в печати то, что писал единственно по склонности… к театральным зрелищам и без всякого искания звания автора и стихотворца».1 Вопреки своей установке «бросить перо», Озеров все-таки писал. Но, по свидетельствам Вяземского, трагедия «Медея», планы трагедий «Осада Дамаска» и «Вельгард Варяг – мученик при Владимире» – все было сожжено. До- шедшие до потомков несколько стихотворений, басен и переводов повторяли один и тот же мотив – о несправедливо обиженном служителе Мельпомены, вознесенном на вершину славы и низвергнутом с нее злым роком. Примечательно, что все три последние перевода Озерова были связаны с Расином («Из «Эсфири» Расина», «Из «Гофолии Расина», «Из послания Буало к Расину»). Таким образом, несмотря на то, что мифологизация Озерова как русского Расина имеет под собой основания, будет неправомерно утверждать, что Озеров «смоделировал» свой трагический уход из литературы, в том числе и конфликт вокруг своей последней трагедии «Поликсена», которую считал «лучше первых». Но правомерно то, что, осознавая себя несправедливо обиженным, Озеров не мог не обратиться к перипетиям творческой судьбы того, чье имя стало эпонимом его недолгой драматургической деятельности. Необходимо заметить, что проблема «озеровского мифа» возникла гораздо раньше – в исследованиях, посвященных литературной борьбе «архаистов» и «шишковистов». В свое время М.И. Гиллельсон, анализируя статью П.А. Вя- 1 Цит. по: Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 49. 120 земского «О жизни и сочинениях Озерова», обратил внимание на тот факт, что автор при написании статьи «умолчал» о некоторых сторонах биографии Озерова, чтобы «не поколебать стройность легенды о жестоких преследованиях трагика, не подвергать сомнению тезис о том, что его жизненные неудачи обязаны исключительно проискам злонамеренных “беседчиков”».1 М.И. Гиллельсон обращает внимание на то, что первая отставка Озерова длилась почти два года, но в своей статье Вяземский умолчал о времени и причинах ее, хотя «из письма Блудова от 20 февраля 1817 года очевидно, что первая отставка Озерова произошла в начале царствования Александра I. Сведения, сообщаемые Блудовым, совпадают с архивными данными: Озеров уволился из Лесного департамента в конце июля 1801 г.».2 По мнению исследователя, Вяземский умолчал об этом, поскольку отставка не имела никакого отношения к преследованиям и травле Озерова-драматурга. Сопоставляя мемуарные и эпистолярные свидетельства со статьей Вяземского, М.И. Гиллельсон приходит к выводу, что последний «конструировал жизненный путь Озерова не как биографическую реальность, а как легенду, и образ его приобретает иконописные черты мученика, пострадавшего за свои творения. В соответствии с этим Вяземский и дает апологетическую характеристику творчества Озерова в целом».3 В данном случае в этом высказывании для нас важно не «апологетическая характеристика» (о ней пойдет речь позже), а тот факт, что имя Озерова и само его творчество с самого начала и до наших дней воспринимается через призму мифологизации. И тому есть причины. Чтобы объяснить поведенческую стратегию Озерова, необходимо расширить жизненный и творческий контекст, который повлиял на формирование личности драматурга и привел Озерова к решению покинуть своё поприще. В то же время реконструировать биографию драматурга довольно трудно по причине отсутствия сколько-нибудь конкретных данных. Н.Н. Булич заметил, что 1 Гиллельсон М.И. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. Комментарии // Вяземский П. А. Сочинения: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2. Литературно-критические статьи. С. 309. 2 Там же. С. 308. 3 Там же. С. 310. 121 «друзья Озерова оставили о нем и о судьбе его в своих произведениях искренние сожаления, но ни одного положительного факта».1 Тем не менее в такой ситуации свидетельства современников Озерова являются неоценимым источником, также как его немногочисленный эпистолярий и, наконец, собственное творчество. Руководствуясь всем этими источниками, М.А. Гордин, «восстановил» обстоятельства и причины первой отставки Озерова, действительно не имеющие никакого отношения к литературной борьбе и тем более «травле» Озерова.2 Многие современники драматурга сходились во мнении, что он имел «несчастный характер». Так, Ф.В. Булгарин воспоминает: «Знавшие хорошо Озерова: знаменитый баснописец И.А. Крылов, Н.И. Гнедич и археолог Ермолаев сказывали мне, что Озеров был добрый и благородный человек, но имел несчастный характер: был подозрителен, недоверчив, щекотлив, раздражителен в высшей степени, притом мнителен и самолюбив до последней крайности. Он олицетворял собою известный латинский стих: Irritabile genus vatum»3 (раздражительный род поэтов – В. А.). Но, несмотря на сложность личности Озерова, Булгарин видел в нем прекрасного драматурга: «Я был самый страстный любитель театра <…> В это время в полной славе был Владислав Александрович Озеров. После языка Сумарокова, язык Княжнина, в Рославе, уже приятен был слуху, но язык Озерова, который теперь кажется нам жестким и устарелым – был музыкою, и трагедии его привлекали в театр всех образованных людей. <…> Возвысила поэта и дала ему блеск трагедия его: Эдип в Афинах, представленная в первый раз 25 ноября 1805 года. Трагедия эта, исполненная высокого чувства и драматических эффектов, имела самый блистательный успех: в ложах рыдали; рукоплескания, восклицания, вызовы автора повторялись при каждом представлении, и публика не уставала наслаждаться этим истинно прекрасным созданием. Фингал, 1 Булич Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. Т. I. С. 242. См.: Гордин М.А. Владислав Озеров. Л.: Искусство, 1987. 3 Булгарин Ф. Воспоминания Фаддея Булгарина. Ч. II. 2 122 представленный в том же году, 8 декабря – трагедия, исполненная нежности и геройства, с прекрасной музыкой О.А. Козловского, с хорами, балетами, сражениями, приближаясь к романтическому роду, имела больший успех, нежели Эдип, и довершила торжество поэта. Имя Озерова было в устах каждого, и все молодое поколение затвердило наизусть не только лучшие стихи, но целые тирады из этих трагедий».1 Тем не менее, начиная с первой трагедии Озерова «Эдип в Афинах», мнение критиков не было единодушным. «В волнах восторга виднелись подводные камни. Открыто не ругали, но притворно сожалели о промахах».2 В своей статье, посвященной разбору «Эдипа», Н.А. Бутырский старался отвести от Озерова обвинения в негодности для постановки самого сюжета, в «неправильном» финале пьесы, искажающем всю суть античной трагедии. Критик восхищался чистотой языка и гибкостью слога, гармонией стиха. Неоднозначную оценку «Эдипа» констатирует в своем дневнике и С.П.Жихарев. 1 октября 1805 года он делает запись: «Всюду толки об “Эдипе”, и, странное дело, есть люди из числа староверов литературных, которые находят, что какая-нибудь “Семира” Сумарокова или “Росслав” Княжнина больше производят эффекта на сцене, чем эта бесподобная трагедия. Мне кажется, что можно безумствовать так из одного только упрямства. Все лучшие литераторы: Дмитриев, Карамзин, Мерзляков отдают полную справедливость автору; да и нельзя: труд его достоин не токмо хвалы, но и уважения: до него никто у нас на театре не говорил еще таким языком, и те, которые показывают вид, что предпочитают ему Сумарокова и Княжнина, действуют не весьма добросовестно, потому что хотя и запрещается спорить о вкусах, но это запрещение относится скорее к огурцам и арбузам и прочему, нежели к произведениям ума».3 В. Озеров, пришедший в литературу гораздо позднее своих сверстников, не принимал участия в литературной борьбе направлений и стилей, не отдавал 1 Булгарин Ф. Воспоминания Фаддея Булгарина. Ч. II. Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 104. 3 Жихарев С.П. Записки современника. С. 125. 2 123 предпочтение тому или иному автору и не в последнюю очередь потому, что вынужден был служить. Его литературные пристрастия сложились под влиянием Княжнина, преподававшего в Сухопутном шляхетском корпусе, но непревзойденным авторитетом для Озерова был Г.Р. Державин, в дом которого он был вхож. Поэтому положение будущего знаменитого драматурга в литературном мире можно охарактеризовать словом «между». Будучи по своему мировидению близким к сторонникам «чувствительного» направления, он тем не менее чувствовал свою близость и к «классицизму» Державина. И.Н. Медведева отмечает, что Озеров «в литературно-театральной среде был <…> тоже не совсем свой и не по возрасту наивен. Озеров не был искушен в литературной борьбе и явно не разбирался в направлениях. Критику, идущую из лагеря, противоположного тому, в котором сам по вкусам своим оказался, готов он был принять за личные оскорбления». 1 Современники вспоминают, что одна эпиграмма особенно оскорбила Озерова. «Я помню это время, – писал Ф.В. Булгарин, – и даже до сих пор удержал в памяти эпиграмму, породившую эти стихи Озерова, эпиграмму, которая, как ядовитая стрела, воткнулась в сердце раздражительного поэта и довела его до такого отчаяния, что друзья его опасались, чтоб он не решился на что-нибудь необыкновенное. Эдип представлен на сцене слепым, и один из тогдашних остряков написал: Наш Озеров во храм бессмертия идет. Но скоро ли дойдет? Слепой его ведет!»2 Ф.В. Булгарин не видит в этой эпиграмме ни оскорбления чести автора, ни намека на его бездарность: «Вот и все! Шутки и только. Не тронута ни честь поэта, ни даже его талант. То ли вытерпели другие? Эпиграмму эту одни приписывали тогда кн. А.А. Ш<аховскому>, другие капитану С.Н. М<арину>; но кто подлинно написал, неизвестно. Озеров был неутешен, мрачен, еще более недоверчив, жаловался одному приятелю на другого, без всякой причины, по- 1 2 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 40. Булгарин Ф. Воспоминания Фаддея Булгарина. Ч. II. 124 дозревал всех в недоброжелательстве, в заговоре против его славы, и многие поверили его жалобам, и перенесли небылицы в потомство».1 Более того, Булгарин даже считает закономерным появление такого рода эпиграмм: «Нет сомнения, что у него были завистники, потому что это необходимые спутники в жизни истинного таланта, но если бы у Озерова не было клеветников и завистников, то это означало бы, что пьесы его не имели никакого достоинства и успеха. Но ведь эти завистники всегда так ничтожны, так мелки, что человеку с умом и характером не стоит даже обращать на них внимания! Ужели за несколько эпиграмм и пустых шуток не могла вознаградить Озерова любовь к нему публики и уважение всех дороживших народной славой!»2 Защитники и апологеты Озерова тоже не молчали. В этом отношении вызывает особый интерес послание В.В. Капниста «Владиславу Александровичу Озерову», написанное в конце 1804 года и опубликованное в 1805 году в «Вестнике Европы». Оно стало началом лирического диалога двух поэтов, продолжавшегося до самой болезни Озерова. В.В. Капнист, близкий родственник Г.Р. Державина, имел непосредственное отношение к театральному миру: с 31 октября 1799 г. по 14 августа 1801 Капнист был директором императорских театров Петербурга и за этот недолгий период сумел многое сделать для того, чтобы привлечь зрителя к теряющему былую популярность театру: обновил театральный репертуар, привлек из Москвы талантливых актеров. Вместе с К.Н. Батюшковым В.В. Капнист входил в кружок А.Н. Оленина, в доме которого и познакомился с Озеровым. Художественный мир лирики Капниста позволяет говорить о его приверженности к сентименталистскому направлению. «В дальнейшем, – по мнению исследователя, – поэзия В. Капниста ярко отразит общий процесс движения лирики к утверждению сентименталистской и предромантической поэтики и полемику с литературными канонами классицизма». 3 Эстети- 1 Там же. Там же. 3 Заярная И.С. Литературный контекст рубежа XVIII – XIX ст. в поэзии В. Капниста // Русская литература. Исследования. Сборник научных трудов. Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко; Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. К.: «СПД Карпук С.В.» 2009. Вип. XIII. № 13. С. 4-17. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31024 2 125 ческие установки Капниста были схожи с теми, которые просматривались в творчестве Озерова. Возможно, поэтому Капнист старался поддержать его первые драматургические опыты и одним из первых «встал на защиту» начинающего драматурга и того нового, что увидел в его классицистической трагедии. В своем послании Капнист четко позиционирует Озерова как «чувствительного певца», который открыл тайну человеческих чувств во всем их разнообразии, заставил сострадать «гонимым» и «несчастным». По сути Капнист уловил все то новаторство Озерова, которое было принято восторженными и благодарными зрителями: способность показать «изгибы человеческой души», «страстей движенья», искусные переходы «от гнева к жалости», стремление приблизить героя античной трагедии к миру обыкновенных людей: Благодарю тебя, чувствительный певец! В душе твоей сыскав волшебный ключ сердец И жалость возбудя к чете, гонимой роком, Ты дал почувствовать отрадным слез потоком, Который из очей всех зрителей извлек, Что к сердцу близок нам несчастный человек.1 Подчеркивая, сколь труден был путь Озерова ко «храму Мельпомены», В.В. Капнист верит, что молодого драматурга ждет заслуженная слава: Теки ж, любимец муз! Во храме Мельпомены, К которому взошел по скользкой ты горе, Неувядаемый, рукой ее сплетенный, Лавровый ждет тебя венок на алтаре.2 Но, очевидно, зная сложный, мнительный характер Озерова, Капнист, напутствуя друга, призывает его быть стойким ко всякого рода недоброжелательным высказываниям «зоилов злоязычных». Теки, и презри яд зоилов злоязычных, В опасном поприще ты бег свой простирай, Внемли плесканью рук и ввек не забывай, Что зависть – спутница одних даров отличных, Что ярким озарен сиянием предмет Уродливу на дол и мрачну тень кладет!1 1 2 Капнист В.В. Стихи В.В. Капниста к автору «Эдипа» // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. С. 432. Там же. 126 Скорее всего, на момент написания стихотворения эти «зоилы» представляли собой не конкретные личности, а некую персонификацию зла. Это был собирательных образ тех, кто причинял Озерову страдания своими критическими отзывами в его адрес. В дальнейшем это образное выражение Капниста будет использовано в литературной борьбе за драматургическое наследие Озерова. Озеров не мог не откликнуться на поэтическую «поддержку» своего близкого друга. В 1805 году он пишет «Благодарность автора «Эдипа» В.В. Капнисту за присланные стихи», в которых подчеркивает преданность дружбе: Но в присланных стихах я узнаю тот дух, С которым некогда в унылых звуках лиры Пред алтарем простым, печальный, верный друг, Ты призывал с небес тень нежныя Плениры. ...................................... Очаровательна чувствительности сила! И счастлив я стократ, что возбудить возмог Твою чувствительность, пиит, приятный, нежный!2 М.А. Гордин обратил внимание, что в этом благодарственном стихотворении «Озеров вспоминает другое, написанное Капнистом за десять лет до того, – «На смерть Плениры», то есть на смерть первой жены Державина, Катерины Яковлевны… <…> А затем Озеров прямо кивает в сторону эпиграммиста, говоря, что останется бессмертен в стихах Капниста, если не достигнет бессмертия, следуя за слепым Эдипом».3 Теперь, хотя б Эдип за скорбной слепотой Не мог меня вести к бессмертью в путь надежный, Стихов твоих согласьем, красотой, Стихов, перу Капнистову приличных, К бессмертью я дойду, в досаду злоязычных.4 Подобная ассоциация, на взгляд ученого, не случайна: «…Озерову недаром пришел на память давний державинский кружок, где он впервые встретил- 1 Там же. Озеров В.А. Благодарность автора «Эдипа» В.В. Капнисту за присланные стихи // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. С. 407 – 408. 3 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 122. 4 Озеров В.А. Благодарность автора «Эдипа» В.В. Капнисту за присланные стихи. С. 408. 2 127 ся с Капнистом и поэтическим символом которого была добрая Пленира. Каким-то образом «отравленная стрела» была связана для Озерова с разочарованием в державинской дружбе. Видимо, Озеров знал или предполагал, что эпиграмма была сочинена самим Державиным, либо пущена с его одобрения». 1 Основания для такого предположения у драматурга имелись, так как после его блистательного успеха он фактически потерял дружбу своего обожаемого кумира. В этой связи необходимо остановиться на истории взаимоотношений Державина и Озерова, которая явилась своего рода продолжением в создании «озеровского мифа». 3.2. «Кленовый венок» Г.Р. Державина как неприятие литературной позиции В.А. Озерова Известно, что Озеров был вхож в дом Г.Р. Державина еще со времен своей службы в Корпусе. Вероятно, познакомил его с маститым поэтом А.Н. Оленин, который в одном из писем Державину высказывает лестное мнение об Озерове и замечает, что последний «искренно почитает Ваши сочинения».2 По свидетельству С.Н. Глинки, уже в 1794 году он передавал через Озерова свои стихи Державину и через него же получал ответы с оценкой поэта. Предположительно, что вначале Державин относился к Озерову покровительственно, как и ко всем начинающим молодым дарованиям, «почитающим» его творчество и смотрящим на него с благоговейным восхищением. И.Н. Медведева замечает, что «Державин любил окружать себя молодыми поклонниками, похваливая и поощряя, не без добродушного лукавства, и не совсем выдающиеся сочинения». 3 Это державинское «лукавство» подтверждают и воспоминания С.П. Жихарева, где он рассказывает о своих попытках сочинять трагедии. 12 октября 1806 года Жихарев делает запись: «Мерзляков обещался просмотреть моего “Артабана”. – “Но зачем принялся ты за трагедию? – сказал он 1 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 123. Там же. С. 84. И.Н. Медведева считает, что Озеров был введен в дом Державина Д.Н. Блудовым. 3 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 24. 2 128 мне. – Разве не нашел занятия более по твоим силам? Озеров всех вас свел с ума”. Я откровенно признался ему, что сочиняю “Артабана” в том только намерении, чтоб проложить себе дорогу в общество петербургских литераторов, зная сам, что трагедия моя не будет иметь никаких сценических достоинств…»1 27 октября Жихарев продолжает: «Я кончил моего “Артабана” и показывал его Мерзлякову. “Галиматья, любезный! – сказал он мне без церемоний. – Да нужды нет: читай его петербургским словесникам сам, да погромче, оглуши их – и дело с концом. Есть славные стихи, только не у места».2 Оценка же Державина была иной. 5 декабря Жихарев записывает: «Был у Державина – и до сих пор не могу прийти в себя от сердечного восхищения. С именем Державина соединено было все в моем понятии, все, что составляет достоинство человека: вера в бога, честь, правда, любовь к ближнему, преданность к государю и отечеству, высокий талант и труд бескорыстный... <…> Он стал расспрашивать меня, где я учился, чем занимался, какое наше состояние и проч., <…> “Да что ж вы стоите? садитесь”. Я взял стул и подсел к нему. “Ну а что это у вас за книга?” Я отвечал, что это трагедия моего сочинения “Артабан”, которую я желал бы посвятить ему, если только она того стоит. “Вот как! так вы пишете стихи – хорошо! Прочитайте-ка что-нибудь”. Я развернул моего “Артабана” и прочитал ему сцену из 3-го действия… <…> Державин слушал очень внимательно, и когда я перестал читать, он, ласково и с улыбкою посмотрев на меня, сказал: “Прекрасно. Оставьте, пожалуйста, трагедию вашу у меня: я с удовольствием ее прочитаю и скажу вам свое мнение”. Я был в восторге…»3 7 декабря Жихарев опять был у Державина: «К Гавриилу Романовичу приехал я, по назначению, в 3 часа. <…> – “Читал я, братец, твою трагедию и, признаюсь, оторваться от нее не мог: ну, право, прекрасно! Да откуда у тебя талант такой? Все так громко, высоко; стихи такие плавные и звучные, какие редко встречал я даже у Шихматова”. Я остолбенел: мне пришло на мысль, что он 1 Жихарев С.П. Записки современника. Т. 2. С. 18. Там же. С. 25. 3 Там же. С. 43, 45. 2 129 вздумал морочить меня. Однако ж, думаю: нет, из-за чего бы ему, Державину, говорить мне комплименты, если б в самом деле в трагедии моей не было никаких достоинств?»1 Много позже С.П. Жихарев в «Воспоминаниях старого театрала» признается, что его трагедия «Артабан» «была, по отзыву князя Шаховского и по собственному моему впоследствии сознанию, смесью чуши с галиматьею, помноженных на ахинею. Чего не было в ней – прости господи! измены и предательства, убийства и кровосмешения, темницы и цепи, бури и наводнения – было все, кроме здравого смысла».2 А «великий Державин, при всей своей гениальности, был плохой судья в литературе драматической…»3 Можно предположить, что и первые литературные опыты молодого Озерова, несмотря на явно подражательный характер, также вызвали весьма лестные оценки знаменитого поэта, тем более, что одна из первых од была посвящена ему. Исследовательница предполагает, что Державин одобрил и первую трагедию Озерова «Ярополк и Олег», поскольку тогда находился в опале и все «применения» Озерова в отношении политики Павла I и его «вельмож» Кутайсова и Аракчеева не могли не прийтись ему по вкусу. 4 Дружбу Державина и Озерова можно было объяснить и тем обстоятельством, что в 90-х годах XVIII века литературная среда еще была «однородной» в плане литературных тенденций и направлений, в доме Державина бывали И.И. Дмитриев и Н.М. Карамзин, а сам поэт часто публиковался в карамзинском «Московском журнале». Поэтому, считает И.Н. Медведева, Озеров и другие молодые поэты «не могли в ту пору видеть различия в литературных направлениях Карамзина и Державина, считали их в полной мере единомышленниками», 5 более того «Озеров в своем раннем творчестве объединял направления этих антиподов поэтического слова. Он пишет оды в стиле Державина, но по вúдению мира и по литературным вкусам явно двигается в русле Карамзина».6 Этим объясняется и тот факт, 1 Там же. С. 46 – 47. Жихарев С.П. Воспоминания старого театрала. С. 332. 3 Там же. 4 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 24. 5 Там же. 6 Там же. 2 130 что свою трагедию «Эдип в Афинах» Озеров посвятил Державину. В этом связи необходимо более подробно остановиться на причинах неожиданной для Озерова откровенной вражды Державина по отношению к нему. В первую очередь напрашивается объяснение чисто литературного плана: классицисту Державину было глубоко чуждо сентименталистское, «элегическое» направление Озерова, которое разрушало сами каноны жанра трагедии, искажало идейную ее суть, превращало чуть ли не в «слезную драму».1 Поэт не принял новаторство Озерова и в сценической области: «ибо с сумароковских времен сутью всякого серьезного спектакля, представляемого на императорской сцене, было общее стремление автора и актеров завоевать зрителя, поразить его воображение, удивить и озадачить, тем самым заставить сосредоточиться на поучительных происшествиях пьесы».2 «Театр Озерова» был иным: он «взывал не столько к разуму и совести, сколько к сердечным воспоминаниям».3 Но возможно и другое объяснение, которое кроется не только в неприятии литературной и сценической концепции Озерова, а в самом отношении маститого поэта к неожиданному и ошеломляющему успеху молодого драматурга, творческие «опыты» которого, вероятно, тоже воспринимались Державиным не без «лукавства», а потому в его глазах не могли претендовать на скольконибудь значительный успех. Несмотря на то, что 23 ноября 1804 года Державин присутствовал на премьере «Эдипа», а на следующий день «ответствовал» государю императору, что «трагедия очень хороша», он так и не поздравил своего бывшего ученика и друга. Разговор с государем был изложен Державиным в записке к Оленину: «Я рад, сказал, я люблю автора и желаю ему успехов. Чистосердечно хотел бы ему самые маленькие вещи заметить, но как я сделался очень болен и лежу теперь в постеле, то вы мне сделаете удовольствие, когда 1 См.: Кулакова Л.И. О спорных вопросах в эстетике Державина // Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века / ред.: П. Н. Берков, Г. П. Макогоненко, И. З. Серман. XVIII век. Вып. 8. Л.: Наука, 1969. С. 25 – 40. 2 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 98. 3 Там же. 131 сообщите ему сии приятные известия».1 Выбор такого опосредованного способа поздравления автора свидетельствовал о полном неприятии пьесы Озерова, о нежелании Державина встречаться с ним и тем более обсуждать пьесу. Ожесточение против Озерова можно объяснить особенностями характера знаменитого поэта: «Бешеные рукоплескания и горькие слезы зрителей «Эдипа», верно, разозлили Державина. И он решил наказать автора пьесы снисходительным, почти пренебрежительным одобрением. Он послал поздравление не Озерову, но Оленину – словно бы тот был главным виновником успеха трагедии».2 В этой связи стоит упомянуть, что в отношении своих друзей и собратьев по перу маститый поэт не всегда бывал тактичен. В качестве примера приведем выдержки П.А. Вяземского из «Старой записной книжки». Первая из них имеет отношение к другу Державина А.Н. Оленину. «Знавшим лично Оленина, – замечает Вяземский, – который был необыкновенно малого роста и сухощав, нельзя без смеха прочесть стихи Державина к нему: Нам тесен всех других покрой».3 Вторая выдержка Вяземского касается межлитературных отношений: «Лучшая эпиграмма на Хераскова отпущена Державиным без умысла в оде “Ключ”. Священный Гребеневский ключ, Певца бессмертной Россияды Поил водой ты стихотворства. Вода стихотворства, говоря о поэзии Хераскова, выражение удивительно верное и забавное!»4 Слова Вяземского обрели широкую известность в литературных кругах и действительно стали восприниматься как эпиграмма. Спустя полвека в этом же контексте вспоминает стихотворение «Ключ» и В.Г. Белинский: «Сам Держа- 1 Цит. по: Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 106. Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 107. 3 Вяземский П.А. Старая записная книжка. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929. С. 53. 4 Там же. С. 54. 2 132 вин смотрел на Хераскова с благоговением и раз, без умысла, написал на него злую эпиграмму, думая написать мадригал, в стихотворении “Ключ»…”»1 Спорным представляется, что Державину чужд был всякий умысел в отношении М.М. Хераскова. Стихотворение «Ключ» было написано в 1779 году в связи с выходом эпической поэмы Хераскова «Россияда», которая пользовалась необыкновенным успехом и за которую автор удостоился называться «русским Гомером». Не случайно В.Г. Белинский после приведенных строк из «Ключа» Державина помещает «Надпись к портрету М.М. Хераскова» И.И. Дмитриева: Пускай от зависти сердца в зоилах ноют; Хераскову они вреда не принесут: Владимир, Иоанн щитом его покроют И в храм бессмертья проведут.2 Конечно, в контексте сложившейся ситуации важнее сосредоточить внимание на литературных претензиях Державина к Озерову, но исследователями принимаются во внимание и личностные особенности поэта: «Для человека такого склада, как Державин, в трагическом театре важны и дороги были прежде всего образцы великих поступков, примеры геройских деяний, поэтическое доказательство предположения о способности человека подняться над любыми обстоятельствами и на равных тягаться с судьбой. Трагедия рока была ему не понятна и не нужна. Изображение жалкого людского бессилия перед издевкой Предопределения должно было раздражать Гаврилу Романовича…»3 Человеческий и литературный поединок между Державиным и Озеровым получил свое продолжение и в истории посвящения «Эдипа в Афинах». Пьеса Озерова была опубликована к осени 1805 года с весьма обширным посвящением «Гаврилу Романовичу Державину». Это была вторая редакция посвящения, написанная уже с учетом оскорбительного для Озерова поведения Державина в отношении его первого драматургического творения. Зная характер поэта, его 1 2 Белинский В.Г. Статьи о Пушкине. С. 112. Там же. С. 113. У Белинского неточное цитирование первой строки: «Пускай от зависти сердца зоилов ноют…» 3 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 107. 133 сильные и слабые стороны, Озеров смещает акценты в своем посвящении таким образом, чтобы теперь самому «уязвить» Державина, нанести ему ответный удар.1 Во-первых, Озеров удаляет все личные, «сентиментальные» места, связанные с прежней дружбой (например, «Вдохновенным песням вашей музы <…> я обязан живейшими наслаждениями в жизни; и, может быть, сиянию вашей славы буду обязан я спасением труда моего от мрака забвения…»). Но при этом количество комплиментарных слов увеличивается. Зная, как трепетно относился Державин к своим заслугам по службе и как дорожил ими, Озеров нарочито не хочет заострять на этом внимание: «Посвящая вам сию трагедию, не приношу моего дара тем достоинствам, по коим возведены вы были на высокие степени государственные». 2 И тут же объясняет свою позицию: «Министры и правители подлежат суждению историка, который в тишине и молчании кабинета отважною рукою срывает завесу, опущенную на происшествия, и, не утомляясь, размеряет исполинские шаги превосходных умов и успешное ползание хитрых и пронырливых». 3 Двусмысленность содержания написанного налицо: «Из этих строк Державин в лучшем случае мог вычитать сомнение относительно того, куда отнесет будущий историк его служебную деятельность – к «исполинским шагам» или к «успешному ползанию».4 Но далее звучит панегирик Державину-поэту – именно ему посвящает Озеров своего «Эдипа»: «Я приношу “Эдипа” стихотворческому гению, единственному сопернику бессмертного Ломоносова… <…> …вам, которого лавровый венец украсили музы листками, кои остались от венка Анакреона… <…> Может быть, сияние славы вашей защитит мою трагедию от мрака забвения, и для меня, конечно, и то будет служить достоинством, когда потомство скажет, что автор “Эдипа” почитал гений Державина».5 Несмотря на «восторженно-оскорбительное посвящение» (М.А. Гордин), реакция Державина заставила себя ждать. Только 26 февраля 1806 года он в по1 Два варианта посвящения приводятся в книге М.А. Гордина «Владислав Озеров». Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. С. 129. 3 Там же. 4 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 121. 5 Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. С. 129. 2 134 этическом послании «Г. Озерову на приписание Эдипа» высказал свое отношение к бывшему другу. «Лукавство» Державина проглядывало уже с первых строк стихотворения, где вперемешку с высокопарными словами воздания почестей были и «юродствования» по поводу своей собственной скромной славы «певца». Только почему-то «блестящее чело» Озерова увенчивал «венец из клена». Вития, кому Мельпомена, Надев котурнъ, дала кинжал, А север, как лавром, из клена Венцом зеленым увенчалъ Блестящее чело! ...................... Коль жалость и ужас вдыхаешь, И жжешь ты хладныя сердца; С глаз токи, с душ вздохи сзываешь, Напрасно чтишь во мне певца, Но демственникъ ты. Ты Муз алтарей тех служитель, Которых чудотворный глас – Народной толпы просветитель Скорей чрез театр, чемъ Парнасс: Ты — огнь с высоты, ....................... Иль мог коль с Пиндаром геройство, С Горацием я сладость лить: То может во гробе потомство И блеск вельмож мне уделить: Там лавр мой взрастет.1 Во многом криптографичное стихотворение тем не менее позволяет увидеть, что Державин не пропустил ни одной «колкости» Озерова: ни по поводу его служебных заслуг, которые подразумевают «успешное ползание хитрых и пронырливых», ни превознесение его творческих заслуг, которые будут увенчаны «лавровым венцом». В этом Державин солидарен с Озеровым, о чем сви- 1 Державин Г.Р. Озерову на приписание Эдипа // Державин Г.Р. Избранная проза. М.: Сов. Россия, 1984. С. 267 – 268. 135 детельствуют последние строки послания – «Там лавр мой взрастет». Но, в отличие от него самого, слава Озерова недолговечна, поэтому Державин и награждает его не лавровым венцом, как Капнист, а всего лишь кленовым: «…клен мог идти в сравнение скорее с березой, осиной, ольхой – плебеями древесного царства, – он и употреблен Державиным как жалкая домашняя замена благородных классических символов. <…> Тут был намек на доморощенность озеровских сочинений».1 М.А. Гордин предполагает, что, в стихотворении, упоминая «Север» Державин уязвил и Капниста, который в своем стихотворении «пообещал» Озерову лавровый венок.2 Комментируя отношения, сложившиеся между драматургом и поэтом, Н.Н. Булич впрямую назвал «оду Державина» «на посвящение Озерову» «плохой одой».3 Между тем в примечаниях Я. Грота к этому стихотворению поэта нет и намека на ту поэтическую дуэль, которая происходила между двумя бывшими друзьями. Он считает послание Державина еще одним дифирамбом Озерову. На это обстоятельство обратила внимание И.Н. Медведева: «В послании своем, которое представляет скорее план, чем связное стихотворение, Державин явно иронизирует над Озеровым-драматургом (непонятно, почему этот опубликованный в 1828 году отрывок был причислен к похвальным). Он смеется над возможностью соединить «Софокла с Оссианом» вдруг (т. е. вместе), так же насмешливо звучит объединение свойств Озерова, присвоившего себе и «дев слез ремесло» и витийство «народной толпы просветителя».4 В интерпретации Я. Грота в размолвке Державина и Озерова виноват Шишков: «Стихи Державина служат отголоском общего мнения. Были однако ж люди, косо смотревшие на возникавшую славу молодого трагика; впереди их стоял Шишков, встречавший недоброжелательно всякое новое дарование. Под его влиянием скоро расстроились добрые отношения обоих поэтов. Державин отзывался не совсем благоприятно о произведениях Озерова; раздражительный Озеров 1 Гордин М.А. Владислав Озеров. С. 124. Там же. С. 124-125. 3 Булич Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. Т. 1. С. 247. 4 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 57. 2 136 приписывал это зависти от бессилия написать что-либо подобное. Державин, желая доказать противное, стал сочинять трагедии. Так сам он в своих Объяснениях откровенно сознает первоначальную причину, побудившую его вступить на поприще драматической поэзии».1 О роли Шишкова, действительно не любившего Озерова и присоединившего свой голос к голосам его «гонителям», речь пойдет дальше. В своих комментариях Я. Грот помещает и письмо Державина к Озерову, которое было написано на черновом варианте стихов, но не отправлено (оно сохранилось в державинском архиве): «Извиняюсь, что умедлил я благодарить вас за приписание мне вашего Эдипа; причиною тому, что некоторое общество приятелей, предприяв рассмотреть сие творение, думало приметить несравненныя все красоты его и некоторыя погрешности: то и хотел оное сообщить вам при сих моих стихах, как знак истинного моего доброжелательства и признания изящного таланта вашего. Но поелику труд тот замешкался и не знаю, скоро ли кончится, то, предоставляя себе впредь послать к вам оный, предпровождаю теперь изображение чувств моих». 2 Я. Грот не видит ничего обидного ни в «приписании» Озерова, ни в ответе ему Державина. Смущает только то обстоятельство, что сам ответ «затянулся», что и послужило причиной «охлаждения»: «Сравнить эти строки с глубоко-почтительным письмом Озерова, мы легко поймем, что он, прождав долго ответа, не мог быть доволен ими и что они положили начало охлаждению между ним и Державиным».3 В 1810 году в преддверии душевной болезни сокрушенный жизнью Озеров напишет свое последнее стихотворение «Отрывок из моего письма к В.В. Капнисту 1810 года», в котором опять вспомнит о жестоко обидевшем его Державине, когда-то короновавшим его кленовым венцом: Не может там блистать во славе Мельпомена, Где вместо лавров ей венцы растут из клена, 1 Державин Г.Р. Г. Озерову на приписание Эдипа // Сочинения Державина: в 9 т. / с объясн. примеч. и предисл. Я. Грота. СПб.: изд. Имп. Акад. Наук, 1864-1883. Т. 2: Стихотворения, ч. 2. С. 582. URL: http://philolog.petrsu.ru/derzhavin/arts/vol2/ozerovu1806.htm 2 Там же. 3 Там же. 137 Где зритель вне себя от каждой новизны, Ползет ли дар или летит на крутизны… .................................... Из клена знобкого и мой венок погиб, Под ним померк Фингал, Димитрий и Эдип. И рок, чтоб доказать мне счастья измену, С театра повелел изгнать и Поликсену.1 Литературный и человеческий поединок Державина с Озеровым продлится дальше и достигнет своего апогея, когда будет поставлена трагедия «Димитрий Донской». Именно после нее Державин начнет пробовать свои силы в драматургии. Примечательно, что он счел необходимым объяснять возникшее у него желание писать трагедии, причем делал это неоднократно. Так, например, в письме к И.И. Дмитриеву от 15 февраля 1809 г. он сообщает о написанных им трагедиях «Евпраксия» и «Ирод и Мариамна» и тут же добавляет: «Вы удивитесь и, верно, скажете про себя, что я под старость ряхнулся с ума, пустившись по неизвестной мне доныне дороге в храм Мельпомены; но что делать от безделья? Оды уже наскучили; итак, я хотел испытать русскую пословицу: смелым бог владеет! Пусть господа ваши критики ценят, как хотят, но дело уже сделано».2 Но «господа критики» не спешили с постановкой державинских трагедий. По воспоминаниям С.П. Жихарева, «Державину очень хотелось видеть на сцене трагедию свою “Евпраксия”; но князь Шаховской не любил подобных произведений, кому бы они ни принадлежали, и потому не принимал ее, под предлогом недостатка денег в кассе на обстановку пьесы, требовавшей великолепного спектакля. Державин, потеряв терпение, решился, наконец, отнять всякий предлог к отказу и поставить пьесу на свой счет, о чем и поручил мне объявить Шаховскому… <…> При этом объявлении Шаховской вспыхнул, как бурак, и комически разразился на меня всеми швермерами своего гнева».3 Из этого следу- 1 Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. С. 411. Державин Г.Р. Письма // Державин Г.Р. Сочинения. Л.: Худож. лит., 1987. С. 438. 3 Жихарев С.П. Воспоминания старого театрала. С. 344 – 345. 2 138 ет, что трагедии Державина были далеко не совершенны в художественном отношении и, возможно, непригодны для постановки на сцене. Имеет смысл остановиться еще на одном объяснении Державина своей тяги к сочинению трагедий. Для этого обратимся к автокомментариям поэта, сделанным к своей биографии, названной «Записками». Возможно, Державин чувствовал свою резкость по отношению к Озерову, возможно, опасался, что потомки неверное истолкуют их «поединок», поэтому в свои «Объяснения на сочинения Державина относительно темных мест, в них находящихся…» 1 включил и комментарий, касающийся истории стихотворения «Озерову на приписание Эдипа». Любопытно, что сам Державин в письме к А.Ф. Мерзлякову от 26 августа 1815 года излагает цель своих «Объяснений» следующим образом: «…все примечатели и разбиратели моей поэзии, без особых замечаниев, оставленных мною на случай смерти моей, будут судить невпопад».2 В части II «Объяснений» под цифрой LXI помещено название стихотворения «Озерову на приписание Эдипа», содержащее следующий комментарий Державина: «Автор по то время, как сию оду написал (Державин говорил о себе в третьем лице – В. А.), сочинял только оды анакреонтическия, горацианския и иногда пиндарическия; он не испытывал сил своих в трагедиях; то и приписывал сие искусство г. Озерову, который тогда из русских писателей в оных один только упражнялся. Но следующее происшествие было причиною, что автор захотел испытать силы свои в сем роде поэзии. Когда г. Озеров сделал честь ему приписанием Эдипа, а он ему ответствовал сей похвальною одою, но как многие знатоки находили в сей трагедии слабости, а потому автор, послав сию оду при письме г. Озерову, сказал ему по-дружески, что он, разсмотрев хорошенько сию трагедию с приятелями, предоставляет себе право прислать ему на оную примечание. Сего было довольно Озерову к неудовольствию: с сего вре1 Полное название: «Объяснения на сочинения Державина относительно темных мест, в них находящихся, собственных имен, иносказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору токмо известна; также изъяснение картин, при них находящихся, и анекдоты, во время их сотворения случившиеся». Является важным дополнением к биографии Г.Р. Державина, изложенной им самим: «Записки из известных всем происшествиев и подлинных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина». 2 Державин Г.Р. Приложение к оде «На взятие Варшавы». Из письма Державина к Мерзлякову. URL: http://philolog.petrsu.ru/derzhavin/arts/pvzjat1794/pvzjat1794.htm 139 мени он перестал быть автору знаком, а когда выдал он трагедию Димитрия, которая двором была хорошо принята, но как находились в ней великия погрешности, то в бытность автора при дворе спросили автора, как он ее находит. Поелику она не имела порядочнаго плана и характеры великих князей весьма были подлы, то хотя автор и отговаривался сказать свое мнение, но наконец принужден нашелся сказать правду. Это тотчас дошло до Озерова: он разгласил в публике и даже довел до Императрицы, что автор из зависти не одобряет его трагедий, которых сам не умеет написать. Г. Шишков написал полное примечание на трагедию Димитрия; автор думал, что критика легка, а искусство трудно; то и решился испытать сил своих в разсуждении трагедии, и первую написал Ирода и Мариампу. Вот истинная причина, от которой автор начал в трагедиях упражняться».1 Объяснение довольно длинное и затрагивает один из самых важных этапов в жизни Озерова: от «Эдипа» до «Димитрия Донского». Но если следовать рассуждениям Державина и принимать на веру все изложенное им, то окажется, что во всем виноват сам Озеров, который не приемлет никакой критики в свой адрес и только поэтому обвиняет заслуженного поэта в зависти. Для объективности картины необходимо обратиться к разбору А. Г. Шишковым трагедии Озерова «Димитрий Донской». Прежде всего надо отметить, что к 1807 году расстановка литературных сил была уже иной, чем в конце XVIII века: произошло четкое размежевание сторонников и противников Карамзина, сформировался державинский кружок, объединивший противников антикарамзинского направления. Именно в кружке Державина начались «прения» по поводу историзма трагедии «Димитрий Донской». Отношение поэта к трагедии Озерова было резко высказано 18 января 1807 года. Больше всего его возмутило отсутствие исторического правдоподобия, достоверности исторических деталей. Именно это он пытался декларировать в своей пьесе «Пожарский, или Освобождение Москвы». Но в этом отно1 Объяснения на сочинения Державина… // Державин Г.Р. Избранная проза. М.: Сов. Россия, 1984. С. 267 – 268. 140 шении Озеров следовал традициям классицистической трагедии, где правдоподобие не требовалось. «Озеров не стремился к правдоподобию, – утверждает И.Н. Медведева. – Не только потому ему безразличны были подробности жизни Димитрия и других персонажей, что за ними стояли другие лица и другое время, но и по самому принципу трагедии, в этом смысле традиционному. Было ли историческое правдоподобие даже в таком произведении Княжнина, как «Вадим Новгородский»…?»1 Помимо этого, Державин считал недопустимым превращать трагедию в мелодраму, а, следовательно, все сентиментальные «новшества» с элегическими стихами, привнесенные Озеровым в «высокий жанр, им безоговорочно отвергались. Державин считал, что главное в пьесе – это занимательность действия, которая как раз и отсутствовала в трагедиях Озерова. Все эти «несогласия» отразились в «Замечаниях» к первому изданию трагедии Озерова «Димитрий Донской», как установлено исследователями, сделанных А.С. Шишковым. По мнению Л.П. Сидоровой, «замечания сделаны с глубоким пониманием дела, с большой искренностью и даже горячностью в высказываниях»,2 причем «горячность тона», в некоторых местах сбивающаяся на откровенную грубость, преобладает. Это вызвано не только неприязненным отношением к творчеству автора, но и, возможно, тем обстоятельством, что по причинам политическим трагедию не осмеливались критиковать печатно, как другие пьесы Озерова, поскольку она получила «высочайшее одобрение» самого Александра I, была проникнута патриотическим пафосом и как нельзя лучше соответствовала общественным настроениям русского общества. При всем при этом «недостатки» трагедии просматривались заядлыми театралами уже при ее представлении. Сошлемся на рассказ С.П. Жихарева: «Оттого ли, что стихи в трагедии мастерски приноровлены к настоящим политическим обстоятельствам или мы все вообще теперь еще глубже проникнуты чувством любви к государю и отечеству, 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 58. Сидорова Л.П. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В.А. Озерова «Димитрий Донской» // Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. Ленина. Вып. 18. М., 1956. С. 142. 2 141 только действии, производимое трагедией на душу, невообразимо».1 Но в печатных изданиях не появилось ни одного отзыва на трагедию «Димитрий Донской». Поэтому «Заметки» Шишкова так и остались в рукописном виде, вклеенные между страницами первого издания трагедии. Л.П. Сидорова приводит свидетельство С.Т. Аксакова о том, что Шишков «превозносил преувеличенными похвалами “Эдипа в Афинах” и даже “Фингала”, но ожесточенно нападал на “Димитрия Донского”. Шишков принимал за личную обиду искажение характера славного героя Куликовской битвы, искажение старинных нравов русской истории и высокого слога».2 Вместе с тем субъективная критика Шишкова отражала объективную ситуацию, сложившуюся в русской литературе в начале XIX века, с ее ожесточенной полемикой между сторонниками Карамзина и Шишкова о дальнейших путях развития русской литературы и реформе языка. «Перед драматургами встал вопрос о необходимости создания русского репертуара со всем разнообразием жанров, в том числе и русской исторической трагедии. Надо было отразить в литературе русский национальный характер и дух российской древности».3 То, что Озеров обратился к легендарным событиям русской истории, оценивалось Шишковым положительно, но он резко выступает против несоблюдения принципа исторической правды и перечисляет в своем разборе ряд несообразностей, как то: любовная интрига, вымышленный образ княжны Ксении, ее «нелепый» приезд в стан русских войск по велению отца: «Да какая же причина послать ее в стан венчаться накануне сражения? Что его так приспичило? Разве нельзя ему было подождать решения битвы? Поступок Ксенина отца сумасбродный».4 Помимо «нескладной завязки», критик протестует против «снижения» образов князей, которые затеяли «постыдную ссору», замечает в них отсутствие 1 Жихарев С.П. Записки современника. М.-Л., 1955. С. 320. Сидорова Л.П. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В.А. Озерова «Димитрий Донской». С. 149. 3 Там же. С. 151. 4 Там же. 2 142 патриотизма и даже трусость. Доминирование любовной линии над героической привело к тому, что героизм Димитрия, его стремление к победе (что уже отмечалось выше в анализе трагедии) оказались зависимы от его любви к Ксении. Причем, Шишков считает, что Озеров не только «исказил исторический облик Дмитрия Донского, но и снизил его, наделив его мыслями и чувствами простых людей»,1 что было недопустимо в поэтике классицизма. Критик не жалеет резких слов в адрес русских князей, представленных в трагедии Озерова. Так, поступки и монологи Тверского дают основание сказать, что он действует «не как князь, но как разбойник», подчеркивается «пустота» его слов, «худые мысли». А по поводу отношения Тверского к Димитрию Шишков восклицает: «Ах ты, князишка! Да как ты смеешь московскому князю, герою, победителю, спасителю отечества, сказать: Ободрись, Димитрий! Я с тобою говорю! Да кабы я был на месте Димитрия, так бы я тебя за это в рожу треснул».2 Следует отметить, что, упрекая Озерова в отсутствии историзма, сам критик понимает эту категорию только в пределах поэтики классицизма, где героям недопустимо проявлять сомнения и колебания, где они должны безукоризненно выполнять свой долг. О том, чтобы допустить какую-либо «чувствительность», «слабость», не могло быть и речи, поскольку тогда это были бы не герои трагедии, а обыкновенные люди. Иными словами, все то, что впоследствии современные исследователи расценили как заслугу Озерова в области драматургии (приоритет чувства и его моральная ценность, передача различных оттенков чувств, элегическая составляющая) Шишковым отвергалось.3 Но в своих «Замечаниях» он выступает не только против сентименталистских, но и против романтических тенденций, также присутствующих в «Димитрии Донском». Это касается интереса романтиков к национальному 1 Там же. С. 156. Там же. С. 159. 3 Cм.: Кокшенева К.А. Эволюция жанра трагедии в русской драматургии XVIII века и проблема историзма: дис. … доктора филолог. наук. М., 2002. Автор рассматривает категорию историзма как особый тип исторического сознания. О проблеме сохранения верности характера литературного источника см.: Моисеева Г.Н. Национально-историческая тема в эпической поэме XVIII века // Русская литература. 1974. № 4. С. 35 – 53. 2 143 прошлому, к фольклору. Л.П. Сидорова замечает, что Шишков критикует все те места, где заметны элементы устного народного творчества. «Язык любви», по мнению, критика, не соответствует жанру трагедии. Для него «совершенным мастером в раскрытии любовных переживаний» является Сумароков, а у Озерова все это – «холодная выдумка». Его Ксения тоскует как «песенку поет», поединок представлен, как будто сказку рассказывают («жил был царь…»), что совершенно недопустимо в трагедиях. «Это рассуждение особенно интересно тем, что оно явно направлено против народной поэзии, против былин и сказок, – замечает Л.П. Сидорова, – считавшихся у ревнителей классицизма недостойными того, чтобы пользоваться их образами в произведениях высоких жанров. Автор явно намекает на произведения молодых писателей и самого Карамзина, привлекавших материал народной поэзии в свои поэтические произведения. Вспомним “Илью Муромца” Карамзина, “Бову” Радищева, “Светлану и Мстислава” Востокова и ряд других произведений. Это место рукописи отражает полемику о роли народной поэзии и возможностях ее использования». 1 Приверженность поэтике классицизма не позволяла Шишкову принять все те новшества, которые вторгались в литературную жизнь и открывали новые пути эстетического освоения действительности. «Нападки» на «карамзинистов» неоднократно встречаются в рукописи. В основном это связано с языком и стилем трагедии. Отстаивая незыблемость теории трех стилей, Шишков боролся за «чистоту» языка классицистической трагедии. В этом отношении Озеров, в трагедии которого, несмотря на внушительное количество церковнославянизмов, все-таки преобладал живой разговорный язык, был удобным объектом для критики. Прежде всего Шишков выделял все те слова и выражения, которые были характерны для поэтики сентиментализма: «Мила Ксения», «мой друг», «срок жизни», а сугубо фольклорное словосочетание «гибель приходит» (сравним: «смерть приходит») он считает вообще просторечьем. Очень часто встречаются в его пометах такие выраже1 Сидорова Л.П. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В.А. Озерова «Димитрий Донской». С. 164. 144 ния: «Худые стихи», «нехорошие стихи», «еще хуже», «какой шершавый стих», или целое замечание: «Сие шароховатое полустишие трудно произнесть». 1 Своими замечания он адресует не одному только автору трагедии, но и его друзьям-карамзинистам, также не понимающим «красот церковнославянизмов»: «Нынешние писатели, господа-карамзинисты, этого не понимают и только кричат: неужли нам говорить по-славенски? – Мы хотим писать, как говорим в беседах! Друзья мои, вы не знаете языка и для того никогда хорошо писать не будете».2 «Приговор» Озерову и в его лице всем молодым писателям отражал позицию защитников классицизма, которые не хотели подчиняться новым веяниям эпохи. Насколько напряженной и непримиримой была литературная борьба между «карамзинистами» и «шишковистами» в начале XIX века, можно судить по рассказу С.Т. Аксакова о реакции Шишкова на трагедию Озерова: «Шишков не удовольствовался словесною критикой, он велел переплесть трагедию с белыми листами и все исписал их собственною рукою самым мелким почерком, каким только мог писать. Он читал один раз при мне свои замечания Мордвинову, А.С. Хвостову, Кикину и другим. Все слушатели очень смеялись. В самом деле, многие полемические выходки дяди, даже не совсем приличные, были очень забавны».3 Помимо этого, Аксаков рассказывает, что «сделал себе точно такую же книжку с белыми листами и, с позволения Александра Семеновича, списал все его заметки. К сожалению, уезжая из Петербурга, я оставил эту книжку у Шушерина, который желал списать ее для себя…»4 В этой связи представляет интерес и другой эпизод из воспоминаний С.Т. Аксакова. В 1815 году он описывает свои впечатления от лекции А.Ф. Мерзлякова, которую тот посвятил разбору трагедии В.А. Озерова «Димитрий Донской». По мнению Аксакова, Мерзляков «разбирал очень строго и справедливо». Но, «несмотря на убедительные и ясные доказательства профессора, почти 1 Там же. С. 169. Там же. С. 171. 3 Цит. по: Сидорова Л.П. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В.А. Озерова «Димитрий Донской». С. 174 4 Там же. 2 145 все слушатели нашли такой разбор любимой трагедии пристрастным и недоброжелательным, даже осердились на него».1 Автор воспоминаний находит объяснение этому: «Стихи Озерова, после Сумарокова и Княжнина, так обрадовали публику, что она, восхитившись сначала, продолжала семь лет безотчетно ими восхищаться, с благодарностью вспоминая первое впечатление, – вдруг, публично, с кафедры ученый педант <…> смеет называть стихи по большей частью дрянными, а всю трагедию – нелепостью… Волнение было сильное». 2 Сам С.Т. Аксаков остался доволен лекцией и не в последнюю очередь потому, что она совпадала с «жестким разбором» «Димитрия Донского», сделанного А.С. Шишковым. Возвращаясь к разговору о взаимоотношениях Державина и Озерова и подводя итог сказанному, отметим, что «Замечания» Шишкова написаны под явным влиянием Державина, в частности, на основе его высказываний о впечатлениях от просмотра трагедии «Димитрий Донской», которые зафиксированы в дневнике С.П. Жихарева. Разумеется, в «Замечаниях» Шишкова в отношении трагедии Озерова было много справедливых претензий, но в целом они являли собой убедительную иллюстрацию той ожесточенной полемики, которая разгорелась между «карамзинистами» и «шишковистами» в начале XIX века. 3.3. «Арзамасцы» и «беседчики» в литературной борьбе за наследие В.А. Озерова Непримиримые враги и идейные противники Г.Р. Державин и В.А. Озеров ушли из жизни почти одновременно. Озеров пережил Державина всего лишь на полтора месяца. Но до этого он, потеряв рассудок, почти семь лет прожил «в состоянии самом жалком». Его смерть всколыхнула русское общество, еще больше обострив общественно-литературную борьбу между противниками противоположных эстетических направлений. Вспомнились старые 1 Аксаков С.Т. Литературные и театральные воспоминания // Аксаков С.Т. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Изд-во «Правда», 1966. С. 25. 2 Там же. С. 25 – 26. 146 обиды, нанесенные Озерову еще в бытность его славы противниками художественного метода драматурга. «Статьи, заметки, стихи, ему посвященные, имели характер боевого клича всех, кто находился под знаменами карамзинского направления. Застрельщиком был передовой отряд этого направления, общество «Арзамас», созданное в 1815 году», 1 в которое входили поклонники и ближайшие друзья Озерова: Блудов, Вяземский, Жуковский, Батюшков. Именно тогда, в пылу литературной полемики начинают звучать имена «обидчиков», актуализируется и набирает силу ранее сформировавшийся миф о «певце», загубленном завистниками и недругами. Первым был назван А.А. Шаховской, поскольку еще до смерти драматурга он был обвинен в гонениях на Озерова. Обострение литературной полемики началось после образования «Беседы любителей русского слова» в 1811 году. По мнению Д. Иванова, «Сближение Шаховского с известными критиками Озерова – Шишковым и Державиным – позволило их противникам объявить всех троих “завистниками трагика”. Так, после насмешек Шаховского в “Расхищенных шубах” над В.Л. Пушкиным, Карамзиным, Блудовым и другими <…> карамзинисты сразу вспомнили об Озерове – жертве “завистников”. Однако прямых обвинений в адрес Шаховского, тем не менее, не появилось. Вина в преследовании “талантов” и лично трагика возлагалась будущими “арзамасцами” на всех “беседчиков”».2 «Литературная война» между «карамзинистами» и «беседчиками» приняла новый оборот летом 1814 года.3 Тогда же появилось послание В.Л. Пушкина « К князю П.А. Вяземскому с многозначительным эпиграфом из А.-Р. Лесажа: «Когда я думаю о тех оскорблениях, которые приходится сносить поэтам, я удивляюсь тому, что среди них находятся отважные настолько, чтобы презирать невежественность толпы и опасную цензуру полуученых, которые иногда 1 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 51. Иванов Д. В.А. Озеров и А.А. Шаховской: история взаимоотношений. С. 49. 3 См. об этом подробную статью Д. Иванова В.А. Озеров и А.А. Шаховской: история взаимоотноше2 ний. 147 искажают суждения публики». 1 Послание содержало множественные выпады против «беседчиков», а также аллюзивные портреты противников, которые «не престают злословить дарованья, / Печатать вздорные свои иносказанья / И в публике читать, наперекор уму, / Похвальных кучу од, не годных ни к чему!» В стихотворении были и строки о трагической судьбе Озерова, павшего жертвой «зависти»: Давно ли шествуя Корнелию вослед, Поэт чувствительный, питомец Мельпомены, Творец Димитрия, Фингала, Поликсены, На Севере блистал?.. И Озерова нет! Завистников невежд он учинился жертвой; В уединении, стенящий, полумертвой, Успехи он свои и лиру позабыл! О зависть лютая, дщерь ада, крокодил, Ты в исступлении достоинства караешь, Слезами, горестью питаешься других, В безумцах видишь ты прислужников своих И, просвещенья враг, таланты унижаешь!2 Ореолом мученика наделяет Озерова и Жуковский: «Увы! “Димитрия” творец / Не отличил простых сердец / От хитрых, полных вероломства. /Зачем он свой сплетать венец / Давал завистникам с друзьями? <…> Простым сердцам смертельно зло: / Певец угаснул от печали».3 О зависти, губящей «таланты», пишет в своем «Послании к А.Ф. Мерзлякову» и Ф.Ф. Иванов, и показательно, что в этой связи он обращается к судьбе Озерова, так как, по верному наблюдению Д. Иванова, автор послания «к трагедиям драматурга относился достаточно критически» и «считал “Димитрия” “нелепостью”».4 Тем не менее в стихотворении Ф.Ф. Иванова есть такие строки: Напрасны дерзких покушенья Певца Донского нам на сцене заменить!5 1 Пушкин В.Л. К князю П.А. Вяземскому // Поэты 1790-1810-х годов. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 678. Там же. С. 679. 3 См.: Иванов Д. В.А. Озеров и А.А. Шаховской: история взаимоотношений. 4 Там же. С. 52. 5 Там же. 2 148 Тема «зависти» в отношении В.А. Озерова стала общим местом в общественно-литературной полемике первых десятилетий XIX века. Так, например, в комментариях к собранию сочинений К.Н. Батюшкова Л.Н. Майков и В.И. Саитов, подчеркивают, что литературные успехи Озерова «были так необыкновенны, что породили зависть к нему». 1 Приведем свидетельства К.Н. Батюшкова, содержащиеся в его письме к Н.И. Гнедичу от 3-го мая 1810 года, в котором поэт «утешает» своего друга по поводу «непринятия» и критики его пьесы «Танкред»: «Я получил письмо твое три дни тому назад и ужаснулся, его читая. Ты дурачишься, принимая на сердце людские глупости. Стоит ли это? <…> Если б я говорил с цеховым поэтом, то сказал бы в утешение, что несчастие и неудовольствие есть плод дарования и успехов. Расин после Британика был освистан, Вольтер — после Альзиры. Леар твой всем нравился, ибо посредственность не убивает сердца зависти, но Танкред должен был быть для нее пятном. Зачем искать дальнего примера. Посмотри на Озерова. Ты скажешь, что это не утешно; но я тебе скажу, что так быть должно. Ищи утешения в себе, молись и надейся на Бога; я испытал, что он поднимает слабого».2 Современники утверждали, что даже Державин «подчинился» чувству зависти «и вступил в состязание с Озеровым на поприще драматургии».3 «На завистников таланта Озерова есть немало указаний в литературе того времени», – отмечают Л.Н. Майков и В.И. Саитов.4 Они вспоминают «Стихи В.В. Капниста к автору “Эдипа”», в которых он говорил о «зоилах злоязычных», басню К.Н. Батюшкова «Пастух и Соловей» с посвящением «Владиславу Александровичу Озерову», где поэт встает на защиту драматурга от «зоилов строгих, / Богатых завистью, талантами убогих», называет его «наш Эврипид» (также назвал и его и С.П. Жихарев вскоре после премьеры «Димитрия Донского»). Примечательно, что в своей басне поэт именует Озерова «певцом любви», «печальным», 1 Батюшков К.Н. Батюшков К.Н. Сочинения: В 3-х т. С.-Петербург: Изданы П.Н. Батюшковым: 1885. Т. 3. С. 90. URL: http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/ps0/ps3/ps32088-.h 2 Батюшков К.Н. Письма // Батюшков К.Н. Сочинения. Т. 3. С. 35. URL: http://febweb.ru/feb/batyush/texts/ps0/ps3/ps32088-.htm 3 Батюшков К.Н. Сочинения. С. 90. 4 Там же. 149 «нежным соловьем», тем самым невольно относя его к представителям нового направления, голос которых всячески стараются заглушить своим «кваканьем лягушки». Хотя Озеров и откликнулся на басню добрыми, благодарственными словами в адрес Батюшкова («Прелестную его басню почитаю истинно драгоценным венком моих трудов»), 1 но все же не внял его совету и «замолчал» («Ты им молчаньем петь охоту придаешь»). Тему «соловья и лягушек» в 1815 году подхватил В.Л. Пушкин в своей басне «Завистники соловья». Исследователи упоминают и вышеназванное «Послание к князю П.А. Вяземскому» В.Л. Пушкина, «Послание к князю Вяземскому и В.Л. Пушкину» В.А. Жуковского, «Письмо к новейшему Аристофану» Д.В. Дашкова, «Записки» Ф.Ф. Вигеля, свидетельства которого в контексте разговора о «завистниках» Озерова заслуживают внимания. Вспоминая успех «Димитрия Донского», Ф.Ф. Вигель отмечает следующее: «…рыдания раздались в партере, восторг был неописанный. Озеров был поднят до облаков, как говорят французы. Сие необычайное торжество, увы, было для него последнее. Столь быстрых, столь беспрерывных успехов бедный Шаховской никак не мог перенесть. Сколько припомню, в 1808 году поставлена была на сцену последняя трагедия Озерова “Поликсена”. В пособиях, которыми дотоле Шаховской так щедро наделял его, как сказывали мне, стал он вдруг ему отказывать и, напротив, сколько мог, во всем начал ставить ему препятствия. Наша публика, неизвестно чьими происками предупрежденная не в пользу нового творения, на этот раз не возбуждаемая более патриотизмом и не довольно еще образованная, чтобы быть чувствительною к простоте и изяществу красот гомерических, чрезвычайно холодно приняла пиесу».2 В свете всего сказанного представляется закономерным, что после кончины Озерова в одном из первых некрологов было четко указано имя его «губителя» и «завистника: Угас наш Озеров, луч славы россиян, 1 2 Письма В.А. Озерова А.Н. Оленину // Русский архив. 1869. № 1. С. 137. Вигель Ф.Ф. Записки: В 2-х т. Т. 1. М., 1928. С. 332. 150 Умолк певец Фингала, Поликсены! Рыдайте, невские камены, Ликуй, Аристофан! К. П. Великие Луки.1 Ассоциации Шаховского с Аристофаном были широко известны в литературном кругу. Еще в 1815 году Д.В. Дашков в «Письме к новейшему Аристофану» «закрепил за драматургом новое полемическое имя <…> и совершенно недвусмысленно обвинил адресата в зависти, интригах и, наконец, в гибели В.А. Озерова».2 Примечательно, что С.Т. Аксаков, привыкший «с самых молодых лет» «считать кн. Шаховского <…> интриганом, гонителем великого таланта Семеновой, ласкателем, угодником людей знатных и сильных и, наконец, заклятым врагом Озерова, которого он будто бы преследовал из зависти и даже, как утверждали многие, был причиной его смерти», 3 долго не соглашался знакомиться с ним, старался не встречаться, но поскольку избежать этого было невозможно, то «отделывался учтивым поклоном». Потребовался не один десяток лет, чтобы П.А. Вяземский мог сказать, что «тяжба устарела», что «ни до Озерова, ни до Шаховского теперь никому нет дела». 4 Но «невиновность» Шаховского надо было еще «устанавливать», поскольку сам Вяземский считал Озерова жертвой «литературных страстей и убеждений», которые «как и политические, часто изменяют нрав и натуру человека. Лица, захваченные этими страстями, бывают нередко односторонни, 1 Цит. по: Майков Л.Н., Саитов В.И. Примечания // Батюшков К.Н. Сочинения: В 3 т. СПб.: П.Н. Батюшков, 1885 – 1887. Т. 2. С. 471. URL: http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/ps0/ps2/ps22375-.htm Эпиграмма появилась в журнале «Сын Отечества». 1816 . Ч. 33. № 45. С. 267. 2 Иванов Д. Роль В.А. Жуковского в формировании полемического образа Шаховского. URL: http://www.ruthenia.ru/document/535193.html 3 Аксаков С.Т. Литературные и театральные воспоминания // Аксаков С.Т. Собрание сочинений: В 5 т. М.: Изд-во «Правда», 1966. С. 65. 4 Вяземский П.А. Озеров // Вяземский П. А. Сочинения: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2. С. 301 – 302. Поводом к написанию П.А. Вяземским мемуарного очерка «Озеров» послужила статья И.П. Варпаховского «К биографии Озерова», в которой содержались архивные материалы дела о постановке трагедии «Поликсена». Статья была опубликована в журнале «Русский архив» (1869, № 12, с. 2029 – 2032). Отклик П.А. Вяземского под названием «По поводу предыдущей статьи» помещен там же, сразу после статьи И.П. Варпаховского (с. 2032 – 2045). Текст отклика П.А. Вяземского, исключая первый абзац, полностью соответствует тексту мемуарного очерка «Озеров». 151 чтобы не сказать помешаны на одной точке».1 В этой «односторонности», по мнению Вяземского, и состоит вина Шаховского, «исступленного послушника Шишкова», который, кстати, «также был человек не злой, но увлекаемый страстью».2 Но, делая уступку «человеческим слабостям», Вяземский все же впрямую пишет о том, что именно Шаховской «затормозил дальнейшее движение Озерова», возможно полагая, что оказывает услугу русской литературе. «В этих литературных страстях, может быть, и отыщется вся разгадка дела о “Поликсене”» – к такому выводу приходит Вяземский в результате своих размышлений о судьбе Озерова.3 По утверждению И.Н. Медведевой, Вяземский «сделал попытку наконец объединить “тяжбу” и вопросы литературной борьбы. <…> Выводы Вяземского без особой проверки дожили до нашего времени».4 Современным исследователем Д.А. Ивановым в ряде статей предпринимаются попытки отвести обвинения в причастности Шаховского к гонениям на Озерова. Основываясь на многочисленных архивных материалах, приводя аргументированную систему доказательств, ученый приходит к следующим выводам: «Шаховской был совершенно безосновательно объявлен главным виновником “огорчений” Озерова. На протяжении 1800-х гг. позиции драматургов были близки, и у нас нет никаких доказательств враждебности Шаховского по отношению к трагику. Можно с уверенностью утверждать, что появление мифа о Шаховском как о гонителе Озерова было вызвано его внутритеатральными конфликтами с партией Семеновой, а не шишковистским отношением драматурга к “творцу “Димитрия”. Переход же этой сплетни в плоскость литературной полемики был вызван сближением Шаховского в конце 1810 г. с “Беседой” Шишкова и Державина и активным участием драматурга в “войне на Парнасе” против “арзамасцев”.5 Необходимо отметить, что и в «стане» «арзамасцев» не было единодушия в оценке творчества Озерова. Доказательством того уже служат письма Д.Н. 1 Там же. С. 300. Там же. С.301. 3 Там же. 4 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 52. 5 Иванов Д. В.А. Озеров и А.А. Шаховской: история взаимоотношений. С. 57. 2 152 Блудова, который писал П.А. Вяземскому о том, что Озерову, «с его щекотливым сердцем и раздражительным самолюбием было трудно переносить невыгодные отзывы, особливо от Карамзина и Дмитриева».1 Приведем и свидетельство В.А. Жуковского, который 15 сентября 1809 года в своем письме к А. И. Тургеневу заметил: «Озеров с великим талантом и чувством. Я беспрестанно ссорюсь за него с Карамзиным, который называет “Фингала” дрянью».2 М.И. Гиллельсон обратил внимание, что в своей статье об Озерове Вяземский, «стараясь всячески приблизить Озерова к новым веяниям в литературе, <…> не предал гласности замечание Д.Н. Блудова» об отрицательных отзывах Карамзина и Дмитриева. 3 В избирательном отношении Вяземского к информации Д.Н. Блудова исследователю видится «сознательная и хорошо продуманная тактика», цель которой состояла в том, чтобы сохранить незыблемость мифа об Озерове как жертве «беседчиков». Принимая точку зрения М.И. Гиллельсона, все же уточним одно обстоятельство. Говоря о том, что «арзамасцы делились на два лагеря» – «ревностных приверженцев трагика» (Батюшков, Вяземский и Блудов) и тех, кто критически относился к его творчеству, исследователь причисляет к последнему, помимо Карамзина и Дмитриева, А.С. Пушкина. Здесь следует оговориться, поскольку молодой поэт также испытал на себе обаяние «озеровского мифа». Например, в послании «К Жуковскому» (1816) он горит желаем отомстить за смерть Озерова: Смотрите: поражен враждебными стрелами, С потухшим факелом, с недвижными крылами, К вам Озерова дух взывает: други! месть!..4 Его позиция – это позиция «арзамасца» (хотя к этому времени он еще не был принят в общество), которая выражается, помимо призыва к мести за Озе- 1 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 373. Жуковский В.А. Письма к А.И. Тургеневу // Жуковский В.А. Собр. Соч.: В 4 т. М.-Л.: Худож. лит, 1959 – 1960. Т. 4. С. 465. URL: http://www.rvb.ru/19vek/zhukovsky/01text/vol4/03letters/324.htm 3 Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. С. 375. 4 Пушкин А.С. К Жуковскому // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 1. С. 173. 2 153 рова, в нападках на «архаистов», на тех, кто «слогом Никона печатают поэмы, / Одни славянских од громады громоздят…», именно от них исходит беда всем тем, «кто в свет рожден с чувствительной душой…» Более того, в стихотворении Пушкина просматривается и стремление к борьбе за новую литературу представителя уже нового поколения: выражается это в жестокой нападке на Тредьяковского и в особенности на Сумарокова: Ты ль это, слабое дитя чужих уроков, Завистливый гордец, холодный Сумароков, Без силы, без огня, с посредственным умом…»1 Судя по стихотворению «Городок» (1815), Пушкин интересовался творчеством Озерова, поскольку среди его любимых писателей, книги которых стоят на полках в его библиотеке, есть и Озеров (заметим, что и Пушкина возникает ассоциация с Расином): Здесь Озеров с Расином, Руссо и Карамзин, С Мольером-исполином Фонвизин и Княжнин.2 Последующая критика поэтом творчества Озерова уже производится не столько с позиций «Арзамаса», сколько по собственному взгляду на состояние русской литературы и русского театра. Так, в статье «Мои замечания об русском театре», Пушкин уже называет трагедии Озерова «несовершенными», а их успех у зрителей объясняет актерским талантом Семеновой: «Она украсила несовершенные творения несчастного Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины…»3 В другой статье «О народности в литературе» Пушкин опять иллюстрирует свою мысль примером из трагедии Озерова «Димитрий Донской»: «Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди посреди стана Димитрия?»4 1 Там же. С. 172. Пушкин А.С. Городок // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 1. С. 86. 3 Пушкин А.С. Мои замечания об русском театре // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 7. С. 9. 4 Пушкин А.С. О народности в литературе // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 7. С. 28. 2 154 Наиболее полно свое мнение по поводу драматургии Озерова Пушкин выразил в письме к Вяземскому от 6 февраля 1823 года: «У нас нет театра, опыты Озерова ознаменованы поэтическим слогом – и то не точным и заржавым; впрочем, где он не следовал жеманным правилам французского театра? Знаю, за что полагаешь его поэтом романтическим: за мечтательный монолог Фингала – нет! песням никогда надгробным я не внемлю, но вся трагедия написана по всем правилам парнасского православия; а романтический трагик принимает за правило одно вдохновение – признайся: все это одно упрямство».1 «В этом письме, – замечает Н. Богословский, – Пушкин впервые бросает термин “французская болезнь”, которая, по его словам, грозила умертвить “нашу отроческую словесность”. Уже в эти годы основоположник русской литературы ставил вопрос о путях ее самостоятельного развития и об освобождении ее от всеподавляющего влияния эпигонской французской литературы».2 Нужно отметить, что Пушкин был во многом не согласен мнением Вяземского о «творениях» Озерова, которые критик представил в статье «О жизни и сочинениях В.А. Озерова», написанной в 1817 году. В «Заметках на полях» статьи П.А. Вяземского Пушкин излагает свое видение творчества Озерова, подводит своеобразный итог размышлениям о драматурге.3 Итог этот неутешителен в том плане, что Пушкин не признает в Озерове сколько-нибудь значительного драматурга: «Озерова я не люблю не от зависти (сего гнусного чувства, как говорят), но из любви к искусству. Ты сам признаешься, что слог его не хорош, – а я не вижу в нем ни тени драматического искусства. Слава Озерова уже вянет, а лет через 10, при появлении истинной критики, совсем исчезнет».4 В этом высказывании важно не столько мнение Пушкина о его «нелюбви» к Озерову, сколько художественно-эстетическая позиция поэта. Полемизируя с Вяземским и критикуя его статью, внося в нее множественные корректи1 Пушкин А.С. Письма // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 10. С. 46. Богословский Н. Спор Пушкина с Вяземским об Озерове. Красная новь. 1937. № 1. С. 99. 3 См. о пометах Пушкина: Майков Л.Н. Пушкин. СПб. 1899. С. 266 – 283; Мордовченко Н.И. Русская критика первой четверти XIX века. М.:Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 141; Медведева И.Н. Владислав Озеров // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 66 – 71. 4 Пушкин А.С. Заметки на полях статьи П.А.Вяземского «О жизни и сочинениях В.А. Озерова» // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 7. С. 383. 2 155 вы, Пушкин поднимает важные для русской литературы вопросы: о создании русской национальной трагедии, об историзме и народности в русской литературе, о реформировании русского языка. «…Вяземскому пришлось столкнуться с твердым противодействием Пушкина, в котором созревали уже основы эстетики «истинного романтизма», под которым понимался реализм».1 Спустя пятьдесят с лишним лет, готовя полное собрание сочинений, Вяземский снова обращается к своей статье об Озерове, написанной в 1817 году. Теперь уже, по его собственным словам, он «снова ознакомился с статьею своею рассудительно и беспристрастно». Для нас первостепенный интерес представляет эволюция взглядов Вяземского по отношению к творчеству Озерова и одновременно к тем замечаниям, которые были сделаны Пушкиным на полях его статьи «О жизни и сочинениях В.А. Озерова». Перечитав статью, Вяземский написал: «Не скажу, чтобы я без памяти обрадовался себе: но признаюсь откровенно, что я не устыдился себя <…> Каким я был, таким являюсь и после испытания полустолетия». 2 Это можно истолковать следующим образом. По прошествии лет критик остался верен своим взглядам, хотя они «и не согласуются с новым направлением». Вяземский сознается, что был в то время «под прелестью Озерова», потому что «от него повеяло чем-то новым и свежим, по крайней мере в области сценической поэзии нашей. Не охладел я к нему и ныне, – продолжает критик, – но, разумеется, сочувствия мои несколько отрезвились и образумились».3 В то же время Вяземский делает несколько «оговорок» по поводу своих суждений о творчестве Озерова. Он признает, что трагедия, «как ее понимал Озеров», была актуальна для своего времени, а сейчас «отжила свой век», поэтому образцовой быть не может. Вяземский отмечает, что Пушкин критиковал в Озерове «и трагика, и стихотворца». Критик объясняет это «могуществом дарования» Пушкина и его художественной прозорливостью, которая позволила ему «начертать» и образ 1 Брусенцова О.Д. В.А. Озеров и романтизм. С. 19. Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. Приписка // Вяземский П. А. Сочинения: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2. С. 36, 37. 3 Там же. С. 38. 2 156 Бориса Годунова, и образ Димитрия Самозванца. Но в то же время Вяземский защищает стихи Озерова: «Недостатки и погрешности Озерова были, может быть, не в дальнем родстве и с моими. Это могло быть бессознательным побуждением и корнем снисхождения моего к Озерову. Но, во всяком случае, несколько неправильных стихов не могут отнять у других хороших стихов прелести и достоинства их. Праведные за грешников не отвечают, а таких праведных стихов у Озерова отыщется довольно».1 Поднимая проблему романтизма вообще и, в частности, у Озерова, Вяземский отмечает расплывчатость самого понятия «романтизм», которое сохраняется и до «нынешнего времени». Он обращается к периоду литературной борьбы, когда «образовались у нас два войска, два стана; классики и романтики доходили до чернильной драки. Всего забавнее было то, что налицо не было ни настоящих классиков, ни настоящих романтиков: были одни подставные и самозванцы».2 Так образно Вяземский передает всю специфику переходной эпохи, когда смешение направлений, стилей, взглядов достигло своего апогея, когда критерия разграничения «истинного» и «ложного» в литературной критике попросту не существовало. «Грешный человек, увлекся и я тогда разлившимся и мутным потоком, – признается Вяземский. – Пушкин остался тем, что был: ни исключительно классиком, ни исключительно романтиком, а просто поэтом и творцом, возвышавшимся над литературною междоусобицею, которая в стороне от него суетилась, копошилась и почти бесновалась».3 Заканчивается «Приписка» окончательным мнением Вяземского об Озерове. Критик высоко оценивает последнюю его трагедию «Поликсена», в которой «Озеров вступил, или возвратился, на классическую греческую почву»: «Это последнее творение автора, во всяком случае, доказывает, что если полного, зрелого трагика в Озерове еще не было, то трагик в нем созревал. В том, что он совершил, таилась надежда того, что он мог бы совершить, если ранняя и 1 Там же. С. 40. Там же. С. 41. 3 Там же. 2 157 печальная смерть не поразила бы его посреди блестящего и многообещающего поприща».1 Завершая разговор об отношении критиков начала XIX века к творчеству Озерова, сошлемся на мнение современного исследователя, подводящего итог спору Вяземского и Пушкина: «Было бы глубоким заблуждением, думать, что Пушкин недооценивал значение творчества Озерова. Напротив, размышления над ним повлияли на его собственные искания. Но если статья Вяземского, проницательная и талантливая, несла на себе печать своего времени и была голосом участника тогдашних споров, то пометы Пушкина содержат в себе нечто вневременное, помогающее и сегодня оценить место Озерова в историколитературном процессе».2 Еще при жизни Озерова его современники пытались найти объяснение трагическому исходу жизни драматурга. Так, распространенной оказалась версия о «чувствительном певце», не выдержавшем испытания жизнью. К.Н. Батюшков, который сочувствовал Озерову на протяжении всей жизни, видел в нем «прежде всего писателя, в полной мере испытавшего тяжесть постоянного разлада поэта с обществом». 3 В судьбе Озерова он видел и «отражение собственных несчастий, характерных для широкого круга передовых деятелей русской культуры. Это заставляло его особенно гневно обличать врагов драматурга».4 «Однако вместе с тем, – замечает исследователь, – он рассматривает несчастья Озерова как в высшей степени закономерное явление, вытекающее из самой сущности отношений поэта и “толпы”»,5 когда любое талантливое произведение не может не вызывать чувства зависти. Не случайно Батюшков в статье «Петрарка» проводит параллель между судьбами Тасса и Озерова: «И в наши времена русская Мельпомена оплакивает еще своего любимца, столь ужасно отторженного от Парнаса, от всего человечества! Есть люди, которые 1 Там же. С. 43. Брусенцова О.Д. В.А. Озеров и романтизм. С. 20. 3 Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. М.: Наука, 1971. С. 194. 4 Там же. 5 Там же. 2 158 завидуют дарованию! Великое дарование и великое страдание – почти одно и то же».1 Почти столетие спустя «злополучная судьба Озерова, постигшая его после необычайных, до тех пор неслыханных успехов на русской сцене»,2 продолжала вызывать не только всеобщее сочувствие к драматургу, но и недоумение. «До сих пор, – отмечал в своих публичных лекциях Н.Н. Булич – мы не имеем положительных свидетельств о тех действительных нравственных причинах, которые привели несчастного поэта к катастрофе; о ней существуют в литературе только неясные намеки и неопределенные догадки, так что дело останется, вероятно, навсегда темным».3 «Нравственные причины», о которых говорил Н.Н. Булич, были связаны прежде всего с перипетиями личной жизни Озерова: неожиданная отставка по службе, отказ в пенсионе, несмотря на просьбы о ходатайстве (даже самому Александру I!), недостаток внимания со стороны прежних друзей, оставшихся в Петербурге, равнодушие к постановке последней его трагедии (которую исследователи называют лучшей из созданных Озеровым) и, наконец, общее равнодушие к судьбе того, чьи заслуги в области русской драматургии были несомненны. Именно о нравственных причинах «литературной тяжбы» с Шаховским писал П.А. Вяземский в своей последней статье об Озерове: «Тут дело шло не просто о литературном споре, о литературных мнениях, более или менее резких: оно отчасти касалось совести и личной чести».4 Н.Н. Булич, пытаясь разобраться в причинах трагедии Озерова, приходит к выводу о том, что многие обстоятельства жизни драматурга так и остались невыясненными, но это не умаляет вины общества, оставшегося равнодушным к своему поэту: «Неужели возможно <…> что чиновничьи проделки могут возвысить и уронить славу поэта, что литературная судьба его может за- 1 Цит. по: Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. М.: Наука, 1971. С. 194. Булич Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. Т. 1. С. 242. 3 Там же. Лекции Н.Н. Булича впоследствии составили книгу «Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в.». 4 Вяземский П.А. Озеров. С. 300. 2 159 висеть от канцелярских отношений и от формы доклада, хотя бы и самому государю?»1 Современными исследователями выдвигаются различные версии о причинах трагической судьбы Озерова. В.Э. Вацуро считает, что драматург после триумфа «Димитрия Донского» не смог пережить неуспех «Поликсены», который, по мнению ученого, был связан с распадом кружка А.Н. Оленина.2 По версии И.Н. Медведевой, все бедствия драматурга обусловлены причинами политическими. После Тильзитского договора автор «Димитрия Донского», прославляющий боевой дух Александра I и его решимость оказать сопротивление Наполеону, стал неугоден царю, поскольку теперь пьеса представляла яркую иллюстрацию «позорной непоследовательности» царя. «Человеческий облик Александра I слишком хорошо нам знаком из его отношений с Пушкиным, чтобы сомневаться в выводах относительно автора “Димитрия Донского”. <…> Как известно, Александр готов был простить что угодно, вплоть до заговоров, если его личность оставалась в ореоле. При этом он был жесток и злопамятен. <…> Непонятный отказ в пенсии приводит к мысли, что и все неприятности по службе, из-за которых Озеров уехал в деревню, могли быть результатом царской немилости».3 Отсюда, считает И.Н. Медведева, и небрежение к постановке «Поликсены», и отмена выплаты трех тысяч рублей, которые были обещаны Озерову дирекцией театра за его новую трагедию. «Царской немилостью» объясняет трагический уход драматурга из жизни И.З. Серман, только причины этой «немилости» связываются исследователем с судьбой последней пьесы Озерова «Поликсена», которую неожиданно, несмотря на успех, после второго представления сняли со сцены. И.З. Серман считает неубедительной точку зрения И.Н. Медведевой относительно того, что недовольство Александра I «Димитрием Донским» сказалось и на судьбе «Поликсены». Исследователь, по его собственным словам, решается «на очень смелое 1 Булич Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в. Т. 1. С. 269. Вацуро В.Э. В преддверии пушкинской эпохи // Арзамас: Мемуарные свидетельства; Накануне «Арзамаса»; Арзамасские документы: Сб. В 2 кн. М.: Худож. лит-ра, 1994. Кн. 1. С. 9. 3 Медведева И.Н. Владислав Озеров. С. 53. 2 160 предположение» о том, что «Озеров мог перенести в гомеровский сюжет косвенное отражение» переговоров Александра I и Наполеона о возможности брака последнего «с любимой сестрой Александра I, Екатериной Павловной». 1 Именно это могло вспомниться «зрителям “Поликсены”, когда они смотрели трагедию, в которой Поликсене грозит быть жертвой требований Пирра, сына Ахиллеса». 2 И.З. Серман полагает, что «Александра раздражило неуместное, как он мог посчитать, вмешательство в его семейные дела».3 Думается, одних политических причин недостаточно, чтобы объяснить жизненную и творческую трагедию Озерова, который отнюдь не собирался завершать свой литературный путь в расцвете творческих сил и уж тем более «моделировать» свой уход из литературы «по Расину». Трагическая судьба Озерова обусловлена целым комплексом обстоятельств: и «внешних» – общественно-политических, литературных, театральных, и «внутренних» – сугубо личностных. Прежде всего необходимо учитывать переходный, «рубежный» характер эпохи, представляющий сложный процесс «постепенного «вбирания» в себя предшествующей традиции и ее перерождения <…> в ходе становления новой художественной системы». 4 «Смешение», «спутанность», «пестрота» художественных тенденций, зачастую их разнонаправленность и взаимоисключающий характер обусловливали трудность в оценке творчества того или иного художника, как это было в случае с Озеровым. Реформируя русскую классицистическую трагедию в соответствии со своими внутренними установками и пытаясь «приноровить» их «к текущему моменту», Озеров не мог не попасть под перекрестный огонь критиков различных художественноэстетических направлений. «Переходный характер времени обусловил то, что драматические замыслы Озерова созревали в ходе его собственной этикоэстетической эволюции, противоречия которой были обусловлены как внут- 1 Серман И. Царская немилость (Судьба «Поликсены» В. Озерова) // Toronto Slavic Quaterly. 2005. № 12. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/12/serman12.shtml 2 Там же. 3 Там же. 4 Пахсарьян Н.Т. К проблеме изучения литературных эпох: понятие рубежа, перехода и перелома // Литература в диалоге культур – 2. Материалы международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 2004. С. 16. 161 ренними причинами, так и общими коллизиями культурного сознания». 1 Подобно тому, как на рубеже XVII – XVIII веков решалась проблема перехода от средневековой литературы к литературе нового типа, в следующем «рубежном периоде» в рамках классицистической трагедии попытался решить проблему «новой» литературы и Озеров – литературы, которая соответствовала духовным и эстетическим запросам времени и олицетворением которой впоследствии стал А.С. Пушкин. Парадокс заключался в том, что Озеров, взяв за основу трагедию – самый «консервативный» жанр классицизма, ее цитадель, – и попытался «приспособить» ее к новым художественным тенденциям, в то время как главная доминанта сентименталистского метода лирическая составляющая в корне противоречила законам драмы. Возможно, в этом заключался драматизм ситуации отношения к Озерову его современников – неприятие его «новаторства», часто жесткая критика. С другой стороны, драматизм объяснялся и личностным фактором – невозможностью творческой реализации Озерова, поскольку он шел «тупиковым путем», пытаясь совместить несовместимое: через трагедию нельзя было освоить сентиментализм и романтизм, нужны были другие жанры. В.А. Озеров, по меткому определению О.Э. Мандельштама, оказался «последним лучом трагической зари».2 Но и после Озерова попытки реформировать русскую трагедию не возымели успеха: «Опыты шекспиризации русского трагедийного репертуара не дали положительных результатов. “Борис Годунов” Пушкина до сих пор не завоевал театральную сцену. Исторические трагедии А.Н. Островского не имели тех достоинств, благодаря которым его драмы живут уже второе столетие на сценах всего мира. <…> Первенствует в русском театральном обиходе драма». 3 Такой вывод современного исследователя заставляет по-иному взглянуть на переломный период в истории русской литера1 Дудина Т.П. Эволюция этико-эстетической мысли в русской исторической драматургии XIX века. С. 27. 2 Мандельштам О.Э. «Есть ценностей незыблемая скáла…» // Мандельштам О.Э. «Сохрани мою речь…» Лирика разных лет. Избранная проза. М.: Школа-Пресс, 1994. С. 94. О комментариях к стихотворению О.Э. Мандельштама см.: Веселова А. Стихотворение О.Э. Мандельштама «Есть ценностей незыблемая скала…» и репутация русских трагиков XVIII века // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи. В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. Ч. 1. С. 282 – 296. URL: http://www.ruthenia.ru/document/542094.html 3 Серман И.З. Явленье Озерова // Русская литература. 1999. № 1. С. 15. 162 туры рубежа XVIII – XIX веков, побуждает искать новые подходы для адекватной оценки ее реалий, позволяющие пересмотреть все обретения и потери В.А. Озерова в реформировании русской трагедии. 163 Заключение Творчество В.А. Озерова пришлось на переходный период в истории русской литературы, когда смешение идеологий, культурных доминант, жанровых и стилевых модификаций предстает предельно открытым и в то же время предельно сложным сплетением. В этом отношении творчество Озерова и сама его личность являются своеобразным «эталоном» переходных эпох. Драматургия Озерова испытала на себе влияние разнородных тенденций, связанных со сменой культурных парадигм, что обусловило синкретичный характер его художественного метода, в котором сочетались разные литературные направления: классицизм, сентиментализм, предромантизм. Для постижения творческого феномена Озерова и самой его личности возникла необходимость обращения к фактам его биографии, повлиявшим на становление его как драматурга. Один из них – это пребывание в Сухопутном шляхетском корпусе, что наложило отпечаток на всю последующую жизнь Озерова – как писателя и как человека. Там он увлекся театром и сочинительством, там сформировались его нравственные приоритеты: признание самоценности личности, необходимость внутренней свободы, вера в свое великое предназначение и предпочтение «душевного чувства нравственности» «холодной учености». В этом отношении он оказался вполне соответствующим духу своего времени, когда сентименталистские тенденции стали доминирующими в историко-литературном процессе конца XVIII века и природные свойства характера Озерова, «душевное чувство нравственности» получило дальнейшее и, самое главное, естественное развитие в его первых литературных опытах, в основе которых была «жизнь сердца». Не случайно В.Г. Белинский, говоря о «ярко-замечательном даровании» Озерова, в первую очередь выделил его зависимость от сентиментализма – «преобладающего элемента» в трагедиях драматурга: «Он был результатом направления, данного русской литературе Карам164 зиным».1 Уже первый поэтический опыт Озерова «Элоиза к Абеляру. Ироида. Вольный перевод с французского творения Колардо», в котором отразилась трагическая история любви самого Озерова, предвосхитил будущие элегические монологи героев его трагедий, именно они в первую очередь обеспечили небывалый успех их постановок. Время вхождения В.А.Озерова в литературу – это время общественнолитературной борьбы между представителями различных направлений – классицизма, сентиментализма и нарождающегося романтизма. Она началась еще в конце XVIII века, а развернулась как раз в тот период, когда Озеров выступил со своими первыми трагедиями «Эдип в Афинах» и «Фингал», принесшими ему оглушительный успех. Необходимо отметить, что «с внешней стороны борьба велась по вопросам языка и стилистики, а по существу – по основным вопросам русской жизни. Спор на литературные темы превращался в политическую дискуссию».2 Ее осложняло то обстоятельство, что теоретики классицизма, отстаивая его категории, часто не учитывали потребностей современной литературы, связанной с изменением общественного сознания. В этом отношении драматургия более, чем другие жанры, «сопротивлялась» новым веяниям времени. Одной из существенных черт русской жизни рубежа XVIII – XIX веков является небывалый интерес к театру. Особую роль в «мире кулис» стали играть театралы-любители – «светские знатоки драматического искусства». Среди них были и царь Александр I, и его приближенные – Сперанский, Аракчеев. Остро ставятся проблемы формирования нового репертуара, изменение приемов актерской игры. Возникает своеобразный тандем: актер и зритель, когда последний оказывается «равноправным партнером в театральной действе»,3 когда исчезает «расстояние» «между происходящем на сцене и собственной жиз- 1 Белинский В.Г. Статьи о Пушкине//Белинский В.Г. ПСС в 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т.7. С.140. Очерки по истории русской журналистики и критики. Том первый. XVIII век и первая половина XIX века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1950. С. 157. 3 Там же. С. 94. 2 165 нью»».1 Результаты усилий такого «реформирования» не замедлят сказаться в драматургии В.А. Озерова. Складываются и новые отношения «театралов» и актеров. Настоящим «открытием» такой драматургической стратегии, основывающейся на особых отношениях актеров, драматургов и постановщиках пьесы, стремящихся к новому стилю театрального представления, явилась Е. Семенова, которой удалось понять внутренний нерв трагедий Озерова и блестяще претворить на сцене его замыслы. Первый драматургический опыт Озерова трагедия «Ярополк и Олег» остался незамеченным его современниками, в то время как сегодняшние исследователи уделяют ему достаточно большое внимание. И это отнюдь не случайно, поскольку уже первая трагедия Озерова представляла собой произведение оригинальное, сочетавшее в себе как традиции классицизма, так и новые веяния сентиментализма и романтизма. Это особенно проявилось в обрисовке характеров героев трагедии. Драматурга в первую очередь привлекают характеры «неустойчивые», «мятущиеся», колеблющиеся между добром и злом – это не злодеи, но и не полярные им добродетельные герои. Именно на примере такого, внутренне сложного героя Озерову удалось показать душевные движения, смену мыслей и настроений, приблизить героя классицистической трагедии к миру обыкновенных людей. Уже в первой трагедии Озерова процесс от абстракции к индивидуализации, который в большей степени проявился в трагедиях Княжнина, достиг другой, более высокой стадии. Стараясь в своей пьесе придерживаться традиций классицизма (противостояние добродетельных героев и злодеев, пять действий, александрийский стих), Озеров обогатил трагедию новыми тенденциями – не только «чувствительными», сентименталистскими, но и романтическими. Уже здесь проглядывает «элегический стиль» драматурга, впоследствии составив- 1 Там же. 166 ший основу монологов героев в прославивших Озерова трагедиях «Эдип в Афинах» и «Димитрий Донской». «Эдип в Афинах» – первая трагедия, принесшая драматургу оглушительный успех. Несмотря на то, что в ней Озеров отдает дань классицизму, трагедия была по праву оценена и критиками, и зрителями как новый шаг в русском драматургическом искусстве. Прежде всего, следует выделить новую обрисовку образов. Вместо привычных «шаблонных» героев предыдущих трагедий, на сцене появляются другие, вызывающие самое живое чувство сострадания и сопричастности к их судьбам. Разумеется, говорить о создании Озеровым характеров героев было бы излишне, но драматург проявил незаурядное мастерство в изображение чувств. В схему «сентиментальной драматургии» вполне вписывается и наличие благородного героя, спасающего Эдипа от всех его несчастий и наказывающего злодея. Кроме того, в свете сентиментальных традиций закономерным представляется и финал пьесы, который в принципе опровергает «законы» античной трагедии рока: Эдип остается в живых и даже прощает своего сына, вопреки тому, что категории «прощения» попросту не было в античной драматургии. Элегические монологи стали открытием Озерова. Именно они вызывали «невольны слезы» у зрителей и оставили в памяти современников драматурга «слезящийся партер», поскольку «русская трагедия доселе к слезам не приучала».1 Критики по-разному относились к сентименталистскому «уклону» в трагедиях Озерова. С одной стороны, он нарушал незыблемые законы классицизма и тем самым способствовал «разрушению» трагедии, делая ее похожей на драму, но с другой стороны, он «очеловечивал» ее, придавая традиционным классицистическим сюжетом общечеловеческое звучание. Новая форма трагедии закономерно повлекла за собой и изменения языка. Рассудочная поэтика классицизма постепенно уступала место более современным формам выражения мыслей и чувств. Таким образом, вторая трагедия Озе- 1 Жихарев С.П. Записки современника. С. 124. 167 рова «Эдип в Афинах» являла собою трагедию нового типа, в которой сентименталистские тенденции нашли свое воплощение в жанре элегии. В трагедии «Фингал» Озеров обратился к оссиановским сюжетам, что позволило исследователям говорить о присутствии романтических тенденций в творчестве драматурга. Типично романтический сюжет Озеров попытался «облечь» в одежды классицистической трагедии, сохраняя некоторые свойственные ей черты: противостояние добродетельного героя и злодея, борьба персонажей между чувством и долгом. Но в то же время «просматривалось» и явное отступление от «канонов» классицизма: вместо традиционных пяти действий, трагедия содержала всего лишь три; в ней по сути не было драматического действия, а герои напоминали больше обыкновенных людей, нежели героических воинов из поэм Оссиана. К тому же следует заметить, что Озеров изменил трактовку оссиановской темы, которая, согласно поэтической традиции, введенной Державиным, предполагала создание таких образов, какими они были представлены в героическом эпосе. Для Озерова же оссианизм был только фоном, усиливающим трагическое восприятие происходящего на сцене, иными словами, стилизацией. Ради того, чтобы изобразить «сердечны чувства», Озеров видоизменяет не только структуру классической трагедии, но и переосмысливает основные категории «оссианизма». Так, например, «возвышенное» трактуется драматургом в контексте «трагического» – но проявляющегося не в героических событиях, как было принято, а любовных чувствах. Именно любовная коллизия обусловила новый, непривычный характер некоторых персонажей, внесла изменение в ход драматургического действия, предопределила финал трагедии. Трагедия «Димитрий Донской» была вершиной триумфа Озерова на драматургическом поприще. Она создавалась в непростой для России период, когда русские в союзе с Пруссией вели борьбу против наступающего на Европу и приближающегося к России Наполеона. Поэтому трагедия Озерова отвечала потребностям исторического момента. Закономерен и тот факт, что пьеса была пронизана политическими аллюзиями, которые легко «прочитывались» совре168 менниками Озерова. В трагедии «Димитрий Донской» представлено столкновение двух тенденций: героической и любовной. Причем героико- патриотическая линия и любовная интрига далеко не равноправны: любовная доминирует на протяжении всей трагедии и в конце концов «подчиняет» себе основное историческое событие – Куликовскую битву. Патриотическая тема сменяется любовно-лирической, героический пафос уступает место чувствительно-сентиментальным настроениям. В трагедии Димитрий предстает не бесстрашным воином, а человеком, подверженным «несчастной страсти», которую не в силах «истребить». Это снижает героический образ Дмитрия Донского, делает его уязвимым в человеческом отношении и одновременно лишает всякого исторического правдоподобия. Вымышленная история любви Димитрия и Ксении, заключающая в себе явное отступление от исторических реалий (взять хотя бы тот факт, что ко времени Куликовской битвы Дмитрий был уже женат) возмутила Г.Р. Державина. «Поликсена» – последняя трагедия Озерова, которой завершился творческий путь драматурга. Несмотря на то, что пьеса вобрала в себя весь предыдущий драматургический опыт Озерова, она во многом отличается от остальных его трагедий: в ней отсутствует любовная интрига, нет раскаявшихся злодеев. Исследователи сравнивают главную героиню трагедии с Ленорой Бюргера (И.Н. Медведева), поскольку Поликсена также желает умереть для того, чтобы соединиться с мертвым женихом. Но все же ее стремление к смерти отнюдь не главное в идейной коллизии. В монологах Поликсены не чувствуется «исступленного желания» соединиться с погибшим Ахиллом, скорее, это воспринимается как неизбежность, как некое утешение или оправдание страшной смерти. С самого начала действия Озеровым акцентируется противостояние милосердного, мудрого, справедливого правителя и злодея, помыслами и поступками которого движет низменное чувство мести, облеченное в благородство. Это противостояние, составляющее движение драматического действия, затрагивает не только нравственные проблемы, но и общественно-политические. 169 В трагедии наблюдается сразу несколько «поединков»: между жизнью и смертью, любовью и ненавистью, добродетелью и пороком, милосердием и тиранией. Несмотря на то, что главная героиня погибает, в трагедии ощущается торжество сильной, свободной личности, которую не может сокрушить власть тиранов. Исход поединков у Озерова предопределен нравственной доминантой: это самоотверженная любовь, не заканчивающаяся даже после смерти, это милосердие и справедливость сильных мира сего. К настоящему времени в ряде исследований вновь получает актуальность проблема, связанная с так называемым «озеровским мифом», согласно которому талантливый драматург был затравлен толпой завистников и доведен до сумасшествия. Возвращаясь к этой проблеме, ученые пытаются по-новому интерпретировать обстоятельства, повлиявшие на решение В.А. Озерова навсегда оставить литературную деятельность. Согласно версии Д. Иванова, драматург спроецировал на себя жизненную коллизию Расина и подобно ему решил оставить «театральное поприще»: «…изначальное восприятие Озерова как “русского Расина” определило как последующую “мифологизацию” его литературной репутации, так и его собственный взгляд на свою биографию».1 Думается, если «проекция» на Расина и была в тот период доминирующей в поступках Озерова, то вызвана она была, скорее всего, психотерапевтическими причинами, поскольку драматург отдавал себе отчет в том, что отторгнут от литературы навсегда. Его отчаянием было вызвано и решение «бросить перо», «забрать» с постановки «Поликсену», а позже отказаться от переиздания своих трагедий. Проблема «озеровского мифа» поднималась и в исследованиях, посвященных литературной борьбе «архаистов» и «шишковистов». Сопоставляя мемуарные и эпистолярные свидетельства со статьей Вяземского «О жизни и сочинениях В.А. Озерова», М.И. Гиллельсон приходит к выводу, что последний «конструировал жизненный путь Озерова не как биографическую реальность, а 1 Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: «Русский Расин». 170 как легенду, и образ его приобретает иконописные черты мученика, пострадавшего за свои творения».1 Истоки «озеровского мифа» просматриваются в истории взаимоотношений Державина и Озерова. Известно, что Озеров был вхож в дом Г.Р. Державина еще со времен своей службы в Корпусе. Дружбу Державина и Озерова можно было объяснить тем обстоятельством, что в 90-х годах XVIII века литературная среда еще была «однородной» в плане литературных тенденций и направлений, в доме Державина бывали И.И. Дмитриев и Н.М. Карамзин. Отношения резко изменились после триумфальной постановки «Эдипа в Афинах»: Державин не принял трагедию Озерова. Причины этого неприятия, скорее всего, в том, что классицисту Державину было глубоко чуждо сентименталистское, «элегическое» направление Озерова, которое разрушало сами каноны жанра трагедии, искажало идейную ее суть, превращало чуть ли не в «слезную драму». Но возможно и другое объяснение, которое кроется не только в неприятии литературной и сценической концепции Озерова, а в самом отношении маститого поэта к неожиданному и ошеломляющему успеху молодого драматурга, творческие «опыты» которого в его глазах не могли претендовать на скольконибудь значительный успех. Человеческий и литературный поединок между Державиным и Озеровым получил свое продолжение и в истории посвящения «Эдипа в Афинах» Державину, и в его ответном поэтическом послании «Г. Озерову на приписание Эдипа», в котором «блестящее чело» Озерова увенчивалось «венцом из клена». Этот поединок продлится дальше и достигнет своего апогея, когда будет поставлена трагедия «Димитрий Донской». Именно после нее Державин начнет пробовать свои силы в драматургии. Необходимо отметить, что к моменту выхода «Димитрия Донского» (1807) году расстановка литературных сил была уже иной, чем в конце XVIII века: произошло четкое размежевание сторонников и противников Карамзина, сформировался державинский кружок, объединивший противников антикарам- 1 Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. С. 375. 171 зинского направления. Именно в кружке Державина начались «прения» по поводу историзма трагедии «Димитрий Донской». Все «несогласия» с драматургом отразились в «Замечаниях» к первому изданию трагедии Озерова «Димитрий Донской», как установлено исследователями, сделанных А.С. Шишковым и вклеенных между страницами первого издания трагедии. То, что Озеров обратился к легендарным событиям русской истории, оценивалось Шишковым положительно, но он резко выступает против несоблюдения принципа исторической правды, протестует против «снижения» образов князей, которые затеяли «постыдную ссору», замечает в них отсутствие патриотизма и даже трусость. Шишков считает, что Озеров не только «исказил исторический облик Дмитрия Донского, но и снизил его, наделив его мыслями и чувствами простых людей»,1 что было недопустимо в поэтике классицизма. Разумеется, в «Замечаниях» Шишкова в отношении трагедии «Димитрий Донской» было много справедливых претензий, но в целом они являли собой убедительную иллюстрацию той ожесточенной полемики, которая разгорелась между «карамзинистами» и «шишковистами» в начале XIX века. Необходимо отметить, что и в «стане» «арзамасцев» не было единодушия в оценке творчества Озерова. «Невыгодные отзывы» исходили от Карамзина и Дмитриева,2 впоследствии к ним присоединится и Пушкин, хотя и он испытал на себе обаяние «озеровского мифа». Об этом свидетельствуют его стихотворения «Городок» (1814), послание «К Жуковскому» (1816), где Пушкин призывает к мести «за Озерова». Последующая критика поэтом творчества драматурга уже производится не столько с позиций «Арзамаса», сколько по собственному взгляду на состояние русской литературы и русского театра. Так, в статье «Мои замечания об русском театре», Пушкин уже называет трагедии Озерова «несовершенными», а их успех у зрителей объясняет актерским талантом Семеновой. 1 Сидорова Л.П. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В.А. Озерова «Димитрий Донской». С. 156. 2 В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова. С. 373. 172 Еще при жизни Озерова его современники пытались найти объяснение трагическому жизненному исходу драматурга. Так, распространенной оказалась версия о «чувствительном певце», не выдержавшем испытания жизнью. «Тема «зависти» в отношении В.А. Озерова стала общим местом в литературной полемике между «арзамасцами» и «беседчиками» в первые десятилетия XIX века. На наш взгляд, неправомерно связывать неожиданный уход Озерова из литературы только «происками зоилов». Он был вызван целым комплексом причин различного характера: изменением политической и литературной ситуации, неприятностями по службе, особенностями характера драматурга, но, в первую очередь, сложностями чисто литературного характера – попытками приспособить самый «консервативный» жанр классицизма к новым художественным тенденциям. Сам жанр трагедии оказался плохо приспосабливаемым к новым философско-эстетическим условиям, а именно, к сентименталистской системе координат: «Новая сентиментальная эстетика подчиняла себе в первую очередь те жанры, которые находились на периферии классической эстетики, которые сами по себе готовы были выпасть из ее системы: легкую поэзию, повесть, роман».1 Новые тенденции, которые принес с собой сентиментализм и далее предромантизм, существенно меняли концепцию личности и художественный способ ее выражения. На первом месте оказался внутренний мир человека, движение его души и чувств, которые «обязаны» быть выражены в произведении в соответствии с новым художественным методом. Это создавало вполне обоснованную зависимость способа выражения и жанра. Что касается драматургии, то лирический герой «не укладывался» в ее жанровую систему координат: «субъективность сентиментализма по существу противоречила драматической объективности. <…> Для создания новой драмы литература должна была 1 Максимович А.Я. Озеров. С. 167. 173 пройти через романтизм, вновь прийти к объективности и полноценности художественного образа – словом, был необходим шекспиризм Пушкина».1 Все эти причины обусловили трудности, с которыми столкнулся В.А. Озеров, реформируя русскую трагедию, вводя в нее элементы сентименталистского и в отдельных случаях предромантического методов. Представляется закономерным, что это вызвало непонимание литераторов и критиков и даже неприятие трагедий Озерова его бывшими друзьями и сподвижниками, увидевшими в них только «искажение» классицистических образцов. Изучение творчества В.А. Озерова позволяет выявить закономерности в историко-литературном процессе рубежа веков, специфические особенности развития русской драматургии в переходный период. По-прежнему актуальным остается и проблема «литературного спора», поскольку именно в этой ситуации выявляются скрытые культурные механизмы, являющиеся двигателем литературного процесса во всей его динамике. Ситуация с Озеровым, вылившаяся в устойчивый литературный «миф», выявляет важность биографического фактора, так как именно он помогает реконструировать личность, вскрыть ее внутренние интенции, прояснить психологическую подоплеку того или иного поступка, что в свою очередь поможет адекватному восприятию личности и не позволить «исказить» литературную репутацию того или иного деятеля эпохи. В этом контексте представляются значимыми слова Я.Н. Толстого и П.А. Катенина об Озерове, высказанные им в полемике о творческом наследии драматурга: «“Озеров никогда не потеряет цены”, пишет господин Я…й. Конечно; но цена его не определена еще; он у нас один; сравнивать не с кем; будем же им заниматься, постараемся отличить хорошее от дурного, ибо не слепое удивление, но похвала, на рассудке основанная, приносит честь стихотворцу».2 До настоящего времени В.А. Озеров в истории русской литературы действительно представляет собой, по словам О.Э Мандельштама, «явление» 3 – 1 Там же. Катенин П.А. Размышления и разборы. М.: Искусство, 1981. С. 182. 3 Мандельштам О.Э. «Есть ценностей незыблемая скáла…» // Мандельштам О.Э. «Сохрани мою речь…» Лирика разных лет. Избранная проза. М.: Школа-Пресс, 1994. С. 94. 2 174 значительное и значимое, но не до конца понятое и раскрытое. В этом отношении исследовательское поле предоставляет широкие перспективы для дальнейшего постижения феномена Озерова. 175 Список литературы 1.Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972. С. 90 – 102. 2.Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 3 – 38. 3.Аксаков С.Т. Литературные и театральные воспоминания // Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 5 т. М.: Изд-во «Правда», 1966. Т. 3. С. 5 – 142. 4.Аксенова Г.В. Книги Ж-Ф Лагарпа в России последней трети XVIII – начала XIX в. // Книга в России XVI – середины XIX в. Материалы и исследования. Сб. научных трудов. Л.: Б-ка АН СССР, 1990. С. 169 – 176. 5. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М.: Наука, 1972. 6. Арапов П. Летопись русского театра. СПб.: Типография Н. Тиблена и К°, 1861. – 386 с. 7. Архипова А.В. О русском предромантизме // Русская литература. 1978. № 1. С. 14 – 25. 8. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII—XVIII веков. М.: Искусство, 1958. – 416 с. 9. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX века. М.: ГИТИС, 1986. – 168 с. 10. Батюшков К.Н. Стихи г. Семеновой // Батюшков К.Н. Сочинения. М.: Гос. изд-во Художественной литературы, 1955. С. 107. 11. Батюшков К.Н. Пастух и соловей // Батюшков К.Н. Сочинения. М.: Гос. изд-во Художественной литературы, 1955. С. 70 – 71. 12. Батюшков К.Н. Письма // Батюшков К.Н. Сочинения: В 3-х т. С.Петербург: П.Н. Батюшков, 1885. Т. 3. URL: http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/ps0/ps3/ps32088-.h 176 13. Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина // Белинский В.Г. Полн. собр. сочинений: В 13 т. М.: Изд. АН СССР. 1953 – 1959. Т. 7. М., 1955. С. 97 – 579. 14. Белинский В.Г. Литературные мечтания // Белинский В.Г. Полн. собр. сочинений: В 13 т. М.: Изд. АН СССР. 1953 – 1959. Т. I. M., 1953. С. 20 – 104. 15. Богословский Н. Спор Пушкина с Вяземским об Озерове. Красная новь. 1937. № 1. С. 98 – 104. 16. Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия XVII – XVIII вв. М.: Просвещение, 1988. – 224. 17. Бочкарев В.А. Русская историческая драматургия нач. XIX в. (1800 – 1815): Ученые записки. Вып. 25. Куйбышев: Куйбыш. гос. пед. ин-т им. В.В. Куйбышева, 1959. – 480 с. 18. Брусенцова О.Д. В.А. Озеров и романтизм: дис. … канд. филол. наук. Харьков. 1995. – 21 с. 19. Букина Г.Ю. Творчество П.А. Вяземского 1860 – 1870-х годов: проблемы мировосприятия и жанровое многообразие: автореф. дис. … канд. филолог. наук. М., 2012. – 28 с. 20. Булгарин Ф. Воспоминания Фаддея Булгарина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни: В VI ч. СПб.: Изд. М.Д. Ольхина, 1846 – 1849. Ч. II. URL: http://dugward.ru/library/bulgarin/bulgarin_vosp2.html 21. Булич Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в.: В II-х т. СПб., 1902 – 1904. 22. В.А. Озеров в переписке П.А. Вяземского и Д.Н. Блудова // Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969. С. 365 – 378. 23. Варпаховский И.П. К биографии В.А. Озерова // Русский архив. 1869. Кн. 12. С. 2029 – 2032. 24. Васильев С.А. Державинская традиция в русской литературе XIX – начала XX века: автореф. дис…. доктора филол. наук. М., 2008. – 41 с. 25. Вацуро В.Э. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. – 240 с. 177 26. Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб.: Академический проект, 2000. – 624 с. 27. Вацуро В.Э. Заметки к теме «Пушкин и “Арзамас”» // НЛО. 2000. № 42. С. 150 – 160. 28. Вацуро В.Э. В преддверии пушкинской эпохи // Арзамас: Мемуарные свидетельства; Накануне «Арзамаса»; Арзамасские документы: Сб. В 2 кн. М.: Худож. лит-ра, 1994. Кн. 1. С. 5 – 27. 29. Вацуро В.Э. Пушкин и литературное движение его времени // НЛО. 2003. № 59. С. 307 – 336. 30. Веселова А. Стихотворение О.Э. Мандельштама «Есть ценностей незыблемая скала…» и репутация русских трагиков XVIII века // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи. В 2 ч. Тарту: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. Ч. 1. С. 282 – 296. URL: http://www.ruthenia.ru/document/542094.html 31. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Высшая школа, 1989. – 648 с. 32. Вигель Ф.Ф. Записки: В 2 кн. М., 2003. 33. Вильк Е.А. Драматургия В.А. Озерова и проблемы развития русской трагедии начала XIX века: автореф… канд. филол. наук. Санкт-Петербург. 1998. – 24 с. 34. Вильк Е. А. К истории творческого диалога Державина и Озерова: поэзия и политика // Державинские чтения. Вып. 1. СПб.: Геликон плюс, 1997. С. 93 – 108. 35. Vilk E. Problem of Trageday and Tragic Consciousness in Russia at the turn of the 19th Century. Research Support Scheme, 1999. URL: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001056/01/56.pdf 36. Виницкий И.Ю. Русская «меланхолическая школа» конца XVIII – начала XIX веков и В.А. Жуковский: дис. … канд. филол. наук. М., 1995. – 258 с. 178 37. Волконский С.Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декабриста) Спб.: Изд. кн. М.С. Волконского, 1901. – 547 с. 38. Вяземский П.А. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. Спб.: Тип. Имп. Театра, 1817. С. XLII – XLIII. 39. Вяземский П.А. По поводу предыдущей статьи // Русский архив. 1869. Кн. 12. С. 2032 – 2045. 40. Вяземский П.А. Озеров // Вяземский П. А. Сочинения: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2. С. 294 – 302. 41. Вяземский П.А. Старая записная книжка. СПб.: Азбука-классика, 2012. – 416 с. 42. Вяземский П. А. Сочинения: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1982. 43. Гаршин Е. Владислав Александрович Озеров // Гаршин Е. Русская литература XIX в. Опыт истории. Том I. Вып. 2-й. СПб., 1893. С. 45 – 53. 44. Гаспаров М. Л. Элегия // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 1228–1229. 45. Гиллельсон М.И. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л.: Наука, 1969. – 391 с. 46. Гиллельсон М.И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л.: Наука, 1974. – 224 с. 47. Гиллельсон М.И. Материалы по истории арзамасского братства // Пушкин. Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 4. С. 287 – 326. 48. Гиллельсон М.И. О жизни и сочинениях В.А. Озерова. Комментарии // Вяземский П. А. Сочинения: В 2-х т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2. Литературнокритические статьи. С. 307 – 313. 49. Глинка С.Н. Записки. Спб., 1895. 50. Гордин М.А. Владислав Озеров. Л.: Искусство, 1991. – 207 с. 51. Гордин М.А. Искусство театрала // Жихарев С.П. Записки современника. Воспоминания старого театрала: В 2-х т. Л.: Искусство, 1989. Т. 1. С. 3 – 28. 179 52. Грамматин Н.Ф. Надписи к портретам русских писателей (Владислава Александровича Озерова) // Поэты 1790-1810-х годов. Л., 1971. С. 330. 53. Гуковский Г.А. Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965. – 354 с. 54. Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского // Державин Г.Р. Сочинения. Л.: Художественная литература. 1987. С. 77. 55. Державин Г.Р. Озерову на приписание Эдипа // Державин Г.Р. Избранная проза. М.: Сов. Россия, 1984. С. 267 – 268. 56. Державин Г.Р. Письма // Державин Г.Р. Сочинения. Л.: Худож. лит., 1987. С. 405 – 445. 57. Державин Г.Р. Объяснения на сочинения Державина относительно темных мест, в них находящихся, собственных имен, иносказаний и двусмысленных речений, которых подлинная мысль автору токмо известна; также изъяснение картин, при них находящихся, и анекдоты, во время их сотворения случившиеся // Державин Г.Р. Избранная проза. М.: Сов. Россия, 1984. С. 249 – 272. 58. Державин Г.Р. Приложение к оде «На взятие Варшавы». Из письма Державина к Мерзлякову. URL: http://philolog.petrsu.ru/derzhavin/arts/pvzjat1794/pvzjat1794.htm 59. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX в. XVIII век. Л.: Наука, 1969. – 354 с. 60. Дерюгина Л.В. Эстетические взгляды П.А. Вяземского // Вяземский П.А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 7 – 42. 61. Дубровина И.В. Функционирование сентименталистских кодов в поэтике современной драмы (на материале драматургии Николая Коляды): автореф. … канд. филол. наук. Москва, 2014. – 22 с. 62. Дудина Т.П. Эволюция этико-эстетической мысли в русской исторической драматургии XIX века: автореф. … доктора филол. наук. Елец, 2006. – 54 с. 180 63. Дудина Т.П. «Русская идея» как историософская основа русской исторической драматургии XIX века // Филоlogus. 2007. Т. 1-2. № 3. С. 152 – 165. 64. Жихарев С.П. Записки современника. Воспоминания старого театрала: В 2-х т. Л.: Искусство, 1989. 65. Жуковский В.А. Письма к А.И. Тургеневу. М.: Изд-е «Русского архива», 1895. – 322 с. URL: http://feb-web.ru/feb/zhukovsky/texts/rub__27.html?cmd=1&dscr=1 66. Жуковский и русская литература конца XVIII – XIX в. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. М.: Наука, 1988. – 319 с. 67. Западов В.А. Сентиментализм и предромантизм в России // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л.: Наука, 1983. С. 86 – 127. 68. Западов В.А. Литературные направления в русской литературе XVIII века. СПб.: ИМА-пресс, 1995. – 316 с. 69. Заярная И.С. Литературный контекст рубежа XVIII – XIX ст. в поэзии В. Капниста // Русская литература. Исследования. Сборник научных трудов. Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко; Ин-т лит-ры им. Т.Г.Шевченко. К.: «СПД Карпук С.В.» 2009. Вип. XIII. № 13. С. 4–17. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/31024 70. Зотов Р. Биография Озерова. Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров. 1842. Кн. 6. Отд. II. С. 1 – 21. 71. Зорин А.Л. Владислав Александрович Озеров // Русские писатели. 1800 – 1917. Биографический словарь. М.: Изд-во «Большая Российская Энциклопедия», 1999. Т. 4. С. 405 – 408. 72. Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла. Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: НЛО, 2001. – 524 с. 416 с. 73. Зубков Н.Н. Озеров // Русские писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. М.: Просвещение, 1990. Т. 2. С. 99 – 100. 74. Иванов Д. Становление литературной репутации А.А. Шаховского. Диссертация на соискание ученой степени magistrum atrium по русской литера181 туре. Тарту 2005. – 114 с. URL: http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/1125/ivanov.pdf?sequence=5 75. Иванов Д. В.А. Озеров и А.А. Шаховской: история взаимоотношений // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. V (Новая серия). Тарту: Тartu Ülikooli Kirjastus, 2005. С. 37–64. 76. Иванов Д. О литературной репутации В.А. Озерова: русский Расин // University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/index.shtml 77. Иванов Д. Формирование «озеровского мифа». Расин и Еврипид // URL: http://arhaist.livejournal.com/82431.html 78. Иванов Д. Роль В.А. Жуковского в формировании полемического образа Шаховского. URL: http://www.ruthenia.ru/document/535193.html 79. Иванов Д. О профессионализации русской драматургии в начале XIX века: к биографии А.А. Шаховского // Труды по русской и славянской филологии. VII. Тарту, 2009. С. 84 – 95. URL: http://www.ruthenia.ru/Trudy_VII/Ivanov.pdf 80. Иезуитова Р.В. Поэзия русского оссианизма // Русская литература. 1965. № 3. С. 53 – 74. 81. Историческая поэтика: литературные эпохи и типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. – 512 с. 82. История русского драматического театра: В 7 т. М.: Искусство, 1977. Т. 2. 83. История русской драматургии XVIII – первой половины XIX века. М.: Наука, 1984. – 468 с. 84. История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1981. Т. 2. От сентиментализма к романтизму и реализму. – 654 с. 85. Ищук-Фадеева. Н.И. Новаторство драматургии Чехова. Тверь: Изд-во Тверск. ун-та, 1990. – 84 с. 86. Кадышев В. Расин. М.: Наука, 1990. – 272 с. 182 87. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Повести. М.: Правда, 1980. – 607 с. 88. Капнист В.В. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л.: Наука, 1960. 89. Капнист В.В. Стихи В.В. Капниста к автору «Эдипа» // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. С. 432. 90. Катенин П.А. Размышления и разборы. М.: Искусство, 1981. – 374 с. 91. Кафанова О.Б. О статье Н.М. Карамзина «Оссиан» // Русская литература. 1980. № 3. С. 160 – 163. 92. Киселева Л.Н. Идея национальной самобытности в русской литературе между Тильзитом и Отечественной войной (1807 – 1812): автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту, 1982. – 16 с. 93. Классика русской литературы. Ч. I-ая. М.: Товарищество «Печатня» С.П. Яковлева, 1911. – 91 с. 94. Классическое направление в русской литературе // Семенов А.К. Планы и сочинения. Одесса: Книгоизд-во и Типография «Порядок», 1912. С. 43 – 46. 95. Козлов В.И. Русская элегия неканонического периода: типология, история, поэтика: автореф. … доктора филол. наук. М., 2013. – 42 с. 96. Кокшенева К.А. Эволюция жанра трагедии в русской драматургии XVIII века и проблема историзма: дис. … доктора филолог. наук. М., 2002. – 339. 97. Колесова С.Н. Лирика К.Н. Батюшкова в контексте жанрообразовательных процессов XIX-XX вв.: кластерный подход: автореф. дис…. канд. филол. наук. Новосибирск, 2011. – 22 с. 98. Колосков А.Н. Историческая драматургия Г.Р. Державина: художественная реализация мировоззренческих принципов: автореф. дис…. канд. филол. наук. СПб., 2000. – 24 с. 99. Корик Г. Энциклопедия сочинений для учащих и учащихся. Выпуск 5й. Карамзин. Дмитриев. Озеров. Батюшков. Одесса, 1891. – 101 с. 183 100. Корнилова Н.В. Оссиан // Краткая литературная энциклопедия: В 9ти т. М.: Советская энциклопедия. 1968. Т. 5. С. 485 – 486. 101. Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма. СПб.: Наука, 1994. – 282 с. 102. Кочеткова Н.Д. Трагедия и сентиментальная драма начала XIX века // История русской драматургии XVII – первая половина XIX века. Л.: Наука, 1982. С. 181 – 221. 103. Кочеткова Н.Д. Перевод книги Ж-Ф Лагарпа «Ликей, или Круг словесности древней и новой», осуществленный Российской академией // Российская Академия (1748 – 1841): язык и литература в России на рубеже XVIII – XIX веков. СПб., 2009. С. 132 – 140. 104. Кочеткова Н.Д. Русский сентиментализм. Итоги и проблемы изучения // Русская литература. 1978. № 2. С. 222 – 230. 105. Краснокутский В.С. «Арзамас» и его значение в истории русской литературы: автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 1974. – 25 с. 106. Криволапова Е.М. В.А. Озеров как феномен переходной эпохи // Традиции в русской литературе: Международный межвузовский сборник научных трудов/ Отв. ред. В.Т.Захарова. Нижний Новгород: НГПУ им. К.Минина, 2014. С. 11–18. 107. Критика первой четверти XIX века. М.: Олимп: АСТ, 2002. – 528 с. 108. Кузьмина В. Д. Русский демократический театр XVIII века. М.: Академия наук СССР, 1958. – 207 с. 109. Кузьмина Е.И. Неоклассицизм как литературно-эстетическое явление рубежа XVIII – XIX веков: автореф. дис. … канд. филол. наук, Оренбург, 2001. – 17 с. 110. Кулакова Л.И. О спорных вопросах в эстетике Державина // Державин и Карамзин в литературном движении XVIII – начала XIX века / ред.: П. Н. Берков, Г. П. Макогоненко, И. З. Серман. XVIII век. Вып. 8. Л.: Наука, 1969. С. 25 – 40. 184 111. Кулакова Л.И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. Л.: Просвещение, 1968. – 343 с. 112. Куницына Е.Н. Дискурс свободы в русской трагедии последней трети XVIII – начала XIX: дис…. канд. филол. наук. Екатеринбург, 2004. – 153 с. 113. Курилкин А., Майофис М. Литературная критика Александровского царствования // Критика первой четверти XIX века. М.: М.: Олимп: АСТ, 2002. С. 3 – 22. 114. Кутейников С.Е. Последний луч классической зари (К 240-летию со дня рождения В.А. Озерова) // Неизвестные знаменитости. Тверская старина. 2009. № 29. С. 150 – 162. URL: http://www.tverbook.ru/tver_old_29.php 115. Ларкович Д.В. Феномен авторского сознания Г.Р. Державина в контексте русской художественной культуры второй половины XVIII – начала XIX века: автореф. дис…. доктора филолог. наук. Екатеринбург, 2012. – 45 с. 116. Левин Ю.Д. «Поэмы Оссиана» Джеймса Макферсона» // Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. Л.: Наука, 1983. С. 46 – 501. 117. Левин Ю.Д. Оссиан в России // Макферсон Дж. Поэмы Оссиана. Л.: Наука, 1983. С. 502 – 529. 118. Лихачев Д.С. Два типа границ между культурами // Русская литература. 1995. № 3. С. 4 – 6. 119. Ломоносов М.В. Сочинения. М.: Современник, 1987. – 444 с. 120. Ломоносов М.В. Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1990. – 464 с. 121. Лотман Ю.М. Литературная биография в историко-культурном контексте (К типологическому соотношению текста и личности автора) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 365 – 376. 122. Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе русской культуры начала XIX века // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 269 – 286. 185 123. Лотман Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллин: Александра, 1992. Т. 1. С. 248 – 268. 124. Лотман Ю.М. Архаисты-просветители // Лотман Ю.М. Русская литература и культура Просвещения. М.: ОГИ, 1998. С. 239 – 252. 125. Лотман Ю.М. Успенский Б.А.Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 358. С. 248 – 297. 126. Луков В.А. Предромантизм. М.: Наука, 2006. – 688 с. 127. Луков В.А. Взаимодействие классицизма и предромантизма в драматургии конца XVIII – начала XIX в. (трагедии М.-Ж. Шенье, В. Альфьери, В. Озерова) // Типологические соответствия и конкретные связи в русской и зарубежной литературе: межвуз. сб. науч. тр. Красноярск: Изд-во Красноярского гос. ун-та, 1984. С. 33 – 47. 128. Майков Л.Н. Князь Вяземский и Пушкин об Озерове (По материалам Остафьевскаго архива). СПб., 1897. – 19 с. 129. Майков Л.Н. О жизни и сочинениях К.Н. Батюшкова // Батюшков К.Н. Сочинения: В 3-х т. С.-Петербург: Изданы П.Н. Батюшковым: 1885. Т. 3. URL: http://feb-web.ru/feb/batyush/texts/ps0/ps3/ps32088-.h 130. Майков Л.Н., Саитов В.И. Примечания // Батюшков К.Н. Сочинения: В 3 т. СПб.: П.Н. Батюшков, 1885 – 1887. Т. 2. С. 471. URL: http://feb- web.ru/feb/batyush/texts/ps0/ps2/ps22375-.htm 131. Максимович А.Я. Озеров // История русской литературы: В 10 т. / АН СССР. Ин-т лит. (Пушкинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941 – 1956. Т. V. Литература первой половины XIX века. Ч. 1. 1941. С. 156 – 182. 132. Макферсон Дж. Поэмы Оссиана / Подг. Д.Ю. Левин. Л.: Наука, 1983. – 590 с. 133. Мандельштам О.Э. «Есть ценностей незыблемая скáла…» // Мандельштам О.Э. «Сохрани мою речь…» Лирика разных лет. Избранная проза. М.: Школа-Пресс, 1994. С. 94. 186 134. Марков П.А. О театре: в 4 т. М.: Искусство, 1977. Т 1. Из истории русского и советского театра. 1974. – 542 с. 135. Марков П.А. Книга воспоминаний. М.: Искусство, 1983. – 607 с. 136. Медведева И.Н. Владислав Озеров // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 5 – 72. 137. Медведева И.Н. Екатерина Семенова. Жизнь и творчество трагической актрисы. М.: Искусство, 1964. – 332 с. 138. Мельникова С.И. Коцебу в России. Санкт-Петербург.: Изд-во СПб. ГАТИ, 2005.– 220 с. 139. Мерзляков. Фингал // Вестник Европы. № 9. Ч. XCII. С. 17 – 53. 140. Мерзляков А.Ф. Разбор трагедии «Поликсена» господина Озерова // Вестник Европы, 1817. № 4. Ч. 91. Отд. II. С. 269 – 500; № 5. Ч. 92. Отд. II. С. 17 – 53. 141. Месяцослов с росписью чиновных особ в Государстве, на лето от Рождества Христова. Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук, 1791. 142. Мильман В.Г. А.Ф. Мерзляков как литературный критик: дис. … канд. филол. наук. Самарканд, 1984. – 191 с. 143. Моисеева Г.Н. Национально-историческая тема в эпической поэме XVIII века // Русская литература. 1974. № 4. С. 35 – 53. 144. Мордовченко Н.И. Русская критика первой четверти XIX века. М.:Л.: Изд-во АН СССР, 1959. – 432 с. 145. Моров А.Г. «Три века русской сцены»: В 2-х томах. М.: Просвещение, 1978. 146. Нечипоренко Н.В. Традиции жанров драматургии русского предромантизма в пьесах Н.В. Гоголя: автореф…. канд. филол. наук. Казань, 2012. – 22 с. 147. Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. URL: http://www.rvb.ru/18vek/novikov/01text/02criticism/17.htm 148. Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. – 443 с. 187 149. Озеров В.А. Ода на кончину государыни императрицы Екатерины Великой в 1796 году // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 379 – 382. 150. Озеров В.А. Элоиза к Абеляру. Ироида. Вольный перевод с французского творения Колардо // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 359 – 375. 151. Озеров В.А. Благодарность автора «Эдипа» В.В. Капнисту за присланные стихи // Озеров В.А. Трагедии. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1960. С. 407 – 408. 152. Орлов П.А. Русский сентиментализм. М.: Изд-во Московск. ун-та, 1977. –271 с. 153. Очерки по истории русской журналистики и критики: В 2-х т. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1950.Том первый. XVIII век и первая половина XIX века. – 604 с. 154. Ошеров С.А. Сенека-драматург // Сенека. Трагедии. Серия «Литературные памятники. М.: Наука, 1983. С. 351 – 381. 155. Панченко А.М. «Великие стили»: терминология и оценка // Русская литература и культура Нового времени. СПб.: Наука, 1994. С. 166 – 177. 156. Пахсарьян Н.Т. К проблеме изучения литературных эпох: понятие рубежа, перехода и перелома // Литература в диалоге культур – 2. Материалы международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 2004. С. 12 – 17. 157. Письма В.А. Озерова А.Н. Оленину. 1808. 1809. // Русский архив. 1869. Кн. 1. С. 123 – 151. 158. Письмо В.А. Озерова к Ф.А. Голубцову // Русский архив. 1869. Кн.1. С. 151 – 152. 159. Повесть временных лет по Лаврентьевской летописи 1377 г. // Повесть временных лет. СПб.: Наука, 1996. Серия «Литературные памятники». С. 5 – 160. Позднякова К.С. П.А.Вяземский – критик пушкинского круга: дис. ... канд. филол. наук. М., 2013. – 162 с. 188 161. Потапов П.О. Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В.А. Озерова. Одесса: Тип. «Техник», 1915. – 959 с. 162. Проблемы историзма в русской литературе. Конец XVIII – начала XIX в.: XVIII век. Сб. 13. Л.: Наука, 1981. – 294 с. 163. Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века.– М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961. – 272 с. 164. Прозоров Ю.М. «И меланхолии печать была на нем…» Об основаниях поэтического мышления В.А. Жуковского. СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. – 366 с. 165. Прокофьева Е.А. Русская историческая драма эпохи барокко, классицизма и сентиментализма. Учебное пособие. Днепропетровск.: Изд-во «Свидлер А.Л.», 2008. – 116 с. 166. Проскурин О.А. Литературные скандалы пушкинской эпохи: Материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 6. М.: ОГИ, 2000. – 368 с. 167. Проскурин О.А. Новый Арзамас – Новый Иерусалим. Литературная игра в культурно-историческом контексте // НЛО. 1996. № 19. С. 73 – 129. 168. Пушкин А.С. Городок // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 1. С. 86. 169. Пушкин А.С. К Жуковскому // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 1. С. 173. 170. Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 8 – 184. 171. Пушкин А.С. Заметки на полях статьи П.А. Вяземского «О жизни и сочинениях В.А. Озерова» // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 7. С. 373 – 383. 172. Пушкин А.С. Мои замечания об русском театре // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 7. С. 7 – 11. 173. Пушкин А.С. О народности в литературе // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 7. С. 28 – 29. 189 174. Пушкин А.С. Письма // Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л.: Наука, 1978.Т. 10. С. 7 – 490. 175. Пушкин В.Л. К князю П.А. Вяземскому // Поэты 1790-1810-х годов. Л.: Сов. писатель, 1971. С. 678 – 680. 176. Разживин А.И. Трагедия Вл. Озерова «Фингал». К проблеме творческого метода драматурга // Взаимодействие жанров, художественных направлений и традиций в русской драматургии XVIII – XIX веков. Куйбышев: Изд-во Куйбыш. пед. ин-та, 1988. С. 50 – 88. 177. Расин Ж. Трагедии. Л.: Наука, 1977. – 432 с. 178. Родина Т. Русское театральное искусство в начале XIX века. М.: Издво АН СССР, 1961.– 320 с. 179. Русская литература XVIII века // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1981. Т. 1. С. 465 – 764. 180. Русская драматургия XVIII века. М.: Современник, 1987. – 542 с. 181. Русская периодическая печать (1702 – 1894): Справочник. М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1959. – 836 с. 182. Русская эпиграмма (XVIII – начало XX века). Л.: Сов. писатель, 1988. – 705 с. 183. Русские писатели. 11-20 вв. М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия»; Научно-внедренческое предприятие ФИАНИТ. М. 1992 – 1999. Т 4. Русские писатели. 1800-1917. – 704 с. 184. Русские писатели. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. М.: Просвещение, 1990. Ч. 2. – 448 с. 185. Русский архив. Историко-литературный сборник. 1869. Кн. 1.Вып. 7 – 8. 186. Семенов А.К. Темник-хрестоматия. Планы и сочинения. Курс VII Кл. гимназий. Вып. 1. Одесса: Книгоизд-во и Типография «Порядок» С.К. Цесарского, 1912. – 160 с. 187. Семенов А.К. Темник-хрестоматия: Сочинения с планами. Курс VII кл. Вып. 1 – 2. Одесса: Книгоизд-во М.С. Козмана, 1914. – 125 с. 190 188. Серман И. Явленье Озерова // Русская литература. 1999. № 1. С. 3 – 17. 189. Серман И.З. Несбывшаяся победа («Беседа любителей русского слова») // Русская литература. 2009. № 1. С. 256 – 257. 190. Серман И. Царская немилость (Судьба «Поликсены» В. Озерова) // Toronto Slavic 2005. Quaterly. № 12. URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/12/serman12.shtml 191. Серман И.З. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л.: Наука, 1973. – 284 с. 192. Сидорова Л.П. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В.А. Озерова «Димитрий Донской» // Записки Отдела рукописей Гос. библиотеки СССР им. Ленина. Вып. 18. М., 1956. С. 142 – 179. 193. Смирнов-Сокольский Н.П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII – XIX вв. М.: Книга, 1965. – 592 с. 194. Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха Классицизма. Л.: Наука, 1981. – 168 с. 195. Стенник Ю.В. О художественной структуре трагедий А.П. Сумарокова // XVIII век: Сборник. Вып. 5. М.:JI.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 273 – 294. 196. Стенник Ю. В. Роль Екатерины II в развитии русской литературы XVIII века // Русская литература. 1996. № 4. С. 3–20. 197. Стихотворная трагедия конца XVIII – начала XIX века. М.: Сов. писатель, 1964. – 632 с. 198. Тимофеев Л.В. В кругу друзей и муз. Дом А.Н. Оленина. Л.: Лениздат, 1983. – 287 с. 199. Томашевский Б.В. Пушкин. Кн. 1. (1813 – 1824). М.:Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – 743 с. 200. Тронский И.М. История античной литературы. М.: Высшая школа,1988. – 464 с. 201. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. – 574 с. 191 202. Тынянов Ю.Н. Предисловие к книге «Архаисты и новаторы» // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 395 – 396. 203. Тынянов Ю.Н. Архаисты и Пушкин // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М.: Наука, 1969. С. 23 – 121. 204. Тынянов Ю.Н. «Аргивяне», неизданная трагедия Кюхельбекера // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 93 – 117. 205. Устав Императорского шляхетного сухопутного кадетского корпуса // URL: http://www.ruscadet.ru/history/doc/ustav-1766.htm 206. Федосеева Т.В. Литература русского предромантизма (1790 – 1820): развитие драматических и прозаических жанров: автореф. дис…. доктора филол. наук. М., 2006. – 40 с. 207. Федосеева Т.В. Развитие драматургии конца XVIII – начала XIX века (русский предромантизм): Учебное пособие. Рязань: Изд-во Рязанск. гос. ун-та им. С.А.Есенина, 2006. – 200 с. 208. Федосеева Т.В. Предромантическая поэтика в драматургии Г.Р. Державина (жанр «театрального представления») // Державин глазами XXI века: к 260-летию Г.Р. Державина. Казань, 2004. С. 143 – 154. 209. Федоров В.И. От классицизма к романтизму. Формирование нового художественного стиля. Поиски нового поэтического содержания и форм его выражения // История романтизма в русской литературе. 1790 – 1825. М.: Наука, 1979. С. 42 – 89. 210. Фомичев С.А. Драматургия начала XIX в. Творчество А.С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума» // История русской литературы: В 4 т. Л.: Наука, 1981 – 1983. Т. 2. 1981. С. 204 – 234. 211. Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. М.: Наука, 1971. – 383 с. 212. Фризман Л.Г. Русский романтизм: проблемы, споры, перспективы // Русская литература. 1978. № 11. С. 256 – 277. 213. Фризман Л.Г. Жизнь лирического жанра. Русская элегия от Сумарокова до Некрасова. М.: Наука, 1973. – 168 с. 192 214. Фролов В. Судьбы жанров драматургии. М.: Просвещение, 1979. – 309 с. 215. Ходоров А.Е. «Думы» К.Ф. Рылеева и трагедия XVIII – начала XIX столетия // Русская литература. 1972. № 2. С. 120 – 126. 216. Чепуров А.А. А.П. Чехов и Александринский театр на рубеже XIX – XX веков: 1889 – 1902: автореф. дис…. доктора искусствоведения. СПб., 2006. – 57 с. 217. Чучвага А.А. У истоков западничества и славянофильства: проблема национального самосознания в русской литературной критике первой четверти XIX в. // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 6. Минск: БГУ, 2011. С. 84 – 90. 218. Эйхенбаум Б.М. С.П. Жихарев и его дневники // Жихарев С.П. Записки современника. М.:Л.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 672 – 690. 219. Энгельгарт Н. Литературная деятельность Озерова // Семенов А.К. Темник-хрестоматия: Сочинения с планами. Курс VII. Вып. 1. Одесса: Кн-во М.С. Козмана, 1914. С. 30 – 37. 193