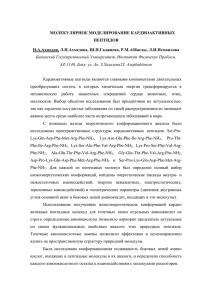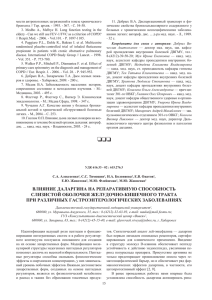Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный медицинский
advertisement

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации На правах рукописи Чердаков Виктор Юрьевич ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ ПРИ ТРАВМАХ КОЖИ И КОСТЕЙ Специальность: 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Научные руководители: Смахтин М.Ю., доктор биологических наук, профессор Дубровин Г.М., доктор медицинских наук, профессор Курск – 2014 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Стр. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………... 4 ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………. 12 1.1. Фармакологические эффекты пептидных лекарственных препаратов…. 12 1.1.1 Опиоидные пептиды и их эффекты……………………………………… 12 1.1.2 Фармакологические эффекты пептидных иммуномодуляторов………. 17 1.1.3 Влияние регуляторного пептида глицил-гистидил-лизина на функции организма………………………………………………………………….. 22 1.2 Изменения показателей гомеостаза при травмах и их фармакологическая коррекция…………………………………………………………………. 24 1.3 Репаративная регенерация поврежденных тканей………………………. 27 ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………………… 36 2.1 Экспериментальные исследования ……………………………………….. 36 2.2 Использованные препараты и способы их применения………………… 36 2.3 Экспериментальные модели и способы оценки репаративной регенерации кожи и костей …………………………………………………………….. 37 2.4 Гистологические исследования……………………………………………. 38 2.5 Оценка фагоцитарной активности нейтрофилов и кислородзависимых механизмов антиинфекционной защиты …………………………………….. 39 2.6 Определение оксидантных и антиоксидантных показателей крови……. 39 2.7 Статистическая обработка материала…………………………………….. 40 ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ …………. 41 3.1 Влияние глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина, а также их комбинаций на заживление кожных ран, функцию нейтрофилов и активность свободно-радикальных реакций при внутрибрюшинном введении… 41 3.2 Репаративная, иммунотропная и антиоксидантная активности глицилгистидил-лизина, тимогена, даларгина и их парных сочетаний в условиях кожных ран при внутрикожном введении ………………………………….. 3.3 Эффекты глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина и их комбина- 58 3 ций при внутрибрюшинном введении в условиях экспериментального перелома ………………………………………………………………………….. 73 3.4 Репаративные, иммунотропные и антиоксидантные эффекты глицилгистидил-лизина, тимогена, даларгина и их парных сочетаний при внутрикостном введении в условиях экспериментального перелома………………. 90 ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ………………. 102 ВЫВОДЫ……………………………………………………………………….. 112 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ………………………………………. 114 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ…………………………………………………….. 115 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………… 117 4 ВВЕДЕНИЕ Актуальность темы исследования. На протяжении последних 10-15 лет резко возросло количество травм по всему земному шару. В России травмы занимают уверенную вторую позицию в списке причин временной нетрудоспособности населения [4]. Процентное соотношение причин травм выглядит следующим образом: бытовые травмы – 56,1%, уличные - 17,5%, детские – 16,5%, спортивные – 6,8%, производственные – 1,3%, дорожно-транспортные –1,8%. Лидирующие позиции при бытовых травмах традиционно занимают ушибы, гематомы, ссадины - 31,9%, раны - 20,7 %; переломы - 17,3%. Травматические повреждения опорнодвигательного аппарата, кожных покровов и т.п. находятся на вершине структуры заболеваемости и зачастую приводят к инвалидности или смертности людей [25]. В связи с этим, по-прежнему актуален поиск новых эффективных средств, стимулирующих заживление поврежденных тканей [74]. В настоящее время для стимуляции репаративной регенерации кожи и костей применяются лекарственные средства, которые активируют иммунную систему организма, стимулируют синтез белка, улучшают усвоение кислорода клетками и тканями [43]. Известны также и методы физической стимуляции - магнитное [13, 128], электрическое [1], лазерное излучение [77], внедрение в очаг повреждения трансплантантов [121]. При этом пептидэргические способы активации регенерации кожи и костей требуют проведения дальнейшего комплексного исследования. Репарация кожи и костной ткани находится под контролем механизмов, в которых принимают участие основные регуляторные системы организма: нервная, эндокринная, иммунная. Компонентами этих систем являются пептидные молекулы, осуществляющие их взаимодействие [2]. Кроме того, такие пептидные препараты, как миелопид, семакс, тимоген, даларгин, иммунофан, дельтаран и другие, нашли применение в клинической практике, что свидетельствует о важном практическом значении этих исследований [14,98,135]. 5 Известен трипептид глицил-гистидил-лизин или Gly-His-Lys (GHL), который непосредственно стимулирует процессы роста и дифференцировки клеток [170]. Первоначально он был назван фактором роста клеток печени, так как одним из его первых обнаруженных эффектов было повышение выживаемости гепатоцитов in vitro [228]. Установлено также стимулирующее действие GHL на синтез коллагена фибробластами и накопление межклеточного вещества соединительной ткани [228,231,272,292]. При травмах наблюдаются существенные изменения в иммунной системе: неспецифическая активация иммунной системы в период первичных реакций на травму и ранних осложнений, посттравматическая иммуносупрессия в период последствий первичных реакций и шока, вторичные иммунодефициты в период поздних осложнений травмы [11,108]. В то же время получены убедительные данные о существенном влиянии иммунной системы на восстановительные процессы опорно-двигательного аппарата и кожи [11,127]. В связи с этим при травмах целесообразно дальнейшее выявление эффектов и механизмов действия пептидного иммуномодулятора - тимогена [Glu-Trp]. При этом известно, что нейтрофилы первыми из фагоцитов приходят в очаг воспаления и от их активности существенно зависит вероятность нагноения и длительность патологического процесса [137]. В тоже время, повреждение тканей и органов вызывает развитие окислительного стресса с повышенным образованием активных форм кислорода, что связано в развитием дисбаланса между про- и антиоксидантной системами организма [57,107,125]. Активация перекисного окисления липидов (ПОЛ) мембран клеток замедляет процессы регенерации тканей и увеличивает частоту воспалительных осложнений [113]. Поэтому при травмах также актуально изучение эффектов и механизмов действия лекарственных препаратов в отношении активности свободно-радикальных реакций и антиоксидантной системы организма. В связи с наличием болевого синдрома при травмах также представляется целесообразным выявление эффектов опиодных пептидов, являющихся компонентами стресс-лимитирующей системы организма [21]. Опиатные рецепторы для 6 энкефалинов обнаружены в большинстве органов и тканей [79] . Эти факты обусловили выбор для исследования аналога нативного лейэнкефалина – даларгина. В то же время, в нейроэндокринной регуляции значительный интерес представляют вопросы потенцирования или ослабления эффектов регуляторных пептидов [2], в связи с чем, также целесообразно изучение эффектов комбинированного введения пептидных субстанций. Степень разработанности темы исследования. В доступной литературе отсутствуют сравнительная оценка репаративных, иммунотропных и антиоксидантных эффектов пептидов различных функциональных групп при травмах кожи и костей, а также степени выраженности этих эффектов в зависимости от способа введения пептидов. Большинство выполненных исследований с пептидом GHL проведено in vitro, а не в условиях целостного организма. Кроме того, вопросы потенцирования или ослабления эффектов регуляторных пептидов остаются малоизученной областью медицины, а эффекты комбинированного введения таких пептидов как глицил-гистидил-лизин (GHL), тимоген и даларгин при травмах кожи и костей неизвестны. Цель исследования. Целью исследования является выявление репаративных, иммунотропных и антиоксидантных эффектов регуляторных пептидов глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина и их комбинаций при травмах кожи и костей. Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: • выяснить особенности влияния трипептида глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина и их комбинаций на репаративную регенерацию кожи, активность нейтрофилов и свободно-радикальных реакций при внутрибрюшинном введении. • выявить репаративные, иммунотропные, антиоксидантные эффекты глицилгистидил-лизина, тимогена, даларгина и их парных сочетаний в условиях кожных ран при внутрикожном введении. • установить особенности действия глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина и их комбинаций на выраженность репаративного остеогенеза, активность нейтрофилов и свободно-радикальных реакций при внутрибрюшинном введении. 7 • выявить репаративные, иммунотропные, антиоксидантные эффекты глицилгистидил-лизина, тимогена, даларгина и их сочетаний при внутрикостном введении в условиях экспериментального перелома. • провести сравнительную оценку эффективности глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина и их комбинаций при травмах кожи и костей. Научная новизна. Установлены репаративные и антиоксидантные эффекты регуляторных пептидов глицил-гистидил-лизина (GHL), тимогена, даларгина и стимулирующее действие тимогена и даларгина на активность нейтрофилов крови в условиях кожных ран, как при внутрибрюшинном, так и при внутрикожном способах введения. Показана более выраженная репаративная активность пептида GHL по сравнению с тимогеном или даларгином при внутрикожном способе введения в эквимолярных дозах. Выявлено синергичное действие парных комбинаций пептида GHL, тимогена и даларгина в отношении репаративной регенерации кожи, функции нейтрофилов крови и антиоксидантной активности при внутрибрюшинном и внутрикожном способах введения. Установлены репаративные, антиоксидантные эффекты пептида GHL, тимогена, даларгина и их стимулирующее действие на активность нейтрофилов крови при переломе трубчатых костей, как при внутрибрюшинном, так и при внутрикостном способах введения. Показана более выраженная репаративная активность пептида GHL по сравнению с тимогеном или даларгином при внутрикостном способе введения в эквимолярных дозах. Выявлено синергичное действие парных комбинаций пептида GHL, тимогена и даларгина в отношении репаративного остеогенеза, антиоксидантной активности и функции нейтрофилов крови при внутрибрюшинном и внутрикостном способах введения. Теоретическая и практическая значимость работы. Экспериментально показана перспективность применения пептида GHL в комбинации с пептидными препаратами даларгин и тимоген для стимуляции заживления кожных ран и репаративного остеогенеза. Выяснено, что при травмах кожи и костей проявление репаративных эффектов пептида GHL и его комбинаций с тимогеном или даларгином зависит от спо- 8 соба введения. Выявлена более выраженная репаративная активность пептида GHL и его комбинаций с тимогеном или даларгином при внутрикожном или внутрикостном способах введения по сравнению с внутрибрюшинным введением. Применение пептида GHL, тимогена и даларгина при травмах кожи и костей в парных сочетаниях сопровождается усилением репаративного эффекта с максимальной выраженностью в комбинации GHL+даларгин. Разработаны способы стимуляции репаративного остеогенеза (патент №2429002) и заживления кожных ран (патент №2452508). Выявленные особенности действия регуляторных пептидов могут быть учтены при экспериментальном или клиническом применении их аналогов. Внедрены и апробированы результаты работы: результаты работы используются в практической деятельности Курской биофабрики - фирмы «Биок» (акт внедрения №3 от 24.01.13 г.), а также в лекционных курсах и на практических занятиях кафедр фармакологии (акт внедрения №23 от 09.09.13), биологической химии (акт внедрения №25 от 09.09.13.), травматологии, ортопедии и ВПХ (акт внедрения №24 от 09.09.13) Курского государственного медицинского университета, кафедры адаптивной физкультуры и медико-биологических наук Курского филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) (акт внедрения №4 от 20.02.13 г.). Методология и методы исследования. Методологической составляющей диссертационного исследования стали труды отечественных и зарубежных ученых (М.Ю. Смахтина, 2004; А.А. Курцевой, 2009; L. Pickart, 2012). В диссертационной работе использованы биохимические, иммунологические, гистологические, рентгенологические методы исследования, а также основные правила работы с экспериментальными животными при доклинических исследованиях фармакологических препаратов. Основные положения, выносимые на защиту: • регуляторные пептиды глицил-гистидил-лизин (GHL), тимоген и да- ларгин в эквимолярных дозах сопоставимо стимулируют заживление кожных ран, проявляют антиоксидантную активность, а тимоген и даларгин повышают актив- 9 ность нейтрофилов крови. • в условиях кожных ран пептиды GHL, тимоген и даларгин в парных сочета-ниях обладают синергичным репаративным, антиосидантным, а также и иммуностимулирующим действием в отношении функции нейтрофилов крови. • пептиды GHL, тимоген и даларгин стимулируют репаративный остео- генез, а в парных сочетаниях обладают синергичным репаративным, антиоксидантным, а также и иммуностимулирующим действием в отношении функции нейтрофилов крови. • пептид GHL и его комбинации с тимогеном или даларгином более эффективны в отношении репаративной регенерации кожи и костей при местном, чем при внутрибрюшинном способе введения Степень достоверности и апробация результатов. Научные положения и выводы диссертационного исследования основаны на анализе экспериментального материала, полученного при проведении опытов с использованием современных иммунологических, биохимических, гистологических методов. Статистическая обработка осуществлялась с применением комплекса учетно-оценочных и аналитических показателей, адекватных математических методов и ЭВМ, что определяет высокую достоверность результатов. Основные положения диссертации представлены на международном молодежном научном форуме «Ломоносов-2007»; 2-ом международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-Петербургские научные чтения» (2007); II Международной (XI Всероссийской) Пироговской студенческой научной медицинской конференции (Москва, 2007); 71-й итоговой научно-практической конференции с международным участием, посвященной 130-летию со дня рождения профессора Войно-Ясенецкого и 65-лети КрасГМА (Красноярск, 2007); международной дистанционной научной конференции «Инновации в медицине» (Курск, 2008); международной научной конференции молодых ученых медиков (Курск, 2010, 2013); всероссийской научной конференции «Молодежная наука и современность» (Курск, 2007, 2008, 2010-2014); на заседании Курско-Старооскольской региональной общественной организации «Общество травматологов-ортопедов» (2012); III 10 международной конференции «Актуальные проблемы биохимии и бионанотехнологии» (Казань, 2012); XX российском национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2013); итоговой научной конференции сотрудников КГМУ, Центрально-Чернозѐмного научного центра РАМН и отделения РАЕН, посвященной 78-летию КГМУ (Курск, 2013, 2014); международной научно-практической конференции РГСУ (Курск, 2012, 2014); межкафедральной научно-практической конференции кафедр травматологии, ортопедии и ВПХ, фармакологии, патологической физиологии и биологической химии Курского государственного медицинского университета (2013). Связь задач исследования с проблемным планом медицинских наук. Диссертация выполнена в соответствии с планом научных исследований ГБОУ ВПО КГМУ Росздрава, тематикой проблемной комиссии «Фармакология, клиническая фармакология» (номер государственной регистрации 01201055012). Публикации. По материалам диссертации опубликовано 30 работ в центральной и местной печати, в том числе 4 в рекомендуемых ВАК изданиях. Получено 2 патента на изобретение. В работах содержится полный объем информации, касающийся темы диссертации. Личный вклад автора. Автором составлен план и дизайн исследования, проведен анализ отечественных и зарубежных источников литературы по теме диссертации, лично проводилось моделирование травматического повреждения кожных покровов и бедренных костей лабораторных животных, забор крови, анализировались лабораторные показатели процессов перекисного окисления липидов, функции нейтрофилов крови, репаративные процессы поврежденных тканей. Диссертантом самостоятельно выполнялись анализ и обобщение результатов, составление таблиц и графиков, написание диссертации, сопоставление с литературными данными. Доля автора в совместных публикациях составила 80-95%. Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 148 страницах машинописного текста, иллюстрирована 18 таблицами и 36 рисунками, состоит из введения, обзора литературы, описания методов исследования, изложения собственных результатов, их обсуждения, выводов, практических рекомендаций, спи- 11 ска сокращений, библиографического указателя, включающего 157 отечественных и 166 иностранных источников. 12 ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 1. 1 Фармакологические эффекты пептидных лекарственных препаратов 1.1.1 Опиоидные пептиды и их эффекты Опиоидные пептиды – это группа природных и синтетических пептидов, сходных с опиатами (морфин, кодеин и др.). Эти пептиды могут связываться с опиатными рецепторами организма [67]. Ученые экстрагировали опиоиды из мозга и гипофиза голубей, морских свинок, крыс [154]. Согласно современной классификации олигопептиды делятся на две группы - эндорфины и энкефалины [262] В работах Snyder S.H. (2004) и Janecka A. (2004) показано присутствие опиатных рецепторов в подавляющем большинстве органов и тканей млекопитающих [233,288]. Опиатные рецепторы классифицируются на µ-, γ-, δ- и орфаниновые [268]. Сродство эндорфинов и энкефалинов к различным типам опиатных рецепторов различно. Радиорецепторный анализ связывания показал сродство мет- и лейэнкефалинов к рецепторам дельта-типа; бета-эндорфин - к опиоидным рецепторам мю- и дельта-типа [167]. Gawley R.E. указал на способность эндогенных опиоидов соединяться с несколькими типами рецепторов [220, 260]. Локализация эндорфинов и энкефалинов существенно отличается. Эндорфины преимущественно находятся в гипоталамусе, таламусе, среднем мозге, передней и средней долях гипофиза [138]. Тогда как энкефалины широко представлены в желудочно-кишечном тракте, где они концентрируются в антральном отделе желудка и проксимальном отделе двенадцатиперстной кишки. Энкефалиноподобная активность также выявлена в эндокринных клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, телах нейронов межмышечного сплетения, тонких нервных волокнах подслизистой оболочки антрального отдела желудка и мышечной оболочки, а также в симпатических ганглиях и нервных волокнах некоторых периферических органов [138]. В настоящее время изучено 3 высокомолекулярных пептида, из которых по- 13 сле внутриклеточного расщепления образуются опиоидные пептиды [296,322]: проопиомеланокортин (ПОМК), проэнкефалин А и продинорфин [проэнкефалин В]. В структуре ПОМК обнаружены аминокислотные последовательности βлипотропина, адренокортикотпроного гормона (АКТГ), α-, β- и γ- меланоцитстимулирующих гормонов, α-, β- и γ-эндорфинов [263]. Проэнкефалин А является главным предшественником энкефалинов (метионин-энкефалина и лейцин-энкефалина). В его составе содержится 4 аминокислотные последовательности мет-энкефалина и одна лей-энкефалина, а также ряд продленных форм метэнкефалина: меторфамид, мет-энкефалин-Arg6-Gly7-Leu8, мет-энкефалин-Arg6Phe7, пептид Ф и группы родственных пептидов, входящих в состав пептида Е. В структуре препроэнкефалина В (или продинорфина) - обнаружены последовательности α- и β-неоэндорфинов, динорфинов, обладающих наибольшим сродством к опиатным рецепторам каппа-типа, а также лей-энкефалина [269]. Позднее Reisine T. в коже амфибий обнаружил четвертый предшественник опиоидных пептидов – продерморфин, являющийся источником дерморфина (мю-агониста) и дельторфина (дельта-агониста) [280]. Уровень регуляторных пептидов находится под контролем протеолитических ферментов [23,24]. Так, энкефалины разрушаются за счет ферментов внешней поверхности мембраны и биологических жидкостей: ангиотензинпревращающий фермент, эндопептидаза 24.11 (энкефалиназа А, нейтральная эндопептидаза 24.11, КФ 3.4.24.11) [277], аминопептидаза М [КФ 3.4.11.2] и ариламидаза (энкефалинаминопептидаза, КФ 3.4.11.) [223]. Известно, что работа и взаимодействие многих систем организма (нервной, иммунной, сердечно-сосудистой и т.д.) регулируется этими пептидами. Опиоиды найдены в антиноцицептивной системе, а также установлено их влияние на обмены веществ, поведение [166; 282, 313]. Доказано протекторное действие опиоидных пептидов на слизистую [71], регуляция продукции панкреатического сока [266], изменение метаболизма в клетках печени [289]. Эффекты опиоидных пептидов зависят от вида рецепторов и их локализации [246,323]. Экспериментально показано, что с мю-рецепторами связаны разви- 14 тие анальгезии, седативного эффекта, угнетение дыхания, миоз, эйфория, выраженная способность вызывать зависимость, ухудшение процессов обучения и памяти, угнетение перистальтики кишечника. При активации каппа-рецепторов возникает седация, анальгезия, незначительное угнетение дыхания, дисфория, психотомиметический эффект, ослабление процессов обучения и памяти. Дельтарецепторы вовлечены в процессы обезболивания, регуляцию пищевого и полового видов поведения [267,280]. Известно, что опиоиды нарушают нейтрофил-опосредованную защиту хозяина, путём взаимодействия с µ - , δ - или λ - опиатными рецепторами нейтрофилов [239]. Но в то же время, мет-энкефалин дифференцированно изменяет образование супероксиданиона (О2-) нейтрофилами различных доноров [247]. Возможно этот эффект связан с различной активностью протеолитических ферментов, вовлечённых в инактивацию этого нейропептида. На Т-лимфоцитах существуют три класса опиоидных рецепторов - мю [µ], дельта (δ) и каппа (λ) [238] и все они вовлечены в индуцированную конканавалином А пролиферацию этих клеток in vitro [238]. Введение селективных агонистов этих рецепторов в теменную область мозга приводит к дозозависимому снижению активности натуральных клеток-киллеров и пролиферации Т-лимфоцитов только при использовании DAMGO-селективного агониста µ - рецепторов, но не агонистов δ- или λ - рецепторов [261]. Поэтому, скорее всего, из мозговых опиоидных рецепторов в иммуномодуляции принимают участие, только центральные µ - рецепторы. δ- опиоидные рецепторы экспрессируются лимфоцитами в различных лимфоидных органах [209,285]. Непосредственная модуляция лимфоцитов через δ - опиоидные рецепторы нарушает пролиферацию Т-клеток, продукцию интерлейкина – 2, хемотаксис и внутриклеточную передачу сигнала [285]. Sharp B.M. et al. предположили, что, если такого рода опиоидную иммуномодуляцию направить на Т-клетки хозяина, то это может быть использовано в дополнение к стандартной антивирусной терапии к HIV – 1 инфекции, так как активация δ - опиоидных ре- 15 + цепторов CD4 Т клеток достоверно снижала экспрессию HIV-1 этими же клетками [285]. Но длительное воздействие (24-48ч.) агонистов δ - опиоидных рецепторов: пептидного DPDPE и непептидного BW373 U86 существенно снижает экспрессию М-РНК δ-опиоидного рецептора [315]. Некоторые опиоиды являются частичными агонистами опиатных рецепторов. К ним относятся, например, бупренорфин (частичный агонист мюрецепторов и блокатор каппа-рецепторов) и буторфанол (частичный агонист мюрецепторов и активатор каппа-рецепторов) [71]. В центральной нервной системе обнаружены эндогенные пептиды, специфически взаимодействующие с мюопиатными рецепторами названные эндоморфинами, а также пептид ноцицептин, оказывающий свой обеболивающий эффект через опиоидоподобные орфановые рецепторы [216]. В настоящее время синтезировано большое количество препаратов (агонистов опиатных рецеторов), широко применяющихся в различных отраслях медицинской практики (психиатрия и наркология, анестезиология, гастроэнтерология и др.) – даларгин, лоперамид, тримебутин, алвимопан и др. [268,280]. В России впервые в мире был синтезирован и активно изучен опиоидный пептидный препарат «Даларгин», представляющий собой гексапептид Тир-Д-АлаГли-Фен-Лей-Арг, отличающийся от нативного энкефалина наличием Д-аланина и аргинина. В крови даларгин расщепляется до нескольких фрагментов, 2 из которых обладают опиоидной структурой, а 2 других неактивны. Период полувыведения даларгина около 12 минут. Концентрация пептида через 30 минут после введения в 10 раз превышает физиологическую концентрацию энкефалинов в плазме. В течение двух минут препарат избирательно накапливается в тканях желудка и селезенки. Введение даларгина в организм осуществляется внутримышечно, внутривенно, подкожно, интраназально (пары даларгина при ингаляциях проникают в системный кровоток через слизистую оболочку носа в неизменном виде), так как в ЖКТ при приеме per os происходит гидролиз пептидов. Биодоступность при внутримышечном введении 15,6%, интраназальном 8,2% от его биодоступности при внутривенном введении [81] . 16 Показано, что даларгин предотвращает развитие дистрофических и атрофических изменений в слизистой оболочке желудка и тонкой кишки крыс [71,232]. Известно, что даларгин увеличивает секрецию ряда простагландинов в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки [193], усиливает выделение протективных веществ слизи в желудке, нормализует микроциркуляцию и лимфоток в зоне повреждений [15,75,193]. Через опиоидергическую систему даларгин проявляет разновекторный эффект на желчеотделение, который зависит от начального уровня физиологической секреции [253]. Препарат нормализует содержание катехоламинов, снижает цАМФ в кардиомиоцитах, уменьшает уровень протеаз, увеличивает ресинтез гликогена в миокарде, что восстанавливает ритм сердца и гемодинамику, способствует более раннему образованию рубца. В работе Ромашиной Н.В. сообщается об антифибрилляторном действии препарата [120,181,184]. Пептидный препарат даларгин снижает активность панкреатических ферментов и кининов, стимулирует ингибиторную систему протеолитических ферментов [84,153,184]. Показана активация гексапептидом процессов регенерации в ряде тканей: кожа, подкожная клетчатка, нервная и костная ткани, печень, роговица [56,79,199,201,241,255], тормозящее влияние на канцерогенез [5]. В работах Сеина Б.С. [2009] и Коста Н.В. [2007] экспериментально доказан стресслимитирующий эффект даларгина, а также его адаптогенные свойства [67,126]. В ряде исследований продемонстрированы антиоксидантные свойства препарата [169,198]. В настоящее время даларгин широко применяется как компонент внутривенной анестезии при оперативных вмешательствах [58,114,147]. Выявлены иммунотропные эффекты препарата. Даларгин обладает модулирующим влиянием на пролиферативную активность лимфоцитов [50,258]. В доступной литературе имеются доклады о фармакологических свойствах опиоидного пептида DAGO. Этот пептид имеет высокое сродство к мюрецепторам [75,237]. Ученые разных стран указывают на ряд эффектов DAGO анальгетический [99], антиаритмический [95], антивогипоксический [27], поведенческий [99], стимуляция репаративного остеогенеза. DAGO повышает цитоли- 17 тическую активность натуральных киллеров в слабо отвечающих популяциях клеток in vitro и снижает активность этих клеток в высоко активных популяциях, в связи, с чем можно предположить иммунорегуляторное действие этого опиоида на активность натуральных киллеров [264]. Свои свойства DAGO реализует через мю-рецепторы, тем самым, воздействуя на синтез вторичных мессенджеров – циклических АМФ и ГМФ. Известен пептид DSLET – селективный агонист δ-опиатных рецепторов. Экспериментально показана его способность стимулировать противовирусную и противоопухолевую активность, регулировать антителообразование, воздействовать на функцию печени и других органов пищеварительной системы [51]. Таким образом, несмотря на то, что агонисты опиатных рецепторов в настоящее время нашли широкое применение в клинической практике, в доступной литературе по-прежнему мало данных о влиянии опиоидых пептидов на процессы репаративной регенерации поврежденных тканей в эксперименте и клинике, а также их сочетании с другими лекарственными средствами. 1.1.2 Фармакологические эффекты пептидных иммуномодуляторов Иммуномодуляторы (иммунокорректоры) - это лекарственные препараты, восстанавливающие функции иммунной защиты [234]. В настоящее время иммуномодуляторы классифицируются по происхождению на 6 основных групп: микробные, тимические, костномозговые, цитокины, нуклеиновые кислоты или полученные в результате направленного химического синтеза [141]. Из пептидогликана клеточных стенок бактерий был выделен микробный иммуномодулятор мурамилдипептид, обладающий также пирогенной активостью. Позднее был синтезирован микробный препарат третьего поколения – ликопид, который состоит из природного дисахарида – глюкозаминилмурамила и присоединенному к нему синтетического дипептида – L-аланил-D-изоглутамина [111]. Препарат стимулирует функциональную активность фагоцитов, усиливает пролиферацию Т- и В-лимфоцитов, повышает синтез специфических антител[111]. 18 Препарат костно-мозгового происхождения миелопид представляет собой сочетание биорегуляторных пептидных медиаторов – миелопептидов [85]. Эффекты различных миелопидов в отношении иммунной системы не одинаковы: повышение функциональной активности Т-хелперов; угнетение пролиферации злокачественных клеток; активация фагоцитарной активности лейкоцитов. Например, препарат серамил обладает антибактериальным действием [87], препарат бивален – противоопухолевым эффектом [142]. Известно, что цитокины участвуют в регуляции иммунного ответа. Цитокины - небольшие пептидные информационные молекулы. На их основе производится большое разнообразие иммуномодулируюших препаратов (естественные, рекомбинантные) [137]. К первой группе относятся лейкинферон и суперлимф, ко второй – бета-лейкин, ронколейкин и лейкомакс (молграмостим). К подгруппе низкомолекулярных иммуномодуляторов относятся 3 синтетических олигопептида: гепон, глутоксим и аллоферон. Гепон - синтетический пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков: Thr-Glu-Lys-Lys-Arg-Arg-Glu-Thr-Val-Glu-Arg-Glu-Lys-Glu. Препарат оказывает положительный эффект при иммунодефицитных состояниях, при лечении инфекций слизистых и кожи [103]. Препарат глутоксим составляет динатриевая соль глутамил-цистеинилглицина. Показания к назначению трипептида следующие - вторичные иммунодефициты, хронические гепатитах (B и C). Кроме того, глутоксим эффективен при профилактике гнойных осложнений [131]. Аллофероны - подгруппа цитокиноподобных пептидов иммунной системы насекомых. Препараты корригируют антивирусный и противоопухолевый иммунитет человека. Аллофероны способствуют индукции синтеза эндогенных интерферонов, активации системы естественных киллеров; активируют распознавания и лизис дефектных клеток цитотоксическими лимфоцитами. Пептиды эффективны при лечении гепатита, герпеса, папилломавирусной инфекции [146]. Другая составная часть цитокиновой сети - интерфероны и индукторы интерферонов. По данным Вербицкого В.И. (2002) помимо мощного противовирус- 19 ного эффекта, изучено их действие в отношении всех клеток иммунной системы [100,286]. Открытие регуляторных пептидов центральных органов иммунитета (тимуса и костного мозга), послужило толчком к разработке новых иммунокорригирующих средств [36]. А. Гольдстайн и соавт. в 1966 выделили тимозин из полипептидных экстрактов тимуса. Далее ученые получили Т-активин, представляющий собой комплекс пептидов, экстрагированных из тимуса крупного рогатого скота. Однако тимические препараты представляли собой смесь биологически активных пептидов, что являлось их существенным недостатком [155]. Далее были созданы синтетические аналоги природных гормонов тимуса (препараты II и III поколений) [22]. Представителем этой группы препаратов является гексапептид иммунофан (аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозиларгинин), который одновременно является антиоксидантом, иммунорегулятором и гептопротектором [44]. Впоследствии были выделены и другие пептидные экстракты тимуса – Тактивин, тималин, тимунокс и др. [81]. Позднее различными учеными было установлено, что для индукции регуляторного сигнала в системе необходим двухаминокислотный фрагмент. Детальный структурный анализ тимозинов, тимопоэтинов и других тимических пептидов обратил внимание ученых на находящийся в их составе дипептид Lys-Glu. Так был синтезирован иммуномодулятор Lys-Glu - вилон [88,138]. Дипептид Glu-Trp (тимоген) является тимомиметиком, обладающим всей совокупностью иммуномодулирующих реакций [36]. При внутримышечном и интраназальном введении тимоген быстро попадает в системный кровоток, накапливаясь в тропных органахи тканях - лимфоузлы, печень, почки, надпочечники, селезёнка, тимус, сыворотка крови. Период полувыведения пептида составляет около 1 часа. В основном в организме происходит биотрансформация тимогена и лишь незначительно – почечная экскреция. Элинимация с желчью данного препарата происходит в минимальных количествах. 20 Продукты катаболизма тимогена – это входящие в его остав 2 аминокислоты глутаминовая кислота и триптофан [265]. В исследованиях in vitro установлено модулирующее действие тимогена на продукции цитокинов [88], в частности, ИЛ-1α, ИЛ-8 и ФНОα. [130]. Дипептид способен повышать цитотоксическую активность Т-лимфоцитов селезенки сенсибилизированных морских свинок, и в тоже время не влиять на этот показатель Тлимфоцитов селезенки интактных животных, то есть препарат «работает» только при наличии изменений в системе иммунитета [12,236]. Тимоген способен угнетать канцерогенез у самок крыс и оказывать геропротективное действие [5,183,242]. Морозов В.Г. и др. (2000) сообщают о противовоспалительной активности тимогена, а также его способности ингибировать развитие гистаминового и серотонинового отека [88]. Показано антидепрессивное и психостимулирующее действие тимогена [152]. Тимоген увеличивал число иммунных розеткообразующих клеток к гамма-аминомасляной кислоте (ГАМК), дофамину и норадреналину [88]. Хорошо зарекомендовал себя тимоген в комплексной терапии большого количества инфекций [299,311]. В терапевтической практике тимоген применяется при широком круге заболеваний внутренних органов. Тимоген входит в состав комплексной терапии воспалительных заболеваний легких [301] .На фоне приема дипептида снижалась интенсивность внутрисосудистого свертывания крови, повышался уровень ангиотензина III, происходит активация фибринолиза [36]. Саидахмедова З.Т. (2000) и Резников К.М. [1998] показали эффективность тимогена в лечении острого панкреатита, неспецифического язвенного колита, перитонита и сепсиса [283,310]. Показана экспериментально антиоксидантная активность дипептида [97,299]. Резниковым К.М. и соавт. установлено антиаритмическое действие, противоишемическое действие тимогена [91,275,298]. На фоне его применения у больных с ишемической болезнью сердца наблюдалось восстановление структурнофункциональных показателей иммунитета [36]. Учеными доказано протективное 21 действие препарата при развитии некроза и жировой дистрофии гепатоцитов [243]. Выявлена радиопротективная активность тимогена в широком диапазоне доз острого облучения [36,287]. Положительные эффекты дипептида установлены и при заболеваниях кожных покровов. У всех больных наблюдалось ускорение рубцевания и эпителизации [36,70]. Известно также применение иммуномодулятора тимогена при лечении синдрома длительного сдавливания (СДС), для которого характерно обширное разрушение мягких тканей, генерализованный и длительный процесс микроциркуляционных нарушений, вовлечение в патологические реакции всех систем организма и высокий риск развития гнойно-воспалительных осложнений [36]. Таким образом, современные иммуноактивные лекарственные средства пептидной природы, обладающие ярко выраженным тимомиметическим эффектом, являются компонентом комплексной терапии механических и термических травм, а также компонентом комплексного лечения и реабилитации хирургических больных. Причем особого внимания заслуживает применение тимогена, который в составе средств комплексной терапии позволяет снизить риск развития гнойных осложнений и ускорить восстановительные процессы. Комплексное лечение с использованием данного препарата существенно улучшает клиническое течение и прогноз заболеваний у пациентов с хирургической патологией и пострадавших от травм. В связи с этим использование иммуномодуляторов с целью сокращения сроков реабилитации больных с различными травмами является одним из перспективных направлений современной медицины. Однако в доступной литературе отсутствуют сведения о результатах применения тимогена в сочетании с другими пептидами, что может быть использовано для разработки способов активации репаративной регенерации поврежденных органов и тканей организма. 22 1.1.3 Влияние регуляторного пептида глицил-гистидил-лизина на функции организма В настоящее время учеными выделена определенная группа пептидов, способная оказывать влияние на процессы физиологической и репаративной регенерации тканей [200,219,225,235]. Такие пептиды, способные регулировать клеточную активность, называются матричными. Одним из представителей этой группы пептидов является глицил-гистидил-лизин, имеющий формулу NH2-Gly-L-His-LLys-COOH (GHL). Он является активатором образования и восстановления нормального состава экстрацеллюлярного матрикса [297,302,316]. Первоначально GHL был обнаружен в плазме крови, трипептид увеличивал выживание нормальных клеток печени in vitro, вследствие чего был назван фактором роста клеток печени [227,231,272,273,274]. В ходе многочисленных исследований было показано, что GHL является хемотаксическим агентом для моноцитов/макрофагов и клеток костного мозга [158], активизирует регенерацию нервной ткани [273] и стимулирует ангиогенез in vivo [273]. Ряд исследователей указывает на физиологическую роль этого пептида, в частности, в отношении процессов ранозаживления [292]. Известно, что GHL вступает в соединения с ионами различных металлов, в частности, с катионом меди Cu (ІІ) [208], с ионами кобальта, железа, молибдена, марганца, никеля и цинка [158]. Выявлена антиинфекционная активность GHL, так как он предупреждает высвобождение железа, ионы которого способствует размножению патогенных микроорганизмов [187,200]. GHL может играть существенную роль в заживлении ран [162,203,291]. На модели кожных ран у крыс и в культуре кожных фибробластов крыс было исследовано стимулирующее влияние GHL на синтез гликозаминогликанов и малых протеогликанов [202,316]. Этот эффект дополнялся активацией синтеза коллагена I типа. Также GHL оказывал стимулирующее влияние на накопление хондроитин сульфата [194,251]. 23 Показано, что комплекс GHL с коллагеном (PIC), применяемый местно в виде аппликаций у мышей с открытыми ранами кожи, стимулирует заживление ран при сахарном диабете [173,250], в условиях нарушенного кровообращения [180]. В условиях экспериментальной иммуносупрессии синтез коллагена у лабораторных животных составлял 23% от нормального, тогда как на фоне введения GHL он поднимался до 77% [204]. Также в коже мышей, обработанной PIC, повышался уровень глутатиона и аскорбиновой кислоты, что способствовало росту фибробластов [215]. При этом эффекты PIC оказались выше, чем при обработке ран одним коллагеном. Кроме того, известно, что GHL сам по себе усиливает синтез коллагена фибробластами и увеличивает количество фибробластов in vitro [292], активирует фибробласты и тучные клетки, благодаря чему ускоряет эпителизацию [178]. Glycyl-L-histidyl-L-lysine активирует аутокринную продукцию факторов роста фибробластами (оФРФ, ТФР-ß, сосудистого эндотелиального фактора роста), что также способствует ускорению процессов регенерации [180,197,302]. Трипептид GHL увеличивает экспрессию экстацеллюлярных матричных макромолекул на различных этапах заживления ран, повышает накопление межклеточного вещества соединительной ткани и, тем самым, ускоряет ее образование [228,302,316]. Установлено, что последовательность аминокислот глицин-гистидин-лизин присутствует в α 2 - цепи коллагена I типа [292]. Ряд исследователей полагает, что GHL освобождается из коллагена, содержащим такую же аминокислотную последовательность, под влиянием протеаз [292]. Также экспериментально было доказано, что Glycyl-L-histidyl-L-lysineCu[II] активирует экспрессию проматричной металлопротеиназы-2 и матричной металлопротеиназы-2 на поздних стадиях ранозаживления (18-22 сутки), тогда как в контрольной группе крыс эти ферменты исчезают к этим срокам [302,303]. GHL также увеличивает количество остеобластов и стромальных клеток костного мозга в эксперименте, стимулирует пролиферацию хондроцитов [160,187]. В экспериментальных и клинических исследованиях доказано, что пептид 24 стимулирует рост волос [272,300,308], уменьшает выпадение волос после химиотерапии [170]. Выявлены антиоксидантные эффекты фактора роста GHL [274,321]. Показано, что внутрибрюшинные инъекции трипептида GHL стимулируют митотическую активность гепатоцитов [306]. Установлено, что эффекты глицил-гистидиллизина, очевидно, связаны не только с пептидом, но и с действием составляющих его аминокислот [72,165,205,296]. Введение глицина приводило к повышению фагоцитарного индекса (ФИ), фагоцитарного числа (ФЧ) и функционального резерва нейтрофилов (ФРН) за счет усиления уровня индуцированной реакции теста восстановления нитросинего тетразолия. Введение лизина сопровождалось усилением поглотительной способности нейтрофилов, так как повышалось ФЧ. Вероятно, репаративные эффекты лизина усиливают и пролонгируют ранозаживляющую активность пептида глицил-гистидил-лизина [72]. Таким образом, большое количество исследований, посвященное изучению вопроса стимуляции репаративной регенерации различных тканей, указывает целесообразность продолжения исследований в данном направлении. По-прежнему остаются малоизученными вопросы сравнительного действия пептидных препаратов, не до конца выяснены их эффективные дозы и комбинации при различных способах введения. 1.2 Изменения показателей гомеостаза при травмах Известно, что воздействие травмирующего агента на живой организм сопровождается развитием стресса. При возникновении первичной стресс-реакции организма первоначально происходит активация нервной системы. При стрессе многие физиологические системы приходят в полнофункциональное состояние, и, как следствие, резистентность организма увеличивается. Исследования показали, что развитие стресса всего зависит от гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы [32]. 25 Травматическое повреждение сопровождают процессы, регулируемые иммунной и эндокринной системами, а также органами кроветворения [54]. Патогенетические составляющие иммунных нарушений претерпевают значительные изменения в ходе последовательной смены этапов после травмы: шокового, раннего постшокового, позднего постшокового и периода реабилитации [105]. Анализ изменений иммунной системы при механической политравме свидетельствует о формировании множественных изменений со стороны системы иммунитета и неспецифической защиты [124]. При повреждениях тканей выявлено достоверное угнетение функциональной активности фагоцитов [195], определявшееся по тесту восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест). В тоже время известно, что в патогенезе гнойно-септических осложнений при травме ведущее место занимает супрессия фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов [133].Наибольшая супрессия НСТ-теста отмечена на 3-и -10-е сутки после травмы. При травматизации тканей наблюдается развитие анемии и гипоксии, кроме того, возрастает концентрация клеточных протеаз в зоне повреждения. Как следствие, активируются коагуляция и фибринолиз, калликреин-кининовая система, система комплемента. Впоследствии нарастает количество различных активированных клеток, в воспалительную реакцию включается эндотелий сосудов, и происходит генерализация воспаления, то есть формируется системный воспалительный ответ (СВО) [124]. При генерализации воспалительной реакции наблюдается повышенная секреция провоспалительных цитокинов и нарушение процессов цитокиновой регуляции [46,144,145]. Анализ цитокинового статуса в ранние сроки после травмы показал, что в системной циркуляции возрастают уровни фактора некроза опухолей альфа (ФНОα), растворимых рецепторов первого типа к ФНОα, а также интерлейкина-1 бета (ИЛ-1β), а также ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10 и простагландина Е2 [163,207,248,278]. Однако выделение мононуклеарами ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-3 сокращается [318]. 26 Известно, что стресс сокращает массу тимуса за счет разрушения лимфоидных структур его коркового слоя. На фоне вторичного иммунодефицита наблюдается снижение количества Т- и В-лимфоцитов, супрессия их функции, снижение концентрации иммуноглобулинов в плазме крови, а также дисбаланс метаболизма в иммунокомпетентных клетках [182]. Таким образом, разнообразные иммунные нарушения в клеточных звеньях иммунной системы и выраженные расстройства цитокиновой регуляции процессов иммунореактивности, а также интеграционно-регуляторных функций иммунной системы являются ведущими звеньями иммунопатогенеза травматической болезни. Нарушенный метаболизм в травмированных органах и тканях обязательно сопровождается окислительным стрессом, влияющим на перекисное окисление липидов (ПОЛ) [47,96]. Усиление ПОЛ и нарушение состояния антиокислительной системы (АОС) выявлено при травматическом шоке [132], острых хирургических заболеваниях [96], инфаркте миокарда [107], тяжелой сочетанной травме [28,151] и других критических состояниях. Стресс-реакция, гипоксия и воспаление являются мощным толчком для активации ПОЛ в организме [49,116]. Повреждение тканей и органов вызывает активацию окислительного стресса, а также развитие дисбаланса про- и антиоксидантной систем [107]. У больных с различными переломами костей происходит замедление регенерации, также возрастает процент воспалительных осложнений [113]. Продукты радикального окисления липидов мембран, образующиеся в большом количестве после травмы, принимают участие не только в патогенезе критических состояний, но и определяют соотношение между реактивностью и резистентностью организма [116]. Известно применение металлосодержащих белков (церулоплазмин, трансферрин, лактоферрин), как компонента антиоксидантной терапии при травме [57]. Защитное действие этих белковых комплексов основано на окислении ионов Fe2+ до Fe3+ [168]. В клинике применяется препарат янтарной кислоты цитофлавин, подавляющий активность ПОЛ и обладающий антиоксидантным эффектом. Также 27 он способен нормализовать гемодинамические, микроциркуляторные, коагуляционные и метаболические параметры [115]. Антиоксидант изотиорбамин сокращает накопление продуктов ПОЛ в экстрактах костной ткани [59]. Показано, что стандартная комплексная терапия в сочетание с местным применением иммуномодуляторов (например, Т-активин) стимулирует тканевые репаративные процессы и препятствует возникновению гнойно-воспалительных осложнений [122]. Выявлена эффективность цитокиновой иммунотерапии при переломах костей. В клинических исследованиях препарат суперлимф устраняет дисбаланс между цитокинами про- и противоспалительной групп, а также нормализует концентрацию трансформирующего фактора роста бета (ТФР-β) [89]. Таким образом, приведенные данные литературы показывают, что для коррекции иммунодефицитного состояния и окислительного стресса при травмах применяются препараты различных фармакологических групп. Однако, многообразие метаболических нарушений в посттравматический период диктует необходимость разработки комплексных фармакологических подходов к коррекции этих состояний, с которыми один препарат зачастую не справляется. Поэтому поиск и разработка новых фармакологических препаратов с разными механизмами действия, а также выявление их эффективных комбинаций, представляется актуальной задачей. 1.3 Репаративная регенерация поврежденных тканей Регенерация (от латинского regeneration – возрождение, восстановление) – обновление структур организма в процессе жизнедеятельности и восстановление структур, утраченных в результате патологических процессов. Различают физиологическую и репаративную регенерацию [90]. Физиологическая регенерация – непрерывное обновление структур на клеточном (смена клеток крови, эпидермиса, печени и др.) и внутриклеточном (обновление клеточных органелл) уровнях, благодаря чему обеспечивается функционирование органов и тканей. 28 Репаративная регенерация – процесс ликвидации структурных повреждений после действия патогенных факторов. В ее основе лежат такие же механизмы, как и при физиологической регенерации, она отличается лишь большей интенсивностью проявлений [276]. Репаративную регенерацию, в процессе которой восстанавливается ткань, аналогичная погибшей, называется полной, или реституцией. Иногда в результате репаративной регенерации формируется не специфическая ткань, а рубец. Это явление носит название неполной регенерации или субституции. Учеными выделяется патологическая регенерация, которая характеризуется затяжным течением. Нередко она сопровождается формированием длительно незаживающих язв, ложных суставов [218]. Процесс регенерации происходит на всех уровнях – органном, тканевом, клеточном, внутриклеточном. В его основе лежит деление клеток, обновление внутриклеточных структур и их размножение. Заживление острых ран характеризуется стадийностью: коагуляция, воспаление, синтез матрикса, ангиогенез, фиброплазия, эпителизация, контракция и ремоделирование рубца [281]. В итоге формируется рубец с небольшим фиброзом, а, в конечном счете, наблюдается нормализация структуры и функции организма [222]. В фазу воспаления активируется клеточный и сосудистый ответы, рана освобождается от омертвевших тканей, инородных частиц. Первичный сосудистый ответ на травму (вазоконстрикция) развивается в течение 5-10 минут с целью коррекции гемостаза. Затем возникает вазодилятация, которая приводит к увеличению капиллярной проницаемости. Позднее происходит адгезия тромбоцитов в месте травмы, необходимая для образования сгустка. Известно, что тромбоциты имеют в своем составе факторы роста - тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), фибробластический фактор роста (FGF), эпидермальный фактор роста (EGF) и др. [248]. Увеличенная сосудистая проницаемость способствует проникновению по- 29 лиморфонуклеарных нейтрофилов (ПМН) и мононуклеаров в очаг повреждения. Образующийся в ране фибронектин является основой для мигрирующих фибробластов. В начале в ране появляются ПМН, а затем - мононуклеарные лейкоциты. Нейтрофилы способны образовывать свободные кислородные радикалы и секретировать лизосомные энзимы с бактерицидной целью [290]. Каркас сформировавшегося экстрацеллюлярного матрикса составляют фибронектин и гиалуронаты. Фибробласты способны к адгезии на этом матриксе. Известно, что фибробласты секретируют гликозаминoгликаны (GAG) и коллаген участвующие в процессе ранозаживления [192,204]. Фазу фиброплазии сопровождает процесс образование новых сосудов. Эндотелий капилляров повышает концентрацию энзимов, разрушающих фибриновый сгусток и рубцовую ткань. Как известно, коллагеновый синтез берет начало внутри клетки и продолжается внеклеточно. Фермент коллагеназа регулирует балансом между синтезом и разрушением коллагена [217]. Фаза созревания характеризуется равновесием между продукцией коллагена и его деградацией. Впоследствии запускается процесс ремоделирования тканей в рубце [224,245]. Фаза эпителизации раны представляет собой сложный процесс, в ходе которого происходит миграция, деление и клеточная дифференцировка эпителиоцитов [256]. Одним из основных механизмов заживления открытых ран является раневая контракция. Однако зачастую в ходе этого процесса формируются структурные и функциональные отклонения. Раневая контракция начинается в среднем на 7-8 сутки после ранения и осуществляется благодаря миофибробластам [179,213]. Так на сегодняшний день выглядят представления о фазности раневого процесса, доказана неразрывность и закономерная смена фаз. Однако продолжительность этих этапов заживления ран разнится. Современная медицина располагает большим арсеналом лекарственных средств с различными механизмами действия, ускоряющих отдельные фазы раневого процесса. Так, например, в фазе воспаления препарат должен обладать бак- 30 терицидными, дегидратирующими и некролитическими свойствами. В фазы регенерации и эпителизации необходимо ускорение роста грануляций, протекция грануляционной ткани от инфицирования [16,92]. Широко распространено местное медикаментозное лечение ран. Достаточно часто лекарственной формой является мазь. Однако, их жировая основа (вазелин, ланолин) очень гидрофобна, что препятствует смешиванию с раневым экссудатом. В ряде исследований показано замедление элиминации некротических тканей, снижение скорости оттока экссудата [76]. Известен способ ускорения заживления ран, заключающийся их в обработке местным перевязочным композитом на гелевой основе, содержащим синтетический ингибитор свободнорадикальных реакций (тонарол) и дипептид - карнозин (аланил-гистидин) [19]. Подвергнут серьезной критике способ лечения ран протеолитическими ферментами. Доказано, что в короткие сроки происходит инактивация протеаз вследствие воздействия на них тканевых и сывороточных ингибиторов крови [33]. Кроме того, в кислой среде активность ферментов падает [69]. Известно, что коллаген интактен по отношению к протеазам, именно поэтому они не могут обеспечить полноценного очищения раны. Попытки использования коллагеназ в фазу очищением раны не увенчались успехом. Также снижение концентрации протеаз в ране происходит вследствие их механического удаления с раневым отделяемым [69]. В настоящее время в клинической практике применяются энзимные препараты - вобэнзим, флогэнзим, вобэ-мугос. В состав этих препаратов входят высокоактивные ферменты растительного и животного происхождения. Энзимы регулируют проницаемость сосудов, нормализуя микроциркуляцию и уменьшая отек. Кроме того, снижается инфильтрация интерстиция, возрастает выведение белкового детрита и фибрина в заживающей ране [41]. Уверенную позицию в лечении ран занимают методы физического воздействия, такие как лазерное излучение, ультразвуковая кавитация, использование энергии физической плазмы и др. [244]. 31 Репаративная регенерация костной ткани – это формирование костной ткани в области повреждения кости с целью её полноценного структурнофункционального восстановления [127]. Костная ткань восстанавливается за счет клеток периоста, эндоста, стромы костного мозга, а также мезенхимных клеток тканей, расположенных вокруг кости. Известно, что слабодиференцированные мезенхимные клетки в большом количестве локализуются в стенке прорастающих вновь образованную костную ткань капилляров. Выделяют следующие виды остеогенных предшественников остеобласты, фибробласты, остеоциты, парациты, гистиоциты, лимфоидные, жировые и эндотелиальные клетки, клетки миелоидного и эритроцитарного ряда. В литературе различают 3 типа формирования костной ткани – десмальное (на основе соединительной ткани), энхондральное (в основе - гиалиновый хрящ), мезенхемальное (в области локализации клеток-предшественников) [174]. При переломах костей между костными отломками накапливаются продукты деградации белков и клеточный детрит. Считается, что эти вещества стимулируют начало репаративной регенерации. Доказано, что наиболее важными являются производные нуклеиновой кислоты, активирующие биосинтез белков в клетке [221]. Процесс регенерации костной ткани характеризуется стадийностью. В первую очередь происходит разрушение поврежденных тканей в зоне перелома, многочисленные клеточные митозы. Затем наступает время неоагиогенеза. Позднее происходит построение новых тканевых структур. Завершается консолидация переломов минерализацией и перестройкой костного регенерата [305]. Показано, что степень кровоснабжения костных фрагментов зависит от их простраственного положения относительно друг друга, а также жесткости фиксации. Основываясь на этом, выделяют три типа репаративной регенерации - первичная, первично-задержанная и вторичная. По первому типу сращение происходит точной и неподвижной фиксации кости, а также межфрагментарном расстоянии от 50 до 100 мкм. Консолидация наблюдается в минимальные сроки за счет интермедиарной костной ткани [314]. 32 При первично-задержанном механизме консолидации вначале происходит костная резорбция, а лишь затем формируется интермедиарная костная мозоль. Вторичный способ сращения наблюдается в условиях недостаточно репозиции и стабилизации отломков. Вследствие этого повреждается регенерат, образуется периостальная костная мозоль, первоначально стабилизирующая костные фрагменты. Позднее наблюдается истинное сращение сломанной кости [304]. Надежность фиксации фрагментов костей зависит от отношения величины сил смещения к силам проитводействия смещения. В настоящее время имеется широкий арсенал средств наружной и внутренней фиксации, обеспечивающих надежную фиксацию переломов костей. Запас прочности скрепления кости позволяет начать раннюю нагрузку на поврежденный сегмент опорно-двигательного аппарата. Известно, что межфрагментарная компрессия повышается прочность фиксации перелома, но не ускоряет репаративную регенерацию. Различают 3 вида компрессии – слабая, средняя и сильная. При первом виде компрессии (45-90 Н/см2) наблюдается избыточной подвижностью отломков, что приводит к вторичному типу сращения. В условиях межфрагментарной компрессии от 230 до 460 Н/см2 межкостный диастаз минимален, что стимулирует резорбцию концевых фрагментов и ослабляет мозолеобразование. Таким образом, наблюдается первичнозадержанное заживление перелома. Учеными определен диапазон компрессии для создания комфортных условий мозолеобразования (от 100 до 200 Н/см2). Кроме того, на процесс восстановления структуры кости влияет анатомия поврежденного сегмента (наличие или отсутствие надкостницы, уровень перфузии), а также характер перелома. Косые переломы срастаются лучше поперечных [55]. Выделяют несколько стадий регенерации. В стадию первичной деструкции наблюдается повреждение надкостницы, эндоста, костной ткани, а также коллагеновых и эластических волокон, фибробластов, остеобластов, остеоцитов, костного мозга, кровеносных и лимфатических сосуды, нервов [246]. Затем аналогично как при травме кожи происходят процессы пролиферации и грануляции. Между костными фрагментами формируется кровяной сгусток [220]. В костных фрагментах, лишенных кровотока вследствие повреждения со- 33 судов остеонов, происходит гибель остеоцитов. Одновременно с разрушением и резорбцией костной ткани происходит построение ретикулофиброзного костного регенерата. Параллельно с образованием рыхлой неоформленной волокнистой соединительной ткани запускается пролиферация остеогенных клеток в надкостнице и эндосте [216], выделение костных морфогенетических белков-стимуляторов остеогенеза. Так формируются первичные костные трабекулы, стержнем которых являются коллагеновые волокна. Образование ретикулофиброзного костного регенерата возможно только в условиях необходимого кровоснабжения зоны пролиферации и дифференцировки клеток-предшественников. Одновременно с этими процессами происходит формирование новых сосудов. Ввиду недостаточного кровоснабжения участков зоны повреждения часть клеток-предшественников дифференцируется в хондробласты, а затем в хондроциты. Так образуется трёхслойный регенерат, состоящий из ретикулофиброзной костной ткани, хрящевой гиалиново-волокнистой и волокнистой соединительной ткани. Постепенно молодые сосуды проникают в ретикулофиброзный костный регенерат, что способствует замене хрящевой ткани на ретикулофиброзную [280]. Этот регенерат уступает по прочности нативной кости. Постепенно в ходе резорбции он заменяется компактной костной тканью, то есть происходит репаративное ремоделирование [120]. В литературе обсуждают различные факторы, запускающие механизмы регенерации. Пролиферация и дифференцировка остеогенных клеток находится в тесной взаимосвязи с кровоснабжением участка регенерации. Кровоснабжение можно регулировать стимуляторами ангиогенеза или кровотока. В эксперименте с целью стимуляции неоангиогенеза в области дефекта костной ткани трубчатых костей у кроликов использовали адреналовый экстракт надпочечников и антиоксиданты [114]. В настоящее время разработано много способов ускорения консолидации переломов с учетом патогенеза костной регенерации: непосредственное воздействие на предшественники остеобластов в периосте и эндосте и полипотентные 34 стволовые соединительнотканные клетки костного мозга факторами роста и костным морфогенетическим белком (BMP — bone morphogenetic protein) [174]; трансплантация аутоклеток костного дифферона после культивирования и помещения на соответствующие носители; имплантация остеоиндуктивных и остеокондуктивных материалов (деминерализованный костный матрикс, гидроксиапатит, пористая керамика, коралл) [159]; имплантация фрагментированной незрелой костной ткани, выступающей в роли носителя факторов роста. В ряде работ показано активирующее влияние ростовых факторов на остеогенез - TGFp, IGF-1, IGFII, PDGF и др., которые соединются с цитоплазматическими рецепторами клетокмишеней и активируют их метаболизм [159]. В соответствии с последними данными, BMP воздействует трансформацию полипотентных стволовых клеток в хондроциты или остеобласты, активирует минерализацию костного остова [312]. Известна группа морфогенетических протеинов (BMP-2, BMP-3, BMP-4), влияющих на дифференцировки мезенхимальных клеток в остеобластические. Показано стимулирующее действие на репаративный остеогенез плазмозамещающего препарата перфторана при внутрикостном введении. Доказано, что введение протеолитического фермента химотрипсина приводит к активации метаболизма в костной ткани, способствует усилению кровотока и, следовательно, консолидации перелома кости [20]. Известно применение анаболических стероидов с целью стимуляции репаративного остеогенеза [106]. Разработан малоинвазивный способ стимуляции консолидации переломов костей у детей пептидным опиоидом даларгином [35]. Исследовано остеоиндуктивное действие плазмарала (содержит полипептидные факторы роста), биоантиоксиданта тиофана раздельно и в сочетании [42]. Использование указанных способов воздействия на репаративную регенерацию необходимо осуществлять комплексно, с их оптимальным подбором и в сочетании с традиционными методами лечения костных повреждений (фиксация, репозиция, остеосинтез и др.) с целью достижения синергического эффекта [127]. Таким образом, существование различных фармакологических способов 35 стимуляции регенерации тканей указывает на высокую актуальность этой проблемы. Но при этом ряд методик имеет определенные ограничения в применении в связи с наличием некоторых противопоказаний. Нередко острые раны трансформируются в хронические, длительно незаживающие, а консолидация переломов значительно превышает средние сроки или вовсе заканчивается формированием ложного сустава. В связи с этим по-прежнему актуален поиск новых фармакологических средств, и фармакологических комбинаций с целью ускорения процессов репаративной регенерации поврежденных тканей. 36 ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1 Экспериментальные исследования Исследования проведены на 224 крысах Вистар самцах массой 180-220 г., которые содержались в условиях вивария КГМУ на обычном пищевом режиме и не имели признаков заболеваний. В каждую из контрольных и опытных групп включали от 8 до 10 животных одного возраста. Крысы различались по исходному весу не более ±10%. Все исследования проводили в одно и то же время суток с 8 до 13 ч. Все манипуляции с животными в ходе исследования, а также выведение из эксперимента осуществляли с соблюдением принципов, изложенных в Страсбургской конвенции (1986 г.). Объектами исследования служили кровь, плазма крови, ткань кожи, бедренные кости. 2.2 Использованные препараты и способы их применения В экспериментах изучались эффекты пептида глицил-гистидил-лизина NH2-Gly-L-His-L-Lys-COOH (GHL), синтезированного в НИИ химии СанктПетербургского Государственного Университета; опиоидного пептидного препарата Даларгин - NH2-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-Arg-COOH (Микроген НПО ФГУП, Россия) и пептидного иммуномодулятора Тимоген - NH2-Glu-Trp-COOH (МБНПК ЦИТОМЕД ЗАО, Россия). Навески соответствующих препаратов (GHL и даларгин) растворяли в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия, а тимоген доводили им до соответствующей концентрации, и вводили в эквимолярных дозах внутрибрюшинно или местно (внутрикожно, внутрикостно) в объеме 0,1 мл с интервалом в 24 часа между инъекциями, в течение 10 суток (таблица 1). Введение препаратов начиналось сразу после моделирования раневого процесса на коже или перелома бедренной кости. Последнее введение препаратов осуществляли за 12 часов до выво- 37 да животных из эксперимента. Таблица 1 – Дозы и способы введения препаратов Препарат Производитель Способ введения Разовая доза (мкг/кг) Интервал Кол-во между введений введениями ВнутриНИИ Химии брюшинно, СПб гос. уни- внутрикож- GHL верситета 0,5 10 24 ч 0,5 10 24 ч 1,2 10 24 ч но, внутрикостно Внутри- МБНПК Тимоген ЦИ- брюшинно, ТОМЕД ЗАО внутрикож- (Россия) но, внутрикостно Внутри- Даларгин Микроген НПО ФГУП (Россия) брюшинно, внутрикожно, внутрикостно 2.3 Экспериментальные модели и способы оценки репаративной регенерации кожи и костей Эксперименты проводились под хлоралгидратным наркозом (300 мг/кг массы тела животного) [93]. Раневой процесс моделировали по методике Хотинян В.Ф. [3]. При этом полнослойные раны стандартного размера (около 1 см2) наносились на холке сра- 38 зу после моделирования раневого процесса, а также через пять и десять дней раны фотографировали цифровой фотокамерой Canon Powershot A410 с применением миллиметровой сетки с последующим измерением начальной (1-е сутки), промежуточной (через 5 суток) и конечной (через 10 суток) площадей ран. Вычисление площадей ран производилось с помощью программы Image Tool. На основании полученных данных вычислялся коэффициент относительного ранозаживления ран (КОР) по формуле: Y= So-St/So, где Y – коэффициент относительного заживления, So – начальная площадь раны, St – конечная площадь раны [3]. При вычислении первого коэффициента регенерации (КОР1) за So была взята площадь ран на первые сутки, а за St – через пять суток. При вычислении второго коэффициента регенерации (КОР2) за So была взята площадь ран через пять суток, а за St – через десять суток. При вычислении третьего коэффициента регенерации (КОР3) за So была взята площадь ран на первые сутки, а за St – через десять суток. Также проводились гистологические исследования раневых срезов, моделированных под хлоралгидратным наркозом. Моделировался закрытый перелом правой задней конечности (производилась закрытая остеоклазия бедренной кости в средней трети зажимом Кохера) с последующей интрамедуллярной фиксацией её спицей [136]. Процесс консолидации переломов оценивали рентгенологически на аппарате Арман-1 8Л3 (Россия) и гистологически. 2.4 Гистологические исследования После выведения животных из эксперимента для дальнейшего гистологического исследования иссекали кожные раны с окружающими здоровыми тканями и фрагменты бедренной кости (участок перелома и окружающих мышц). Материал фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. После стандартных процедур обезвоживания и заливки в парафин на санном микротоне изготавливали срезы толщиной 7-10 мкм. Срезы окрашивали гематокилин-эозином [123]. При исследования гистологических препаратов в световом микроскопе 39 Leica CME подсчитывали процентное соотношение различных типов резидентных и нерезидентных клеток в воспалительном инфильтрате грануляционной ткани и костной мозоли. Идентификация типов клеток осуществлялась по кариологическим признакам. Примечание: гистологические исследования кожи проводились на базе МБУЗ «Патологоанатомическое бюро» с последующей консультативной помощью зав. кафедрой гистологии, эмбриологии и цитологии д.м.н., профессора А.В. Иванова, а гистологические исследования костных мозолей проводились на кафедре патологической анатомии КГМУ при непосредственном участии зав. кафедрой к.м.н., доцента В.Т. Дудки, за что мы выражаем им огромную признательность. 2.5 Оценка фагоцитарной активности нейтрофилов и кислородзависимых механизмов антиинфекционной защиты Фагоцитарную активность нейтрофилов крови исследовали после их инкубации с латексом [82] Для оценки фагоцитарной активности нейтрофилов использовали фагоцитарный индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ). ФИ (процент нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе) и ФЧ (среднее количество поглощенных частиц латекса на один фагоцит) определяли в мазках, окрашенных по Романовскому [82]. В каждом мазке просчитывали 100 нейтрофилов. Активность кислородзависимых механизмов защиты в фагоцитах оценивали в тесте восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест) на аппарате Multiscan MC 400 (Labsystems, Финляндия) [48]. Параллельно со спонтанным (НСТ-сп.), ставили стимулированный (НСТ-инд.), при этом в качестве стимулятора использовали зимозан. Об уровне функционального резерва нейтрофилов судили по коэффициенту КАо(оз/с) [48]. 2.6 Определение оксидантных и антиоксидантных показателей крови Интенсивность перекисного окисления липидов определяли по уровню малонового диальдегида (МДА) с использованием набора реактивов для определе- 40 ния ТБК-активных продуктов ("Агат", Россия) по общепринятому методу [254] с помощью спектрофотометра «DU-65» («Beckman», Великобритания). Состояние антиоксидантной защиты определяли по активности каталазы крови [83]. 2.7 Статистическая обработка материала После определения типа распределения полученных цифровых данных, они обрабатывались с помощью встроенных алгоритмов пакета анализа приложения Excel 2003. Достоверность различий сравниваемых параметров между средними значениями контрольной группы и групп животных различных серий определяли по расхождению границ доверительных интервалов при значениях р ≤ 0,05 и с помощью критерия Манна-Уитни [45]. 41 ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 3.1 . Влияние глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина, а также их комбинаций на заживление кожных ран, функцию нейтрофилов и активность свободно-радикальных реакций при внутрибрюшинном введении Первым этапом исследований было выявление эффектов регуляторных пептидов GHL, даларгина и тимогена в отношении репаративной регенерации кожи. В ранее проведенных исследованиях на крысах было установлено, что пептид GHL проявляет наиболее выраженную ранозаживляющую активность в разовой дозе 0,5 мкг/кг массы при десятикратном внутрибрюшинном введении [72]. Поэтому для исследования была выбрана эта доза и кратность введения препарата. Учитывая тот факт, что эффекты регуляторных пептидов зависят от количества молекул в среде [1,118,138], введение тимогена и даларгина осуществлялось в эквимолярных GHL дозах. Установлено, что введенные по отдельности трипептид GHL, тимоген и даларгин достоверно сокращали площадь экспериментальной раны через 5 суток – в 1,3; 1,3 и 1,4, а через 10 суток в 1,6; 1,5 и 1,7 раза соответственно (таблица 2). При этом увеличение коэффициента относительного ранозаживления через 5 суток (КОР1) составило в группах: введения GHL – в 2,7 раза; введения тимогена – в 2 раза; введения даларгина – в 3,1 раза, а через 10 суток повышение КОР3 в 3-х группах были сопоставимы - в 1,5; 1,4 и 1,6 раз соответственно (рисунок 1). Парное введение пептидов сопровождалось усилением репаративного эффекта. На 5-е сутки комбинация пептидов GHL+тимоген уменьшала размер раны в 1,5 раза; GHL+даларгин – 1,6 раза; тимоген+даларгин – в 1,3 раза. На 10-е сутки площади раневых поверхностей были сокращены в 1,9; 2,3 и 1,5 раза соответственно. Вычисление показателя КОР1 через 5 суток после начала парного введения пептидов экспериментальным животным показало, что его значения по сравнению с контрольной группой увеличились в 4; 4 и 2.4 раза, а значения КОР3 возросли в 1,9; 2,4 и 1,8 раза соответственно (таблица 2; рисунки 2,3). 42 Таблица 2 – Влияние пептида Gly-His-Lys, тимогена, даларгина и их комбинаций на заживление кожных ран при внутрибрюшинном введении (n=8) № Площадь раны, в см2 Коэффициент относительного заживления п/п M±m раны (КОР) (M±m) 1. 1 сутки 5 сутки 10 сутки КОР1 КОР2 КОР3 1,03±0,05 0,94±0,05 0,78±0,02 0,09±0,01 0,16±0,01 0,29±0,03 0,95±0,03 0,71±0,04*1 0,59±0,03*1 0,24±0,02*1 0,23±0,02*1 0,44±0,04*1 Введение изотонического раствора NaCl (контроль) 2. Введение пептида Gly-His-Lys 3. Введение тимогена 0,96±0,04 0,75±0,04*1 0,63±0,04*1 0,20±0,01*1 0,25±0,03*1 0,41±0,03*1 4. Введение даларгина 1,01±0,05 0,72±0,05*1 0,58±0,03*1 0,26±0,01*1 0,25±0,03*1 0,45±0,03*1 5. Введение Gly-His-Lys 1,05±0,04 0,55±0,04*1-4 0,46±0,03*1-4 0,42±0,02*1-4 0,24±0,02*1 0,56±0,04*1-4 1,03±0,06 0,56±0,031-4 0,35±0,05*1-5 0,37±0,05*1-4 0,30±0,02*1-5 0,71±0,06*1-5 0,99±0,03 0,75±0,06*1,5,6 0,45±0,05*1-4,6 0,22±0,02*1,5,6 0,26±0,01*1,6 0,57±0,03*1-4,6 +тимоген 6. Введение Gly-His-Lys +даларгин 7. Введение тимоген +даларгин Примечание: * - р<0,05, цифра рядом со звездочкой – по отношению к значению какой группы показатель достоверно отличается 43 КОР1 300 250 200 150 100 50 0 КОР3 КОР2 Рисунок 1 – Репаративные эффекты раздельного внутрибрюшинного введения глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях кожных ран Обозначения: радиус окружности обозначает показатели животных, получавших инъекции физиологического раствора. ----- – обозначает показатели животных при введении даларгина (в % по отношению к контрольной группе). - введение тимогена - введение GHL - достоверность отличий (р<0,05) 44 КОР1 400 300 200 100 0 КОР3 КОР2 Рисунок 2 – Репаративные эффекты парных комбинаций внутрибрюшинного введения глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях кожных ран Обозначения: радиус окружности обозначает показатели животных, получавших инъекции физиологического раствора. ----- – обозначает показатели животных при введении комбинации тимоген+даларгина (в % по отношению к контрольной группе). - введение комбинации GHL+тимоген - введение комбинации GHL+даларгин - достоверность отличий (р<0,05) 45 0,8 Коэффициент относительного 0,7 *1-5 заживления (КОР 3) *1-4,6 *1-4 0,6 0,5 *1 *1 *1 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1 2 3 4 5 6 7 Рисунок 3 – Влияние регуляторных пептидов GHL, тимогена, даларгина и их комбинаций на заживление кожных ран при внутрибрюшинном введении Обозначения: 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение пептида GHL. 3. Введение тимогена. 4. Введение даларгина. 5. Введение комбинации GHL+Тимоген. 6. Введение комбинации GHL+Даларгин. 7. Введение комбинации тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, а рядом стоящая цифра – номера групп сравнения. 46 Репаративное действие GHL, а также его комбинаций с тимогеном или даларгином подтверждалось гистологическими исследованиями раневых срезов. В группе введения физиологического раствора гистологическая картина была представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, инфильтрированной фибробластами различной степени зрелости (рисунок 4). Рисунок 4 – Срез экспериментальной раны через 10 суток с момента ее моделирования. Внутрибрюшинное введение физиологического раствора Полиморфноядерные лейкоциты и лимфоциты в составе инфильтрата. Признаки отечности грануляционной ткани. Увеличение х400. Окраска гематоксилинэозином. По сравнению с контрольной группой животных, у крыс, получавших пептид в дозе 0,5 мкг/кг, отмечается не только выраженное снижение плотности клеточного инфильтрата, но и иное соотношение относительного количества клеток в соединительной ткани за счет снижения представительства лимфоцитов и макрофагов, а также преобладание зрелых форм фибробластов над незрелыми. Определяется послойная ориентация грануляционной ткани, слой горизонтальных фиб- 47 робластов (рисунок 5). При увеличении визуализируется фрагмент плотной волокнистой неоформленной соединительной ткани с очагами разрушения пучков коллагеновых волокон. Интенсивная инфильтрация ПЯЛ. Отмечаются отдельные скопления лимфоцитов, дифференцирующихся в макрофаги, скопление макрофагов. Рисунок 5 – Срез экспериментальной раны с момента ее моделирования. Внутрибрюшинное введение пептида GHL в дозе 0,5 мкг/кг Увеличение плотности клеточных элементов за счет увеличения количества фибробластов. Увеличение Х400. Окраска гематоксилин-эозином. В группе животных, получавших даларгин или тимоген видимых морфологических различий с крысами, которым вводили пептид GHL , не было выявлено. Наблюдались репаративные изменения сопоставимые с теми, которые отмечались у животных, получавших пептид GHL. При сочетанном применении пептидов наблюдалось усиление репаративной активности с максимальной выраженностью в группе крыс, получавших комби- 48 нацию GHL + даларгин. Изменение соотношения клеток соединительной ткани в сторону увеличения количества терминально-дифференцированных и зрелых форм механоцитов по сравнению с рекрутируемыми в очаг воспаления фагоцитирующими клетками (нейтрофилы и моноциты), а также завершение процессов эпителизации раневого дефекта позволяет сделать заключение о завершенности репаративной регенерации (рисунок 6). Рисунок 6 – Срез экспериментальной раны через 10 суток с момента ее моделирования. Внутрибрюшинное введение комбинации пептидов GHL+даларгин Плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань, полностью заполняющая объем раневого дефекта. Преобладание фиброцитов и зрелых фибробластов над другими типами клеток – как резидентных, так и не резидентных. Увеличение х400. Окраска гематоксилин-эозином. Установлено, что при экспериментальной травме кожи наблюдалось сниже- 49 ние показателей ФИ (в 1,9 раза), ФЧ (в 1,9 раза) и ИАФ (в 3 раза), что свидетельствовало об ослаблении фагоцитарной активности нейтрофилов крови (таблица 3). В этих условиях GHL не влиял на изучаемые показатели, а даларгин и тимоген повышали уровень фагоцитарного индекса (ФИ) по сравнению с группой, получавшей инъекции физиологического раствора в 1,3 и 1,4 раза соответственно. Наибольшей стимулирующей активностью обладал тимоген, который, кроме того, достоверно повышал и уровень ФЧ в 1,4 раза, ИАФ в 1,7 раза по сравнению с контрольной группой, получавшей физиологический раствор. Таблица 3 – Влияние пептида Gly-His-Lys, тимогена, даларгина и их комбинации на фагоцитарную активность нейтрофилов крови при травме кожи при внутрибрюшинном введении(n=8) № п/п 1. Условия эксперимента Интактные животные Фагоцитарный индекс, % M±m Фагоцитарное число, абс. M±m Индекс активации фагоцитоза M±m 69,02±3,2 2,1±0,1 1,38±0,07 Экспериментальные группы животных (нанесение кожных ран) 2. Введение физиологического раствора 37,04±2,1*1 1,09±0,05*1 0,44±0,02*1 3. Введение GHL 39,22±3,0*1 1,12±0,05*1 0,47±0,02*1 4. Введение Даларгина 49,03±2,2*1-3 1,39±0,04*1-3 0,68±0,02*1-3 5. Введение Тимогена 50,02±2,5*1-3 1,47±0,08*1-3 0,74±0,04*1-3 6. Введение 70,67±2,09*2-5 1,62±0,08*1-3 1,30±0,08*2-5 74,83±3,9*2-5 2,35±0,11*2-6 1,49±0,09*2-5 55,17±5,46*1-3,6,7 1,85±0,11*1-5,7 1,09±0,07*1-7 GHL+тимоген 7. Введение GHL+даларгин 8. Введение Тимоген+даларгин Примечание: * - достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со звездочкой показывают по отношению к показателю, какой группы эти различия достоверны 50 При использовании комбинаций пептидов наблюдалось усиление эффекта. При этом в группе животных, получавших комбинацию пептидов GHL+тимоген, наблюдалась коррекция уровня ФИ (увеличение показателя в 1,9 раза) и ИАФ (увеличение в 3 раза), а при использовании комбинации GHL+даларгин – коррекция уровня ФИ, ФЧ и ИАФ, что сопровождалось ростом индексов в 2; 2,1 и 3,4 раза соответственно (таблица 3, рисунок 7). Комбинация тимоген+даларгин достоверно повышала показатели ФИ, ФЧ и ИАФ в 1,5; 1,7 и 2,5 раза соответственно. Травматическое повреждение кожных покровов экспериментальных животных также сопровождалось снижением показателей кислородзависимой бактерицидной активности нейтрофилов (mOD нст – в 1,9 раза; mOD н/з - в 1,8 раза; mOD о/з – в 2 раза) и угнетением их функционального резерва (коэффициент кАо – в 1,5 раза) (таблица 4). Пептид GHL не оказывал существенного влияния на функцию нейтрофилов. Раздельное введение, даларгина и тимогена достоверно усиливало кислородзависимую активность нейтрофилов периферической крови в спонтанной (1,3 и 1,4 раза соответственно) и индуцированной зимозаном реакциях. При стимуляции неопсонизированным зимозаном происходило увеличение показателя mOD н/з, эффекты пептидов были равнозначны и поднимали показатель в 1,3 раза, в то время как mOD о/з увеличивался в 1,3 и 1,4 раза (таблица 4). При комбинированном введении тимогена или даларгина с пептидом GHL, усиление эффекта наблюдалось в обеих группах животных, что сопровождалось коррекцией коэффициента КАо, отражающего функциональный резерв нейтрофилов (ФРН) (рисунок 8), а также показателя mOD в стимулированной опсонизированным зимозаном реакции (таблица 4). Таким образом, уровень mOD о/з увеличивался в 1,7 раза в группе GHL+тимоген и в 1,7 раза в группе GHL+даларгин. Значения показателя mOD н/з увеличивались в 1,3; 1,5 и 1,25 раза соответственно. Комбинация тимоген+даларгин достоверно увеличивала, но не корригировала изучаемые показатели (mOD – в 1,4 раза; mOD н/з – в 1,6 раза; mOD о/з - в 1,7 раза). 51 1,8 Индекс активации фагоцитоза *1-4 1,6 *1-4 1,4 *1-6 1,2 1 *1-2 *1-2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 2 3 4 5 6 7 Рисунок 7 – Изменение поглотительной способности фагоцитов крови при внутрибрюшинном введении пептида Gly-His-Lys, тимогена, даларгина и их комбинации(M±m, n=8) в условиях экспериментальной травмы кожи Обозначения: - линия обозначает уровень интактных животных. Столбики – животные с экспериментальной травмой кожи. 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение GHL. 3. Введение даларгина. 4. Введение тимогена. 5. Введение комбинации GHL+Тимоген. 6. Введение комбинации GHL+Даларгин. 7. Введение комбинации тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, а рядом стоящая цифра – номера групп сравнения. 52 Таблица 4 – Влияние GHL, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на кислородзависимую активность нейтрофилов крови при экспериментальной травме кожи у крыс при внутрибрюшинном введении(n=8) № mOD нст mOD н/з mOD о/з КАн (нз/с) КАо (оз/с) п/п М±m М±m М±m М±m М±m 2,54±0,09 7,68±0,26 11,88±0,84 3,64±0,25 4,97±0,22 1,37±0,02*1 3,15±0,08*1 4,24±0,16*1 2,10±0,11*1 3,00±0,17*1 1. Интактные животные 2. Введение физиологического раствора 3. Введение GHL 1,43±0,03*1 3,19±0,03*1 4,37±0,13*1 2,13±0,15*1 3,09±0,15*1 4. Введение даларгина 1,83±0,03*1-3 4,71±0,03*1-3 6,69±0,14*1-3 2,73±0,10*1-3 3,82±0,18*1-3 5. Введение тимогена 1,88±0,05*1-3 4,88±0,07*1-3 6,99±0,32*1-3 2,79±0,22*1-3 3,88±0,10*1-3 6. Введение 2,23±0,09*2-5 7,91±0,10*2-5 10,24±0,44*2-5 3,65±0,30*2-5 5,11±0,33*2-5 2,31±0,03*2-5 7,98±0,05*2-5 10,02±0,34*2-5 3,55±0,29*2-5 5,00±0,23*2-5 2,77±0,15*1-3,6,7 3,79±0,29*1-3,6,7 GHL+тимоген 7. Введение GHL+даларгин 8. Введение тимоген +даларгин 1,85±0,07*1-3,6,7 4,95±0,07*1-3,6,7 7,02±0,25*1-3,6,7 Примечание: * - р<0,05, цифра рядом со звездочкой – по отношению к значению какой группы показатель достоверно отличается. 53 Функциональный резерв 6 нейтрофилов (коэффициент кАо) *1-4,7 *1-4,7 5 6 5 *1 *1 3 4 *1,2,5,6 4 3 2 1 0 1 2 7 Рисунок 8 – Эффекты регуляторных пептидов GHL, тимогена, даларгина и их комбинаций на уровень функционального резерва (M±m, n=8) нейтрофилов в условиях кожных ран при внутрибрюшинном введении Обозначения: - линия обозначает уровень интактных животных. Столбики – животные с экспериментальной травмой кожи. 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение GHL. 3. Введение даларгина. 4. Введение тимогена. 5. Введение комбинации GHL+Тимоген. 6. Введение комбинации GHL+Даларгин. 7. Введение комбинации тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, а рядом стоящая цифра – номера групп сравнения. 54 При повреждении кожных покровов наблюдалось повышение активности свободно-радикальных реакций и ослабление антиоксидантной защиты организма, о чем свидетельствовало изменение уровня МДА (увеличение в 2,6 раза) и активности каталазы (уменьшение в 2,3 раза) (таблица 5). Раздельное введение пептидов сопровождалось проявлением антиоксидантной активности, в результате чего снижался уровень МДА и повышалась активность каталазы (рисунок 9). Эффекты изучаемых препаратов в отношении МДА и каталазы были сопоставимы (таблица 5). Таблица 5 – Влияние пептидов глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на антиоксидантные показатели крови при внутрибрюшинном введении в условиях кожных ран(n=8) № п/п 1. Условия опыта Каталаза, МДА, кат/л мкмоль/л (М±m) Интактные животные (М±m) 2,22±0,12 2667,19±196,3 Животные с кожными ранами 2. Введение физиологиче- ского раствора (контроль) 5,65±0,14*1 1144,75±120,6*1 3. Введение GHL 3,94±0,17*1,2 1545,15±129,1*1,2 4. Введение тимогена 3,40±0,14*1,2 1589,35±121,6*1,2 5. Введение даларгина 3,55±0,13*1,2 1602,12±105,2*1,2 2,51±0,25*2-5 2645,01±210,5*2-5 2,59±0,27*2-5 2750,12±198,1*2-5 3,55±0,23*1,2,6,7 2018,49±123,2*1-7 6. 7. 8. Введение комбинации GHL+тимоген Введение комбинации GHL +даларгин Введение комбинации Тимоген+даларгин Примечание: * - р<0,05, цифра рядом со звездочкой – по отношению к значению какой группы показатель достоверно отличается. 55 ФИ 150 Каталаза ФЧ 100 50 МДА И АФ 0 НСТ сп ФРН НСТ ст Рисунок 9 – Иммунометаболические эффекты раздельного внутрибрюшинного введения глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях кожных ран Обозначения: радиус окружности обозначает уровень интактных животных. ----- – обозначает показатели животных при введении даларгина (в % по отношению к контрольной группе). - введение тимогена; - введение GHL - достоверность отличий (р<0,05) При этом пептид GHL снижал уровень МДА в 1,8 раза, даларгин – в 1,9 ра- 56 за, тимоген – в 1,6 раза. В то же время активность каталазы возросла в группах GHL – в 1,2 раза, тимоген - в 1,2 раза, даларгин – в 1,4 раза. Парное введение пептидов сопровождалось усилением эффекта в отношении активности каталазы и уровня МДА (рисунок 10). При этом при введении комбинаций GHL+тимоген и GHL+даларгин наблюдалась коррекция этих показателей (таблица 5). Комбинация тимоген+даларгин снижала уровень МДА в 1,4 раза и повышала значение активности каталазы в 1,7 раза. ФИ 150 Каталаза ФЧ 100 50 МДА ИАФ 0 ФРН НСТ сп НСТ ст Рисунок 10 – Иммунометаболические эффекты парных комбинаций глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях кожных ран при внутрибрюшинном введении Обозначения: радиус окружности обозначает уровень интактных животных. ----- – обозначает показатели животных при введении им комбинации тимоген+даларгин (в % по отношению к контрольной группе). комбинации GHL+тимоген; - введение -введение комбинации GHL+даларгин - достоверность отличий (р<0,05). 57 Предположительно синергичная репаративная активность комбинаций пептидов GHL или даларгина с тимогеном могла быть обусловлена не только проявлением синергичного антиоксидантного действия пептидов, но и благодаря сочетанию непрямого репаративного эффекта тимогена (через иммунную систему) с непосредственным воздействием на клетки кожи. Как известно, тимоген обладает выраженными тимомиметическими иммуномодулирующими свойствами [36]. Выраженная репаративная активность комбинации GHL + даларгин могла быть обусловлена не только непосредственным действием двух пептидоврепарантов на клетки кожи, но и проявлением их синергичного антиоксидантного, иммунотропного влияния, а также стресс-лимитирующего эффекта даларгина [32]. Таким образом, в условиях экспериментальной травмы кожи, выбранные для исследования пептиды GHL, тимоген и даларгин проявляли иммунотропную и антиоксидантную активности. Парное введение пептидов сопровождается усилением изученных эффектов, что проявляется в коррекции показателей функциональной активности нейтрофилов и показателей интенсивности перекисного окисления липидов. 58 3.2 Репаративная, иммунотропная и антиоксидантная активности глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина и их парных сочетаний в условиях кожных ран при внутрикожном введении Известно, что трипептид GHL проявляет выраженную активность непосредственно в отношении клеток поврежденных тканей [72]. Поэтому, представляется целесообразным изучение эффектов GHL, а также тимогена и даларгина и их комбинаций при местном введении в условиях экспериментальной травмы кожи. Выявлено, что при местном способе раздельного введения пептидов наблюдалось достоверное сокращение площади ран экспериментальных животных (таблица 6). При этом на 5 сутки инъекции пептида GHL уменьшали площадь раны в 1,7 раза, тимогена и даларгина - в 1,4 раза. В тоже время расчеты коэффициента относительного ранозаживления 1 (КОР1) показали, что этот показатель в экспериментальных группах возрос по сравнению с группой животных, получавших изотонический раствор (GHL – в 3,8 раза, тимоген – в 2,5 раза, даларгин – в 3 раза). В день вывода животных из эксперимента (10 сутки) размер кожных ран при введении GHL, тимогена и даларгина сократился в 2,2; 1,7 и 1,6 раза соответственно, а показатель КОР3 увеличился – в 2; 1,5 и 1,4 раза соответственно; КОР2 – возрастал только в группе GHL в 1,3 раза (рисунки 11,12,13). Комбинации пептидов обладали еще большей активностью. Так, при совместном введении пептидов GHL+тимоген площадь раны на 5 сутки уменьшилась в 2,1 раза, сочетание GHL+даларгин – в 2,2 раза, а комбинация тимоген+даларгин – в 1,3 раза. Динамика возрастания КОР1 выглядела следующим образом (GHL+тимоген – в 4,8 раза, GHL+даларгин – в 5 раз, тимоген+даларгин – в 2,5 раза). На 10 сутки парного введения пептидов оказались еще более выраженными. К концу эксперимента комбинация GHL+тимоген уменьшила площадь нанесенной раны в 2,8 раза, GHL+даларгин – в 3,8 раза, тимоген+даларгин – 1,8 раза. А значение КОР3 по сравнению с контрольной группой стали больше в 2,4; 2,7 и 2 раза; КОР 2 – в 1,4; 2,2 и 1,6 раза соотвествено (рисунки 12,13) 59 Таблица 6 – Влияние пептида Gly-His-Lys, тимогена, даларгина и их комбинации на заживление кожных ранпри внутрикожном введении (n=8) № п/ п 1. Площадь раны, в см2 Коэффициент M±m относительного заживления раны (КОР) M±m 1 сутки 5 сутки 10 сутки КОР1 КОР2 КОР3 0,99±0,05 0,89±0,03 0,72±0,01 0,11±0,01 0,19±0,02 0,27±0,02 Введение физиологического раствора (контроль) 2. Введение пептида GHL 0,98±0,05 0,58±0,04*1 0,44±0,01*1 0,41±0,02*1 0,24±0,03*1 0,55±0,03*1 3. Введение тимогена 1,00±0,05 0,73±0,02*1,2 0,59±0,02*1,2 0,27±0,01*1,2 0,17±0,01*2 0,40±0,03*1,2 4. Введение даларгина 0,97±0,03 0,77±0,03*1,2 0,61±0,02*1,2 0,30±0,03*1,2 0,15±0,01*2 0,37±0,03*1,2 5. Введение комбинации 1,01±0,05 0,36±0,03*1-4 0,30±0,02*1-4 0,55±0,04*1-4 0,27±0,03*1,3,4 0,69±0,05*1-4 0,95±0,04 0,34±0,02*1-4 0,19±0,01*1-5 0,54±0,03*1-4 0,41±0,03*1-5 0,88±0,05*1-5 0,96±0,05 0,72±0,02*1,2,5,6 0,47±0,02*1,3-6 GHL +тимоген 6. Введение комбинации GHL+даларгин 7. Введение тимоген+даларгин 0,25±0,03*1,2,5,6 0,31±0,02*1,3,4,6 0,54±0,03*1,3-6 Примечание: * - р<0,05, цифра рядом со звездочкой – по отношению к значению какой группы показатель достоверно отличается. 60 КОР1 400 350 300 250 200 150 100 50 0 КОР3 КОР2 Рисунок 11 – Репаративные эффекты раздельного внутрикожного введения глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях кожных ран Обозначения: радиус окружности обозначает показатели животных, получавших инъекции физиологического раствора. ----- – обозначает показатели животных при введении даларгина (в % по отношению к контрольной группе). - введение тимогена - введение GHL - достоверность отличий (р<0,05) 61 КОР1 500 400 300 200 100 0 КОР3 КОР2 Рисунок 12 – Репаративные эффекты парных комбинаций глицилгистидил-лизина, тимогена и даларгина в уловиях кожных ран при внутрикожном введении Обозначения: радиус окружности обозначает показатели животных, получавших инъекции физиологического раствора. ----- – обозначает показатели животных при введении комбинации тимоген+даларгина (в % по отношению к контрольной группе). - введение комбинации GHL+тимоген - введение комбинации GHL+даларгин - достоверность отличий (р<0,05) 62 % 250 Коэффициент относительного ранозаживления (КОР 3) *1-4 200 *1-3 150 *2-5 100 *1 *1 50 0 1 2 3 4 5 6 Рисунок 13 – Воздействие регуляторных пептидов GHL, тимогена, даларгина и их комбинаций на заживление кожных ран при внутрикожном введении Обозначения: Ось абсцисс – уровень интактных животных 1. Введение пептида GHL. 2. Введение тимогена. 3. Введение даларгина. 4. Введение комбинации GHL+Тимоген. 5. Введение комбинации GHL+Даларгин. 6. Введение комбинации тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, а рядом стоящая цифра – номера групп сравнения. 63 Полученные данные также подтверждались гистологическими исследованиями. При внутрикожном введении комбинации GHL+даларгин на гистологических срезах четко определяются слои эпителия кожи (базальный, шиповатый и роговой). Наблюдается плотная неоформленная волокнистая соединительная ткань. Содержание фиброцитов значительно превышает содержание фибробластов. О степени зрелости эпителиального пласта свидетельствует появление межэпителиальных лимфоцитов (рисунок 14). Рисунок 14 – Срез экспериментальной раны через 10 суток с момента ее моделирования. Внутрикожное введение комбинации пептидов GHL+даларгин. Четко определяются слои эпителия кожи (базальный, шиповатый и роговой). Содержание фиброцитов значительно превышает содержание фибробластов. Появление межэпителиальных лимфоцитов. Увеличение х 400. Окраска гематоксилин-эозином. 64 При изучении поглотительной стадии фагоцитоза также была выявлена иммуносупрессия (таблица 7). При этом показатели животных контрольной группы по сравнению с интактной группой были снижены – ФИ (в 1,9 раза), ФЧ (в 2,1 раза), ИАФ (3,2 раза) (рисунок 15). Таблица 7 – Влияние пептида Gly-His-Lys, тимогена, даларгина и их комбинаций на фагоцитарную активность нейтрофилов крови при внутрикожном введении в условиях кожных ран (n=8) № Условия п/п эксперимента 1. Интактные животные Фагоцитарный Фагоцитарное индекс, % число, абс. M±m M±m 65,21±5,5 2,3±0,11 Индекс активации фагоцитоза M±m 1,41±0,09 Экспериментальные группы животных (нанесение кожных ран) 2. Введение физиологического раствора 35,44±2,2*1 0,99±0,04*1 0,39±0,02*1 3. Введение GHL 38,02±2,5*1 1,02±0,03*1 0,40±0,02*1 4. Введение Даларгина 47,05±2,7*1-3 1,29±0,03*1-3 0,58±0,04*1-3 5. Введение Тимоген 52,12±3,3*1-3 1,31±0,05*1-3 0,64±0,05*1-3 6. Введение комбина- 65,36±3,01*2-5 2,03±0,10 *2-5 1,32±0,07*2-5 68,77±4,1*2-5 2,22±0,08*2-5 1,36±0,04*2-5 53,71±4,04*1-3,6,7 1,65±0,13*1-7 0,99±0,07*1-7 ции GHL+тимоген 7. Введение комбинации GHL+даларгин 8. Введение комбинации тимоген +даларгин Примечание: * - достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со звездочкой показы- вают по отношению к показателю, какой группы эти различия достоверны. 65 Индекс активации фагоцитоза 1,6 *1-4 *1-4 1,4 1,2 *1-6 1 0,8 *1,2 *1,2 0,6 0,4 0,2 0 1 2 3 4 5 6 7 Рисунок 15 – Изменение поглотительной способности фагоцитов крови при внутрикожном введении пептида Gly-His-Lys, тимогена, даларгина и их комбинации(M±m, n=8) в условиях экспериментальной травмы кожи Обозначения: - линия обозначает уровень интактных животных. Столбики – животные с эксперимен- тальной травмой кожи. 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение GHL. 3. Введение даларгина. 4. Введение тимогена. 5. Введение комбинации GHL+Тимоген. 6. Введение комбинации GHL+Даларгин. 7. Введение комбинации тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, а рядом стоящая цифра – номера групп сравнения. 66 Введение пептида GHL не влияло на изучаемые показатели. Тогда как местное введение в область раны даларгина и тимогена повышало фагоцитарный индекс в 1,4 и 1,5 раз соответственно, а значения фагоцитарного числа в 1,3 и 1,3 раза. Вследствие этого увеличивался индекс активации фагоцитоза. При введении даларгина – в 1,5 раза, тимогена – в 1,6 раза. Все 3 комбинации пептидов увеличивали ФИ - в 1,9 раза (GHL+тимоген), в 1,8 раза (GHL+даларгин), в 1,5 раза (тимоген+даларгин). В отношении ФЧ выявлено, что в группе GHL+тимоген оно возросло в 2,1 раза, в группе GHL+даларгин – 2,2 раза, достигнув уровня интактных животных, то есть наблюдалась его коррекция. При совместном введении тимоген+даларгин ФЧ поднималось в 1,7 раза. В отношении индекса активации фагоцитоза выявлены сонаправленные изменения в виде его повышения в 3,4 раза для групп GHL+тимоген и GHL+даларгин (коррекция показателя), в 2,6 раза для группы тимоген+даларгин (рисунок 15). Травма кожи экспериментальных крыс сопровождалась угнетением бактерицидной активности нейтрофилов (таблица 8). Показатели mOD нст mOD н/з, mOD о/з были снижены в 1,9; 1,8 и 2,4 раза. Трипептид GHL не оказывал существенного влияния на функцию нейтрофилов. Пептидные препараты тимоген и даларгин увеличивали mOD нст (в 1,8 и 1,5 раза), mOD н/з (в 1,5 и 1,3 раза), mOD о/з (1,8 и 1,5 раза). Показатель КАо, отражающий уровень функционального резерва нейтрофилов, после десятикратного введения GHL не отличался от показателей контрольной группы (рисунок 16,17). Раздельное введение даларгина и тимогена повышало КАо в 1,3 раза. Введение комбинаций GHL+тимоген, GHL+даларгин и тимоген+даларгин сопровождалось повышением mOD нст (в 1,9; 2,0 и 1,7 раза), mOD н/з (в 1,8; 1,7; 1,5 раза), mOD о/з (в 2,2; 2,3 и 1,7 раза). Показатель КАо комбинации пептидов повышали в 1,5; 1,6 и 1,3 раза соответственно (рисунок 16,18). При этом в группах GHL+тимоген и GHL+далргин изучаемые показатели достигали уровня интактных животных. 67 Таблица 8 – Влияние GHL, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на кислородзависимую активность нейтрофилов крови при экспериментальной травме кожи у крыс при местном введении (n=8) № mOD нст mOD н/з mOD о/з КАн (нз/с) КАо (оз/с) п/п (М±m) (М±m) (М±m) (М±m) (М±m) 3,05±0,18 10,79±0,44 13,54±1,04 3,86±0,25 4,95±0,31 1,31±0,07*1 3,08±0,11*1 4,93±0,32*1 2,35±0,20*1 3,11±0,23*1 1 2 Интактные животные Введение физиологического раствора 3 Введение GHL 1,40±0,11*1 3,21±0,23*1 4,82±0,45*1 2,25±0,13*1 3,14±0,27*1 4 Введение даларгина 1,93±0,12*1-3 6,03±0,24*1-3 7,36±0,36*1-3 3,12±0,24*1-3 3,89±0,31*1-3 5 Введение тимогена 2,39±0,10*1-4 6,47±0,21*1-3 9,20±0,59*1-4 2,91±0,27*1-3 3,91±0,30*1-3 2,95±0,16*2-5 9,66±0,23*2-5 11,72±0,84*2-5 3,75±0,20*2-5 5,05±0,33*2-5 2,99±0,15*2-5 9,75±0,20*2-5 12,44±0,98*2-5 3,81±0,31*2-5 4,97±0,29*2-5 2,99±0,19*1-3,6,7 3,71±0,30*1-3,6,7 6 7 8 Введение комбинации GHL+тимоген Введение комбинации GHL+даларгин Введение комбинациии тимоген +даларгин 2,36±0,09*1-4,6,7 6,50±0,29*1-3,6,7 9,14±0,59*1-4,6,7 Примечание: * - р<0,05, цифра рядом со звездочкой – по отношению к значению какой группы показатель достоверно отличается. 68 6 Функциональный резер нейтрофилов крови (коэффициент КАо) *1-4 *1-4 5 *1,2 *1,2 *1,2,5,6 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Рисунок 16 – Эффекты регуляторных пептидов GHL, тимогена, даларгина и их комбинаций на уровень функционального резерва (M±m, n=8) нейтрофилов в условиях кожных ран при внутрикожном введении Обозначения: - линия обозначает уровень интактных животных. Столбики – животные с экспериментальной травмой кожи. 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение GHL. 3. Введение даларгина. 4. Введение тимогена. 5. Введение комбинации GHL+Тимоген. 6. Введение комбинации GHL+Даларгин. 7. Введение комбинации тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, а рядом стоящая цифра – номера групп сравнения. Травматическое повреждение кожных покровов сопровождалось изменениями в системе перекисного окисления липидов, что выражалось в повышении 69 уровня МДА в 2,9 раза, уменьшении активности каталазы в 2.1 раза (таблица 9). Раздельные инъекции пептидов достоверно снижали концентрацию МДА (GHL- 1,8 раза, тимоген – 1,9 раза, даларгин – 1,7 раза). В тоже время активность каталазы возрастала в указанных группах в 1,5; 1,4 и 1,5 раза (таблица 9; рисунок 17). Таблица 9 – Влияние пептидов глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на антиоксидантные показатели крови (n=8) при экспериментальной травме кожи у крыс при местном введении № п/п 1. Условия опыта Интактные животные МДА, мкмоль/л (М±m) 2,31±0,20 Каталаза, кат/л (М±m) 3032,01±201,1 Животные с кожными ранами Введение 2. физиологического рас- 6,47±0,42*1 1245,85±139,2*1 3,62±0,25*1,2 1864,16±122,7*1,2 твора (контроль) 3. Введение глицил- гистидил-лизина 4. Введение тимогена 3,38±0,19*1,2 1734,34±121,4*1,2 5. Введение даларгина 3,82±0,22*1,2 1902,31±112,2*1,2 2,34±0,25*2-5 2921,3±148,5*2-5 2,58±0,19*2-5 2995,30±117,4*2-5 4,89±0,32*1-7 2409,1±158,8*1-7 Введение 6. комбинации глицил-гистидиллизин+тимоген Введение 7. комбинации глицил-гистидил-лизин +даларгин 8. Введение комбинации тимоген+даларгин Примечание: * - р<0,05, цифра рядом со звездочкой – по отношению к значению какой группы показатель достоверно отличается. 70 ФИ 150 Каталаза ФЧ 100 50 МДА ИАФ 0 ФРН НСТ сп НСТ ст Рисунок 17 – Иммунометаболические эффекты раздельного внутрикожного введения пептида глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях кожных ран Обозначения: Радиус окружности обозначает уровень интактных животных. ----- – обозначает показатели животных при введении даларгина (в % по отношению к контрольной группе). - введение тимогена - введение GHL - достоверность отличий (р<0,05) 71 ФИ 200 Каталаза 150 ФЧ 100 50 МДА ИАФ 0 ФРН НСТ сп НСТ ст Рисунок 18 – Иммунометаболические эффекты парных комбинаций пептида глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях кожных ран при внутрикожном введении Обозначения: Радиус окружности обозначает уровень интактных животных. ----- – обозначает показатели животных при введении им комбинации тимоген+даларгин (в % по отношению к контрольной группе). - введение комбинации GHL+тимоген - введение комбинации GHL+даларгин - достоверность отличий (р<0,05) 72 Местное введение комбинаций пептидов GHL+даларгин и GHL+тимоген также как и при внутрибрюшинном введении сопровождалось коррекцией изучаемых показателей. Вследствие чего значения МДА уменьшились в 2,8 раза (GHL+тимоген) и 2,5 раза (GHL+даларгин), а активность каталазы возросла в 1,9 и 2,1 раза соответственно. Комбинация тимоген+даларгин также уменьшала показатель МДА в 1,4 раза и повышала каталазу в 1,7 раза (таблица 9; рисунок 18). Таким образом, изучение эффектов пептидных препаратов при их местном введении показало, что сам трипептид GHL, а также его сочетания с тимогеном и даларгином проявляли более выраженную репаративную активность по сравнению с внутрибрюшинным введением. Возможно, это связано с тем, что трипептид GHL оказывает более выраженное стимулирующее действие на клетки соединительной ткани при местном введении [72]. Кроме того, комбинации GHL c тимогеном или даларгином проявляли синергичное антиоксидантное действие, что также позитивно сказывается на процессах репарации. 73 3.3 Эффекты глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина и их комбинаций в условиях экспериментального перелома при внутрибрюшинном введении В результате проведенных исследований была выявлена репаративная активность регуляторных пептидов и их комбинаций при экспериментальном переломе бедренной кости. Изучение гистологических срезов костных тканей показало, что у животных, получавших физиологический раствор (контроль), костная мозоль над местом перелома была представлена массивной зоной пролиферирующих остеогенных клеток, в толще которой в неваскуляризированных местах обнаруживались крупные скопления клеток хрящевой ткани (рисунок 19). В дистально расположенных от места перелома отделах костная мозоль была образована васкуляризированной тканью из остеогенных клеток, в глубине которой в непосредственной близости с сохранившей жизнеспособность тканью костных отломков обнаруживались новообразованные остеобластами костные трабекулы (рисунок 20). У животных получавших пептид GHL в области перелома в краях костных отломков наблюдалась активная резорбция остеокластами погибшей костной ткани. Над костными отломками располагался широкий слой, представленный множеством мелких сосудистых полостей и интенсивно пролиферирующими остеогенными клетками (многочисленные митозы клеток), среди остеогенных клеток встречались мелкие очаговые скопления хондроцитов. В костной мозоли, расположенной дистальнее от места перелома наблюдалось интенсивное новообразование костных трабекул, имеющих непосредственную связь с сохранившей жизнеспосособность тканью костных отломков, с формированием губчатой костной ткани (рисунок 21,22). В группе животных, получавших даларгин, видимых морфологических различий с крысами, которым вводили пептид GHL, не было выявлено. Наблюдались репаративные изменения сопоставимые с теми, которые отмечались у животных, получавших пептид GHL. Наименее выраженные репаративные измене- 74 ния наблюдались в группе животных, получавших тимоген. Рисунок 19 – Фотография гистологического среза наружной костной мозоли лабораторных крыс, получавших физиологический раствор (контроль) через 10 суток после перелома бедренной кости (фото) Определяется крупное скопление хрящевых клеток, кнаружи от которого – слой остеогенных клеток (микрофото, окраска гематоксилин + эозин, х200). При сочетанном применении пептидов наблюдалось усиление репаративной активности с максимальной выраженностью в группе крыс, получавших комбинацию GHL + даларгин. Наружная костная мозоль у этих животных в области места перелома была представлена двумя слоями: над костными отломками в тесной связи с их тканью слой новообразованных остеобластами костных трабекул, кнаружи – покрытый фиброзным слоем надкостницы слой остеогенных клеток с мелкими очаговыми скоплениями хондроцитов (рисунок 23). Выявленные закономерности подтверждались рентгенологическими иссле- 75 дованиями. Показано, что в группах животных, получавших пептиды по отдельности и, особенно у крыс, получавших комбинации пептидов, линия перелома была менее выражена по сравнению с контролем (рисунок 24). Более выраженный репаративный эффект наблюдался в группе животных, получавших комбинацию GHL + даларгин, у которых линия перелома практически не прослеживалась. Рисунок 20 – Фотография гистологического среза наружной костной мозоли лабораторных крыс, получавших физиологический раствор (контроль) через 10 суток после перелома бедренной кости (фото) Определяются новообразованные костные трабекулы непосредственно связанные с костным отломком (микрофото, окраска гематоксилин + эозин, х140). 76 Рисунок 21 – Гистология наружной костной мозоли у животных, получавших пептид GHL через 10 суток после перелома бедренной кости (фото) Определяется новообразование костных трабекул, кнаружи – слой из остеогенных клеток (микрофото, окраска гематоксилин + эозин, х200); справа – новообразованные костные трабекулы, формирование губчатой кости (микрофото, окраска гематоксилин + эозин, увеличение х200). 77 Рисунок 22 – Гистология наружной костной мозоли у животных, получавших пептид GHL через 10 суток после перелома бедренной кости (фото) Определяются новообразованные костные трабекулы, формирование губчатой кости (микрофото, окраска гематоксилин + эозин, увеличение х200). 78 Рисунок 23 – Гистологическая картина наружной костной мозоли у животных получавших комбинацию пептидов Gly-His-Lys +даларгин через 10 суток после перелома бедренной кости (фото) Над костными отломками в тесной связи с их тканью определяется слой новообразованных остеобластами костных трабекул, кнаружи – слой остеогенных клеток, покрытый фиброзным слоем надкостницы (микрофото, окраска гематоксилин + эозин, х140). 79 А Б Д В Е Г Ж Рисунок 24 – Фотографии рентгенограмм бедренных костей лабораторных крыс через 10 суток после моделирования перелома А - Введение физиологического раствора (контроль), Б – введение пептида GHL, В - введение даларгина, Г - введение тимогена, Д- введение комбинации пептидов тимоген + GHL, Е - введение комбинации пептидов тимоген + даларгин, Ж - введение комбинации пептидов GHL + даларгин (линия перелома практически не прослеживается). 80 Следующим этапом было выявление иммунотропных эффектов пептидных субстанций. Установлено, что при экспериментальном переломе наблюдалось существенное снижение показателей ФИ, ФЧ и ИАФ, что свидетельствовало об ослаблении фагоцитарной активности нейтрофилов крови (таблица 10; рисунок 25). Так, ФИ снижался в 2,1 раза, ФЧ – в 2,8 раза, ИАФ – в 5,8 раза. В этих условиях пептиды оказывали стимулирующее влияние на изучаемые показатели. Пептид GHL увеличивал значения ФИ, ФЧ и ИАФ в 1,3; 1,9 и 2,8 раза соответственно, а пептидный препарат даларгин – 1,4; 2,0 и 2,7 раза. Наибольшей стимулирующей активностью обладал тимоген, о чем свидетельствовало более выраженное повышение ФИ (2,2 раза) и ИАФ (3,3 раза) по сравнению с другими пептидами (рисунок 25,27). При использовании комбинаций пептидов наблюдалось усиление эффекта. При этом наблюдалась коррекция изучаемых показателей (ФИ, ФЧ, ИАФ) в группах животных, получавших комбинацию пептидов GHL + тимоген и GHL + даларгин. Одновременное парное введение тимогена и даларгина также стимулировало фагоцитарную активность нейтрофилов, увеличивая ФИ в 1,9 раза, ФЧ – в 2,1 раза, а ИАФ – в 4 раза по сравнению с контрольной группой (таблица 10; рисунок 25, 28). При переломе бедренной кости также наблюдалось снижение показателей кислородзависимой бактерицидной активности нейтрофилов и сопровождалось угнетением их функционального резерва (таблица 11, рисунок 26). Так, mOD нст, mOD н/з и mOD о/з снизились в 1,8; 2,7 и 2,5 раза соответственно. Внутрибрюшинные инъекции GHL существенно не влияли на изучаемые показатели. В тоже время введение даларгина и тимогена повышало активность нейтрофилов в спонтанной и индуцированной реакциях восстановления нитросинего тетразолия. Так, даларгин увеличивал значения mOD нст и mOD о/з в 1,4 и 1,5 раза, а тимоген – в 1,3 и 1,4 раза соответственно (таблица 11, рисунок 27). 81 Таблица 10 – Влияние пептидов глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на фагоцитарную активность нейтрофилов крови при экспериментальном переломе у крыс при внутрибрюшинном введении(n=8) № п/ п ФагоцитарУсловия опыта Фагоцитар- ное число, ный индекс, % абс. (М±m) 1. Интактные животные 67,01±4,33 3,82±0,19 Индекс активации фагоцитоза 2,51±0,12 Животные с экспериментальным переломом 2 Введение физиологического 31,67±2,03*1 1,35±0,05*1 0,43±0,04*1 41,80±2,50*1,2 2,64±0,14*1,2 1,19±0,03*1,2 раствора (NaCl) 3 Введение глицилгистидил-лизина 4 Введение даларгина 43,50±2,65*1,2 2,70±0,15*1,2 1,17±0,03*1,2 5 Введение тимогена 55,00±2,22*1-4 2,67±0,17*1,2 1,41±0,04*1-4 6 Введение комбинации 69,17±3,70*2-5 3,74±0,25*2-5 2,35±0,23*2-5 72,17±5,25*2-5 3,79±0,17*2-5 2,71±0,19*2-5 60,00±3,5*2-4,7 2,85±0,19*1,2,6,7 1,71±0,05*1-7 глицил-гистидиллизин+даларгин 7 Введение комбинации глицил-гистидиллизин+тимоген 8 Введение комбинации тимоген +даларгин Примечание: * - достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со звездочкой показывают по отношению к показателю, какой группы эти различия достоверны. 82 Индекс ативации фагоцитоза *2-4 3 *2-4 2,5 *1-6 2 *1-3 1,5 *1 *1 2 3 1 0,5 0 1 4 5 6 7 Рисунок 25 – Изменение поглотительной способности фагоцитов крови при внутрибрюшинном введении пептида Gly-His-Lys, тимогена, даларгина и их комбинации(M±m, n=8) в условиях экспериментального перелома Обозначения: - линия обозначает уровень интактных животных. Столбики – животные с эксперимен- тальной травмой кожи. 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение GHL. 3. Введение даларгина. 4. Введение тимогена. 5. Введение комбинации GHL+даларгин. 6. Введение комбинации GHL+тимоген. 7. Введение комбинации тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, а рядом стоящая цифра – номера групп сравнения. 83 Таблица 11 – Влияние GHL, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на кислородзависимую активность нейтрофилов крови при экспериментальном переломе бедренной кости у крыс при внутрибрюшинном введении(n=8) № п/п 1 Условия опыта Интактные животные mOD нст mOD н/з mOD о/з КАн (нз/с) КАо (оз/с) (М±m) (М±m) (М±m) (М±m) (М±m) 2,47±0,23 9,04±0,45 12,76±0,95 3,77±0,31 5,12±0,32 1,35±0,19*1 2,25±0,57*1 4,31±0,67*1 1,75±0,11 3,09±0,19*1 Введение 2 физиологического раствора 3 Введение GHL 1,39±0,16*1 2,38±0,41*1 4,54±0,56*1 1,70±0,09*1 2,83±0,22*1 4 Введение даларгина 1,89±0,14*1-3 5,31±0,41*1-3 7,19±0,63*1-3 2,70±0,21*1-3 3,97±0,24*1-3 5 Введение тимогена 1,85±0,15*1-3 5,45±0,44*1-3 7,01±0,72*1-3 2,91±0,19*1-3 4,01±0,21*1-3 2,55±0,18*2-5 9,59±0,56*2-5 12,55±0,83*2-5 3,81±0,29*2-5 5,23±0,26*2-5 1,95±0,13*1-3,6 5,59±0,47*1-3,6 7,54±0,431-3,6 2,81±0,21*1-3 4,05±0,24*1-3,6 1,93±0,12*1-3,6 5,44±0,59*1-3,6 7,51±0,571-3,6 2,75±0,20*1-3,6 3,97±0,35*1-3,6 6 7 8 Введение комбинации GHL+даларгин Введение комбинации GHL+тимоген Введение комбинации тимоген+даларгин Примечание: * - достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со звездочкой показывают по отношению к показателю, какой группы эти различия достоверны. 84 6 Функциональный резерв нейтрофилов (коэффициент КАо) *1-4 5 *1,2 *1,2 *1,2,5 *1,2,5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Рисунок 26 – Влияние регуляторных пептидов GHL, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на уровень функционального резерва (М±m, n=8) нейтрофилов крови при экспериментальном переломе у крыс при внутрибрюшинном введении. Обозначения: линия - уровень интактных животных. Столбики - животные с экспериментальным переломом. 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение GHL. 3. Введение даларгина. 4. Введение тимогена. 5. Введение GHL+Даларгин. 6. Введение GHL+тимоген. 7. Введение тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, различия достоверны по отношению к группе контроля При комбинированном введении тимогена или даларгина с пептидом GHL, наблюдалось усиление эффекта только в группе животных, получавших комбинацию GHL+даларгин, и сопровождалось коррекцией коэффициента КАо, отражающего уровень функционального резерва нейтрофилов (таблица 11, рисунки 85 26,28). При этом показатели mOD нст, mOD н/з и mOD о/з также достигли уровня интактных животных. Эффекты комбинаций GHL+тимоген и тимоген+даларгин были сопоставимы с эффектами раздельного введения тимогена и даларгина. Таким образом, при переломах трубчатых костей комбинация GHL+даларгин корригировала как поглотительную стадию фагоцитоза нейтрофилов, так и их кислородзависимую активность, тогда как комбинация GHL + тимоген проявляла иммунокорригирующее действие только в отношении поглотительной стадии фагоцитоза нейтрофилов крови. Следующим этапом было изучение метаболического (оксидантного и антиоксидантного) статуса экспериментальных животных, а также динамики изменения его показателей на фоне введения пептидных препаратов и их комбинаций. Установлено, что в условиях экспериментального перелома наблюдается активация процессов перекисного окисления липидов (таблица 12), что сопровождалось увеличением уровня МДА (в 2,5 раза) и снижением активности фермента каталазы (в 2,1 раза). Введение всех выбранных для исследования пептидов по отдельности сопровождалось проявлением антиоксидантной активности, о чем свидетельствовало снижение уровня МДА и повышение активности каталазы крови. Так, пептид GHL уменьшал концентрацию МДА в 1,3 раза, даларгин – в 1,7 раза, а тимоген – в 2,1 раза. Таким образом, эффект тимогена в отношении МДА был более выражен по сравнению с действием пептида GHL (таблица 12; рисунок 27). Пептиды GHL, даларгин и тимоген достоверно повышали активность каталазы крови экспериментальных животных в 1,3; 1,25 и 1,25 раза. Таким образом, их эффекты были сопоставимы. Было выявлено усиление активности каталазы при сочетанном применении пептидов. При этом наиболее выраженная активность каталазы в крови наблюдалась при использовании комбинации пептидов GHL+тимоген (нормализация уровня каталазы). В то же время концентрация МДА в этой группе была на уровне контроля. Комбинации GHL+даларгин и тимоген+даларгин снижали уровень МДА в 1,4 и 1,5 раза соответственно, а активность каталазы повышалив 1,4 и 1,5 раза (таблица 12, рисунок 28). 86 Таблица 12 – Влияние пептидов GHL, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на антиоксидантные показатели крови при экспериментальном переломе у крыс при внутрибрюшинном введении(n=8) № п/п 1. Условия опыта Интактные животные МДА, мкмоль/л (М±m) Каталаза, кат/л (М±m) 2,08±0,23 2798,55±201,1 5,47±0,24*1 1291,37±64,17*1 Введение 2. физиологического рас- твора (контроль) 3. Введение GHL 4,09±0,32*1,2 1597,60±91,37*1,2 4. Введение даларгина 3,26±0,31*1,2 1530,15±93,82*1,2 5. Введение тимогена 2,68±0,16*1-3 1497,00±85,43*1,2 3,90±0,26*1,2,5 1811,33±101,53*1-5 5,50±0,21*1,3-5 2966,86±391,0*2-6 3,66±0,41*1,2,7 1978,35±196,60*1-5,7 6. 7. 8. Введение комбинации GHL+даларгин Введение комбинации GHL+тимоген Введение комбинации Тимоген+даларгин Примечание: * - достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со звездочкой показывают по отношению к показателю, какой группы эти различия достоверны. Выявлено, что при попарном применении пептида GHL с тимогеном или даларгином наблюдалось их синергичное стимулирующее действие на активность каталазы, но не на уровень МДА в крови (таблица 12, рисунок 28). Предположительно, это могло быть связано с боле выраженной активацией кислородзависимого метаболизма нейтрофилов крови при сочетанном применении пептидов, и соответственно, более активным образованием свободных радикалов, стимулирующих оксидантные процессы в организме. Комбинация тимоген+даларгин 87 ФИ 200 Каталаза 150 ФЧ 100 50 МДА ИАФ 0 ФРН НСТ сп НСТ ст Рисунок 27 – Иммунометаболические эффекты раздельного внутрибрюшинного введения пептида глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях экспериментального перелома у крыс Обозначения: радиус окружности обозначает уровень интактных животных. ----- – обозначает показатели животных при введении им даларгина (в % по отношению к контрольной группе). - введение тимогена - введение GHL - достоверность отличий (р<0,05) 88 ФИ 150 Каталаза ФЧ 100 50 МДА ИАФ 0 ФРН НСТ сп НСТ ст Рисунок 28 – Иммунометаболические эффекты парных комбинаций пептида глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях экспериментального перелома у крыс при внутрибрюшинном введении Обозначения: Радиус окружности обозначает уровень интактных животных. ----- – обозначает показатели животных при введении им комбинации тимоген+даларгин (в % по отношению к контрольной группе). - введение комбинации GHL+тимоген - введение комбинации GHL+даларгин - достоверность отличий (р<0,05) 89 снижала уровень МДА в 1,5 раза и повышала активность каталазы в 1,5 раза. Таким образом, комбинации изучаемых пептидов GHL, тимогена и даларгина обладают выраженными антиоксидантными и иммунотпропными эффектами. При этом сочетание GHL+даларгин корригировало большинство изученных показателей, более выраженно стимулировало репаративную активность, что подтверждалось гистологическими и рентгенологическими исследованиями. Выраженная репаративная активность комбинации GHL+даларгин могла быть обусловлена не только непосредственным действием двух пептидов-репарантов [79] на клетки костной ткани, но и сочетанием синергичной антиоксидантной активности, а также проявлением стресс-лимитирующего действия даларгина [79]. 90 3.4 Репаративные, иммунотропные и антиоксидантные эффекты глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина и их парных сочетаний при внутрикостном введении в условиях экспериментального перелома Гистологическими срезами костных мозолей было показано, что пептид GHL, а также его комбинации с даларгином и тимогеном проявляли более выраженную репаративную активность при местном (внутрикостном) применении по сравнению с внутрибрюшинными инъекциями. При этом наибольшей активностью обладала комбинация GHL+даларгин (рисунки 29,30). Рисунок 29 – Гистологическая картина наружной костной мозоли у животных получавших комбинацию пептидов Gly-His-Lys +даларгин через 10 суток после перелома бедренной кости (фото) при внутрикостном введении Над костными отломками в тесной связи с их тканью определяется слой новообразованных остеобластами костных трабекул, кнаружи – слой остеогенных клеток, покрытый фиброзным слоем надкостницы (микрофото, окраска гематоксилин-эозином, увеличение х140). Наружная костная мозоль у этих животных в области места перелома была 91 представлена двумя слоями: над костными отломками в тесной связи с их тканью слой новообразованных остеобластами костных трабекул, кнаружи – покрытый фиброзным слоем надкостницы слой остеогенных клеток с мелкими очаговыми скоплениями хондроцитов. В дистальных от линии перелома отделах костной мозоли обнаруживалась в тесной связи с тканью костного отломка новообразованная костная ткань с надкостницей и с явлениями перестройки в компактную кость (рисунок 29,30). Рисунок 30 – Гистологическая картина наружной костной мозоли у животных получавших комбинацию пептидов Gly-His-Lys +даларгин через 10 суток после перелома бедренной кости (фото) при внутрикостном введении В тесной связи с тканью костного отломка определяется новообразованная костная ткань с надкостницей и с явлениями перестройки в компактную кость (микрофото, окраска гематоксилин-эозином, увеличение х200). Рентгенологически также была подтверждена наибольшая репаративная ак- 92 тивность комбинации GHL + даларгин (рисунок 31). А Б В Д Е Г Ж Рисунок 31 – Фотографии рентгенограмм бедренных костей лабораторных крыс через 10 суток после моделирования перелома при внутрикостном введении пептидов А - Введение физиологического раствора (контроль), Б – введение пептида GHL, В - введение даларгина, Г - введение тимогена, Д- введение комбинации пептидов тимоген + GHL, Е - введение комбинации пептидов тимоген + даларгин, Ж - введение комбинации пептидов GHL + даларгин. В ходе изучения иммунореактивности экспериментальных животных было 93 установлено, что наблюдается резкое ослабление фагоцитарной активности (таблица 13). Так, показатели ФИ, ФЧ и ИАФ снизились в 2; 3 и 6,1 раза соответственно. Раздельное введение пептидов GHL, даларгина и тимогена сопровождалось проявлением ими иммунотропных свойств. При этом ФИ повышался в 1,3 раза для GHL, в 1,3 раза для даларгина и в 1,7 раза для тимогена. Показатель ФЧ возрастал в 2,1; 2 и 2,2 раза соответственно. В свою очередь ИАФ возрос в 3; 3,3,1 и 3,7 раза (таблица 13; рисунок 32). Таблица 13 – Влияние пептидов Gly-His-Lys (GHL), тимогена и даларгина, а также их комбинаций на фагоцитарную активность нейтрофилов крови при экспериментальном переломе у крыс при внутрикостном введении(n=8) Индекс ак№ Фагоцитар-ный Фагоцитар-ное тивации фаУсловия опыта п/ индекс, % число, абс. гоцитоза п (М±m) (М±m) (М±m) 1. Интактные животные 70,7±6,99 4,02±0,31 2,70±0,19 Животные с экспериментальным переломом 2 Введение физиолог. раствора 30,76±3,11*1 1,29±0,06*1 0,40±0,03*1 3 Введение GHL 40,66±3,23*1,2 2,71±0,17*1,2 1,20±0,07*1,2 4 Введение даларгина 40,45±2,95*1,2 2,67±0,20*1,2 1,27±0,09*1,2 5 Введение тимогена 53,20±4,12*1-4 2,77±0,21*1,2 1,70±0,06*1-4 6 Введение комбинации 71,33±5,11*2-5 3,91±0,29*2-5 2,44±0,29*2-5 75,25±5,87*2-5 4,01±0,25*2-5 2,60±0,22*2-5 54,59±5,1*1-4,6,7 2,81±0,15*1,2,6,7 1,79±0,09*1-4,6,7 GHL+даларгин 7 Введение комбинации GHL+тимоген 8 Введение комбинации Тимоген +даларгин Примечание: * - достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со звездочкой показывают по отношению к показателю, какой группы эти различия достоверны. 94 Десятикратные инъекции комбинаций GHL+даларгин и GHL+тимоген нормализовали изучаемые показатели так, что для сочетания GHL+даларгин уровни ФИ, ФЧ и ИАФ возросли в 2,1; 3 и 6,1 раза, а для сочетания GHL+тимоген в 2,2; 3,1 и 6,5 раза соответственно. Одновременное введение 2-х пептидов тимогена и даларгина увеличивало ФИ в 1,8 раза, ФЧ в 2.2 раза, ИАФ в 4,5 раза (таблица 13; рисунко 32). Перелом бедренной кости у экспериментальных крыс сопровождался ослаблением бактерицидной функции нейтрофилов (таблица 14). Показатели mOD нст, mOD н/з, mOD о/з, КАо (оз/с) были снижены в 1,8; 2,6; 2,4 и 1,5 раза соответственно (таблица 14). Также как и при внутрибрюшинном введении внутрикостные инъекции пептидов тимогена и даларгина стимулировали функцию нейтрофилов. В результате этого даларгин повысил изученные параметры в 1,5; 1,9; 1,6 и 1,3 раза соответственно. В тимоген в свою очередь изменил в положительную сторону уровни mOD нст, mOD н/з, mOD о/з, КАо (оз/с) в 1,4; 1,9; 1,6 и 1,3. Пептид GHL не влиял на кислородзависимый метаболизм нейтрофилов (таблица 14; рисунок 33, 34). Одновременные внутрикостные инъекции GHL и даларгина нормализовали значения НСТ теста в спонтанной и индуцированной реакциях. mODнст увеличился в 1,9 раза, mOD н/з – в 3 раза, mOD о/з – в 2,3 раза, а уровень КАо, отражающего функциональный резерв нейтрофилов, в 1,6 раза (таблица 14; рисунок 33, 35). Эффекты совместного введения GHL+тимоген и тимоген+даларгин были сопоставимы. Было установлено повышение значений mOD нст, mOD н/з, mOD о/з, КАо (оз/с): GHL+тимоген – в 1,7; 2; 1,6 и 1,3 раза; тимоген+даларгин – 1,5; 1,9; 1,5 и 1,3 раза (таблица 14; рисунок 33, 35). В дальнейшем нами была изучена система перекисного окисления липидов. Исследования показали, что при травматическом повреждении костной ткани наблюдается накопление продуктов ПОЛ (в частности, увеличение концентрации МДА в 2,6 раза), ослабление антиоксидантной системы (снижение активности каталазы в 2,2 раза) (таблица 15). 95 Индекс активации фагоцитоза 3 *1-4 *1-4 2,5 *1-3,5,6 *1-3 2 *1 *1 1,5 1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 Рисунок 32 – Изменение поглотительной способности фагоцитов крови при внутрикостном введении пептида Gly-His-Lys, тимогена, даларгина и их комбинации(M±m, n=8) в условиях экспериментального перелома Обозначения: - линия обозначает уровень интактных животных. Столбики – животные с экспериментальной травмой кожи. 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение GHL. 3. Введение даларгина. 4. Введение тимогена. 5. Введение комбинации GHL+даларгин. 6. Введение комбинации GHL+тимоген. 7. Введение комбинации тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, а рядом стоящая цифра – номера групп сравнения. 96 Таблица 14 – Влияние GHL, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на кислородзависимую активность нейтрофилов крови при экспериментальном переломе бедренной кости у крыс при внутрикостном введении(n=8) № п/п 1 Условия опыта Интактные животные mOD нст mOD н/з mOD о/з КАн (нз/с) КАо (оз/с) (М±m) (М±m) (М±m) (М±m) (М±m) 2,56±0,18 9,85±0,71 12,03±1,12 3,88±0,30 4,93±0,40 1,29±0,11*1 2,34±0,22*1 4,42±0,41*1 1,55±0,15*1 2,99±0,16*1 Введение 2 физиологического раствора 3 Введение GHL 1,51±0,12*1 2,41±0,25*1 4,62±0,49*1 1,61±0,11*1 2,79±0,19*1 4 Введение даларгина 1,95±0,13*1-3 4,54±0,50*1-3 6,85±0,60*1-3 2,31±0,19*1-3 3,91±0,22*1-3 5 Введение тимогена 2,00±0,15*1-3 4,45±0,44*1-3 7,10±0,55*1-3 2,23±0,10*1-3 3,88±0,32*1-3 2,49±0,23*2-5 9,11±0,62*2-5 12,35±0,94*2-5 3,66±0,29*2-5 5,12±0,31*2-5 2,01±0,21*1-3,6 4,60±0,29*1-3,6 7,04±0,651-3,6 2,33±0,14*1-3 3,80±0,20*1-3,6 1,92±0,10*1-3,6 4,53±0,55*1-3,6 6,72±0,591-3,6 2,41±0,20*1-3,6 3,81±0,33*1-3,6 6 7 8 Введение комбинации GHL+даларгин Введение комбинации GHL+тимоген Введение комбинации тимоген+даларгин Примечание: * - достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со звездочкой показывают по отношению к показателю, какой группы эти различия достоверны. 6 Функциональный резерв нейтрофилов (коэффициент КАо) 97 *1-4 5 *1, 2 4 *1, 2 *1,2,5 *1,2,5 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Рисунок 33 – Влияние регуляторных пептидов GHL, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на уровень функционального резерва (М±m, n=8) нейтрофилов крови при экспериментальном переломе у крыс при внутрикостном введении. Обозначения: линия - уровень интактных животных. Столбики - животные с экспериментальным переломом. 1. Введение физиологического раствора (контроль). 2. Введение GHL. 3. Введение даларгина. 4. Введение тимогена. 5. Введение GHL+Даларгин. 6. Введение GHL+тимоген. 7. Введение тимоген+даларгин. Примечание: * - р<0,05, различия достоверны по отношению к группе контроля 98 Таблица 15 – Влияние пептидов глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина, а также их комбинаций на антиоксидантные показатели крови при экспериментальном переломе у крыс при внутрикостном введении (n=8) № п/п 1. Условия опыта Интактные животные МДА, Каталаза, мкмоль/л кат/л (М±m) (М±m) 2,39±0,17 2858,01±223,5 6,65±0,39*1 1223,11±95,17*1 Введение 2. физиологического раствора (контроль) 3. Введение GHL 4,98±0,33*1,2 1556,85±96,27*1,2 4. Введение даларгина 4,29±0,31*1,2 1601,11±102,26*1,2 5. Введение тимогена 3,75±0,29*1-3 1549,20±115,11*1,2 2,45±0,19*2-5 2423,25±226,47*2-5 4,93±0,50*1,2,5,6 2901,28±301,13*2-5 4,94±0,32*1,2,5,6 2199,44±151,47*1-5,7 6. 7. 8. Введение комбинации GHL+даларгин Введение комбинации GHL+тимоген Введение комбинации Тимоген+даларгин Примечание: * - достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со звездочкой показывают по отношению к показателю, какой группы эти различия достоверны. Раздельные десятикратные инъекции GHL и даларгина равнозначно снижали синтез МДА (в 1,5 раза) и стимулировали активность каталазы (в 1,3 раза) (таблица 15; рисунок 34). Эффект тимогена в отношении МДА был более выражен (снижение в 1,8 раза). Эффективность комбинации GHL+даларгин проявлялась в коррекции уровней МДА и каталазы. Сочетание тимоген+даларгин снижало уровень МДА в 1,4 раза и повышало активность каталазы в 1,8 раза. В тоже время сочетание GHL+тимоген не влияло на уровень МДА, но при этом значи- 99 тельно активизировало фермент каталазу (в 2,4 раза) (таблица 15; рисунок 35). ФИ 200 Каталаза 150 ФЧ 100 50 МДА ИАФ 0 ФРН НСТ сп НСТ ст Рисунок 34 – Иммунометаболические эффекты раздельного внутрикостного введения пептида глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях экспериментального перерлома у крыс Обозначения: Радиус окружности обозначает уровень интактных животных. ----- – обозначает показатели животных при введении им даларгина (в % по отношению к контрольной группе). - введение тимогена; - введение GHL - достоверность отличий (р<0,05) 100 ФИ 200 Каталаза 150 ФЧ 100 50 МДА ИАФ 0 ФРН НСТ сп НСТ ст Рисунок 35 – Иммунометаболические эффекты парных комбинаций пептида глицил-гистидил-лизина, тимогена и даларгина в условиях экспериментального перерлома у крыс при внутрикостном введении Обозначения: Радиус окружности обозначает уровень интактных животных. ----- – обозначает показатели животных при введении им комбинации тимоген+даларгин (в % по отношению к контрольной группе). - введение комбинации GHL+тимоген - введение комбинации GHL+даларгин - достоверность отличий (р<0,05) 101 Таким образом, при местном (внутрикостном) введении комбинации GHL+даларгин наблюдалась более выраженная активность репаративного остеогенеза по сравнению с внутрибрюшинным введением, что согласуется с данными литературы о непосредственном влиянии пептида GHL и опиоидных пептидов на клетки костей [79,241]. Кроме того, комбинация GHL+даларгин корригирует как поглотительную стадию фагоцитоза нейтрофилов, так и их кислородзависимую активность, изучаемые показатели перекисного оксиления липидов, что сопровождается выраженной активацией восстановительных процессов. 102 ГЛАВА 4 ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ Лечение больных с посттравматическими нарушениями регенерации попрежнему остается одной из главных проблем травматологии и ортопедии, высокая актуальность которой определяется ростом травматизма, вышедшим на четвертое место среди общей заболеваемости взрослого населения [127]. Репарация соединительных тканей находится под контролем механизмов, в которых принимают участие основные регуляторные системы организма: нервная, эндокринная, иммунная. Компонентами этих систем являются пептидные молекулы, осуществляющие их взаимодействие [2]. В связи с этим, одним из перспективных направлений медицины считается использование регуляторных пептидов для стимуляции репаративной регенерации поврежденных тканей. При этом регуляторные системы организма участвуют в поддержании гомеостаза с помощью регуляторных пептидов [2]. Поэтому, выявление их эффектов и механизмов действия представляет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Из полученных ранее данных известно, что пептид глицил-гистидил-лизин (GHL) оказывает более выраженное ранозаживляющее действие в малых дозах (0,5 и 1,5 мкг/кг), тогда как повышение дозы до 5 и 15 мкг/кг ослабляет выраженность его эффектов [72]. Возможно, что это связано с проявлением механизма обратной отрицательной связи, характерного для сигнальных молекул [118]. Поэтому для дальнейших исследований эффектов GHL и его комбинаций была выбрана разовая доза 0,5 мкг/кг, обладающая наибольшим репаративным действием. Учитывая особенности действия регуляторных пептидов на клетки мишени, связанные с рецепторными механизмами и особенностями усиления сигнала в клетке мишени с помощью вторичных мессенджеров [118], для корректного сравнения эффектов GHL с эффектами тимогена и даларгина эти пептиды применялись в эквимолярных с GHL дозах. В результате проведенных исследований было выявлено сопоставимое (по коэффициенту КОР3) ранозаживляющее действие пептидов GHL, тимогена и да- 103 ларгина при внутрибрюшинном введении и более выраженное репаративное действие GHL при местном (внутрикожном) введении (таблица 16). Скорее всего, это связано с тем, что GHL оказывает непосредственное действие на клетки кожи, что подтверждается данными литературы. Так известно, что GHL увеличивает количество фибробластов и синтез ими коллагена in vitro, что ускоряет эпителизацию [180]. Также in vitro GHL активирует аутокринную продукцию факторов роста (TGF-β, сосудистого эндотелиального фактора роста), что способствует активации процессов регенерации [197,206,235] и подтверждает непосредственное действие GHL на клетки кожи. Причем пептид GHL проявляет ранозаживляющее действие, не оказывая при этом существенного влияния на функцию нейтрофилов в данной дозе и способах введения (таблица 17), что также свидетельствует в пользу непосредственного действия пептида на клетки кожи. Тогда как тимоген и даларгин стимулировали функциональную активность нейтрофилов (сниженную в этих условиях), что позитивно сказывается на процессах репаративной регенерации. Так известно, что возможность бактериального обсеменения, приводящая к нагноению и снижению скорости ранозаживления, зависит в первую очередь от функциональной активности этих клеток, так как нейтрофилы первыми из фагоцитирующих клеток приходят в зону воспаления [137]. Также в условиях сниженной иммунной функции активность репаративных процессов, как правило, снижается [108]. Выраженность свободнорадикальных реакций также существенно влияет на активность восстановительных процессов. Известно, что при большинстве острых и хронических заболеваний, интоксикациях, ожогах, в том числе и при травмах костей наблюдается активация свободнорадикальных реакций, что сопровождается перекисным окислением липидов биологических мембран, снижением их прочности и разрушением [125]. В результате этого снижается активность ферментных систем, расположенных в мембранах, и, как следствие, наблюдается ослабление синтеза макроэргических соединений, что приводит к торможению процессов синтеза белков, нуклеиновых кислот, и, в конечном счете, к замедлению процессов регенерации. 104 Таблица 16 – Репаративные эффекты пептидов глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина, а также их комбинаций при травмах кожи и костей № Условия введения Субстанция 1. Глицил-гистидиллизин (GHL) Кожные раны Перелом бедренной кости Внутрибрюшинное Внутрикожное Внутрибрюшинное Внутрикостное введение введение введение введение Стимулирует Стимулирует (более выражено) Стимулирует Стимулирует (более выражено) 2. Тимоген Стимулирует Стимулирует Стимулирует Стимулирует 3. Даларгин Стимулирует Стимулирует Стимулирует Стимулирует Усиление Усиление Усиление Усиление 4. GHL +тимоген 5. стимулирующего эффекта Усиление GHL+даларгин 6. Тимоген +даларгин стимулирующего эффекта Усиление стимулирующего эффекта стимулирующего эффекта (более выражено по сравнению с в/б введением) Усиление стимулирующего эффекта (более выражено по сравнению с в/б введением) Усиление стимулирующего эффекта стимулирующего эффекта Усиление стимулирующего эффекта Усиление стимулирующего эффекта стимулирующего эффекта (более выражено по сравнению с в/б введением) Усиление стимулирующего эффекта (более выражено по сравнению с в/б введением) Усиление стимулирующего эффекта 105 Таблица 17 – Влияние пептидов глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина, а также их комбинаций на функцию нейтрофилов при травмах кожи и костей № Условия введения Субстанция 1. Глицил-гистидил- Кожные раны Перелом бедренной кости Внутрибрюшинное Внутрикожное Внутрибрюшинное Внутрикостное введение введение введение введение Стимулирует Стимулирует (поглотительную стадию фагоцитоза) (поглотительную стадию фагоцитоза) Не влияет Не влияет 2. Тимоген Стимулирует Стимулирует Стимулирует Стимулирует 3. Даларгин Стимулирует Стимулирует Стимулирует Стимулирует Усиление Усиление Усиление стимулирующего эффекта (корригирует) стимулирующего эффекта (корригирует поглотительную стадию фагоцитоза) стимулирующего эффекта (корригирует поглотительную стадию фагоцитоза) Усиление Усиление Усиление Усиление стимулирующего эффекта (корригирует) стимулирующего эффекта (корригирует) стимулирующего эффекта (корригирует) стимулирующего эффекта (корригирует) Усиление Усиление Усиление Усиление стимулирующего эффекта стимулирующего эффекта стимулирующего эффекта (только поглотительная стадия фагоцитоза) стимулирующего эффекта (только поглотительная стадия фагоцитоза) лизин (GHL) 4. Усиление GHL +тимоген 5. GHL+даларгин 6. Тимоген +даларгин стимулирующего эффекта (корригирует) 106 В связи с этим, снижение активности свободнорадикальных реакций и активация антиоксидантной системы целесообразно в комплексной терапии многих патологических процессов, в том числе и при травмах [125]. В связи с этим, наличие антиоксидантной активности у препарата или фармакологического сочетания, как правило, позитивным образом сказывается на их репаративном действии. В проведенных исследованиях наблюдалось снижение активности каталазы и повышение уровня МДА, что свидетельствовало об ослаблении антиоксидантной защиты организма и активации процессов перекисного окисления липидов, что в первую очередь негативно сказывается на структуре клеточных мембран и процессах репаративной регенерации [125]. В этих условиях пептиды GHL, тимоген и даларгин проявляли сопоставимую стимулирующую активность в отношении каталазы (таблица 18). Также нельзя исключить действия пептидов в отношении других механизмов антиоксидантной защиты организма, что сопровождалось сниженным образованием вторичных продуктов перекисного окисления (уровень МДА). При этом эффект наблюдался как при внутрибрюшинном, так и при местном (внутрикожном) введении. При использовании пептидов в парных сочетаниях наблюдалось усиление их ранозаживляющего действия, а также повышение активности нейтрофилов и антиоксидантного действия (таблица 16,17,18). Причем в тех сочетаниях, где применяли пептид GHL, наблюдалось более выраженное репаративное действие при местном (внутрикожном) введении по сравнению с внутрибрюшинным введением. Скорее всего, это связано с более выраженным репаративным действием пептида GHL на местном уровне. При этом более выраженная ранозаживляющая активность (по коэффициенту КР3) наблюдалась при использовании комбинации GHL+даларгин. Это могло быть обусловлено не только непосредственным действием двух пептидов-репарантов [201,272,273] на клетки кожи, а также проявлением стресс-лимитирующего действия даларгина [32]. При этом наблюдается более выраженное (корригирующее) антиоксидантное и иммуностимулирующее действие на нейтрофилы, что также может приводить к усилению 107 Таблица 18 – Антиоксидантная активность пептидов глицил-гистидил-лизина, тимогена, даларгина, а также их комбинаций при травмах кожи и костей № Условия введения Кожные раны Перелом бедренной кости Внутрибрюшинное Внутрикожное Внутрибрюшинное Внутрикостное введение введение введение введение Стимулирует Стимулирует Стимулирует Стимулирует 2. Тимоген Стимулирует Стимулирует Стимулирует Стимулирует 3. Даларгин Стимулирует Стимулирует Стимулирует Стимулирует Усиление Усиление Усиление эффекта стимулирующего эффекта стимулирующего эффекта (корригирует) на каталазу (корригирует) на каталазу (корригирует) Усиление Усиление Усиление эффекта стимулирующего эффекта эффекта (корригирует (корригирует) на каталазу МДА и каталазу) Усиление Усиление Усиление Усиление стимулирующего Стимулирующего стимулирующего эффекта стимулирующего эффекта эффекта на каталазу эффекта на каталазу на каталазу на каталазу Субстанция 1. Глицил-гистидиллизин (GHL) 4. GHL +тимоген 5. GHL+даларгин 6. Тимоген +даларгин Усиление эффекта (корригирует) Усиление эффекта (корригирует) 108 ранозаживляющего действия. Комбинация GHL+тимоген также обладала иммунокорригирующим на нейтрофилы действием, а также выраженным антиоксидантным (корригирующим) эффектом, но ее репаративное действие было менее выражено по сравнению с комбинацией GHL+даларгин. Следующим этапом исследований было выявление эффектов пептидов GHL, тимогена и даларгина в отношении репаративного остеогенеза. При этом установлено, что пептид GHL оказывал более выраженное репаративное действие при его местном (внутрикостном) введении по сравнению с внутрибрюшинным, что, скорее всего, связано с его непосредственным действием на клетки костной ткани (таблица 16). Но в этих условиях было выявлено стимулирующее действие GHL на поглотительную стадию фагоцитоза нейтрофилов. Возможно, это связано с большей выраженностью стрессорных воздействий и боли при переломах, а также наличием у GHL аналгетического эффекта [101]. В этих условиях также наблюдалось стимулирующее действие тимогена и даларгина на активность репаративного остеогенеза, функцию нейтрофилов и антиоксидантные эффекты, а в парных сочетаниях друг с другом или с GHL наблюдалось синергичное действие пептидов (таблицы 16,17,18). Но при использовании комбинации тимоген+даларгин наблюдалось только усиление эффекта в отношении поглотительной стадии фагоцитоза нейтрофилов, тогда как применение комбинаций GHL+даларгин и GHL+тимоген сопровождалось усилением стимулирующего эффекта как в отношении поглотительной стадии, так и кислородзависимой активности нейтрофилов. При этом комбинация GHL+тимоген проявляла иммунокорригирующее действие только в отношении поглотительной стадии фагоцитоза нейтрофилов (ФИ, ФЧ, ИАФ), а комбинация GHL+даларгин корригировала как поглотительную стадию фагоцитоза нейтрофилов, так и их кислородзависимую активность. При этом также наблюдалось усиление антиоксидантного действия при использовании пептидов в комбинациях. Так комбинации тимоген+даларгин и GHL+тимоген усиливали стимулирующее действие только на каталазу. Эффект комбинации GHL+тимоген был более выражен, так как наблюдалось корриги- 109 рующее действие, то есть сниженная активность этого антиоксидантного фермента восстанавливалась до уровня интактных животных (таблица 18). Но при этом не наблюдалось усилением эффекта в отношении уровня МДА как при внутрибрюшинном, так и при местном (внутрикостном) введении. В тоже время комбинация GHL+даларгин при внутрибрюшинном введении усиливала стимулирующее действие только на каталазу, но не уровень МДА, тогда как при местном введении этой же комбинации наблюдалось усиление антиоксидантного действия на оба показателя. Причем этот эффект был более выражен, так как наблюдалось корригирующее действие, то есть восстановление МДА и каталазы до уровня интактных животных. Таким образом, при переломах трубчатых костей комбинация GHL+даларгин обладала более выраженным антиоксидантным и иммуностимулирующим в отношении нейтрофилов действием, что сопровождается коррекцией сниженных в результате перелома показателей, особенно при местном (внутрикостном) введении. Подобное усиление эффектов также было выявлено ранее для пептида GHL и другого синтетического аналога лейэнкефалина – пептида DSLET при патологии печени, что даже сопровождалось потенцирующим действием [129]. Эти данные позволяют предположить, что GHL и опиоидные пептиды способны усиливать эффекты друг друга и возможно являются компонентами стресслимитирующей системы. Развитие стресс-реакции на травму сопровождается супрессирующим действием на иммунную функцию организма, снижает активность антиоксидантной защиты, что сопровождается повышением активности свободно-радикальных реакций и процессов перекисного окисления фосфолипидов клеточных мембран [57,151]. Эти нарушения гомеостаза негативным образом влияют на репаративную регенерацию кожи и костей [113]. При этом тимоген, скорее всего, активирует их регенерацию через иммунную функцию, повышая активность фагоцитирующих клеток (рисунок 36). Пептид GHL, вероятно, является репарантом преимущественно местного действия, но при этом его активность позитивным 110 ТРАВМА Стресс-реакция, боль Иммунная функция (нейтрофилы) + ? Тимоген ПОЛ (МДА Репаративная регенерация кожи и костей АОС (каталаза) – + + Даларгин GHL +? (опиоидные пептиды) Рисунок 36 – Основные нарушения гомеостаза и эффекты регуляторных пептидов глицил-гистидил-лизина (GHL), тимогена и даларгина при травмах кожи и костей 111 образом связана с даларгином, а возможно и с другими опиоидными пептидами, ограничивающими выраженность стресс-реакции и боли в том числе. Такое совместное стресс-лимитирующее действие сопровождается нормализующим действием в отношении антиоксидантной защиты организма, процессов перекисного окисления липидов, иммунной функции, что приводит к активации процессов репаративной регенерации. Кроме того, пептид GHL и опиоидные пептиды обладают прямым действием на клетки кожи (а возможно и костей), что подтверждается данными, полученными in vitro [201,273]. В проведенных исследованиях также наблюдалось усиление стимулирующего репаративного действия при использовании пептида GHL, а также его комбинациях с тимогеном или даларгином при местном (внутрикожном или внутрикостном) введении. При этом более выраженная репаративная активность наблюдалась при использовании комбинации GHL+даларгин, вероятно благодаря сочетанию прямых и непрямых эффектов. Таким образом, в условиях кожных ран и переломах трубчатых костей благодаря синергичному действию пептидов GHL, тимогена и даларгина происходит существенное усиление иммунокорригирующего, антиоксидантного и репаративного эффектов, что может быть использовано для стимуляции заживления кожных и репаративного остеогенеза. ВЫВОДЫ 1. Регуляторные пептиды глицил-гистидил-лизин (GHL) и тимоген в ра- зовой дозе 0,5 мкг/кг, а даларгин – 1,2 мкг/кг при десятикратном внутрибрюшинном введении сопоставимо стимулируют заживление кожных ран. 2. При моделировании кожного раневого процесса пептид GHL в разо- вой дозе 0,5 мкг/кг не влияет на функцию нейтрофилов крови, а тимоген (0,5 мкг/кг) и даларгин (1,2 мкг/кг) повышают активность нейтрофилов как при внутрибрюшинном, так и при внутрикожном способах введения. 3. В условиях кожных ран пептиды GHL (0,5 мкг/кг), тимоген (0,5 мкг/кг) и даларгин (1,2 мкг/кг) проявляют сопоставимую антиоксидантную активность в отношении уровня малонового диальдегида и каталазы крови при десятикратном внутрибрюшинном или внутрикожном введении. 4. При внутрикожном способе введения пептид GHL в дозе 0,5 мкг/кг более эффективен в отношении репаративной регенерации кожи, чем при его внутрибрюшинном способе введения, а также по сравнению с тимогеном (0,5 мкг/кг) или даларгином (1,2 мкг/кг), введенным внутрикожно. 5. В условиях кожных ран пептиды GHL (0,5 мкг/кг), тимоген(0,5 мкг/кг) и даларгин (1,2 мкг/кг) в парных сочетаниях обладают синергичным репаративным, антиоксидантным и иммуностимулирующим действием в отношении функции нейтрофилов при внутрибрюшинном и внутрикожном способах введения, а комбинации GHL+ тимоген и GHL+даларгин обладают корригирующим действием на функцию нейтрофилов и процессы перекисного окисления (уровень малонового диальдегида и каталазы крови). При этом более выраженную ранозаживляющую активность проявляет комбинация GHL+даларгин. 6. Пептиды GHL (0,5 мкг/кг), тимоген(0,5 мкг/кг) и даларгин (1,2 мкг/кг) стимулируют репаративный остеогенез, а в парных сочетаниях обладают синергичным репаративным, антиоксидантным (активность каталазы) и иммуностимулирующим действием в отношении функции нейтрофилов при внутрибрюшинном и внутрикостном способах введения. 7. При переломах трубчатых костей комбинация GHL+тимоген корриги- 113 рует поглотительную стадию фагоцитоза нейтрофилов и активность каталазы крови, а комбинация GHL+даларгин корригирует как поглотительную стадию фагоцитоза, так и кислородзависимую активность нейтрофилов при внутрибрюшинном и внутрикостном введениях. При этом комбинация GHL+даларгин корригирует процессы перекисного окисления в крови (МДА и каталаза) и проявляет более выраженное репаративное действие. 8. При внутрикостном способе введения комбинации пептидов GHL+тимоген или GHL+даларгин более эффективны в отношении репаративного остеогенеза, чем при внутрибрюшинном способе введения. 114 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 1. Стимуляция репаративной регенерации поврежденных тканей (кожи, костей) может проводиться с использованием комбинации регуляторных пептидов глицил-гистидил-лизина и даларгина. 2. Более выраженного усиления репаративной регенерации кожи и кос- тей возможно добиться при местном (внутрикожном, внутрикостном) применении комбинации пептидов глицил-гистидил-лизина и даларгина. 3. Целесообразно использовать в учебном процессе медицинских вузов полученные данные об иммунометаболических расстройствах, изменениях в процессах репаративной регенерации тканей организма в условиях экспериментальной травмы кожи и костей, а также способах их коррекции комбинациями пептидов различных функциональных групп. 115 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ АКТГ 4-10 – фрагмент адренокортикотропного гормона 4 - 10 АОС – антиоксидантная система ИАФ – индекс активности фагоцитоза ИЛ – интерлейкин ИСН – индекс стимуляции нейтрофилов КАо – коэффициент, отражающий функциональный резерв нейтрофилов крови, представляет собой отношение mODо/з к mODнст КАн – коэффициент, представляющий собой отношение mODн/з к mODнст ЛТ – лейкотриены МДА – малоновый диальдегид ПОЛ – перекисное окисление липидов ПОМК - проопиомеланокортин СДС – синдром длительного сдавления СВО – системный воспалительный ответ ФНОα – фактор некроза опухолей – альфа ФИ – фагоцитарный индекс, % ФРН – функциональный резерв нейтрофилов ФЧ – фагоцитарное число ЦРБ – C-реактивный белок BMP – костный морфогенетический протеин С3, С4 – компоненты комплемента CD – кластеры дифференцировки DSLET – пептид [D-Ser 2, D-leu5] энкефалин – Thr 6 EGF - эпидермальный фактор роста Ig – иммуноглобулины FGF - фибробластический фактор роста GAG - гликозаминoгликаны GHL – пептид глицил-гистидил-лизин 116 mODнст – спонтанный тест восстановления нитросинего тетразолия mODн/з – стимулированный неопсонизированным зимозаном тест восстановления нитросинего тетразолия mODо/з – стимулированный опсонизированным зимозаном тест восстановления нитросинего тетразолия PDGF - тромбоцитарный фактор роста TGF-β - трансформирующий фактор роста бета 117 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Адалян, А.А. Электростимуляция при лечении ран / А.А. Адалян, Б.Ш. Гогия // Хирургия. – 1998. – №1. – С. 57-59. 2. Акмаев, И.Г. От нейроэндокринологии к нейроиммуноэндокринологии / И.Г. Акмаев, В.В. Гриневич // Бюл. эксперим. биологии и медицины. – 2001. – Т. 131, №1. – С. 22-32. 3. Амирасланов, Ю.А.Лечение ран в управляемой абактериальной среде / Ю.А. Амирасланов, В.М. Матасов, В.Ф. Хотинян. – М., 1981. – 157 с. 4. Андреева, Т.М. Травматизм в Российской Федерации на основе дан- ных статистики / Т.М. Андреева // Социальные аспекты здоровья населения. – 2010. – №4. – С.7-12. 5. Анисимов, В.Н. Тормозящее влияние синтетического аналога лейэнке- фалина даларгина на канцерогенез / В.Н. Анисимов, С.М. Борткевич // Вопросы онкологии. –1990. – Т.36, №4. –С.556-559. 6. Антиаритмические свойства гипоксена / К.М. Резников, О.В. Виноку- рова, В.В. Алабовский, А.А. Винокуров // Эксперим. и клин. фармакол. –1997.– Т. 57, №6. – С.31-33. 7. Антонов, В.Г. Патогенез онкологических заболеваний: иммунные и биохимические феномены и механизмы. Внеклеточные и клеточные механизмы общей иммунодепрессии и иммунной резистентности / В.Г. Антонов, В.К. Козлов // Цитокины и воспаление.– 2004.– Т.3, №1. – С.8-20. 8. Ахматова, Н.К. Перспективы использования иммуномодуляторов мик- робного происхождения в качестве стимуляторов эффекторов врожденного иммунитета / Н.К. Ахматова // Успехи современного естествознания. –2005. –№10. – С.35-35. 9. Бабаева, А.Г. Единство и противоположность цитогенетической актив- ности лимфоцитов и их антителообразующей функции при восстановительных процессах в органах / А.Г. Бабаева // Бюл. эксперим. биологии и медицины. –1999. –№ 11. – С. 484-490. 118 10. Бабаева, А.Г. Роль лимфоцитов в оперативном изменении программы развития тканей / А.Г. Бабаева, Н.М. Геворкян, Е.А. Зотиков. – М.: РАМН, 2009. – 107 с. 11. Бердюгина, О.В. Иммунологические критерии прогнозирования замедленной консолидации костной ткани / О.В. Бердюгина, К.А. Бердюгин // Травматология и ортопедия России. – 2009. – Т. 2. № 52. – С. 59-66. 12. Беседнова, Н.Н. Регуляция иммунных процессов пептидами природного происхождения / Н.Н. Беседнова // Антибиотики и химиотерапия. – 1999. – №1. – С. 31-35. 13. Биофизические и медико-биологические аспекты магнитобиологии / П.В. Калуцкий, В.В. Бельский, М.П. Попов, В.В. Киселева // Курск: КГМУ, 1997. – 147 с. 14. Болдырева, Н.В. Влияние иммуномодулятора «Миелопид» и лазерного облучения молочной железы свиноматок на рост, развитие и иммунитет поросят: Автореф. дис. … канд. вет. наук (16.00.07) / Н.В. Болдырева; М. Моск. гос. акад. ветеринар. медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. – М, 2009. – 28 с. 15. Булгаков, С.А. Даларгин в панкреатологии / С.А. Булгаков // Рос. журн. гастроэнтерологии гепатологии, колопроктологии. –2009. –Т.19 (прил. 34). – С.67. 16. Булынин, В.И. Лечение ран / В.И. Булынин, А.А. Глухов, И.П. Мошуров. – Воронеж: ВГУ, 1998. – 248 с. 17. Бычков, А.И. Электромагнитостимуляция процессов регенерации при дентальной имплантации : автореф. дис. … д-ра. мед. наук (14.00.21) / А.И. Бычков; М. ГОУ ВПО "Московский государ. медико-стоматологический универ. – М, 2005. –47 с. 18. Вавин, Г.В. Общие закономерности, диагностика и коррекция нарушений липопероксидации при тяжелой сочетанной травме: Автореф. дис. … канд. мед. наук (14.00.16) / Г.В. Вавин; Кемеровская гомедакадемия. – Кемерово, 2006. – 24 с. 19. Варфоломеев, В.Н. К вопросу о применении композита на гелевой ос- 119 нове при лечении огнестрельных РАН / В.Н. Варфоломеев // Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике : сб. ст. Тринадцатой междунар. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 24-26 мая 2012 г.). – СПб., 2012. – С. 223-225. 20. Васильев, А.П. Применение протеолитических ферментов при лечении несросшихся переломов и ложных суставов трубчатых костей : автореф. дис. ... канд. мед. наук (14.00.22) / А.П. Васильев; Моск. науч.-исслед. ин-т скорой помощи. – М., 2007. – 22 с. 21. Васильева, Н.Н. Водный баланс и кровенаполнение легких в условиях введения даларгина при метаболическом стрессе у крыс с различной стрессрезистентностью / Н.Н. Васильева, И.Г. Брындина // Вестн. Удмурт. ун-та. – 2013. – С. 78-82 22. Величко, Т.В. Применение иммунофана в комплексной терапии эндогенных увеитов у детей : автореф. дис. … канд. мед. наук (14.00.08) / Т.В. Величко; М., Моск. НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. – М., 2005. – 31 с. 23. Вернигора, А.Н. Протеолитические ферменты и регуляция уровня активности нейропептидов / А.Н. Вернигора, Н.Н. Никишин, М.Т. Генгин // Биохимия. – 1995. – Т.60, №10. – С.1575-1579. 24. Вернигора, А.Н. Протеолитические ферменты: субклеточная локализация, свойства и участие в обмене нейропептидов / А.Н. Вернигора, М.Т. Генгин // Биохимия. – 1996. – Т.61, №5. – Р. 771-785. 25. Вишневский, А.А. Лечение и восстановление после травм и переломов / А.А. Вишневский. – М., Изд-во Вектор, 2009. –160 с. 26. Влияние G-метилурацила на параметры системы регуляции перекисного окисления липидов при термическом шоке / Ю.П. Таран, Л.Н. Шишкина, А.С. Евсеенко, Г.В. Кукушкина // Пат. физиол. –1995. –№1. –С.40-44. 27. Влияние агонистов и антагонистов опиатных рецепторов на устойчивость животных к гипоксической гипоксии / В.В. Закусов, В.В. Яснецов, Р.У. Островская и др. // Бюл. эксперим. биол. и мед. – 1984. – Т.98, №12.– С.680-682. 28. Влияние липидов мембран на активность ферментов / Е.Б. Бурлакова, 120 М.И. Джалябова, В.О. Гвахирия и др. – М., 1982. – С.113-140. 29. Вологжанин, Д. А. Метаболические основы вторичной иммунной недостаточности при травматической болезни: Автореф. дис. … д-ра мед. наук (14.00.36) / Д.А. Вологжанин; СПб., Военн.-мед. академ. им. С.М. Кирова. – СПб., 2005. – 43 с. 30. Вялов, С.Л. Современные представления о регуляции процесса заживления ран / С.Л. Вялов, К.П. Пшениснов //Анналы пластической и реконструктивной хирургии. –1999. – №1 – С.49-56. 31. Гайворонская, Т.В. Оптимизация лечения больных одонтогенными флегмонами челюстно–лицевой области: Автореф. дис. … д-ра. мед. наук: (14.00.21) / Т.В. Гайворонская; М., Центральный науч.–исслед. институт стоматологии и челюстно–лицевой хирургии Росмедтехнологий. – М., 2008. – 49 с. 32. Голуб, И.Е. Хирургический стресс и обезболивание / И.Е. Голуб, Л.В. Сорокина. – Иркутск: Изд-во ИГМУ, 2005. –201 с. 33. Гостищев, В.К. Бактериальные протеолитические ферменты в гнойной хирургии / В.К. Гостищев, В.Д. Затолокин, В.П. Сажин. – Воронеж: ВГУ, 1985. – 84 с. 34. Гречко, А.Т. Нейротропная активность пептидных иммуномодуляторов / А.Т. Гречко // Эксперим. клин. фармакол. – 1998. –Т.61, №4. – С.14–16. 35. Дегтярь, В.А. Влияние препарат даларгин на регенерацию кости в ранние сроки после травмы (экспериментальное исследование) / В.А. Дегтярь, М.О. Каминская // Вісник ортопедії, травматології та протезування. –2007. – №4. – С.62-65. 36. Долгов, Г.В. Клиническая фармакология тимогена / Г.В. Долгов, С.В. Куликов, В.И. Легеза. – СПб, 2004. –106 с. 37. Долгушин, И.И. Иммунология травмы / И.И. Долгушин, Л.Я. Эберт, Р.И. Лившиц. – Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1989.– 188 с. 38. Долгушин, И.И. Нейтрофилы и гомеостаз / И.И. Долгушин, О.В. Бухарин. – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2001. – 277 с. 39. Дьяконов, М.М. Пептидная нейропротекция / М.М. Дьяконов, А.А. Ка- 121 менский. – СПб.: Наука, 2009. – С.73-106. 40. Ерюхина, И.А. Хирургические инфекции: руководство / И.А. Ерюхина, Б.Р. Гельфанда, С.А. Шляпникова. – СПб: Питер, 2003. – 864 с. 41. Ефименко, Н.А. Системная энзимотерапия в гнойной хирургии / Н.А. Ефименко, А.А. Новожилов, Г.Ю. Кнорринг // Амбулаторная хирургия. –2005. – №3. –С. 51-55. 42. Жуков, Д.В. Влияние факторов роста и биоантиоксиданта тиофана на репаративную регенерацию костной ткани в эксперименте: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук (14.00.22) / Д.В. Жуков; Алт. гос. мед. ун-т Росздрава. – Новосибирск, 2006. –16с. 43. Забродин, О.Н. Фармакологические, иммунологические и медицинские аспекты симпатической стимуляции репаративной регенерации / О.Н. Забродин // Психофармакология и биологическая наркология. –2006. –Т.6, №4. – С.1341-1346. 44. Забродский, П.Ф. Иммунотоксикология ксенобиотиков / П.Ф. Забродский, В.Г. Мандыч. – Саратов, СВИБХБ, 2007. –420 с. 45. Зайцев, В.М. Прикладная медицинская статистика: Учеб. пособие / В.М.Зайцев, В.Г.Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб.: Фолиант, 2006. – 432 с 46. Зайчик, А.Ш. Основы общей патологии / А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. – СПБ.: ЭЛБИ, 1999.– 624 с. 47. Зенков, Н.К. Окислительный стресс / Н.К. Зенков, В.З. Панкин, Е.Б. Меньшикова. – М.: Наука/Интерпериодика, 2001. – 343 с. 48. Зинкин, В.Ю. Способ количественной оценки кислородзависимого метаболизма нейтрофильных гранулоцитов человека / В.Ю. Зинкин, М.А. Годков // Клин. лаб. диагност. – 2004. – №8. – С. 26-29. 49. Значение химических свойств оксида азота для лечения онкологических заболеваний / Д.А. Винк, И. Водовоз, Д.А. Кук и др. // Биохимия. –1998.– №7.– С. 948-957. 50. Зозуля, А.А. Клеточная терапия в косметологии: белково-пептидные комплексы фетальных тканей как действующее звено anti-age therapy в косметических средствах / А.А. Зозуля, Т.П. Клюшник, Р.В. Корнеева. – 2001. –№4. –С. 122 32-39. 51. Зозуля, А.А. Опиоиды и иммунитет / А.А. Зозуля, С.Ф. Пшеничкин // Итоги Науки и техники: Сер. «Иммунология». - 1990.- Т 25. – С. 48-120. 52. Илизаров, Г.А. Открытие, позволяющее управлять ростом и регенерацией тканей / Г.А. Илизаров // Вопросы изобретательства. – 1989. –№4.– С.11-12. 53. Иммунотерапия гнойных и септических осложнений механических травм: Пособие для врачей / Л.П. Пивоварова, М.В. Ассур, М.П. Логинова и др. – СПб, 2000. – 12 с. 54. Калиничев, А.Г. Тяжелая кранио-торакальная травма (диагностика и лечение на догоспитальном и раннем госпитальном этапах: Автореф. дисс. ... д-ра. мед. наук (14.01.28; 14.00.27) / А.Г. Калиничев; СПб. Омская гос. мед. акад.. – СПб., 2009. – 42 с. 55. Каллаев, Т.Н. Биомеханическое обоснование компрессионного остеосинтеза при около- и внутрисуставных переломах / Т.Н. Каллаев, Н.О. Каллаев // Вестн. травматол. и ортопед. –2002. – №1. – С.44-48. 56. Каминская, М.О. Лечение замедленной консолидации у детей / М.О. Каминская // Вестник РГМУ, – 2007. – №2(55). – С.179. 57. Капитонов, В.М. Антиоксидантная терапия при тяжелой сочетанной травме: Автореф. дис. … канд. мед. наук: (14.01.20) / В.М. Капитонов; НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН. – М., 2011. – С. 23. 58. Кассир, Н.Н. Влияние даларгина и иммуномодуляторов на стресспротекторную систему и неспецифическую резистентность больных при общей анестезии: Автореф. дис. … канд. мед. наук: (14.00.37) / Н.Н. Кассир; Ростов-наДону, РГМУ. – Ростов-на-Дону, 2006. – 22 с. 59. Киреев, А.А. Регенерация костной ткани при холодовой травме в условиях лечения изотоирбамином: Автореф. дис. … канд. мед. наук: (14.00.22) / А.А. Киреев; М. Гос. медакадемия. –М., 2006. – 24 с. 60. Кирилова, И.А. Способ оптимизации остеогенеза в эксперименте / И.А. Кирилова // Бюллетень СО РАМН. – 2002. –№1. – С.9-12. 61. Кличханов, Н.К. Метаболические и структурно-функциональные изме- 123 нения в плазме крови и эритроцитах при гипотермии / Н.К. Кличханов // Научная мысль Кавказа. Приложение. Спец. Выпуск. – 2001. – С.38-50. 62. Козлов, В.К. Дисфункция иммунной системы в патогенезе сепсиса / В.К. Козлов, Л.И. Винницкий // Общая реаниматология. – 2005. – Т.1, №4. – С. 6576. 63. Козлов, В.К. Иммунопатогенез и цитокинотерапия хирургического сепсиса: Пособие для врачей / В.К. Козлов. – СПб.: Ясный свет, 2002. – 48 с. 64. Козлов, В.К. Ронколейкин: биологическая активность, иммунокорригирующая эффективность и клиническое применение / В.К. Козлов. – СПб: Изд-во Санкт–Петербургского университета, 2002. – 82 с. 65. Козлов, В.К. Сепсис: иммунные дисфункции в патогенезе сепсиса. Возможности диагностики / В.К. Козлов // Украин. журнал экстремальной медицины. – 2005.– Т.6, №1.– С.19-25. 66. Королева, С.В. Исследование структурно-функциональных особенностей континуума регуляторных пептидов и медиаторов: Автореф. дис. … д-ра. биол. наук: (03.03.01) / С.В. Королева; М. Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 2010. – 47 с. 67. Кост, Н.В. Опиоидергические механизмы тревожных расстройств и эффектов анксиолитических препаратов: Автореф. дис. ... д-ра биол. наук: (14.00.25) / Н.В. Кост; Москва, Науч.-исслед. ин-т фармакологии РАМН. – М., 2007. – 48 c. 68. Кост, Э. Эндорфины / Э. Кост, М. Трабуки. – М.: Мир, 1981. – 368 с. 69. Кузин, М.И. Раны и раневая инфекция: руководство для врачей / М.И. Кузин, Б.М. Костюченок. – М.: Медицина. – 1990. – 592 с. 70. Кулага В.В. Лечение заболеваний кожи / В.В. Кулага, И.М. Романенко. – К.: Здоровья, 1988. – 78 с. 71. Курзанов, А.Н. Лиганды опиоидных рецепторов в ракурсе клинической гастроэнтерологии / А.Н. Курзанов // Современные проблемы науки и образования. –2011. –№6. – С. 3-14. 72. Курцева, А.А. Влияние регуляторного пептида глицил-гистидил-лизина 124 и составляющих его аминокислот на регенерацию кожи и функцию нейтрофилов: Автореф. дис. … канд. мед. наук: (03.00.13) / А.А. Курцева; Курск. ГОУ ВПО Курск. гос. мед. ун-т. – Курск, 2009. – 23 с. 73. Лаврищева, Г.И. Морфологические и клинические аспекты репаративной регенерации опорных органов и тканей / Г.И. Лаврищева, Г.А. Оноприенко. – М.: Медицина, 1996. – 208 с. 74. Лазарь, А.Д. Клиническое течение и хирургическая тактика при черепно-мозговой травме, сочетанной с внечерепными повреждениями у детей: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук: (14.01.18) / А.Д. Лазарь; М. НИИ нейрохирургии РАМН. – М., 2010. –26 с. 75. Лишманов, Ю.Б. Опиоидные нейропептиды, стресс и адаптационная защита сердца / Ю.Б. Лишманов, Л.Н. Маслов. – Томск: Изд-во. Томского университета. – 1994. – 352 с. 76. Луцевич, О.Э. Современный взгляд на патофизиологию и лечение гнойных ран / О.Э. Луцевич, О.Б. Тамразова, А.Ю. Шикунова // Хирургия. – 2011. – №5. – С. 72-77. 77. Мазуркевич, Г.С. Шок: теория, клиника, организация противошоковой помощи / Г.С. Мазуркевич, С.Н. Багненко. – СПб.: Политехника, 2004. – 539 с. 78. Мазуркевич, Е.А. Фото-лазеротерапия заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы (клинико-экспериментальное исследование): Автореф. дисс. ... д-ра мед. наук: (14.00.22) / Е.А. Мазуркевич; СПб. Гос. учреждение науки «Рос. НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена». – СПб, 2001. – 43 с. 79. Максакова, Е.В. Даларгин в лечении травматических повреждений роговицы / Е.В. Максакова // Офтальмологический журнал. – 2000. – №6. – С. 95-97. 80. Мальцева, Л.А. Сепсис: эпидемиология, патогенез, диагностика, интенсивная терапия / Л.А. Мальцева, Л.В. Усенко, Н.Ф. Мосенцев. – Д.: АРТ–ПРЕСС, 2004.– 160 с. 81. Машковский, М.Д. Лекарственные средства / М.Д. Машковский; 16-е изд., перераб., испр. и доп. – М.: Медицина, 2010.– 1216 с. 125 82. Медведев, А.Н. Способ исследования поглотительной фазы фагоцитоза / А.Н. Медведев // Лаб. дело. – 1991. - №2. – С. 19-20. 83. Метод определения активности каталазы / М.А. Коралюк, Л.И.Иванова, И.Г. Майорова, В.Е. Токарев // Лаб. дело. – 1988. – № 1. – С. 16-19. 84. Механизм действия и перспективы применения нового отечественного аналога энкефалина - даларгина в комплексном лечении острого панкреатита / В.А. Пенин, М.И. Титов, В.Н. Титов и др. // Сб. науч. трудов «Острый панкреатит» / М., ММСИ. – 1986. – С. 20-25. 85. Миелопиды / Р.В. Петров, А.А. Михайлова, Л.А. Фонина и др. – М.: Наука, 2000. –181с. 86. Мирошников, В.М. Стимуляция восстановительных процессов при повреждении длинных трубчатых костей / В.М. Мирошников // Ортопед., травматол. – 1977. – №7. – С.28-31. 87. Михайлова, А.А. Миелопептиды и их роль в функционировании иммунной системы / А.А. Михайлова // Иммунология. – 2001. – №5. – С. 16-17. 88. Морозов, В.Г. Пептидные тимомиметики / В.Г. Морозов, В.Х. Хавинсон, В.В. Малинин. – СПб: Наука, 2000. –158 с. 89. Мотренко, А.В. Местная цитокинотерапия в комплексном лечении и профилактике раневой инфекции открытых переломов длинных трубчатых костей: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук (14.00.27) / А.В. Мотренко; М. Моск. гос. мед.-стоматол. ун-т Росздрава. –М., 2009. –17 с 90. Мэттсон, П. Регенерация – настоящее и будущее / П. Мэттсон. – М.: Изд-во Мир, 1982. – С.176. 91. Наливайко, Л.А. Качество жизни и клиническая эффективность применения кардиопротективных пептидов у больных с коронарным дефицитом: Автореф. дис. … канд. мед. наук: (14.00.05) / Л.А. Наливайко; Воронеж, Воронежская гос. мед. академия им. Н.Н. Бурденко. – Воронеж, 2006. – 22 с. 92. Никитин, В.Г. Инновационные средства местного лечения ран / В.Г. Никитин // Сахарный диабет. – 2007. – №3. – С. 70-73. 93. Никитина, Н.В. Изучение фармакологического действия мази с экс- 126 трактом почек тополя черного / Н.В. Никитина, С.А. Кулешова // Фундаментальные исследования. – 2011. – №11(ч.3). – С. 554-558. 94. Николаев, С.Б. Иммунометаболические эффекты опиоидных пептидов при термических ожогах: Автореф. дис. … канд. мед. наук (14.00.36) / С.Б. Николаев; Курск. ГОУ ВПО Курск. гос. мед. ун-т. – Курск, 2004. – 21 с. 95. О роли блуждающих нервов в антиаритмическом эффекте DAGO при острой ишемии миокарда / С.Д.Михайлова, Г.И. Сторожаков, Н.А. Бебякова, Т.М. Семушкина // Бюл. эксперим. биол. и медиц. –1997. – Т.124, №10.– С. 377-379. 96. О роли моноаминооксидазы в интенсификации перекисного окисления липидов митохондрий при экспериментальном некрозе миокарда / А.И. Джафаров, Н.М. Магомедов, A.M. Азимоваи др. // Бюл. Эксперим. биол. и медиц. – 1988. – №7.–С. 45-47. 97. Опарина, Т.И. Антиоксидантные и антиагрегационные свойства синтетических пептидов / Т.И. Опарина, В.М. Прокопенко, А.В. Арутюнян // Тезисы докладов III съезда Биохимического общества. – СПб, 2002. – С.555. 98. Орлова, А.Ю. Экспериментальное и клиническое обоснование фармакологической стимуляции неоваскулогенеза при ишемии конечности: Автореф. дис. … канд. мед. наук (14.00.25) / А.Ю. Орлова; Курск. ГОУ ВПО Курск. гос. мед. ун-т. – Курск, 2009. –24 с. 99. Особенности действия -, - и -опиоидных агонистов и ингибитора энкефалиназ RB 101 у крыс двух инбредных линий / С.К. Судаков, Ю.В. Люпина, О.Ф. Медведева и др. // Бюл. эксперим. биол. и медиц. – 1998– Т.125, №5.. – С. 551-554. 100. Особенности течения, клиники, диагностики и лечения некоторых заболеваний органов мочевой системы у детей раннего возраста / В.И. Вербицкий, О.Л.Чугунова, С.В. Яковлева и др. // Педиатрия. –2002. – №2. – С.4-9. 101. Пат. 2421235 Российская Федерация, МПК A61P3/02, A61K38/06. Применение пептида gly-his-lys для анальгетического эффекта при боли, вызванной температурным раздражением / М.Е. Долгинцев, М.Ю. Смахтин, И.И. Бобынцев [и др.] ; заявитель и патентообладатель Курск. гос. мед. ун-т. – № 2010114453/15 ; 127 заявл. 12.04.10. ; опубл. 20.06.11. Бюл. №17. – 4 с. :ил.4. 102. Пептидные препараты / С.В. Ковалёва, И.В. Исаева, А.В. Пихтарь, Н.С. Евтушенко // Вопросы биологич. мед. и фармац. химии. –2003. –№3. –С.5-12. 103. Первый опыт интраназального применения Гепона у детей с респираторными инфекциями / О.В. Кладова, Ф.С. Харламова, А.А. Щербакова и др. // Педиатрия. – 2002. – №2. – С.86-88. 104. Перекисное окисление липидов у больных с ожоговой травмой, осложненной гастродуоденальным кровотечением / С.В. Смирнов, Т.Г. Спиридонова, Г.В. Пахомова и др. // Комбустиология. –2008. –№1. –С.10-13. 105. Период нестабильной гемодинамики у пациентов с политравмой и шоком III степени / С.Ю. Сасина, А.Г. Калиничев, В.В. Гавриков и др. // Вест. интенсивной терапии. Анестезия и интенсивная терапия критических состояний на догоспитальном и госпитальном этапах. – М., 2004. – С. 39. 106. Першин, Г.Г. Лечение переломов ладьевидной кости запястья с применением анаболических стероидов / Г.Г. Першин, A.B. Быков // Реконструктивновосстановительная хирургия при травме кисти. –1975. – Т.45, №10. –С. 93-99. 107. Петрович, Ю.А. Глутатионпероксидазы в системе антиоксидантной защиты мембран / Ю.А. Петрович, Д.В. Гуткин // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. –1981.– №5.– С. 76-78. 108. Печень и иммунологическая реактивность / И.Н. Алексеева, Т.М. Брызгина, С.И. Павлович, Н.В. Ильчевич. – Киев, 1991. – 168 с. 109. Пивоварова, Л.П. Нарушения функций иммунной системы при механической шокогенной травме, принципы и методы их коррекции: Автореф. дисс. … д-ра. мед. наук: (14.00.16) / Л.П. Пивоварова; СПб., Санкт-Петербургский университет. – СПб., 1999.– 34 с. 110. Пинегин, Б.В. Иммуномодулятор полиоксидоний: механизмы действия и аспекты клинического применения / Б.В. Пинегин, А.В. Некрасов, Р.М. Хаитов // Цитокины и воспаление. –2004. –Т.3, №3. – С. 41-47. 111. Пинегин, Б.В. Некоторые теоретические и практические вопросы клинического применения иммуномодулятора Ликопида / Б.В. Пинегин, Т.М. Андро- 128 нова // Иммунология. –1998. –№4. – С. 60-63. 112. Пинегин, Б.В. Отечественный иммуномодулятор «Полиоксидоний»: механизм действия и клиническое применение / Б.В. Пинегин, А.С. Сараф. – М.: Иммафарма, 2000. – 94 с. 113. Понуровская, Е.А. Клинико-патогенетическое обоснование применения селена в комплексном лечении больных с переломом нижней челюсти: Автореф. дис. … канд.мед. наук: (14.00.21) / Е.А. Понуровская; Иркутск, Иркутский . мед. ун-т. – Иркутск, 2009. – 25 с. 114. Попова, Е.В. Использование даларгина, инкубированного на аутокрови, как компонента стресс-лимитирующей защиты при проведении анестезиологического пособия у больных раком легкого / Е.В. Попова, С.В. Туманян // Сибирский онкологический журнал. – 2009. – Приложение №1. – С. 162-163. 115. Почепень, О.Н. Антиоксидантные и метаболические эффекты препарата Цитофлавин в лечении пациентов с тяжелой термической травмой / О.Н. Почепень // Медицинская панорама. –2011. – №5. – С. 68-71. 116. Применение лейкинферона для профилактики гнойных осложнений у пострадавших с ранениями груди / Г.В. Булава, М.М. Абакумов, О.А. Друзенко и др. // Хирургия. –1999. – №7. – С. 35-39. 117. Применение тимогена в лечении некоторых видов острой абдоминальной патологии в эксперименте / К.М. Резников, О.В. Филиппова, А.А. Глухови др. // Патол. физиол. эксперим. терапия. –1998. – №1. –С. 17-19. 118. Розен, В.Б. Основы эндокринологии / В.Б. Розен. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 384 с. 119. Романовский, И.В. Система антиоксидантной защиты при комбинированном радиационно-термическом поражении / И.В. Романовский, О.Н. Кулич // Изв. Белор. Инж. Академ. –1997. –№1(3). –С.37-39. 120. Ромашина, Н.В. Центральные механизмы влияния даларгина на ритмогенез сердца в условиях коронароокклюзии: Автореф. дис. … канд. биол. наук: (03.00.13) / Н.В. Ромашина; М. РГМУ. – М., 2007. – 23с. 121. Рукавишников, А.С. Малотравматичная свободная костная аутопласти- 129 ка как способ стимуляции остеогенеза при нарушениях консолидации переломов костей голени: Автореф. дис. … канд. мед. наук (14.00.22) / А.С. Рукавишников; СПб. Воен.-мед. акад. – СПб, 2000. – 22с. 122. Сарвин, А.Г. Местная иммунотерапия в комплексном лечении и профилактике раневой инфекции открытых переломов длинных трубчатых костей (экспериментально-клиническое исследование): Автореф. дисс. ... канд. мед. наук: (14.00.27) / А.Г. Сарвин; М. ГОУ ВПО Московский гос. медико- стоматологический ун-т. – М., 2005. – 29 с. 123. Саркисов, Д.С. Микроскопическая техника / Д.С. Саркисов. – М.: Медицина, 1996. – 543 с. 124. Сахно, Н.В. Стимуляция репаративных процессов костной ткани при переломах трубчатых костей у мелких домашних животных и профилактика хирургической инфекции: Автореф. дис. … д-ра. биол. наук: (16.00.05) / Н.В. Сахно; СПБ, Санкт-Петербургская гос. акад. ветеринарной медицины. – СПБ, 2009. – 36 с. 125. Свободнорадикальное окисление и антиоксидантная терапия / В.К. Казимирко, В.И. Мальцев, В.Ю. Бутылин, Н.И. Горобец. – Морион, 2004. – 160 с. 126. Сеин, Б.С. Коррекция адаптационных процессов у животных с использованием транскраниальной электростимуляции: Автореф. дис. … канд. биол. наук: (03.00.13) / Б.С. Сеин; Курск, Курск. гос. сельхоз. академ. им. проф. И.И. Иванова. – Курск, 2009. – 19 с. 127. Склянчук, Е.Д. Стимуляция остеогенеза в комплексном лечении посттравматических нарушений костной регенерации: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук: (14.00.22) / Е.Д. Склянчук; М. НИИ скорой помощи.- М., 2009. – 35 с. 128. Сидоренко, В.М. Механизмы влияния слабых электромагнитных полей на живой организм / В.М. Сидоренко // Биофизика. – 2001. – Т.46, Вып.3. – С.500504. 129. Смахтин, М.Ю. Иммунорегуляторное и гепатотропное действие пептидов GLY-HIS-LYS, DSLET и АКТГ 4-10 / М.Ю. Смахтин, А.А. Курцева, В.Ю. Чердаков // Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2006. - № 3- 130 1 (14). - С. 223-224. 130. Смирнова, В.С. Иммунодефицитные состояния / В.С. Смирнов, И.С. Фрейдлин. – СПб.: Изд-во Фолиант, 2000.– 568 c. 131. Соколова Г.Б. Индивидуализированная химиотерапия туберкулеза легких: Автореф. дисс. ... д-ра. мед. наук: (14.01.31) / Г.Б. Соколова; М. Гос. науч. центр по антибиотикам. – М., 2000. –67 с. 132. Сторожук, П.Г. Клиническое значение определения активности супероксиддисмутазы в эритроцитах при анестезиологическом обеспечении оперируемых гастроэнтерологических больных / П.Г. Сторожук, А.П. Сторожук // Вест. интенсив. терапии. – 1998. – №4.– С. 15-17. 133. Тарасов, А.Е. Фагоцитарно-клеточная защита у больных с ожоговой травмой на фоне применения иммуномодулятора «Тинростим» / А.Е.Тарасов, М.О. Яременко // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – №7 – С. 58-59. 134. Ткаченко, С.С. Итоги дискуссий по репаративной регенерации костной ткани / С.С. Ткаченко, В.В. Руцкий // Ортопедия и травматология. – 1978. – №3. – С.81-85. 135. Фармакологическая коррекция иммунных и оксидантных нарушений при распространенном перитоните / Ю.В. Строев, Ю.Ю. Блинков, А.И. Конопля, В.П. Гаврилюк // Фундаментальные исследования. –2011. –№2 –С. 152-156. 136. Фармакологическая коррекция экспериментального остеопороза и переломов на его фоне / Файтельсон А.В., Дубровин Г.М., Гудырев О.С. и др // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2010. – №3 . – С. 47-51. 137. Фрейдлин, И.С. Паракринные и ауторинные механизмы цитокиновой иммунорегуляции / И.С. Фрейдлин // Иммунология. – 2001. – №5. – С. 4-7. 138. Хавинсон, В.Х. Пептидергическая регуляция гомеостаза / В.Х. Хавинсон, И.М. Цветной, И.П. Ашмарин // Успехи соврем. биологии. – 2002. – Т.122, №2. – С. 190-203. 139. Хаитов, P.M. Галавит. Клинические исследования / P.M. Хаитов. – М., 2002. – 44 с. 140. Хаитов, Р.М. Иммуномодуляторы: классификация, фармакологическое 131 действие, клиническое применение / Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин // Фарматека. – 2004. – №7. – С. 10-15. 141. Хаитов, Р.М. Современные иммуномодуляторы. Классификация. Механизм действия / Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин. – М.: Фармарус принт, 2005. – 27 с. 142. Хаитов, Р.М. Современные иммуномодуляторы: основные принципы их применения / Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин // Иммунология. – 2000. – №5. – С.4-7. 143. Храмцова, Ю.С. Роль иммунной системы в регуляции регенерации тканей с разной восстановительной способностью: Автореф. дис. … канд. биол. наук: (03.00.13) / Ю.С. Храмцова, Екатеринбург, Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Екатеринбург, 2004. – 22 c. 144. Черешнев, В.А. Иммунология воспаления: роль цитокинов / В.А. Черешнев, Е.Ю. Гусев // Мед. Иммунол. – 2001.– Т.3, №3. – С. 361-368. 145. Черешнев, В.А. Системное воспаление – миф или реальность? / В.А. Черешнев, Е.Ю. Гусев, Л.Н. Юрченко // Вестн. РАН. – 2004. – Т.74, №3. – С.219225. 146. Черныш, С.И. Новое в лечении герпесвирусных и папилломавирусных инфекций: терапевтические свойства Алломедина / С.И. Черныш, Н.Р. Сафронникова, Н.Б. Серебряная // Terra Medica Nova. – 2005. –№4. –С. 27-30. 147. Чуприн, С.В. Выбор дозы даларгина как компонента тотальной внутривенной анестезии при длительных абдоминальных операциях: Автореф. дис. … канд. мед. наук: (14.00.37) / С.В. Чуприн; Ростов-на-Дону, КГМУ. – Ростов-наДону, 2005. – 21с. 148. Шанин, В.Ю. Патофизиология критических состояний / В.Ю. Шанин. – СПб: ЭЛБИ-СПб, 2003. – 436 с. 149. Шехтман, М.М. Железодефицитная анемия и беременность / М.М. Шехтман // Гинекология. –2000. – №6. –С.164-172. 150. Ширшев, С.В. Клеточные и молекулярные механизмы иммуномодулирующего действия хорионического гонадотропина / С.В. Ширшев // Усп. совр. биол. – 1998. – Т.118, №1. – С. 69-85. 151. Экспериментальное изучение перекисного окисления липидов при тя- 132 жёлой сочетанной травме / Р.А. Грашин //Тез. докладов конференции по актуальным проблемам, патофизиологии экстремальных состояний. – СПб,1993.– С.14. 152. Экспериментально–клиническое обоснование применения иммунокорректоров в комплексной терапии неврастении / В.Г. Подсеваткин, С.В. Кирюхина, Д.С. Блинов, И.Я. Моисеева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – №1. – 2007. – С. 56-62. 153. Эффективность даларгина в комплексном лечении больных с различными формами острого панкреатита / А.К. Георгадзе, Н.К. Пермяков, В.А. Пенин и др. // Нейропептиды: их роль в физиологии и патологии / Томск. гос. ун-т. – 1985. – С. 167. 154. Якубке, Х.Д. Аминокислоты, пептиды, белки / Х.Д. Якубке, X. Ешкайт. – М., 1985. – 456 с. 155. Ярилин, А.А. Иммуномодулирующая активность пептидов группы тимогена in vitro / А.А. Ярилин, Б.В. Пинегин, В.И. Дейгин // Биопрепараты. – 2002. – №4(8). – С. 2-4. 156. Ярилин, А.А. Основы иммунологии / А.А. Ярилин. – М., 1999.– 608 с. 157. Ярилин, А.А. Система цитокинов и принципы её функционирования в норме и при патологии / Ярилин А.А. // Иммунология. –1997. – №5.– С.7-14. 158. A new fluorescent chemosensor for copper ions based on tripeptide glycylhistidyl-lysine (GHK) / Y. Zheng, Q. Huo, P. Kele et al. // Org. Lett. – 2001. – Т. 3, N 21. – Р. 3277-3280. 159. A prospective study involving the use of platelet rich plasma in enhancing the uptake of bone grafts in the oral and maxillofacial region / K.A. Kumar, J.B. Rao, B. Pavan Kumar et al. // J. Maxillofac. Oral Surg. – 2013. –Vol. 12, N 4. – P. 387-394. 160. Acrolein sequestering ability of the endogenous tripeptide glycyl-histidyllysine (GHK): characterization of conjugation products by ESI-MSn and theoretical calculations / G. Beretta, E. Arlandini, R. Artali et al. // J. Pharm. Biomed. Anal. – 2008. – Т. 47, N 3. – Р. 596-602 161. Ahmed, N.A. The systemic inflammatory response syndrome and the critically ill surgical patient / N.A. Ahmed, N.V. Christou, J.L. Meakils // Current Opinion 133 Crit. Care. – 1995. – Vol. 1. – P. 290–305. 162. Alminana, N. New GHK hydrophobic derivatives: interaction with phospholipid bilayers. / N. Alminana, M.A. Alsina, F. Reig // Colloids Surf. B. Biointerfaces. – 2007. – Т. 57, N 2. – Р. 243-249. 163. Alteration of monocyte function following major injury / E. Faist, A. Mewes, T. Strasser et al. // Arch. Surg. – 1988. – Vol. 123, N 3. – P.287–292. 164. American College of Chest Physicians Society of Critical Care Medicinе Consensus Conference. Definitions for sepsis and organ failure and guideline for the use of innovative therapies in sepsis / R.C. Bone, R.A. Balk , F.B. Cerra et al. // Crit. Care Med. – 1992. – Vol. 20. – P.864-874. 165. Antholine, W.E. ESR studies of the interaction of copper(II)GHK, histidine, and Ehrlich cells / W.E. Antholine, D.H. Petering, L. Pickart // J. Inorg. Biochem. – 1989. – Т. 35(3). – Р.215-224. 166. Antinociceptive and nociceptive actions of opioids / M.H. Osipov, J. Lai, T. King et al. // J. Neurobiol. – 2004. – Vol. 61, N 1. – P.126-148. 167. Antinociceptive effects of docosahexaenoic acid against various pain stimuli in mice / K. Nakamoto, T. Nishinaka, M. Mankura еt al. / Biol. Pharm. Bull. –2010. – Vol.33(6). – Р.1070-1072. 168. Antioxidant therapy: a new pharmacological approach in shock, inflammation and ischemia/reperfusion injury / S. Cuzzocrea, D.P. Riley, A.P. Caputi, D. Salvemini // Pharmacol. Rev. – 2001. – Vol. 53. – P.135-159. 169. Arsenina, O.I. Regulatorypeptides influence on hypoxia induced tooth germ pathology of new born albino rats / O.I. Arsenina, S.V. Proskokova, E.N. Sazonova // Stomatologiia (Mosk). – 2010. – Т. 89, N 6. – Р.7-9. 170. Awa, T. Hairloss protection by peptide–copper complex in animal models of chemotherapy-induced alopecia / T. Awa, K. Nogimori, R. Trachly // J. Dermatol .Sci . –1995. – Vol. 10. – P. 99-104. 171. Baskaran, H. Dynamics of tissue neutrophil sequestration after cutaneous burns in rats / H. Baskaran, M.L. Yarmush, F. Berthiaume // J. Surg. Res. – 2000.–Vol. 93. – P. 88-96. 134 172. Baue, A.E. Multiple organ failure, multiple organ dysfunction syndrome, and systemic inflammatory response syndrome – Why no magic bullets? / A.E. Baue // Arch.Surg. – 1997. – Vol. 132. – P.703-707. 173. Biotinylated GHK peptide incorporated collagenous matrix: A novel biomaterial for dermal wound healing in rats / V. Arul, D. Gopinath, K. Gomathi, R. Jayakumar // J. Biomed Mater Res. B. Appl. Biomater. – 2005. – Т.73, N 2. – Р. 383-391. 174. Bone Regeneration of Rat Calvarial Defect by Magnesium Calcium Phosphate Gelatin Scaffolds with or without Bone Morphogenetic Protein-2 / A. Hussain, K. Takahashi, J. Sonobe et al. // J. Maxillofac. Oral Surg. – 2014. – Vol. 1. – P. 29-35. 175. Bone morphogenetic protein 7 upregulates the expression of nestin and glial fibrillary acidic protein in rats with cerebral ischemia-reperfusion injury /R. Zhang, H. Pei, L. Ru et al. // Biomed. Rep. – 2013. – Vol.1, N 6. – P. 895-900. 176. Bone regenerative medicine: classic options, novel strategies, and future directions / A. Oryan, S. Alidadi, A. Moshiri, N.Maffulli //J. Orthop. Surg .Res. – 2014. – Vol. 9, N 1. – P.18. 177. Bousquet, J. Prevention of recurrent respiratory tract infections in children using a ribosomal immunotherapeutic agent / J. Bousquet, A. Fiocchi // Pediatr. Drugs. – 2006. –Vol. 8, N 4. – P. 235-243. 178. Buffoni, F. Effect of tripeptide-copper complexes on the process of skin wound healing and on cultured fibroblasts / F. Buffoni, R. Pino, A. Dal Pozzo //Arch. Int. Pharmacodyn. Ther. – 1995. – Vol. 330, N 3. – Р. 345-360. 179. Burgess, L.P.A. Wound healing: relationship of wound closing tension to scar width in rats / L.P.A. Burgess // Head Neck Surg. – 1990. – Vol. 116. – P. 798-802. 180. Canapp, S.O. Jr. The effect of topical tripeptide-copper complex on healing of ischemic open wounds / S.O. Jr. Canapp, J.P. Farese, G.S. Schultz et al. // Vet. Surg. –2003. – Vol. 32, N 6. – Р. 515-523. 181. Cardiovascular effects of D-ALA2, LEU5, ARG6-enkephalin (dalargin) are mediated by peripheral mu-opioid receptor activation / L.N. Maslov, Iu.B. Lishmanov, E.I. Barzakh et al. // Eksp. Klin. Farmakol. – 2008. –Т.71, N 2. – Р. 21-28. 182. Changes in blood lymphocyte populations after multiple trauma: association 135 with posttraumatic complications / T. Menges, J. Engel, I. Welters et al. // Crit. Care Med. – 1999. – Vol. 27, N 4. – P.733-740. 183. Characteristics of the pineal gland and thymus relationship in aging / N.S. Lin'kova, V.O. Poliakova, I.M. Kvetnoĭ et al. // Adv. Gerontol. – 2011. – Т.24, N 1. – Р. 38-42. 184. Chen, Y. Effect of formulation factors on incorporation of the hydrophilic peptide dalargin into PLGA and mPEG-PLGA nanoparticles / Y. Chen, F. Wang, H.A. Benson // Biopolymers. – 2008. – Т.90, N 5. – Р. 644-650. 185. Clinical investition of the development of depeadenel during oral therapy with tramadol. Arzneimittel forschung / W. Richter, H. Barth, Flohe et al. // Drug Res. – 1985. – Т.35. – Р. 1742-1744. 186. Convulsive crisis in Tramadol and caffeine abusers: about 8 cases and review of the literature / D.D. Maiga, H. Seyni, A. Sidikou, A. Azouma // Pan Afr. Med. J. – 2012. – Т.13. – Р.24. 187. Copper complexes of glycyl-histidyl-lysine and two of its synthetic analogues: chemical behaviour and biological activity / C. Conato, R. Gavioli, R. Guerrini et al. // Biochim. Biophys. Acta. – 2001. – Т.1526, N 2. – Р.199-210. 188. Depressed interferon gamma production and monocyte HLA-DR expression after severe injury / D.H. Livingston, S.H. Appel, S.R. Wellhausen et al. // Arch. Surg. – 1988. – Vol. 123, N 11. – P.1309-1312. 189. Depression of cellular immunity after major injury / E. Faist, T.S. Kupper, C.C. Baker et al. //Arch. Surg. – 1988. – Vol. 121. – P.1000-1005. 190. Development of a chitosan-based nanoparticle formulation for delivery of a hydrophilic hexapeptide dalargin / Y. Chen, B. Siddalingappa, P.H. Chan, H.A. Benson // Biopolymers. – 2008. – Т. 90, N 5. – Р. 663-670. 191. Different types of ROS-scavenging enzymes are expressed during cutaneous wound repair / H. Steiling, B. Munz, S. Werner, M. Brauchle // Exp. Cell Res. –1999. – Vol. 274. – P. 484-494. 192. Eaglstein, W.H. Chronic wounds / W.H. Eaglstein, V. Falanga // Surg. Clin. North. Am. – 1997. – Vol. 77. – P. 689-700. 136 193. Effect of dalargin on DNA synthesis in the gastric mucosa of albino rats / E.U. Zivotova, M.U. Fleishman, O.A. Lebedko et al. // Bull. Exp. Biol. Med. – 2007. – Т.144, N 3. – Р. 314-316. 194. Effect of Gly-Gly-His, Gly-His-Lys and their copper complexes on TNFalpha-dependent IL-6 secretion in normal human dermal fibroblasts / A. Gruchlik, M. Jurzak, E. Chodurek, Z. Dzierzewicz // Acta Pol. Pharm. – 2012. – Т.69, N 6. – Р. 13031306. 195. Effect of thymic peptides on the functional activity of phagocytic cells of donor peripheral blood / S.V. Dambaeva, K.F. Kim, D.V. Mazurov, V.I. Deĭgin // Zh. Mikrobiol. Epidemiol. Immunobiol. – 2002. – Vol. 6. – Р. 55-59. 196. Effects of a vitamin pool (vitamins A, E and C) on tissue necrosis process: experimental study on rats / R. Porto da Rocha, D.P. Lucio, T.L. Souza et al. // Aesth. Plast. Surg. – 2002. –Vol. 26. – P. 197-202. 197. Effects of copper tripeptide on the growth and expression of growth factors by normal and irradiated fibroblasts / J.D. Pollard, S. Quan, T. Kang, R.J. Koch // Arch. Facial. Plast. Surg. – 2005. – Т.7, N 1. – Р. 27-31. 198. Effects of dalargin on free radical processes in the blood of rats exposed to moderate hypothermia / L.T. Tadzhibova, M.D. Astaeva, J.G. Ismailova et al. // Bull. Exp. Biol. Med. – 2011. – Т.150, N 3. – Р. 304-306. 199. Effects of dalargin on reparative processes in skin and muscle wounds of irradiated animals / V.I. Legeza, L.I. Konovalova, S.N. Marochkin // Radiobiologiia. – 1992. – Vol.32, N 6. – Р. 873-880. 200. Effects of glycyl-histidyl-lysyl chelated Cu(II) on ferritin dependent lipid peroxidation / D.M. Miller, D. DeSilva, L.Pickart , S.D. Aust // Adv. Exp. Medi Biol. – 1990. – Vol. 264. – P. 79-84. 201. Effects of opioid peptide dalargin on reparative processes in wound healing / A.B. Shekhter, A.I. Solov'eva, S.E. Spevak, M.I. Titov. // Biull. Eksp. Biol. Med. – 1988. – Vol.106, N 10. – Р.487-490. 202. Effects of topical copper tripeptide complex on CO2 laser-resurfaced skin / T.R. Miller, J.D. Wagner, B.R. Baack, K.J. Eisbach // Arch Facial Plast. Surg. – 2006. – 137 Т.8, N 4. – Р.252-259. 203. Effects of topical copper tripeptide complex on wound healing in an irradiated rat model / N.P. Parker, F. Ardeshirpour, S.C. Schmechel, A.A. Lassig // Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2013. – Т.149, N 3. – Р.384-389. 204. Ehrlich, H.P. Wound closure: evidence of cooperation between fibroblasts and collagen matrix / H.P. Ehrlich // Eye. – 1988. – Vol. 2. – P.149-157. 205. Endo, T. Simultaneous determination of glycyl-L-histidyl-L-lysine and its metabolite, L-histidyl-L-lysine, in rat plasma by high-performance liquid chromatography with post-column derivatization / T. Endo, M. Miyagi, A. Ujiie // J. Chromatogr B. Biomed. Sci. Appl. – 1997. – Т.692, N 1. – Р.37-42. 206. Enhanced trophic factor secretion by mesenchymal stem/stromal cells with Glycine-Histidine-Lysine (GHK)-modified alginate hydrogels / S. Jose, M.L. Hughbanks, B.Y. Binder // Acta Biomater. – 2014. – Vol. 10, N 5. – P.1955-1964 207. Ertel, W. The complex pattern of cytokines in sepsis / W. Ertel, M.H. Morrison, P. Wang et al. // Ann. Surg. – 1991. – Vol. 2014. – P.141–148. 208. Expression and activation of Matrix metalloproteinases in wounds: modulation by the tripeptide–copper complex clycyl–L–histidyl–L–lysine–Cu / Alain Siméon, Frédérique Monier, Hervé Emonard et al // J. of Investigative Dermatology. – 1999. – Vol. 112. – Р.957-964. 209. Expression of delta opioid receptors and transcripts by splenic T-cells / B.M. Sharp, M.D. Li, S.G. Matta et al. // Ann. N.-Y. Acad. Sci. – 2000. – Vol. 917, N 3. – P. 746-770. 210. Expression of glycosaminoglycans and small proteoglycans in wounds: modulation by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu / Alain Siméon, Yanusz Wegrowski, Yannick Bontemps, François-Xavier Maquart // J. of Investigative Dermatology. – 2000. – Vol. 115. – P. 962-968. 211. Faist, E. Update on the mechanisms of immune suppression of injury and immune modulation / E. Faist, C. Schinkel, S. Zimmer // World J. Surg.– 1996. – Vol. 20. – P. 454-459. 212. Frayn, K.N. Hormonal control of metabolism in trauma and sepsis / K.N. 138 Frayn // Clin. endocrinology. – 1986. – Vol. 24. – P. 577-579. 213. Gabbiani, G. Presence of modified fibroblasls in granulation tissue and their possible role in wound contraction / G. Gabbiani, G.B. Ryan, G. Majne // Experientia. – 1971. – Vol. 27, N 5. – Р. 549-550. 214. Gastroprotective effect of dalargin in gastropathy due to treatment with nonsteroid antiinflammatory drugs / E.Y. Zhivotova, M.Y. Fleishman, E.N. Sazonova et al. // Bull. Exp. Biol. Med. – 2009. – Т.147, N 4. – Р. 441-443. 215. Glycyl-histidyl-lysine (GHK) is a quencher of alpha, beta-4-hydroxy-trans2-nonenal: a comparison with carnosine. insights into the mechanism of reaction by electrospray ionization mass spectrometry, 1H NMR, and computational techniques / G. Beretta, R. Artali, L. Regazzoni et al. // Chem. Res. Toxicol. – 2007. – Vol. 20, N 9. – Р. 1309-1314. 216. Granier, S. Structure of mu and delta opioid receptors / S. Granier // Med. Sci.(Paris). – 2012. –Vol. 28, N 10. – Р.870-875. 217. Grinnell, F. Mini-review on the cellular mechanisms of disease / F. Grinnell // J. Cell. Biol. – 1994. – Vol. 124. – P. 401-404. 218. Hammerle, C.H. Biology of soft tissue wound healing and regeneration Consensus Report of Group 1 of the 10th European Workshop on Periodontology / C.H. Hämmerle, W.V. Giannobile // J. Clin. Periodontol. – 2014. – Vol. 15. – P.1-5. 219. Hepatocyte growth factor as a hematopoietic regulator / T. Nishino, H. Hisha, N. Nishino et al. // Blood. – 1995. – Vol.85, N 11. – P. 3093-3100. 220. Heptapeptide mimic of ohmefentanyl binding in the discontinuous mu-opiod receptor / Gawley R.E., Dukh M., Cardona C.M. et al. / Org Lett. – 2005. – Vol. 7, N 14. – Р. 2953-2956. 221. Histopathological features of bone regeneration in a canine segmental ulnar defect model / R. Hobbenaghi, P. Mahboob, S. Saifzadeh et al. //Diagn. Pathol. – 2014. – Vol. 9, N 1. – P.9. 222. Howes, S. Healing of wounds as determined by their tensile strength / S. Howes, S.C. Harrey //JAMA. – 1929. – Vol. 92. – P. 42. 223. Hui, K.S. Major rat brain membrane-associated and cytosolic enkephalin- 139 degrading aminopeptidases: comparison studies / K.S. Hui, M.P. Hui, A. Lajtha // Journal of neuroscience research. –1988. – Vol .20, N 2. – Р. 231-240. 224. Hunt, T.K. Anaerobic metabolism and wound healing: a hypothesis for the initiation and cessation of collagen synthesis in wounds / T.K. Hunt // Am. J. Surg. – 1978. – Vol. 135. – P. 328-332. 225. Identification of a novel variant hepatocyte growth factor secreted by spleenderived stromal cells / L.H. Miau, Y.W. Jan, B.J. Shen et al. // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 1996. – Vol. 223, N 3. – P. 487-491. 226. Identification of kappa receptors in the immune system by indirect immunifluorescence / D.M.P. Lawrence, W. El-Hamouly, S. Archer et al. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. –1995. –Vol. 92, N 4. – P. 1062-1066. 227. Immobilization of tripeptide growth factor glycyl-L-histidyl-L-lysine on poly(vinylalcohol)-quarternized stilbazole (PVA-SbQ) and its use as a ligand for hepatocyte attachment / M. Kawase, N. Miura, N. Kurikawa et al. // Biol. Pharm. Bull. – 1999. – Т.22, N 9. – Р. 999-1001. 228. In vivo stimulation of connective tissue accumulation by the tripeptide– copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+ in rat experimental wounds / F.X. Maquart, G. Bellon, B. Chaqour et al. // J. Clin. Invest. – 1993. – Vol. 92, N 5. – P. 23682376. 229. Inadequate interleukin-2 synthesis and interleukin-2 messenger expression following thermal and mechanical trauma in human is caused by defective transmembrane signaling / E. Faist, C. Schinkel, S. Zimmer et al. // J. Trauma. – 1993. – Vol. 36. – P.1-9. 230. Influence of free radical scavengers on myeloperoxidase activity and lipid peroxidation in acute skin grafts / R.K. Goldstein, A. Augustin, J. Milz // Oxygen Transport to Tissue XIII.-Ed. Goldstick T.K., Plenum Press. – N.Y.,1992. – P.253-258. 231. Inhibition of the growth of cultured cells and an implanted fibrosarcoma by aroylhydrazone analogs of the Gly-His-Lys-Cu(II) complex. // L. Pickart, W.H. Goodwin, W. Burgua et al. // Biochem. Pharmacol. – 1983. – Vol. 32, N 24. – P. 3868-3871. 232. Intensity of proliferative processes and degree of oxidative stress in the mu- 140 cosa of the ileum in Crohn's disease / E.V. Ozhegov, E.Y. Zhivotova, O.A. Lebedko et al. // Bull. Exp. Biol. Med. – 2012. – Т.152, N 4. – Р. 420-423. 233. Janecka, A. Opioid receptors and their ligands / A. Janecka, J. Fichna, T. Janecki // Curr. Top. Med. Chem. – 2004. – N 1. – P. 1-17. 234. Khavinson, V.Kh. Peptide bioregulators: the new class of geroprotectors. Message 2. Clinical studies results / V.Kh. Khavinson, B.I. Kuznik, G.A. Ryzhak // Adv. Gerontol. – 2013. – Т.26, N 1. – Р. 20-37. 235. Kokudo, N. Inhibition of DNA synthesis by somatostatin in rat hepatocytes stimulated by hepatocyte growth factor or epidermal growth factor / N. Kokudo, C. Kothary Piyush, E. Eck-Bauser Frederic // Eren. J. Surg. – 1992. – Vol. 163, N 1. – P. 169173. 236. Kolobov, A.A. Interaction of the synthetic immunomodulatory dipeptide bestim with murine macrophages and thymocytes / A.A. Kolobov, N.I. Kolodkin, Iu.A. Zolotarev // Bioorg. Khim. – 2008. – Vol. 34, N 1. – Р.43-49. 237. Kosterlitz, H.W. Tyr-D-Ala-Gly-MePhe-NH(CH2)2ОH is a selective ligand for the -opiate binding site / H.W. Kosterlitz, S.J. Paterson // Br. J. Pharmacol. – 1981. – Vol. 73, N 1. – P. 299. 238. Kowalski, J. Immunomodulatory action of class mu-, delta- and kappaopioid receptor agonists in mice / J. Kowalski // Neuropeptides. – 1998. – Vol. 32, N 4. – P. 301-306. 239. Kulkarni-Narla, A. Opioid receptors on bone marrow neutrophils modulate chemotaxis and CD11b/CD18 expression / A. Kulkarni-Narla, B. Walcheck, D.R. Brown // Eur. J. Pharmacol. – 2001. – Vol. 414, N 2/3. – P. 289-294. 240. Levamisole vs cyclophosphamide for frequently-relapsing steroid-dependent nephrotic syndrome / K. Alsaram, S. Grisaru, D. Stephens, G. Arbus // Clin. Nephrol. – 2001. – Vol.56, N 4. – Р.289-294. 241. Liashev, Iu.D. Effect of opioid peptides on the repair regeneration of the bone tissue / Iu.D. Liashev // Arkh. Patol. – 2002. – Vol. 64, N 1. – Р. 6-8. 242. Lin'kova, N.S. Influence of peptides from pineal gland on thymus function at aging / N.S. Lin'kova, V.O. Poliakova, A.V. Trofimov // Adv. Gerontol. – 2010. – Т.23, 141 N 4. – Р.543-546. 243. Liubishin, M.M. Experimental justification of approaches to pharmacological correction of delayed disorders caused by acute ethylene glycol poisoning / M.M. Liubishin, K.V. Sivak, T.N. Savateeva-Liubimova // Eksp. Klin. Farmakol. – 2012. – Т.75, N 11. – Р. 31-34. 244. Low-Level Laser Therapy with 810 nm Wavelength Improves Skin Wound Healing in Rats with Streptozotocin-Induced Diabetes / L. Dancakova, T. Vasilenko, I. Kovac et al. // Photomed. Laser Surg. – 2014. – Vol. 32, N 4. – P. 198-204. 245. Madden, J.W. Studies on the biology of collagen in wound healing. Rate of collagen synthesis and deposition in cutaneous wounds of the rat / J.W. Madden // Surgery. – 1968. – Vol. 64. – P. 288-294. 246. Mansour, A. Delta-opioid receptor mRNA distribution in the brain comparison to delta receptor binding and proenkephalin mRNA / A. Mansour // J. Chem. Neuroanatom. –1993. –Vol. 6. – P.351. 247. Marotti, T. The link between met-enkephalin-induced down-regulation of APN activity and the release of superoxide anion / T. Marotti, T. Balog, V. Munic // Neuropeptides. – 2000. – Vol. 34, N 2. – P. 121-128. 248. Martin, P. Growth factors and cutaneous wound repair / P. Martin, J. Hopkinson- Wooley, J. McCluskey // Prog. Growth Factor Res. – 1992. – Vol.4. – P. 25-44 249. Massague, J. Transforming growth factor-ß family / J. Massague // Annu Rev Cell Biol. – 1990. – Vol. 6. – Р. 597-641. 250. Massey, P. The effects of glycyl-l-histidyl-l-lysine copper chelate on the healing of diabetic ulcers / P. Massey, L. Patt, J.C. D'Aoust // Wounds. – 1992. – N 4. – Р. 21-28. 251. Mazurowska, L. Biological activities of selected peptides: skin penetration ability of copper complexes with peptides / L. Mazurowska, M. Mojski // J. Cosmet. Sci. – 2008. – Т.59, N 1. – Р. 59-69. 252. Mc Clellan, K. Tramadol-Paracetamol. / K. Mc Clellan, J. Lesley // Adis Drug profile. –2003. – Vol. 63, N 11. – Р.1079-1086. 253. Medvedev, M.A. Role of hepatic opioid receptors in the regulation of bile 142 excretion / M.A. Medvedev, I.V. Rudin, A.F. Garaeva // Bull. Exp. Biol. Med. – 2006. – Т. 142, N 5. – Р. 551-553. 254. Mihara, M. Thiobarbituric acid value on fuch homogenate of rat as parameter of lipid peroxidation in aging, CCl4 intoxication and vitamin E definienes / M. Mihara, M. Uchiama // Biochem. Med. – 1980. – Vol.23, N 3. – P. 302-311. 255. Mishchenko, M.V. The application of regional lymphatic stimulation in the comprehensive treatment of purulent wounds / M.V. Mishchenko // Klin. Khir. – 2000. – N 2. – Р. 25-28. 256. Montandon, D. The mechanism of wound contraction and epithelization: clinical and experimental studies / D. Montandon, G.D. Andrian, G. Gabbiani //Clin. Plast. Surg. – 1977. – Vol. 4. – P.325-346. 257. Montesano, R. Transforming growth factor beta stimulates collagen matrix contraction: implication for wound healing / R. Montesano, L. Orci // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 1988. – Т.85. – Р. 4894-4897. 258. Mushtakova, V.M. Clofibrate and dalargin increase luminol-dependent chemiluminescence of mouse blood / V.M. Mushtakova, V.V. Rogovin // Bull. Exp. Biol. Med. – 2007. – Т.144, N 3. – Р. 317-318. 259. Myocardial resistance to ischemic and reperfusion injuries under conditions of chronic administration of opioid receptor agonists and antagonists / Y.B. Lishmanov, D.L. Stakheev, A.V. Krylatov et al. // Bull. Exp. Biol. Med. – 2008. – Т.145, N 6. – Р. 696-699. 260. Nanofiber-based delivery of therapeutic peptides to the brain / M. Mazza, R. Notman, J. Anwar et al. // ACS Nano. – 2013. – Т.7, N 2. – Р.1016-1026. 261. Nelson, C.J. Involvement of central mu- but not delta- or kappa-opioid receptors in immunomodulation / C.L. Nelson, G.M. Schneider, D.T. Lysle // Brain. Behav. Immun. – 2000. – Vol. 14, N 3. – P. 170-184. 262. Nephroprotective effect of GSK-3β inhibition by lithium ions and δ-opioid receptor agonist dalargin on gentamicin-induced nephrotoxicity / E.Y. Plotnikov, O.A. Grebenchikov, V.A. Babenko et al. // Toxicol Lett. – 2013. –T. 220, N 3. – P. 303-308. 263. OIson, G. Endogenous opiates / G. OIson // Peptides. –1993. –Vol. 14. – P. 143 1339. 264. Oleson, D.R. Regulation of human natural cytotoxicity by enkephalins and selective opiate agonists / D.R. Oleson, D.R. Johnson // Brain. Behav. Immun. – 1988. – Vol. 2, N 3. – P. 171-186. 265. Oral absorption enhancement of dipeptide L-Glu-L-Trp-OH by lipid and glycosyl conjugation / J.A. Bergeon, Y.N. Chan, B.G. Charles, I. Toth // Biopolymers. – 2008. – Т. 90, N 5. – Р. 633-643. 266. Palliative radiation therapy for opioid-resistant pain caused by metastatic pancreatic cancer with bone metastasis-a case report / J. Kawamoto, S. Miura, T. Fukada, T. Hayashi // Gan To Kagaku Ryoho. – 2012. –Vol. 39, N 12. – Р. 2143-2145. 267. Pan, Z.Z. Mu-Opposing actions of the kappa-opioid receptor / Z.Z. Pan // Trends Pharmacol. Sci. – 1998. – Vol.19. – Р. 94-98. 268. Pasternak, G.W. Multiple opiate receptors: deja vu all over again / G.W. Pasternak // Neuropharmacology. – 2004. – Vol. 47, Suppl. 1. – P. 312–323. 269. Patel, A. Inhibitors of enkephalin-degrading enzymes as potential therapeutic agents / A. Patel // Prog. Med. Chem. – 1993. – Vol. 30. – P.327. 270. Patterns of cytokine evolution (tumor necrosis factor–alpha and interleukin– 6) after septic shock, hemorrhagic shock, and severe trauma / C. Martin, C. Boisson, M. Haccoun et al. // Crit. Care Med. – 1997. – Vol. 25, N11. – P. 1813-1819. 271. Pesаkovа, V. Effect of the tripeptide glycyl-L-histidyl-L-lysine on the proliferation and synthetic activity of chick embryo chondrocytes / V. Pesаkovа, J. Novotnа, M. Adam // Biomaterials. – 1995. – Т.16, N 12. – Р. 911-915. 272. Pickart, L. Effect of copper peptides on hair growth and condition / L. Pickart // Body Language Dermatology. – 2004. – N 7. – P. 20–22. 273. Pickart, L. The human tri-peptide GHK and tissue remodeling / L. Pickart // J. Biomater Sci. Polym. Ed. – 2008. – Vol. 19, N 8. – Р. 969-988. 274. Pickart, L. The human tripeptide GHK-Cu in prevention of oxidative stress and degenerative conditions of aging: implications for cognitive health / L. Pickart, J.M. Vasquez-Soltero, A. Margolina // Oxid. Med. Cell Longev. – 2012. – Vol. 10. – P. 324332. 144 275. Podsevatkin, V.G. Possibilities of the application of antioxidants and antihypoxants in a complex therapy of obsessive conditions in different mental disorders / V.G. Podsevatkin, S.V. Kiriukhina // Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S.S. Korsakova. – 2010. – Т. 110, N 3. – Р. 56-61. 276. Popa, E.G. Seaweed polysaccharide-based hydrogels used for the regeneration of articular cartilage / E.G. Popa, R.L. Reis, M.E. Gomes // Crit. Rev. Biotechnol. – 2014. – Vol. 4. – P.4-7. 277. Potent inhibition of cerebral aminopeptidases by carbaphethiol, a parenterally active compound / C. Gros, B. Giros, J.C. Schwartz et al. // J. Neuropeptides. – 1988. – Vol. 12, N3. – Р. 111-118. 278. Prostaglandin E2 dependent suppression of interleukin 2 (IL–2) production in patients with major trauma / E. Faist, A. Mewes, C.C. Baker et al. // J. Trauma. – 1987. – Vol. 27. – P.837-849. 279. Raffa, R.B. Pharmacology of oral combination analgesigs: rational therapy for hain / R.B. Raffa // J. Clin. Pharm. Ther. – 2001. – Т. 26. – Р. 257-264. 280. Reisine, T. Molecular biology of opioid receptors / T. Reisine // Trends Neurosci. – 1993. – Vol. 16. – P. 506. 281. Robson, M.C. Wound infection: a failure of wound healing caused by an imbalance of bacteria / M.C. Robson // Surg. Clin. North. Am. – 1997. – Vol. 77. – P. 637650. 282. Sacerdote, P. Experimental evidence for immunomodulatory effects of opioids / P. Sacerdote, E. Limiroli, L. Gaspani // Adv. Exp. Med. Biol. – 2003. – Vol. 521. – P. 106-116. 283. Saidakhmedova, Z.T. Immunomodulating activity of thymogen in acute pancreatitis / Z.T. Saidakhmedova // Vopr. Pitan. – 2000. – Т.69, N 6. – Р. 35-36. 284. Sharma, S.B. Ingestion and pharyngeal trauma causing secondary retropharyngeal abscess in five adult patients / S.B. Sharma, P. Hong // Case Rep. Emerg. Med. – 2012. – Vol. 25. – Р. 943-947. 285. Sharp, B.M. Delta-opioid suppression of human immunodeficiency virus-1 expression in T-cells (Jurkat) / B.M. Sharp, G. Gekker, M.D. Li // Biochem. Pharmakol. 145 – 1998. – Vol. 56, N 3. – P. 289-292. 286. Silin, D.S.Synthetic and natural immunomodulators acting as interferon inducers / D.S. Silin, O.V. Lyubomska, F.I. Ershov // Curr. Pharm. Des. – 2009. –Т. 15, N 11. – Р.1238-1247. 287. Smirnov, V.S. Application thymogen for preoperative preparation of elderly patients with tumor processes in abdominal cavity / V.S. Smirnov, S.V. Petlenko, S.S. El'tsin // Adv. Gerontol. – 2011. – Т. 24, N 2. – Р.278-284. 288. Snyder, S.H. Opiate receptors and beyond: 30 years of neural signaling research / S.H. Snyder // Neuropharmacology. – 2004. – Vol. 47, Suppl. 1. – P. 274-285. 289. Solin, A.V. Effect of opioid peptides on the content of LPO products and antioxidant enzyme activity in the liver of rats after restraint stress / A.V. Solin, Y.D. Lyashev // Bull. Exp. Biol. Med. –2012. – Vol. 153, N 6. – Р.827-829. 290. Steed, D.L. The role of growth factors in wound healing / D.L. Steed // Surg. Clin. North. Am. – 1997. – Vol. 77. – P. 575-586. 291. Stem cell recovering effect of copper-free GHK in skin / H.R. Choi, Y.A. Kang, S.J. Ryoo еt al. // J. Pept. Sci. – 2012. – Т. 18, N 11. – Р.685-690. 292. Stimulation of collagen synthesis in fibroblast cultures by the tripeptide– copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+ / F.X. Maquart, L. Pickart, M. Laurent et al. // FEBS Lett. – 1988. – Vol. 238, N 2. – Р. 343-346. 293. Sulfation of buprenorphine, pentazocine, and naloxone by human cytosolic sulfotransferases / K. Kurogi, M. Chen, Y. Lee et al. // Drug Metab. Lett. – 2012. – Vol. 6, N 1. – Р. 109-115. 294. Synthesis of orthogonally protected azahistidine: application to the synthesis of a GHK analogue / S. Roux, M. Ligeti, D.A. Buisson et al. // Amino Acids. – 2010. – Т. 38, N 1. – Р.279-286. 295. Terminal B-cell maturation and immunoglobulin synthesis in vitro in patients with major injury / E. Faist, W. Ertel, C.C. Baker et al. // J. Trauma. – 1989. – Vol. 29, N 1. – P.2-9. 296. Terrenius, L. Opiate receptors - the historical break - through in dnig research / L. Terrenius // Biochem-Soc. Symp. –1993. – Vol. 59. – P.13. 146 297. The coordination of copper(II) to 1-hydroxy-4-(glycyl-histidyl-lysine)anthraquinone; a synthetic model of anthraquinone anti-cancer drugs // L.D. Pettit, J. Ueda, E. Morier-Teissier et al. // J. Inorg Biochem. – 1992. – Т.45, N 3. – Р. 203-210. 298. The effect of thymogen on the heart in ischemia and reperfusion / O.V. Filippova, K.M. Reznikov, V.V. Alabovskił et al. // Eksp. Klin. Farmakol. – 1997. – Vol. 60, N 3. – Р. 27-29. 299. The efficacy of using thymogen in an experimental infection caused by Yersinia enterocolitica / N.D. Iushchuk, GIa Tseneva, T.V. Alenushkina, L.B. Kuliashova // Zh. Mikrobiol. Epidemiol. Immunobiol. – 1995. – Т. 3. – Р.106-108. 300. The hair follicle-stimulating properties of peptide copper complexes. Results in C3H mice / Trackhy R.E., Fors T.D., Pickart L., Uno H. // Ann. N.-Y. Acad. Sci. – 1991. – Vol. 642, N 10. – P. 468-469. 301. The levels of T lymphocytes and thymic peptide antibodies in patients with infiltrative pulmonary tuberculosis and in those with cancer diseases / A.I. Autenshlius, Iu.V. Sedova, A.N. Shkunov et al. // Probl Tuberk Bolezn Legk. – 2004. – Т. 10. – Р. 31–34. 302. The tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+ stimulates matrix metalloproteinase–2 expression by fibroblast cultures / A. Simeon, H. Emonard, W. Hornebeck, F.X. Maquart // Life Sci. – 2000. – Vol. 18. – P. 2257–2265. 303. Thermodynamic study of Cu2+ binding to the DAHK and GHK peptides by isothermal titration calorimetry (ITC) with the weaker competitor glycine / A. Trapaidze, C. Hureau, W. Bal et al. // J. Biol. Inorg. Chem. – 2012. – Т.17, N 1. – Р.37-47. 304. Throndson, R.R. Spontaneous regeneration of bone after resection of central giant cell lesion: a case report / R.R. Throndson, J.M. Johnson // Tex. Dent J. – 2013. – Vol.130, N 12. – P.1201-1209. 305. Transport distraction osteogenesis with recombinant hu- man bone morphogenic protein-2 for large calvarial defect reconstruction / S.Y. Song, I. Sik Yun, C.H. Kim et al. //J. Craniofac. Surg. – 2014. – Vol. 2. – P. 502-508. 306. Tripeptide Gly–His–Lys is a hepatotropic and immunosuppressor / M.Y. Smakhtin, L.A. Sever’yanova, A.I. Konoplya, I.A. Shveinov // Bull. Exp. Biol. Med. – 147 2002. – Vol. 133, N 6. – Р. 586-588 307. Trush, M.A. Mueloperoxidase as a biomarker of skin irritation and inflammation / M.A. Trush, P.A. Egner, T.W. Kensler // Food Chem. Toxicol. – 1994. – Vol. 32, N 2. – P. 143-147. 308. Uno, H. Chemical agents and peptides affect hair growth / H. Uno, S. Kurata // J. Invest. Dermatol. – 1993. – Vol. 101. – P. 143-147. 309. Use of intracellular cytokine staining and bacterial superantigen to document suppression of the adaptive immune system in injured patients / T. Murphy, H. Paterson, S. Rogers et al. // Ann. Surg. – 2003. – Vol. 238, N 3. – P. 401-410. 310. Use of thymogen in the treatment of various forms of acute abdominal disorders in an experiment / K.M. Reznikov, O.V. Filippova, A.A. Glukhov et al. // Patol. Fiziol. Eksp.Ter. – 1998. – Vol. 1. – Р. 17-19. 311. Vishnevskiĭ, A.A. Decision on the immunomodulating therapy in unspecific osteomyelitis of the spine / A.A. Vishnevskiĭ, A.B. Orlov, S.A. Tikhodeev // Vestn. Khir. Im. I.I. Grek. – 2006. – Т. 165, N 2. – Р.32-36. 312. Vitapex can promote the expression of BMP-2 during the bone regeneration of periapical lesions in rats / X. Xia, Z. Man, H. Jin et al. // J. Indian Soc. Pedod. Prev. Dent. – 2013. – Vol. 31, N 4. – P.249-253. 313. Von Zastrow, M. Opioid receptor regulation / М. Von Zastrow // Neuromolecular Med. – 2004. – Vol. 5, N 1. – P. 51-58. 314. Wallace, S.C. De novo Bone Regeneration in Human Extraction Sites Using Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein-2/ACS: A Clinical, Histomorphometric, Densitometric, and 3-Dimensional Cone-Beam Computerized Tomographic Scan Evaluation / S.C. Wallace, M.A. Pikos, H. Prasad // Implant Dent. – 2014. – Vol. 23, N 2. – P.132-137. 315. Wang, Y. Inhibition of the expression of delta opioid receptor mRNA by long-term exposure of NG-108-15 cell line to delta opioid agonists / Y. Wang, X.M. Wang, J.S. Han // Sheng Li Xue Bao. – 1998. – Vol. 50, N 2. – P. 217-221. 316. Wegrowski, Y. Stimulation of sulfated glycosaminoglycan synthesis by the tripeptide-copper complex glycyl-L-histidyl-L-lysine-Cu2+ / Y. Wegrowski, F.X. Ma- 148 quart, J.P. Borel // Life Sci. – 1992. – Т. 51, N 13. – Р. 1049-1056. 317. Werner, S. Rеgulation of Wound Healing by Growth Factors and Cytokines / S. Werner, R. Grose // Physiol. Rev. – 2003. – Т. 83. – Р. 835-870. 318. Wichmann, M.W. Severe depression of host immune functions following closed–bone fracture, soft–tissue trauma and hemorrhagic shock / M.W. Wichmann, A. Ayala, I.H. Chaundry // Crit. Care Med. – 1998. – Vol. 26. – P. 1372-1378. 319. Wound Healing: the Role of Growth Factors / Anna T. Grazul-Bilska, Mary Lynn Johnson, Jerzy J. Bilski et al. // Drugs of Today. – 2003 – Vol. 39, N 10. – Р. 787800. 320. Xia, Y. Measurement of myeloperoxidase in leukocyte-containing tissues / Y. Xia, J.L. Zweier //Anal. Biochem. –1997. – Vol. 245. – P.93-96. 321. X-ray and solution structures of Cu(II) GHK and Cu(II) DAHK complexes: influence on their redox properties / C. Hureau, H. Eury, R. Guillot et al. // Chemistry. – 2011. – Vol. 17, N 36. – Р. 10151-10160. 322. Yamada, K. Stress-induced behavioral responses and multiple opioid systems in the brain / K. Yamada, T. Nabeshima // Behav. Brain Res. – 1995. – Vol. 67. – P.133. 323. Zagon, M. Preproenkephalin mRNA expression in the developing and adult rat brain / M. Zagon // Mol. Brain Res. – 1994. – Vol. 121. – P. 857.