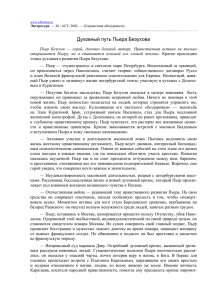первая глава - And Other Stories
реклама
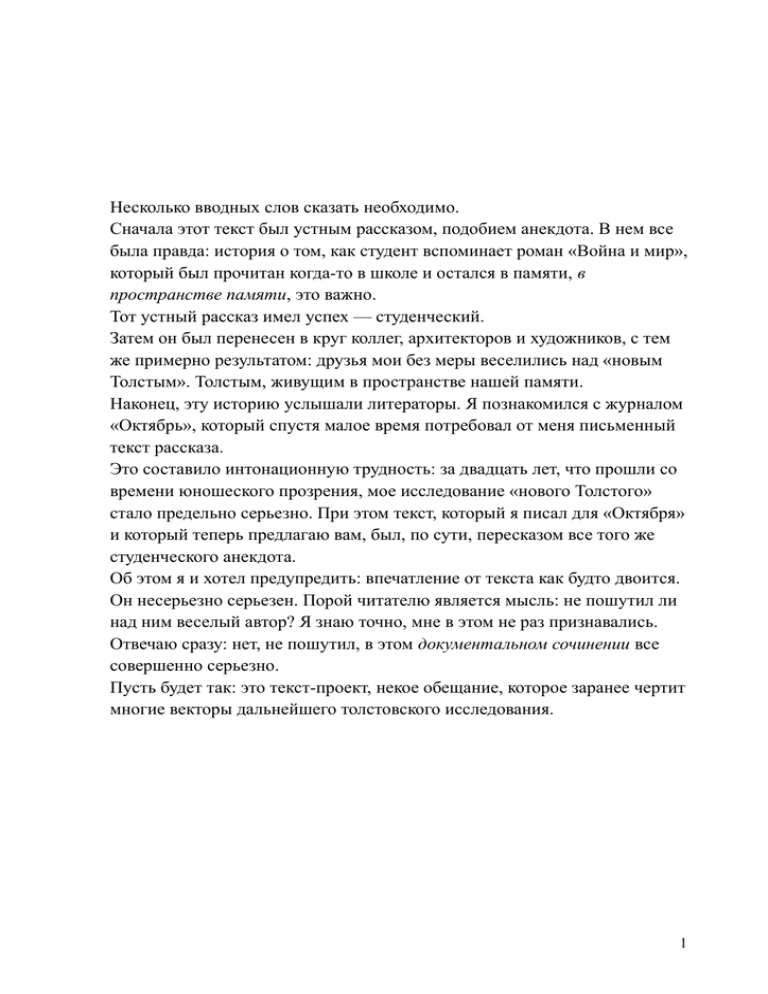
Несколько вводных слов сказать необходимо. Сначала этот текст был устным рассказом, подобием анекдота. В нем все была правда: история о том, как студент вспоминает роман «Война и мир», который был прочитан когда-то в школе и остался в памяти, в пространстве памяти, это важно. Тот устный рассказ имел успех — студенческий. Затем он был перенесен в круг коллег, архитекторов и художников, с тем же примерно результатом: друзья мои без меры веселились над «новым Толстым». Толстым, живущим в пространстве нашей памяти. Наконец, эту историю услышали литераторы. Я познакомился с журналом «Октябрь», который спустя малое время потребовал от меня письменный текст рассказа. Это составило интонационную трудность: за двадцать лет, что прошли со времени юношеского прозрения, мое исследование «нового Толстого» стало предельно серьезно. При этом текст, который я писал для «Октября» и который теперь предлагаю вам, был, по сути, пересказом все того же студенческого анекдота. Об этом я и хотел предупредить: впечатление от текста как будто двоится. Он несерьезно серьезен. Порой читателю является мысль: не пошутил ли над ним веселый автор? Я знаю точно, мне в этом не раз признавались. Отвечаю сразу: нет, не пошутил, в этом документальном сочинении все совершенно серьезно. Пусть будет так: это текст-проект, некое обещание, которое заранее чертит многие векторы дальнейшего толстовского исследования. 1 П Е Р ВА Я ГЛ А ВА I Все началось с эпизода непримечательного. По крайней мере, так показалось сначала. Теперь это происшествие видится чем-то важным и значительным; настолько важным, что теперь я пытаюсь вспомнить его во всех деталях. Помню окно, залитое солнцем; за окном темно-зеленые листья лип образуют шторы. Июль (примерно так), Москва, лето 1978 года. Штор у нас не было; мы жили на квартире в сером кирпичном доме, который согласно первоначальному замыслу был гостиницей для молодых семей. К тому времени, как мы в нем поселились, в доме оставались только старики, брошенные, гуляющие по этажам как привидения. Среди них мы прожили все лето. В то лето 78-го года мне понадобилось ответить на один странный вопрос, не имеющий к моим тогдашним занятиям никакого отношения. Зачем так несправедливо поступил Лев Толстой по отношению к своему герою, Андрею Болконскому? Бывают ситуации нелепые. Вы встаете перед окном, раскладываете на белой (глянцевой, крашеной масляной краской) плоскости подоконника белые (матовые, шероховатые, усеянные крошками от ластика) листы бумаги, на которых карандашом по линейке наведены пирамиды и кубы (я был тогда студентом-архитектором), и говорите: нет, тут все неправильно, тут какая-то ошибка, он не мог без причины так с ним обойтись. Как – так? Да как-то так – неопределенно, нехорошо. Несправедливо1. В этом и состояла загадка – почему так? Князь Андрей у Толстого пропал, провалился между страниц. Мое воспоминание о романе на тот момент было смутно: книги со школы я не читал, даже в голову не могло прийти такое – что это, Теперь, когда работа подвинулась значительно, этот вопрос о справедливости – почему, за что, зачем? – уже не кажется случайным. Теперь я знаю: сам Толстой не раз задавал себе этот вопрос. На протяжении романа он несколько раз меняет судьбу Болконского, и всякий раз отыскивает для этого новые основания. Можно ли так поступать с Болконским? Заслужил ли он такой награды или такого наказания? 1 2 перечитывать Толстого? И тогда, в июле 78-го года мне и в голову не пришло взять в руки книгу и поискать ответ на первый вопрос. Я принялся вспоминать2. Воспоминание об Андрее было неполное и нехорошее. История его в памяти рисовалась незаконченной. Болконский, главный герой – тогда казалось, что главный – не нашел ни славы, ни счастия, героиня ему не досталась. С Наташей Ростовой у князя вышел какой-то зигзаг: сначала был помолвлен, потом поссорился, потом (смертельно раненый) помирился – и исчез. Умер тихо и непонятно, точно его задушили в простынях. Не в конце книги, это было бы хоть как-то справедливо, нет, исчез где-то по дороге; остальные добрались до счастливого конца, а он сгинул. Не на Бородинском поле – на это я был согласен – не в Москве, а непонятно где, еще никак я не мог вспомнить где. Помнил только белое. В чем-то белом Андрей исчез, словно утонул в бумаге, или его вытерли ластиком. Толстой вытер. Зачем? II Допустим, так. Князь Андрей не нравился Толстому. Только на первый взгляд Болконской был изображен Толстым идеально, но на самом деле, в глубине души этот идеал был автору чужд. Толстому не нравилась романтическая физиономия Болконского. Обойтись без нее было нельзя, иначе не вышла бы картина эпохи – как можно писать историю войны 12го года без романтического героя? Он был необходим, необходимы были его искания, метания и, главное, постоянные позы. Я вспоминал роман и видел все более отчетливо: жизнь Болконского вся была сплошные позы. Они досаждали Толстому, он был вынужден описывать позы. В результате на протяжении романа Толстой только и писал, как хорош князь Болконский, и одновременно (невольно?) отстранялся от него. В конце концов, утомившись этой своей раздвоенностью, Толстой убирал со сцены князя, не дождавшись конца действия, не дав ему совершить ничего героического. Это действие оказалось решающим. Я, не читая, вспоминал. Вместо романа препарировал свое воспоминание о нем. Если бы в тот момент я занялся чтением, или (тем более) обратился к толкователям Л.Н., то скоро получил готовый ответ – почему так вышло с князем Андреем Болконским? Позже я нашел несколько ответов на этот вопрос, весьма убедительных. Но в тот первый момент книг под рукой не оказалось. Лишенный академической подсказки, я вынужден был сочинять, и двигаться дальше в том же режиме встречного сочинения, и постоянно ошибаться, но время от времени ошибаться «правильно»; это занятие далеко меня завело. 2 3 В этом был первый (неправильный) ответ на вопрос: почему так вышло с князем? Толстому в глубине души не нравился Болконский, и потому он написал на него карикатуру. Почему нет? Я вспоминал роман и видел все яснее, как последовательно Толстой реализует свою антипатию. Точно за шиворот автор тащит Болконского от сцены к сцене, то поднимая под облака, то спуская вниз, притом всегда вдруг, внезапно. Это было подобие отдельного от книги спектакля, в котором были одни напыщенные сцены и позы. Всякий эпизод с участием князя был попеременно его возвышением и унижением. III «Не женись, душа моя, не женись!» – заявляет Андрей Пьеру; сам едва женат. Таково начало – оперы, пусть это будет опера. Красавец, весь в белом адъютант, жена первая в Петербурге красавица, дом лучший в Петербурге. В доме все с иголочки – Андрей разочарован во всем. Ходит по сцене, цедит слова сквозь зубы. «Женись стариком, ни на что не годным». И тут же, про себя – а я еще сгожусь, вот брошу жену, поеду воевать Наполеона, там будет мой Тулон! Все отдам за минуту славы, ни отца, ни (беременной) жены не пожалею. И не жалеет! ссылает жену в деревню под власть жестокому отцу, едет воевать. Бьется с Наполеоном, подхватывает знамя, разворачивает бегущее в панике войско, первым идет на врага. Но тут кто-то словно крепкой палкой бьет его по голове (некоторые цитаты я почему-то помнил дословно), и князь лежит, смертельно раненый, раскинувшись картинно среди кровавых тел. И, не теряя темпа, к нему подходит небожитель Наполеон, и молвит – «что за бравая смерть!» Спрашивается (спрашиваю я сам себя, прячась от солнца, отложив в сторону карандаш и бумагу): правдоподобно ли это геройство и этот так вовремя подошедший Наполеон? Нет. Это совершенно неправдоподобно. Возможно ли такое всерьез у Толстого? Нет, разумеется. Это не его война – это им переложенная сказка о войне. Либретто для оперного театра. Что же дальше? Вот что: Толстой в следующую секунду отменяет весь этот пыл и пафос. Едва он уложил героя, прикрыл его знаменем, подвел к нему кумира, как сразу первый над этим посмеялся. Кумир оказался маленьким пузатым человечком с неприятными актерскими замашками. 4 Мало осквернения кумира: за секунду до его выхода Толстой успевает перевернуть Андрея на спину и показать ему небо. Но что такое показать фарфоровому петербургскому офицеру перед смертью высокое небо? Князь не знал, что такое это небо – всю жизнь, которая сейчас и закончится, он провел, точно статуэтка на полке, и не замечал настоящего неба. И вот он увидел его и понял, что жизнь прошла впустую. Сознание этого есть казнь самая жестокая: Толстой награждает князя этим сознанием. Далее убитый воскресает. Следующая сцена именно та, что заставила меня усомниться в серьезности истории об Андрее. Здесь я впервые заподозрил у Толстого карикатуру. Жена, оставленная в глуши с жестоким свекром, в муках рожает сына, умирает – и тут же, в ту же секунду (!) муж словно с того света весь в черном мертвенно бледный вбегает. В ту же секунду! Как это можно написать серьезно? Не романтику с горящим взором и волосами дыбом, не даме, пишущей на досуге сцены, от которых она первая заливается слезами – как можно было написать такое Толстому? Только играя. Только в ясном сознании, что ты пишешь вставной сюжет, либретто оперы, темную сказку, полную нелепицы и надрывов. Между тем представление Андрея продолжается; оно по-прежнему подчеркнуто романтично. После смерти жены князь принимает новую позу: запирается в имении и намерен похоронить себя заживо. IV Где-то тут (вспоминал я) появляется дуб. Картина с дубом есть несомненная оперная сцена. Мы точно смотрим из зала: князь из-за левой кулисы выезжает на тройке – посреди сцены высится сухой и мертвый дуб. Князь обращается к дубу как к другу – и я, старик, вот так же сух и мертв, и как мы оба правы – после чего удаляется за правую кулису. Спустя малое время князь появляется из-за правой кулисы, едет обратно через сцену – дуб зазеленел! Андрей Болконский выходит на край сцены и, 5 проливая слезы, поет: нет, жизнь не кончена в тридцать один год. Господи помилуй! Что за странная постановка? Это опера: я помню, Толстой смеялся над оперой. Забыл: между двумя ариями Андрея у дуба помещается его первая встреча с Наташей. Юная фея Наташа при первой их встрече в Отрадном, куда князь заезжает по случаю, совершает чудо. Подошед к князю на пуантах, она касается его деревянной фигуры волшебной палочкой, и он молодеет, зеленеет, оживает. Чудно, странно, вместе со сценами у дуба очень смешно. История князя Андрея распадается на картинки. Картинки соединяет ломаная линия: вверх-вниз. Андрей то жив, то мертв; все у него ломано, вычурно, контрастно. Вот он внезапно ожил. Преображенный чарами колдуньи Наташи, князь едет в Петербург: ему взошло на ум заняться государственной деятельностью. В столице Болконский в три дня делает молниеносную карьеру: едва ступив на службу, только оглядевшись, он перешагивает уже через Аракчеева. Разом он главный помощник Сперанского и пишет конституцию. Можно ли поверить в такое? Зачем это возвышение, неправдоподобно скорое? Вот зачем. Толстой возносит Андрея как можно высоко в государственном поприще только для того, чтобы тут же точно с обрыва спустить его вниз. На новогоднем балу (либретто длится) Андрей встречает знакомую фею Наташу, опять она касается его волшебным инструментом – и в то же мгновение он уже не министр, а жених. Министерство забыто, вчерашние соратники лицемеры, люди недалекие, истуканы, набитые цифирью. Сперанский смеется деревянно. Вверх – вниз, и все в одну секунду: ломаная линия скачет. Андрей ездит женихом в дом Ростовых; вдруг исчезает. Затем так же, без предупреждения является, и что же он привез? Сюжет из оперы: жестокий отец, испугавший когда-то до смерти его первую жену, теперь препятствует второму браку. Старший Болконский отправляет сына от невесты прочь, за границу, на год. 6 Це-лый-год!3 Слезы, страсти, раздирания души. Год (два года!) нет Андрея; за три дня до его приезда невеста собирается бежать с красавцем (мерзавцем) Анатолем. Тогда не знал я мыльных сериалов, а то бы не сомневался, с чем сравнить этот роман в романе. Неестественный, демонический, полный поз и надрывов противутолстовский сюжет. И опять – мог ли Толстой написать такое всерьез? Не мог. Я утверждаюсь в своей версии все больше: автор решил, что фигура князя Андрея – несомненно, характерная для своего времени, узнаваемая читателем и потому воспринимаемая им всерьез, самим автором может восприниматься только как повод для карикатуры. Так он сможет высказать собственное (сокровенное) мнение о такой фигуре, тайно посмеяться над князем. И Толстой хладнокровно и последовательно ведет его точно через полосу препятствий, стараясь на каждом повороте возвысить Болконского и тут же уязвить возможно больнее. Невеста изменила, страсти бушуют, свадьба отменена. Князь по всей России ищет обидчика Курагина, чтобы вызвать его на дуэль. Но не успевает: начинается война. Отец скончался, имение разорено, судьба родных Андрею неведома. V Самого князя судьба ужасна: на Бородинском поле он получает ранение в живот. Здесь в моих воспоминаниях рисовался некоторый предел. Предел воспоминания – то, что было с Андреем Болконским после Бородина, я помнил не вполне отчетливо. Не хотел помнить: после сражения с Андреем все было плохо. Но прежде того плохо было то, что случилось в сражении. Смерть, которую Толстой приготовил для князя, оказалась негероической и совершенно бессмысленной. К тому же для героя оперы эта смерть была чересчур реалистична. Вместо насмешника и обличителя поз в Толстом просыпается любитель правды. Утомившись нелепыми декорациями, устав от ненастоящего, автор Известная неточность Толстого. На самом деле Андрей отсутствует два года: уезжает весной 1810 года и возвращается в 1812-м, перед началом войны. Он «обманул» невесту, заставил ее ждать вдвое дольше обещанного. Вот каков князь Андрей у Толстого. 3 7 приканчивает князя более чем правдоподобно. В этом была определенная логика. Течение неправды, романтической выдумки прекращается правдой, описанием строго реалистическим4. Какая после этого могла продлиться опера? На сцену, с которой пела арии бумажная кукла, упала настоящая бомба. Спектакль, в котором главным героем был князь Андрей, разом был окончен. Далее все было призрачно и смутно. Я помнил, разумеется, что князь не был убит сразу, что встретился с Наташей во время бегства из Москвы, помнил протяжение мучительной концовки – и белое. Все это было «за кадром», – в кадре остались другие герои, другая жизнь. Князь оставался почти невидим. Рассказ о его смерти был слышен точно из другой комнаты. Толстой что-то важное не дописал о князе (так мне казалось) – тот ему наскучил. Листок с историей Андрея, исписанный на три четверти, автор смахнул со стола. Потом поднял, повертел так и эдак: в первой версии романа князь оставался жив, – и выбросил окончательно. Князь Болконский умер. VI Вот что произошло тогда в июле 78-го, у окна, под сенью лип. Я «прочитал» один этот отдельный листок, на котором история Андрея так странно обрывалась. Я вспомнил только то, что на нем написано. Не женись, мой Тулон, Наполеон, жена умирает, он вбегает, и проч. Что дальше? Дальше со мной совершается событие самое простое и одновременно очень странное. Досмотрев андрееву «оперу» до конца, я понимаю, что пришел к очевидному противоречию. Написанная на отдельном листке история Болконского не помещается обратно в роман. Толстой не мог так написать жизнь Андрея Болконского. После этого студенту-архитектору является мысль простая и очевидная; с нее начинается отсчет моего исследования. Ранение, полученное после шести часов стояния в резервах, безо всякого дела, под падающими с неба бомбами (полученное, кстати, по причине очередной позы: князь постеснялся лечь на землю перед взрывом), было ранение «севастопольское». Толстой, участник севастопольской обороны 1855 года, именно такую смерть мог передать максимально реалистично. 4 8 Писатель Толстой не мог так написать жизнь Андрея Болконского, – но так ее мог вспомнить другой герой романа. Какой, сразу ясно: Пьер. Почему нет? Пьер Безухов вспоминает о своем друге, погибшем во время войны. О первом женихе своей жены, Наташи Ростовой. Вспоминает пристрастно, субъективно, пересочиняя жизнь друга как это только возможно – потому что он по-прежнему любит Андрея, восхищается им, и в то же время ревнует, завидует ему, подозревает жену в том, что она до сих пор не забыла Андрея, что она по-прежнему любит его. Все эти чувства Пьера понятны. Но так же понятно, что с такими чувствами невозможно просто и последовательно вспомнить жизнь своего друга. Можно только постоянно возвышать и тут же унижать его, тащить за шиворот от одного испытания к другому, сводить и разводить с невестой, и всякую секунду вмешиваться, чтобы там, в памяти, все переменять, как теперь кажется нужным. И в результате превратить жизнь своего друга в цепочку нелепостей и зигзагов, бросков вверх-вниз. И в конце концов оборвать ее на полуслове. Невозможная история Андрея делается возможна, потому что не Толстой пишет так, а Пьер вспоминает так. Абсурдный сюжет (преследование и насмешки над князем) сохраняется, но теперь он становится в своей основе прост и логичен, а, главное, правдив. Весь рассказ об Андрее Болконском становится правдивой записью воспоминаний его друга Пьера Безухова. И, кстати, сразу, в то же мгновение делается ясно, когда совершаются эти воспоминания Пьера: в 1820 году – об этом написан эпилог. Для этого и нужен этот странный, отнесенный на семь лет эпилог! Еще эта простая мысль не остыла у меня в голове, еще только я сознавал ее неприменимость (почему неприменимость? роман-воспоминание – все применяется отлично!), – секунды не прошло, а я уже был уверен, что это правда. Это была правда потому, что так легко и просто все зигзаги в судьбе Андрея теперь на глазах сделались логичны и уместны, ясен и цел вышел его портрет. Только портрет этот «писал» Пьер. Все преувеличивал, переставлял, делал невозможным его друг и соперник Пьер. Он приближал и удалял события, бросал Андрея в атаку, выводил ему, точно марионетку 9 на ниточках надутого Наполеона, убивал, а потом воскрешал, держал в плену, не давал рожать его несчастной жене, пока князь не вернется с того света, помогал и препятствовал в карьере, путая ему все карты с Наташей (он, кстати, свел их на новогоднем балу), посылал за границу на год, и удерживал два года – все он, Пьер, вовсе не жестокий отец. А война, а Бородинское поле? Мы еще вернемся на Бородинское поле. Все сходилось замечательно, все было правдой – просто так вспоминал Пьер. Все так гладко сходилось еще и потому, что секунду назад я сам все это вспомнил, то есть невольно применил «прием» Пьера: оглянулся назад и увидел Андрея, рисунок его судьбы со всеми поворотами и зигзагами и как будто оборванной концовкой. В памяти все оказалось уложено правильно. VII Это не был прием Пьера, это был прием Толстого – замечательный прием! Толстой написал совершенную правду о (невольно) лгущем человеке, о Пьере воспоминающем, и таким простым узлом связал весь роман. Именно весь – почему я привязался к одному Андрею? Весь роман разворачивался суммой воспоминаний Пьера. Пьер Безухов (в эпилоге) оглянулся и вспомнил все, от начала и до конца: все помещение книги осветилось в его памяти. Весьма логичным, к примеру, выглядело теперь начало романа – ужин в салоне Шерер. Все просто: это был первый вечер Пьера в России. Он приезжает на родину, ступает на ее почву и тем самым попадает в освещенный памятью круг. Пьер не помнит себя до момента возвращения, его как будто не было – и книги не было – до этого момента, до вступления в освещенный круг памяти. 10 Пространство книги есть пространство воспоминаний Пьера. Сумма грез, прожектов, отвлеченных рассуждений, чувств и эмоций, зависти и ревности, восхищения и почтения Пьера. Он главный сочинитель. В изложении такого сочинителя, очевидца и участника событий сюжет двенадцатого года выйдет полон, убедителен, психологически правдив. Толстой позволяет Пьеру говорить правду пополам с неправдой, и тем только выигрывает в искренности сообщения, и к тому же получает оправдание на случай ошибки. Но это «правильные», достоверные ошибки – все до одной ошибки Пьера. Положительные, необходимые ошибки: с ними роман, полон и одушевлен, собирается в одно законченное и целостное сообщение. Не нужно академической истории, сухого изложения фактов. Такое изложение фактов Толстой считал действием в принципе неверным, недостаточным и неубедительным. Другое дело роман – в нем все важно и неслучайно, все убедительно, вплоть до ошибок, оговорок, и, главное, чувств героев. Кстати, что такое теперь эти герои? Теперь – после того как выяснилось, что все вспомнил Пьер, – соблазн пересмотреть книгу является немедленно. Тут же, по памяти: не перечитать, но именно пересмотреть – теперь, когда вся она открылась единой, ясно освещенной панорамой. VIII Итак, Пьер вспоминает. Но если так сказываются при этом его чувства, поочередно восхищение и ревность, если в их свете так меняется (проясняется) портрет Андрея, что такое остальные герои? Как видно их? С Наташей пока понятно; до времени следует оставить рассмотрение Наташи, потому хотя бы, что Пьер смотрит на Болконского «через» Наташу. Она словно призма, в которой преломляется его взгляд. Поэтому саму ее не то чтобы не видно – она слишком близка Пьеру. Но что за ней, что вне Наташи? Что видит Пьер, наводя «инструмент Наташи», скажем, на Николая Ростова? 11 Николай Ростов – брат, он к ней совсем близко. Он даже в юности похож на Наташу. Есть повод для ревности, есть, разумеется. Между братом и сестрой родство душ. Николая нельзя просто отстранить от Наташи, как того, наверное, хочет Пьер – только ему дозволено быть с нею рядом. Можно отстранить Николая от Наташи иначе: изменить, подправить его портрет. И редактор прошлого Пьер принимается за работу. Он очень постепенно, но притом последовательно и направленно удаляет Николая от Наташи. Пьер и над ним посмеивается, но тут другое – он снисходителен: пусть Николай будет недалек, во всяком значении слова. Николай весьма наивен и горяч; Пьер отдает его в армию, армия скоро меняет пылкого Николая. Постепенно наивный юноша грубеет, тонкие черты в нем стираются, он с каждым поворотом сюжета все меньше похож на Наташу. Полковая жизнь поглощает его с головой. В эпилоге он уже совершенный служака, полковник в отставке, грубый и нечувствительный к высоким мыслям Пьера. Тут как раз и выясняется реальное отношение Пьера к Николаю: Николай в эпилоге, в 20-м году, уже противник Пьера, он нейдет в его тайное общество, грозит под командой Аракчеева изрубить саблей всякого, кто пойдет противу правительства. Как неосторожно! Он грозит Пьеру, редактору прошлого – и когда! теперь, в 20-м году, когда Пьер взялся пересматривать историю. И прошлое Николая начинает меняться. Неизвестно, что там было на самом деле, теперь «видно» вот что: жизнь Николая была превращение одаренного, душевно богатого, похожего на Наташу юноши в совершенного солдафона. Николай в изображении Пьера на протяжении романа все грубеет и глупеет. Ему только в армии хорошо, и оттого хорошо, что не нужно думать лишнего. Его история строится как серия армейских рассказов; в этой среде, в любимом полку он словно тонет, теряет изначальные свойства. Он, не сходя с места, удаляется от Наташи – это и нужно Пьеру. И это только брат Наташи, – каково ее женихам? IX К ухажерам Натальи (теперь это видно отлично) отношение Пьера колеблется от насмешки до прямой жестокости. 12 Взять самое малое, Денисова. Он, кстати, добрался до эпилога, он рядом с Пьером, в 20-м году. Пьер смотрит на него в «реальном времени» 20-го года и вспоминает прошлое. Ведь он, Денисов, сватался к Наташе, еще пятнадцатилетней. Как можно? Наказание в воспоминании следует немедленно. Вспомним: едва после сватовства Денисов возвращается в полк, как попадает в скверную историю с похищением у пехотинцев провианта. А ты не похищай чужого! Мало скверной истории – Денисов уже под судом, и дела его плохи. Вдобавок его внезапно ранят, и ранение самое конфузное, в мягкое место (Пьер «за кадром» смеется, точно сам отвешивает шлепка Денисову). Но и этого мало ревнивому редактору прошлого. Несчастный жених попадает в госпиталь, ужасный, зловонный, где вперемежку с ранеными лежат мертвецы, где виден Дантов ад. Вот тебе за сватовство! От гибели Денисова спасает Николай (посланец Наташи). А Борис Друбецкой, детская любовь Наташи? Прошед в опасной близости от наташина светила, Борис опален, отброшен в сторону: ему судьба жениться без любви на Жюли Карагиной, от одного вида которой самому Борису тошно. Наказание соблазнителю Наташи Анатолю Курагину простое и жестокое: он прекрасен как статуя – у статуи отнимают ногу. Изуродованный, истукан валится в небытие. Но хуже всех Андрею – мы уже наблюдали, как Пьер обращается с Андреем. Теперь важнее сам Пьер; выясняется постепенно, что он ревнует ко всем и завидует всем. Вот он проснулся, спустя семь лет после войны – ожил, и пошел сочинять новое прошлое, раздавать шлепки, определять судьбы. Он словно недовоевал. Не так – он (на семь лет) опоздал на войну. X Так и есть, и это главное. Пьер «пишет» как опоздавший; это его главное чувство. Ему некуда деться: этим чувством его награждает Толстой. Сам Лев Толстой не попал на эту войну. Можно представить, как Толстому хотелось бы попасть прямо в 1812 год, как ему детским образом хотелось там все 13 устроить по-своему. Но он опоздал – и у него опаздывает Пьер, его главный герой. Пьер вместе с автором не попадает в военные герои. Хронологически он может быть на войне, может видеть ее, но геройски участвовать в ней не может. Иначе он выйдет за рамки своего образа, превзойдет автора. Толстому не нужен такой участник событий, ему нужен персонаж наблюдающий, рефлектирующий (опаздывающий, завидующий), и затем неизбежно пересочиняющий свою жизнь. Психологически это очень точный ход: только такому герою автор может доверить свои чувства и терзания задним числом. Это определяет физиономию Пьера, его внешний и внутренний облик. Такой Пьер Безухов очень узнаваем: интроверт, недвижный как камень, человек-предмет, замкнутый в самом себе. Он настолько погружен в свои мысли, что часами может сидеть на месте, не шевеля ни пальцем, не слыша вопросов, к нему обращенных: он переносится в свои мечты целиком5. Что же происходит в 20-м году, когда оживает этот камень? Пьер просыпается и обнаруживает, что он не более чем мечтатель. Ладно бы просто мечтатель – он увалень, тюфяк, тюлень, проспавший войну. Шепелявый и некрасивый, теперь уже немолодой, послушный во всем жене, особе весьма своенравной, «пикейный жилет», московский обыватель Петр Кириллович Безухов. Вот он очнулся и вспоминает свою недвижную, абсолютно негеройскую жизнь. Как вспоминает? Понятно как: пересочиняет все наоборот. В воспоминании он богатырь, вяжет квартального с медведем, во время ареста разбрасывает французов как щепки. Стреляется с записным дуэлянтом Долоховым – вслепую, первый раз взяв в руки пистолет – и ранит его; сам уходит невредим. Он один воевал за всех, один остался в Москве (партизаном), где едва не зарезал самого Наполеона. Он герой, он мир противу войны, он победил, – мир победил войну. Разве не так? Ведь он получил главный приз, Наташу. Это не могло произойти просто так, случайно. Он счастлив с ней, его победа законна — должна быть законна. В этот момент и начинается его схватка с Андреем. Очнувшись от сказочных воспоминаний, оказавшись в реальном пространстве эпилога Толстой постоянно пишет о его забвениях. Пьер в романе то и дело переносится в другое время: на самом деле в эти моменты он возвращается обратно в 1820-й год. 5 14 (только эпилог в этом романе реален), Пьер понимает, что его заслуги мнимы. Он понимает в эту секунду лучше, чем кто-либо другой – он вовсе не герой. Он все выдумал, он приписал себе чужую победу. В эту минуту Пьер становится мстителен и зол, и ревнив ко всему и вся. Он в раздражении, что пропустил столько событий, перенес столько обид, не сделал ничего важного. Ему стыдно, он недостоин Наташи. Она же достойна героя. И если бы случился рядом с ней в момент величайшего потрясения России такой герой, Наташа была бы с ним. Вот вам князь Андрей. XI Тут я получаю, наконец, ответ на свой первый наивный вопрос: за что так с Андреем? А как могло быть иначе? По отношению к Андрею у Пьера главный страх: Андрей как раз и есть потенциальный главный герой, суженый Наташи. И к этому вдобавок досада – ведь это он сам, Пьер, создал этого героя. Он в своем самоуничижении приписал Андрею лишнего. Андрей наполовину его креатура, им созданный фантом, и оттого этот Андрей вдвойне силен, он неуничтожим, как поселившийся в голове призрак6. Теперь необходимо настоящее чудо, чтобы Пьер мог избавиться от призрака, от этого (им самим) возвышенного князя. Нужен особый повод и особое место для того, чтобы поквитаться с Андреем. Нет ничего сложного в том, чтобы найти это место. Для того, чтобы разделаться с князем, Пьер легко находит главный повод, выбирает это особое место – Бородино: роковое, центральное место. 6 Сам виноват, мечтатель, пересочинитель прошлого. «Пьер считал Андрея образцом совершенств именно от того, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера, и которые ближе всего можно выразить понятием – силы воли». Том I, часть I, глава VIП. Первая похвала князю. Теперь, в 20-ом году, все перевернулось. Для ревнующего Пьера нет фигуры хуже, чем этот бумажный князь, им самим возведенный на пьедестал. Потому что Андрей теперь неуязвим, бессмертен. Он и после смерти между Пьером и Наташей как тень. Хуже того, Наташа – теперь, в 20-ом году, как будто понимая страхи Пьера, готова в любом нужном ей случае вызвать эту тень. Она наказывает мужа воспоминанием об Андрее. В ее руках ужасное оружие: призрак погибшего героя. Вот последнее напоминание Пьеру об Андрее, Эпилог, часть I, глава X. «…Очень редко зажигался в ней [Наташе] прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем)…» Курсив мой: в нем каждое слово важно. Не нужно и говорить Пьеру – он сам все додумает. Вот он, в эпилоге, – вернулся из Петербурга, где задержался против обещанного на две недели, и она в ярости, она ревнует отчаянно: он был с ней – с кем с ней? неважно, там даже не написано с кем. Важно то, что Наташа решает наказать мужа, – и является ужасный призрак Андрея. 15 Здесь Пьер должен избавиться от своего призрака. Здесь же, кстати, русское войско должно избавиться от своего призрака, от мифа о непобедимости французов. Как всегда в важнейшие моменты у Толстого большие и малые задачи сходятся для разрешения в один фокус; бой идет на всех этажах: за Россию, за Москву, и за Наташу Ростову – теперь эти фигуры слитны. В этом месте воспоминаний, дойдя до Бородина, Пьер машет рукой на все сомнения и прихлопывает Андрея как муху. Отодвигает в резерв, забрасывает гранатами, не дает ему пошевелиться, не дает и малого повода для геройства. Да и поздно геройствовать: рассказ о смертельном ранении Андрея начинается после того как сражение уже закончено. С этого момента фигура князя стремительно уходит в тень. Ему дадут только попрощаться с бывшей невестой и закатают в простыни в Ярославле: минимум звука ему позволен, он уже на полях страницы и вот-вот уйдет в небытие. Пьер, пользуясь безнаказанностью воспоминающего (сочиняющего), нарушая законы исторической правды, казнит князя «севастопольской» смертью, сам же воздвигается в центре сражения, на Курганной высоте… XII В этот момент вторая мысль, такая же простая и ясная, как первая (о романе-воспоминании), приходит в голову начинающему исследователю, что стоит у окна и смотрит на листья, но на самом деле не видит ничего, кроме переворачивающихся перед мысленным взором фигур. Вот они покружились, эти странные фигуры, и ушли, и осталась одна, главная. Бог с ними, с Николаем и Борисом Друбецким, и Денисовым в госпитале; нет сомнения, что все они расположились правильно на чертеже романа – ровным кругом вокруг главной точки. Пьер и Бородинское сражение – вот что важнее всего, и всего проще. Пьера не было на Бородинском поле – вот эта мысль. Пьер выдумал свой поход в центр сражения, на Курганную высоту, и уже ясно, зачем он это сделал. Чтобы вместо Андрея стать главным героем в глазах Наташи. 16 И еще: чтобы все увидеть самому7. В самом деле, мы наблюдаем чудо. Пьеру, у которого (в 20-м году) вся жизнь позади, и которому так ясно видна эта жизнь, вдруг является видение. Неведомая сила переносит его в центр сражения, туда, где его точно не было, не могло быть – но он там. Чудесно то, что эта сила как будто не Толстой. Толстой смотрит как бы со стороны на безумные выходки Пьера, смотрит с ясным пониманием, что такого быть не может, и еще толкает локтем читателя – смотри, этого не может быть! Не может быть посреди боя этой нелепой фигуры в зеленом фраке и белом цилиндре. И даже до боя, на подходе к бою такого быть не может – все офицеры, солдаты, ополченцы (их также толкнул локтем Толстой), смотрят на Пьера с изумлением и не верят своим глазам. Пьер выступает как совершенная нелепица. И Толстой не то, что не скрывает, он еще подчеркивает невероятность этого, он раз десять повторяет одно и то же – этого не может быть. Тут и происходит самое удивительное: нелепость оборачивается правдой. Непонятно, неизвестно как, но мы в то же мгновение уже верим, что он там, и Толстой верит – верует в видение Пьера. И чем дальше, тем тверже мы веруем в правильность этой галлюцинации: мы сами видим (оком Пьера) то, что происходит на Бородинском поле. Возможно, срабатывает контрастный (блестящий!) прием Толстого: он выставляет невозможную, неправдоподобную фигуру Пьера на Курганную высоту и от этого все, что рядом с ним – солдаты, огонь и смерть – становится вдесятеро большей правдой. «Белизна» выдуманного Пьера оттеняет черную правду боя. Нелепость Пьера оборачивается со всех сторон правдой. В оптическом, фокусирующем «стекле» ока-Пьера картины сражения делаются только ярче и резче. Последнее нужно Толстому: он выдвинул фигуру Пьера в центр сражения для собственного наилучшего обозрения. Пьер его око; Толстой смотрит через Пьера, как через телескоп, на главное событие истории (не романа). Он не мог пропустить этого момента: в известной мере весь роман-воспоминание нужен Толстому только для того, чтобы (через голову, через око Пьера) перенестись в центр Бородинского сражения, на батарею Раевского. И Толстой, более всего в жизни желающий попасть на эту батарею, позволяет Пьеру фантастическую выходку. Пьер в своей жажде геройства додумывается до того, что он был на Курганной батарее! Увалень и тюфяк, противоположность героя. Он выдумывает чудо, и совершается чудо: Пьер переносится на Курганную высоту, и с ним вместе переносится Толстой. 7 17 И мы так же, ярко и отчетливо вместе с Толстым наблюдаем, «видим Пьером»: сражение было таково, как его увидел Пьер. На нас действует сила волшебного правдиво-сочиненного слова, заставляющая нас верить в изображаемое настоящее. Мы верим – и смотрим прямо в отверстый ад, где ходят и управляют всем одни только массы огня, сгустки плазмы – в них мечутся уже не всадники, и дерутся не солдаты, не персонажи книги. Они вне книги, действуют в ином времени, более чем реальном. Поход Пьера на Бородинское поле был центральной затеей толстовского плана. Это был эпицентр авторского замысла. Самое сложное и тонкое место: масштаб Бородинского события требовал приема необыкновенного. Прием был применен: в пространстве романа-воспоминания, посреди химер и грез центральное место заняла максимально возможная выдумка. Иначе и быть не могло. Сам Толстой не выдумывал ничего. Он просто подробно, с психологической достоверностью записал, как «вспоминает» Бородинское сражение Пьер Безухов. Он отпустил на волю им созданный персонаж, неуклюжего, толстого, шепелявого человека, человек сочинил невозможное – минус на минус дал плюс: все обернулось правдой. Более чем правдой. Это обернулось предметом веры – мы верим в то, что он там был, и верим, что все так и было на Бородинском поле. Получилась победа совершенная. Миф о непобедимости французов был поколеблен, Андрей Болконский пал: его фигуру (офицера? белого слона?) шахматист Пьер смахнул с доски и выдвинул вперед свою, королевскую, главнейшую. Один его шаг, на одну клетку – из Москвы в Бородино – перевернул всю партию. Он победил. Всех победил Толстой. Я стоял у окна, смотрел на листья лип; дыхание мое от восторга пресекалось. Версия самая безумная, родившаяся из праздных юношеских размышлений – «что-то не так с князем Андреем, автор с ним несправедлив, он издевается, он смеется над ним» – вдруг вывернула роман, точно чулок, наизнанку. И это безумие на глазах делалось правдой: 18 да, именно так и был написан этот роман, начиная от сцен малозначащих до самой главной, бородинской, центральной: все вспомнил Пьер. XIII Так началось мое исследование; как его назвать – историческим, литературным? Ни тем, ни другим. Оно началось незаметно для самого исследователя. Некоторые действия, мной предпринятые, как будто походили на научный поиск – только походили! это длилось недолго. Далее было вот что. Версию, пусть и поспешную, тем более такую, совершенно невероятную (все вспомнил Пьер), следовало проверить, для того хотя бы, чтобы ее опровергнуть. Также, порядка ради, перечитать роман не мешало, а то что это – стоя у окна, вспоминать, что когда-то было читано в школе? Я взялся было за роман, но скоро так зачитался, что в скоро забыл о проверке. Опомнился, оставил чтение. Композицию романа-воспоминания за четырьмя томами «Войны и мира» различить было невозможно. Кстати, тогда же явилась мысль довольно здравая (все же исследователь, справившись с первым волнением, старался сохранять хладнокровие). Мысль была такова: таким – все вспомнил Пьер – мог быть не весь роман, а только его з а м ы с е л. В самом деле, так было легко задумать роман, «увидев» его заранее целостной (перевернутой) композицией: растущей с конца, из эпилога. Так можно было бы расставить все акценты, определить характеры героев и рисунок их отношений. Также основные части книги выстраивались простым и логичным образом. Допустим, весь роман изначально был видением, игрою памяти – Толстого и Пьера. Затем он стал просто романом, выстроился хронологически правильно, из 1805 в 1820 год, и первоначальная композиция (воспоминания) в нем растворилась. Замысел, чертеж романа с центром в голове Пьера остался за страницами книги, под ними. Так различить чертеж воспоминания было невозможно. 19 Но такая простая мысль, такое ясное решение: «все вспомнил Пьер»! Быть того не могло, чтобы она осталась незаметна. Толстой изучен вдоль и поперек; роман-воспоминание кто-нибудь непременно расшифровал. Мне непременно хотелось найти подтверждение своей нечаянной находке. Я уже гордился ею. Я полез в другие книги – о нем. Почему-то с этого момента я не думал Толстой, но большей частью он. Так в его романе русские говорят о неприятеле: не войско, не французы – он. Полез в книги, в доме нашел несколько обозрений, пару «Историй литератур», что-то еще среди бумажных залежей, справочник и две биографии. Ничего о романе-воспоминании не нашел. Зато нашел другое: несколько малых фактов. Отдельно друг от друга они не представляли ничего особенного, но, собранные вместе, и еще положенные поверх версии о воспоминании, эти факты составили композицию, которая завершила мое первое построение закономерным, и вместе с тем неожиданным образом. Даже так: обескураживающим, невероятным образом. Три малых сообщения. На самом деле их было больше, но из всех можно выделить три, здесь этого будет достаточно. Что-то мне было уже известно, какой-то предварительный набросок «открытия» был уже в памяти наведен. Вот они, три сообщения. XIV Первое. Одно из ранних сочинений Толстого называлось «Мой вчерашний день»8. Не столько сочинение, сколько упражнение: описать в мельчайших подробностях один день своей жизни. Описать все события, за этот день произошедшие, все мысли по поводу этих событий, а также явившиеся безо всякого повода, и к ним вдобавок все воспоминания, ассоциации и мечты: все буквально. Несколько раз Толстой предпринимает попытку Сообщают разное: Толстой пробовал описать свой вчерашний день в семнадцать, девятнадцать и двадцать три года. Смутно говорится, что эти опыты начались еще в детстве. Описать максимально подробно один день своей жизни было навязчивой мыслью автора. 8 20 такого тотального письма, и терпит неудачу. Вывод сделан им самим: невозможно описать один день из жизни человека полностью, без изъятий. Не хватит ни бумаги, ни чернил, если только речь идет о человеке мыслящем, склонном к рефлексии, у которого одна мысль цепляет другую, та третью, затем их является легион и так далее. Не хватит и ста томов – день в них не поместится. И все же Толстой делает несколько подобных попыток, причем последние в возрасте уже зрелом. Он пытается описать один день из жизни офицера на Кавказе (крах), и, по смутным сведениям, один день из жизни праздного молодого помещика (полный крах). Отголоски этих опытов можно найти в кавказской прозе Толстого и «Утре помещика». Похоже, что не исполненное в юности задание с ним осталось, над ним повисло дамокловым мечом. Неудач он не терпел и был упрям невероятно. Он продолжал попытки тотального письма, пробы нового текста, в котором слово со временем могли быть совершенно сплочены. Таково было первое сообщение: Толстой не только в юности (об этом я что-то слышал раньше) но и много позже, став признанным писателем, продолжил опыты тотального письма, терпел неудачи, но не оставлял поисков. Юношеское задание оставалось в силе – обнять словом, представить в слове всю полноту существования человека. Второе. Во время поездки в Европу (1857), в Швейцарии, в Люцерне со Львом Толстым произошел следующий случай. Вечером в гостинице он стоял у окна и наблюдал Альпы9. Горная гряда отражалась в озере, также и небо было «удвоено» – оно было сверху и снизу. Верх и низ пейзажа были полны звезд. Внезапно Толстой пришел в состояние, близкое ясновидению. Вся жизнь нарисовалась перед его внутренним взором совершенной фигурой, притом Альпы для русских писателей на протяжении долгого времени были местом паломничества наподобие религиозного. [Позже я выяснил: паломничество в Альпы в конце XVIII века организовали русские масоны.] Начиная от Карамзина, молившегося на Рейхенбахский водопад, едва не каждый из них находил для Альп слово самое возвышенное. Эти горы для них были точно ледяной иконостас, или механизм, соединяющий землю с небом, низкое поднимающий к высокому. Как будто в Швейцарии идеальное устройство вселенной выходило из теснин земли и являло себя человеческому взору. Казалось, этот механизм мог быть расчислен – русские паломники прилежно считали. Расчеты имели характер сакральный: альпийский рецепт должно было везти в Россию и там с его помощью налаживать идеальную, гармоническую жизнь. Вместе с лучшими часами русские находили здесь лучших учителей (для Карамзина первым был Лафатер), словно тамошние учителя были часовщиками человеков; к ним посылали сыновей, от них везли в Россию положительных литературных героев. Достоевский вывел отсюда князя Мышкина, Толстой – Пьера. 9 21 не одна его жизнь, но жизнь вообще, в виде паутины расходящихся во все стороны невидимых связей родства. Преломление небес в зеркале воды было только одной из форм этой всеобщей фигуры; звезды были крайние точки по контуру фигуры, их также связывала бесконечная паутина родства. Все было связано со всем, чудная паутина пронизывала весь мир, всю толщу времен. Сам Толстой помещался в центре рисунка, через него текли слова и смыслы; он был весь растворен в этом рисунке. Нервы его напряглись: они также проникали мир, возвращая наблюдателю ощущения вселенские. Восторг, переполнивший Льва Николаевича, напомнил о детстве. Дух его захватило, он едва не лишился чувств. В одно мгновение он провидел и понял всю жизнь. Это переполненное мгновение он запомнил; забыть такое было невозможно. О нем, о переполненном мгновении было второе сообщение. И третье, самое простое. В процессе работы роман несколько раз менял название, одно из них мне показалось весьма многозначительно: «Все хорошо, что хорошо кончается». XV Итак, три сообщения. Первое: Толстого занимают опыты тотального письма, такого письма, которое могло бы адекватно передать все, что происходит с человеком за определенный отрезок времени. При этом один день, как отрезок времени, оказывается слишком велик для такого рода письма. Второе: сам Толстой пережил однажды состояние, когда за определенный отрезок времени (за одно мгновение) ему отворились мир и вся жизнь, притом не в виде хаоса, но в виде стройной живой структуры, гармонической системы, напоминающей своим видом, предположим, гряду Альп. И третье: все хорошо, что хорошо кончается. Я намеренно подчеркиваю арифметические составляющие: они сходятся в формулу простую и очевидную. 22 Далее совсем просто: я открываю роман — в самом конце, по точно указанному адресу, там, где в эпилоге все хорошо кончается, ищу последнюю сцену — самую последнюю из тех, где участвуют персонажи романа (после чего еще на пятьдесят страниц следует вторая часть эпилога, в которой идут рассуждения, суть которых я разобрал много позже, а пока меня интересуют герои, и как хорошо все заканчивается у них), читаю эту сцену, и вижу следующее. Пьер Безухов, тот именно герой, что до семнадцати лет возрастал в Швейцарии и учился у часовщика человеков, стоит у окна. За окном Россия, зимняя ночь, и звездами осыпан снег. Пьер разговаривает с Наташей. Разговор пестрый, супруги говорят невпопад и понимают друг друга совершенно (что в понимании Толстого есть прямой признак счастья): Пьер о мировой гармонии, о братстве добрых людей, Наташа о ребенке, который только что прятался от няни у нее на груди. Таково заключительное мгновение романа. Оно настолько важно и показательно, что его стоит расписать подробнее. В это мгновение в нижнем этаже Николушка, сын Андрея Болконского, смотрит сон, в котором различает будущее. Это б у д у щ е е в р е м я помещается у Толстого в один большой абзац. Одновременно Наташа говорит о ребенке; его уже унесла няня, но Наташа как будто по-прежнему видит его, суживаясь мысленным взором в точку на своей груди. Только что в этой точке «прятался» ее сын (прижимался к матери лицом, и ему казалось, что его не видно). Маленький Петр, Пьер малый – точка н а с т о я щ е г о, «Наташиного» времени. О настоящем времени еще один абзац, совсем небольшой, три или четыре строки. В это же мгновение Пьер Безухов, Пьер большой, словно расширяясь от этой малой точки настоящего времени, от Пьера малого в бесконечность – видит весь мир: Наташу, окно с альпийским сугробом, за сугробом всю Россию, за Наташей их общее п р о ш л о е, сумму ярких и живых воспоминаний о мире и войне. Это весь роман. 23 Пьер переживает переполненное мгновение, которое в свое время пережил сам Толстой. Ясновидение, некогда со всей силой потрясшее автора, настигает его – мир открывается ему в единстве, в паутине невидимого родства. В секундном рое интуиций, ассоциаций, но в первую очередь в сумме воспоминаний: в них всех и заключается роман «Война и мир». Из последнего мгновения повествования выпущен этой рой: из одной малой точки в конце эпилога: отсюда разворачивается не просто романвоспоминание, композицию которого я искал, но роман-воспоминание-водно-мгновение. «Война и мир» есть тотальное, изложенное во всех подробностях описание одной секунды жизни Пьера Безухова. Не дня, на который не хватило бы ни бумаги, ни чернил, не даже минуты, но только мгновения. И опять – я только договаривал про себя эту невозможную мысль, а уже верил в нее безусловно. Теперь картины из романа, высвечиваемые в памяти, сходились в одну с еще большей логикой и достоверностью. И уже не нужен был ревнивец и мститель Пьер, ничего он был не ревнивец, по крайней мере, не расчетливый холодный ревнивец, но человек живой и полный чувств, способный – кто на это не способен? – на одно мгновение позволить себе ревность и пересочинение жизни. Роман про одну секунду! Голова моя пошла кругом, листья лип за окном (июль все длился) отекли зеленым лаком, дом напротив порозовел и точно осветился изнутри. Москва мне улыбнулась: в этом виделось – так показалось мне тогда – одобрение первого нечаянного опыта… 24 Так начиналась эта история, которая затем не раз развернулась и перевернулась, и, как было сказано, стала совершенно серьезна. Один эпизод хотелось бы вспомнить. Однажды в музее Толстого на Пречистенке — этот адрес в исследовании-преследовании Л.Н. я пропустить не мог — мы говорили о «главном фокусе» Толстого со специалистом-толстоведом, главным хранителем музея, заведующей знаменитой стальной комнаты, где хранятся рукописи писателя. Она выслушала меня очень внимательно и, в отличие от моих прежних слушателей, не удивилась, не возмутилась, не восхитилась, чем меня, кстати, очень порадовала. Мы сразу заговорили серьезно. Ваша версия, сказала она, интересна, прежде всего, своей лаконичностью. Суть ее — роман-воспоминание, роман-озарение — близка к тому, что говорила нам когда-то Эвелина Ефимовна Зайденшнур, виднейший текстолог, главный расшифровщик толстовских рукописей. Зайденшнур также выстраивала роман ретроспективно, от конца к началу. К этому ее подвигло многолетнее сличение вариантов романа, который за семь лет работы не раз кардинально менялся. Разумеется, она не могла вслух говорить о таком в советские годы — Толстой и роман-озарение! — и поэтому сообщала об этом нам, молодым работникам музея, шепотом и по большому секрету. Она, кстати, много секретничала с Сергеем Бондарчуком, снимавшем в свое время на Мосфильме свою бессмертную эпопею… — Позвольте! — воскликнул я, — об этом мне тоже хотелось бы поговорить. Я смотрел этот фильм много раз, благо, техника теперь это позволяет, и пришел к убеждению, что Бондарчук знал «главный секрет» Толстого и потому снимал не просто фильм, а фильм-озарение. 25 — Да-да, — отвечала ученая дама, — очень похоже, что так оно и было. Зайденшнур была его главным консультантом. — Но в титрах нет ее фамилии. Ответом мне были разведенные руки: стоит ли удивляться тому, что в наших титрах порой обозначаются не все фамилии, даже такие, по сути, ключевые. Этот эпизод показался мне очень важным. В нем заключено второе сообщение о романе Толстого, которое в определенном смысле не уступает в своем значении первому. «Война и мир» не просто роман о чуде — чуде мгновенного раскрытия памяти, которое отворяет нам потенциально большее пространство времени. Это роман религиозный в самой своей конструкции и потому, по сути, «табуированный». Именно так: на него наложено табу самое своеобразное: слишком много правды он может сообщить об основах нашего сознания — современного, посттолстовского. Сам Лев Толстой начал в свое время эти занятные прятки, странным образом ожидая и одновременно отторгая возможные расшифровки своей «импрессионистической» композиции (роман в одно мгновение). Несомненно, он понимал, что имеет дело с сюжетом скрыто сакральным, и оттого не во всех своих частях годным к открытой публикации. Все это очень интересно, оттого уже, что не вполне раскрыто, сохраняется в зоне любопытного и одновременно весьма характерного литературного умолчания, — сохраняется вне-аналитически, интуитивно, «слепо», как и положено в отношении предмета веры. Таково второе сообщение о романе, в самом деле, не уступающее в значении первому, «студенческому». Мы по-прежнему веруем в этот роман, обращаемся с ним как с «Библией» отечественного изготовления, принимаем или отрицаем его с религиозным чувством, даже если вовсе о нем не думаем. Он требует нового разбора, нового круга размышлений и обобщений, на который мы, возможно, еще готовимся выйти. 26