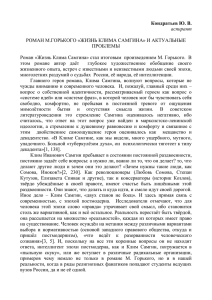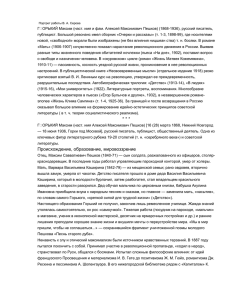Е. Г. Белоусова СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА «ЖИЗНИ КЛИМА САМГИНА»: К ВОПРОСУ
реклама
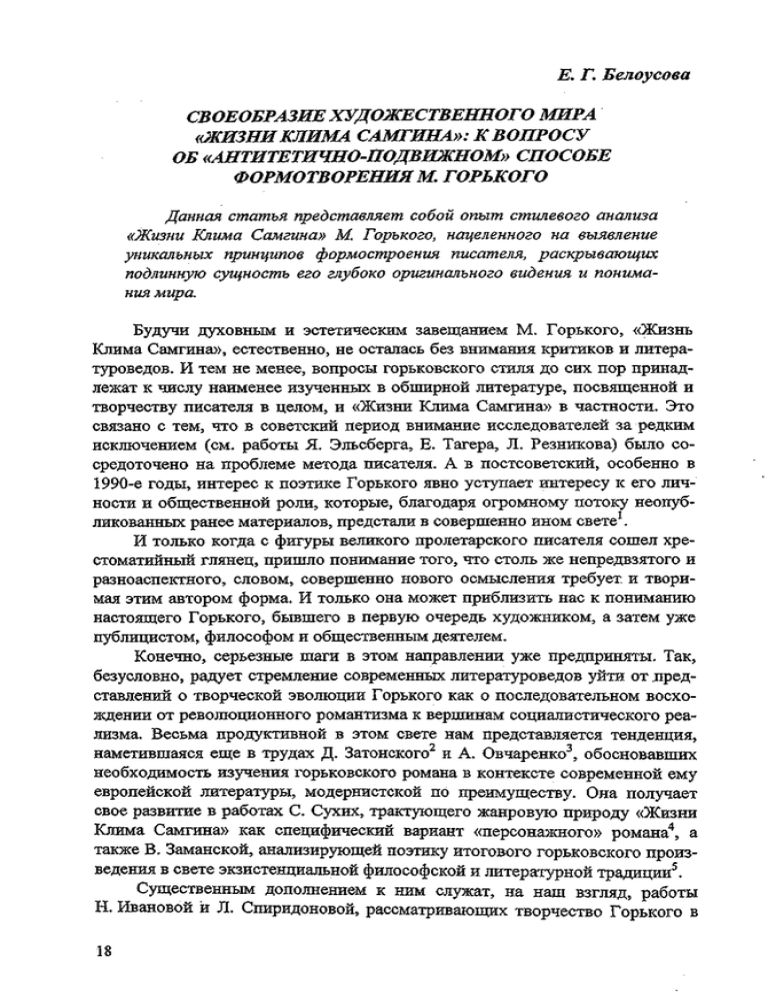
Е. Г. Белоусова СВОЕОБРАЗИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА «ЖИЗНИ КЛИМА САМГИНА»: К ВОПРОСУ ОБ «АНТИТЕТИЧНО-ПОДВИЖНОМ» СПОСОБЕ ФОРМОТВОРЕНИЯ М. ГОРЬКОГО Данная статья представляет собой опыт стилевого анализа «Жизни Клима Самгина» М. Горького, нацеленного на выявление уникальных принципов формостроения писателя, раскрывающих подлинную сущность его глубоко оригинального видения и понимания мира. Будучи духовным и эстетическим завещанием М. Горького, «Жизнь Клима Самгина», естественно, не осталась без внимания критиков и литературоведов. И тем не менее, вопросы горьковского стиля до сих пор принадлежат к числу наименее изученных в обширной литературе, посвященной и творчеству писателя в целом, и «Жизни Клима Самгина» в частности. Это связано с тем, что в советский период внимание исследователей за редким исключением (см. работы Я. Эльсберга, Е. Тагера, Л. Резникова) было сосредоточено на проблеме метода писателя. А в постсоветский, особенно в 1990-е годы, интерес к поэтике Горького явно уступает интересу к его личности и общественной роли, которые, благодаря огромному потоку неопубликованных ранее материалов, предстали в совершенно ином свете 1 . И только когда с фигуры великого пролетарского писателя сошел хрестоматийный глянец, пришло понимание того, что столь же непредвзятого и разноаспектного, словом, совершенно нового осмысления требует, и творимая этим автором форма. И только она может приблизить нас к пониманию настоящего Горького, бывшего в первую очередь художником, а затем уже публицистом, философом и общественным деятелем. Конечно, серьезные шаги в этом направлении уже предприняты. Так, безусловно, радует стремление современных литературоведов уйти от .представлений о творческой эволюции Горького как о последовательном восхождении от революционного романтизма к вершинам социалистического реализма. Весьма продуктивной в этом свете нам представляется тенденция, наметившаяся еще в трудах Д. Затонского2 и А. Овчаренко3, обосновавших необходимость изучения горьковского романа в контексте современной ему европейской литературы, модернистской по преимуществу. Она получает свое развитие в работах С. Сухих, трактующего жанровую природу «Жизни Клима Самгина» как специфический вариант «персонажного» романа 4 , а также В. Заманской, анализирующей поэтику итогового горьковского произведения в свете экзистенциальной философской и литературной традиции 5 . Существенным дополнением к ним служат, на наш взгляд, работы Н. Ивановой и Л. Спиридоновой, рассматривающих творчество Горького в 18 аспекте его Мифопоэтических представлений, доказывая нерасторжимую 6 связь художника с национальной духовной традицией . В особый ряд вынесем исследования, представляющие собой интересный и смелый анализ отдельных граней поэтики «Жизни Клима Самгина». Своеобразие хронотопа горьковского романа, например, детально анализи7 руется В. Ворониным , его жанровый аспект, помимо С. Сухих, оказывается 8 объектом пристального внимания М. Ермаковой . Образная система и лейтмотивная организация «Жизни Клима Самгина» активно и разносторонне 9 10 изучается Л. Колобаевой и М. Голубковым , стилистический аспект — 11 В. Полыскаловым и т. д. Все это представляется нам крайне важным и необходимым направлением развития современного горьковедения, поскольку воссоздание целостной стилевой картины творчества позднего Горького невозможно без опоры на множество точных частных наблюдений за его формой. И в то же время мы убеждены, что те или иные особенности горьковской поэтики, взятые сами по себе, вне их направленности к универсальной художественной закономерности, обусловливающей их появление и взаимодействие в тексте, не позволяют проникнуть в содержательные глубины творимой автором формы. А такая структурная закономерность, обнаруживающая себя в самых различных слоях авторской поэтики и собирающая ее воедино, иными словами, уникальная «формула» стиля Горького и его итогового романа, открывающая само существо его концепции мира и человека12, до сих пор не найдена. На наш взгляд, глубоко оригинальный стиль «Жизни Клима Самгина» в общих своих чертах достаточно зримо проявляет себя уже в горьковских рассказах 1922-1924 годов13, вызвавших у читателя ощущение абсолютно другого, незнакомого им Горького. И вместе с тем он вбирает в себя многое из тех художественных достижений, которые отличали творческую манеру писателя и в более ранних его текстах. При этом заметим, что крайняя «неровность» движения горьковского стиля, знающего моменты не только резкого отталкивания, но и «возвращения» к уже освоенным ранее формам14, представляется нам далеко не случайной и глубоко органичной уникальной личности художника. Сотканная из множества противоречий, «конфликтующих» и между собой, и в каждой своей крайности, она всегда была не только многомерной, но и необычайно изменчивой*, что неоднократно отмечалось современниками Горького. А в условиях 1920-1930-х годов, особо драматичных как в судьбе России, так и в частной жизни писателя, его внутренняя «пестрота» и личностная нестабильность максимально заостряются. Не случайно общим местом мемуарной литературы и публицистики тех лет становится тема «двурушничества» Горького15, обнажившая самое сущностное противоречие его крайне далекого от стройной системы мировоззрения. Имеется в виду невозможность отказа художника от революции, ставшей для него мечтой о творческом преобразовании мира, и безоговорочного ее принятия, означающего принятие и той несвободы, которую она с собой несет. Здесь и далее, в том числе в цитатах, выделено автором. — Е. Б. 19 Все вышесказанное заставляет писателя (с мировым именем!) мучительно искать принципиально иную форму, более созвучную и новому, чрезвычайно непростому состоянию мира, и своему в высшей степени трагическому его переживанию. Ее сверхсложная структура, вполне сопоставимая с бунинским или набоковским стилями и в то же время ясно различимая в ряду стилевых образований, рожденных литературно-художественным сознанием рубежа 1920-1930-х годов, складывается в результате взаимодействия противонаправленных стилевых тенденций, которые не исключают друг друга, а переходят одна в другую, открывая неоднозначность видения и изображения мира автором. Эти доминантные, проявляющие уникальную — «антиномично-подвижную» — природу стиля «Жизни Клима Самгина» тенденции видятся нам как тенденции определенности, заострения наиболее значимых граней изображаемого предмета и — неопределенности, обнаруживающие себя в целенаправленном движении автора к максимальному обнажению глубинных противоречий бытия и в то лее время в уходе от жесткой и схематичной его биполярности. А также — как тенденция «собирания» многого и подчеркнуто разного воедино и противоборствующая ей тенденция разрушения. Их невероятно тонкое и гибкое переплетение со всей очевидностью проступает в образе мира, творимом Горьким на станицах своего романа, мира, изначально двойственного. Пропущенный сквозь призму индивидуального сознания главного героя, он оказывается вполне достоверен и в определенной мере, как справедливо замечает С. Сухих, даже «независим» от Самгина16, наделенного автором не только редкой наблюдательностью, но и абсолютной внутренней пустотой, свидетельствующей помимо всего прочего об элементарной неспособности героя наполнить увиденное собственным содержанием. А это значит, что все, что мы видим в романе, отражает мировосприятие не только Клима, но в немалой степени и самого автора. При этом не менее значимым оказывается и другая особенность самгинского сознания — его направленность на выявление наиболее сущностных черт в наблюдаемом явлении, позволяющая Горькому не просто воссоздать правдивую картину современного ему бытия, но безжалостно обнажить его принципиальную «несобранность» и дисгармоничность. Все эти свойства большого мира с исчерпывающей ясностью .открываются в хронотопе «Жизни Клима Самгина» и открываются не только через слово героя, занимающее доминантное положение в многосоставном и разнородном речевом потоке автора, но и через слово других персонажей и слово повествователя. Одними из отличительных его признаков оказываются беспредельная широта и подчеркнутая дробность изображаемой действительности, возникающие в результате включения в текст бесконечного множества отдельных топографических точек, детально описываемых или просто упоминаемых автором. Москва, Петербург, Старая Русса, Нижний Новгород, Выборг, Берлин, Дрезден, Мюнхен, Париж и т. д. — вот те «куски» и «осколки», из которых Горький складывает гигантское мозаичное полотно художественной реальности свого романа. 20 При этом оказывается, что, несмотря на свою обособленность, каждый из этих пространственных локусов несет в себе доминантное свойство целого мира — его хаотическую «пестроту». И в наибольшей степени это демонстрируют два столичных российских города — Петербург, названный Мариной Премировой «многоликим городом», и Москва, обнаруживающая в восприятии Самгина сходство с чудовищным «пестро раскрашенным пряником». Сходство, надо сказать, далеко не случайное, о чем говорит неоднократное появление мотива пестроты при последующих описаниях московской реальности в романе, принадлежащих к тому же различным субъектам речи: «Город напоминал старое, грязноватое и местами изорванное одеяло, 17 пестро покрытое кусками ситцев» ; «Нелепый город, точно его черт палкой помешал» [22; 119] и т. п. Ощущение масштабности создаваемого Горьким мира усугубляет его принципиальная открытость. Не случайно в пейзажных зарисовках «Жизни Клима Самгина» настойчиво повторяется наречие «вдаль» («вдали»), а в урбанистических описаниях явно доминируют улицы и площади, чаще всего пустынные и безлюдные. Например: «Пустынная улица вывела Самгина на главную, — обе они выходили под прямым углом на площадь» [23; 168]. Или: «День уже догорал, в небе расположились полосы красных облаков, точно гигантская лестница от горизонта к горизонту. Это напоминало безлюдную площадь...» [23; 58]. Так бескрайняя широта романного топоса оборачивается абсолютной его пустотой, высвечивая принципиальную для горьковской концепции мира мысль о нерасторжимой связи общественного и индивидуального бытия. Нерасторжимой настолько, что допускает взаимозаменяемость «внешнего» и «внутреннего» миров, точнее — «инверсию внутренней и внешней пустоты», выразившую, как справедливо пишет В. Воронин, обратную логику ре18 волюционнои эпохи и, что не менее важно, крайнюю неоднозначность мировоззрения самого писателя. Именно поэтому весьма заметная и в произведениях других авторов (например, в супрематической композиции К. Малевича «Белое на белом») в художественном полотне Горького данная метаморфоза обнаруживает себя не только по-своему, но и с особой силой. Достаточно вспомнить заглавие и подзаголовок.романа, где автор решительно ставит рядом абсолютный ноль и бесконечность — «Жизнь Клима Самгина (Сорок лет)». И надо признать, что последующий исторический опыт России в точности подтверждает страшную догадку художника о том, что опустошающая эпоха не может не порождать «пустых» душ, окрашенных, как Самгин, в серые (т. е. бесцветные) тона. А те в свою очередь оказываются причастны к сотворению такой же «пустой» истории и «пустого» мира. «Пустого» как в иносказательном смысле, т. е. чужого, равнодушного к участи человека, как равнодушен ко всему, что его окружает, Клим Иванович Самгин, так и в буквальном. Подобная перспектива отчетливо просматривается в размышлениях горьковского героя о пользе классовой теории, которая позволит ему «по21 нять и — даже лучше того — совершенно устранить из жизни различных кошмарных людей, каковы дьякон, Лютов, Диомидов и подобные» [21; 452]. К сказанному выше добавим, что пустота художественного пространства «Жизни Клима Самгина» вовсе не противоречит пестрому многообразию создаваемого автором мира, а наоборот, является естественным ее продолжением. Ведь хаотическое множество стран, городов, домов, где существует неисчислимое количество людей, при каждом удобном случае рассыпается на ряд отдельных предметов и явлений, обнаруживая свою неспособность сложиться в неоднородную, но внутренне согласованную и гармоничную целостность, подобную той, что мы видим, например, в «Жизни Арсеньева» Бунина. Отсюда — высокая концентрация в тексте произведения глаголов с семантикой разъединения, а также многократно повторяющиеся «рваные» образы облаков, туч и снежной пелены, свидетельствующие о том, что дробность и несвязность в равной мере присущи в «Жизни Клима Самгина» как пространству города, так и природному миру, как земному бытию, так и небесным сферам. Например: «Клочковатые черные облака двигались над городом...»; «В темноте колебалась сероватая масса густейшего снега, создавая впечатление ткани, которая распадается на мелкие клочья» [22; 66, 477]. Таким образом, становится очевидным, что отчетливо проявленная в тексте оппозиция «верх» / «низ» вовсе не является смыслообразующей. Более того, художник целенаправленно уходит от жесткой разнополюсности творимого им мира, самыми различными способами подчеркивая причудливое сплетение и перетекание в нем одной крайности в другую. Одним из них становится совмещение противоположных ракурсов в описании действительности: «Впереди него, из-под горы, вздымались молодо зеленые вершины лип <.. .>; далее все обрывалось в голубую яму, — по зеленому ее дну, от города, вдаль, к темным лесам, уходила синеватая река» [23; 251]. Как видим, горизонталь здесь трансформируется в вертикаль, включая в поле зрения повествователя сразу и верх, и низ, что максимально расширяет его кругозор, а вместе с тем обнаруживает принципиальную сложность и неоднозначность изображаемой реальности, требующей восприятия одновременно с самых разных точек зрения, но при этом начисто лишенной какой-либо целостности. Особо отметим, что «разорванный» и одновременно «спутанный» характер романного топоса открывается буквально с первых строк «Жизни Клима Самгина»: «Муж на минуту задумался, устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали и ледоход на реке и мохнатые кочки болота» [21; 9]. Нетрудно заметить, что они задают взаимооборачиваемость не только верха и низа (образы облаков и реки), но также динамики и статики (образы реки, ледохода и болота), имеющих принципиальное значение для понимания специфики общественного и индивидуально-личностного существования в условиях предреволюционного времени. .22 В подтверждение сказанному обратимся к одним из ключевых эпизодов «Жизни Клима Самгина» — Ходынке и Кровавому воскресенью, где пересечение исторического и экзистенциального планов, на наш взгляд, получает особенно наглядное воплощение. В обоих случаях мы смотрим на происходящее глазами Самгина, однако в первом эпизоде его внимание в большей мере сосредоточено на трансформациях, которые претерпевает людская толпа. Сначала она представляется Климу «плотно спрессованной икряной массой», в которой едва различаются «чуть заметные колебания икринок». И даже если что-то порой «вспухало», как пишет автор, над этой массой, то «быстро тонуло в их вязкой густоте». Но затем в сознании героя вдруг возникает мысль о том, что если эта «масса внезапно хлынет в город, — улицы не смогут вместить напора темных потоков людей, люди опрокинут дома <.. .>, сметут весь город, как щетка сметает сор» [21; 468]. Таким образом, предваряя большевика Кутузова, убежденного в ценности самых незначительных «речушек» общественного движения, которые, «вытекая из болот» [22; 320], способны создать мощные, сметающие все преграды реки, Самгин предсказывает ход российской истории. А вместе с тем — и финал горьковского романа, где превращение «болота» в сокрушительный «поток» предстает уже свершившимся фактом: «Толпа идет ... тысяч двадцать ... может, больше, ей-богу! <...> Девятый вал, черт, его ...» [24; 562]. И в то же время ходынская давка с необычайной отчетливостью высвечивает возможность обратной метаморфозы, ведь то, что представлялось «рекой», на самом деле оказывается настоящей «трясиной», затягивающей человека, размывающей его индивидуальность, и даже «расчеловечивающей», пробуждающей в нем чисто зоологические инстинкты. При этом крайне важно, что данную точку зрения в романе высказывает не только Самгин, в глазах которого любое людское множество с детства приобретало «болотные свойства», но и другие, совершенно несхожие между собой персонажи. Например — революционно настроенный студент Маракуев и индивидуалист Диомидов, одинаково потрясенные бесчеловечностью толпы: «Человек лежит, а на него ставят ноги, как на болотную кочку! Давят ... а? Живой человек» [21; 473]. Таким образом, само построение сцены убеждает нас в том, что в поле зрения Горького оказывается не только прямая перспектива исторического процесса, предполагающая безостановочное движение вперед, но и обратная, позволяющая разглядеть в нем некий замкнутый цикл, своеобразный бег на месте. Возвращаясь же к Самгину и его восприятию особо значимых для истории России событий, заметим, что в сцене Кровавого воскресенья он поглощен уже, не столько ими, сколько собственными переживаниям по их поводу. Но и они представляют собой все то же парадоксальное переплетение совершенно несоединимых ощущений — стремительного движения и абсолютной неподвижности: «Совершенно необъяснима была мучительная мед23 ленность происходящего, — глаза видели, что каждая минута перенасыщена движением, а все-таки создавалось впечатление медленности» [22; 551]. Так вырисовывается еще одна характерная особенность необычайно сложной картины мира, реализованной Горьким в «Жизни Клима Самгина» — ее непреодолимая противоречивость и неоднородность, ощущаемая даже в одной временной точке. Причем неупорядоченность и неустойчивость личного существования Самгина, его внутреннего пространства в изображении художника оказываются удивительно родственными тому дисгармоничному, колеблющемуся состоянию, в котором пребывает в романе внешний мир и всеобщее бытие, что позволяет сделать вывод о «взаимообратном расширении и сужении исторического и мысленного (т. е. личного. — Е. Б.) хронотопов»19 в горьковском романе. Однако в отличие от В. Воронина, увидевшего в двунаправленном встречном движении этих миров один из основополагающих признаков пространственной организации «Жизни Клима Самгина», мы расцениваем его как наглядное свидетельство интенсивной «работы» всего авторского стиля, целенаправленно проявляющего в тексте свою уникальную разнонаправленную сущность. Ее результатом становится подлинно авторская картина мира, проступающая в тексте романа сквозь «полотно» жизни, творимое Самгиным, с которым она, как мы могли убедиться выше, во многом сходится, но еще решительней расходится, оказываясь гораздо сложней и многогранней. Достаточно вспомнить, что наряду с блеклыми, практически бесцветными зарисовками природы, выполненными Горьким в духе своего героя, в «Жизни Клима Самгина» встречаются и совершенно другие — яркие, сочные или, наоборот, нежные и утонченные, но в любом случае совершенно не самгинские — описания действительности. Например: «Он пошел в сад. Там было уже синевато-темно; гроздья белой сирени казались голубыми. Луна еще не взошла, в небе тускло светилось множество звезд. Смешанный запах цветов поднимался от земли. Атласные листья прохладно касались то щеки, то шеи» [21; 287]. А это значит, что в изображении Горького мир предстает и в своей бесконечно возрастающей сложности, и в подлинном богатстве одновременно. Он принципиально многогранен и разнообразен, он вызывает самые разные, но обязательно сильные чувства — от категорического неприятия до восхищения, в то время как в восприятии Клима жизнь скучна, бедна и удручающе однообразна. Об этом свидетельствует и само слово героя, раскрывающее сущность бытия и одновременно снижающее его: «Жизнь превращается в однообразную бесконечную драму»; «...жизнь напоминала Самгииу бесконечную работу добродушной и глуповатой горничной Варвары, старой девицы, которая очень искусно сшивала на продажу из пестреньких ситцевых треугольников покрышки для одеял» [22; 573,461] и т. п. А самое главное, образ мира, открывающийся в слове повествователя, наиболее активно выражающем в тексте авторскую точку зрения, необычайно динамичен: он меняется буквально на глазах и стремительно несется на- 24 встречу своему «завтра». Этот невероятно ускорившийся ритм бытия особенно ощутим в последней книге «Жизни Клима Самгина», где заметно усиливается концентрация глагольных форм с семантикой движения. А само движение не только нарастает («Время шло с поразительной быстротой...»; «...жизнь кипела все более круто» [24; 455, 481] и т. п.), но и ширится, вовлекая в свой вихрь все сущее на земле. Например: «...с моря влетал сырой ветер, предвестник осени, гнал над крышами домов грязноватые облака, как бы стараясь затискать их в коридор Литейного проспекта, ветер толкал людей в груди, в лица, спины, но люди, не обращая внимание на его хлопоты, быстро шли навстречу друг другу, исчезали в дворах и воротах домов»; «...огромное, пестрое, тяжелое отечество наше неуклонно, всей массой двигается по наклонной плоскости, скрипит, разрушается» [24; 512, 524] и т. п. И только Клим Самгин стоит на месте, выпадая из стремительного потока всеобщего бытия, что неустанно акцентирует «внешнее» по отношению к герою горысовское слово: «всматриваясь сверху в лицо толпы», «глядя изза косяка окна», «обходя толпу, перешел на мостовую»; «наблюдал издали, из-за углов» и т. п. Как видим, каждый раз Клим оказывается где-то «рядом», «сбоку» от основных событий, пытаясь отстраниться, а то и попросту убежать от того, от чего в принципе уйти невозможно, ибо это и есть жизнь. И вновь горьковская поэтика, последовательно уходящая в «Жизни Клима Самгина» от назидательности и категоричности суждений, решительно проявляет свой новаторский голос. Ведь даже пассивность своего героя, по-человечески совершенно не приемлемую для Горького , художник оценивает неоднозначно. Не случайно особую концептуальную и стилевую значимость в четвертой книге «Жизни Клима Самгина» приобретают существительное «самооборона» и наречие «мимо», проявляющее суть позиции героя «изнутри» (в его собственном понимании) и со стороны (с точки зрения повествователя, а вместе с ним и автора). А самое главное, они в очередной раз высвечивают «неготовость» художественной вселенной Горького, предполагающей колеблющийся, разнонаправленный характер движения «малого», самгинского и «большого», всеобщего миров, которое оказывается не только встречным (о чем говорилось выше), но и «разводящим» их как два непримиримых полюса. Отсюда — стремлению Самгина уклониться от взаимоотношений с миром, его «ограничительных и тлетворных влияний» в романе противостоит решительное неприятие и даже отторжение героя окружающей его действительностью. Причем по мере развития повествования это неприятие явно нарастает, переходя в откровенную агрессию: «У входа в ограду Таврического дворца толпа, оторвав Самгина от его спутника, вытерла его спиною каменный столб ворот, втиснула за ограду, затолкала в угол...»; «...озябший Самгин <...> тотчас же был втиснут в двери дворца, отброшен в сторону...» [24; 560, 568] и т. п. Все дело в том, что само существование выдумывающей, прячущей себя (свою душевную пустоту и неспособность к поступку) самгинской фигуры оказывается противоестественным той высочайшей степени накала собы25 тий и страстей, которыми в горьковском романе отмечена жизнь настоящая. Думается, именно поэтому в финале книги автор лишает своего героя и жизни, и человеческого статуса, уподобив его «мешку костей» [24; 587]. Таким образом, мы могли убедиться, что необычайно сложная, «антитетично-подвижная» стилевая форма «Жизни Клима Самгина», являющая собой высшую точку творческого самоопределения Горького, удивительно адекватно и целенаправленно воплощает в тексте специфическое видение и понимание мира автором. «Работая» контрастными и одновременно перетекающими одна в другую формами, он говорит о немыслимой «спутанности» и неустойчивости, а вместе с тем и о тревожно-трагическом своем восприятии послереволюционной российской действительности. И в то же время в «Жизни Клима Самгина» отчетливо звучит совершенно иной пафос — не только отчаяния, но и надежны. Ведь те же «мучительные алогизмы» и «пестрота» мира становятся для Горького неоспоримым свидетельством его бесконечного разнообразия и богатства, а крайняя нестабильность современной реальности — показателем ее готовности к самому решительному преобразованию, что, собственно говоря, мы и видим в финале романа. Именно это делает последнюю книгу Горького удивительно созвучной и «Жизни Арсеньева» Бунина, и «Защите Лужина» Набокова, и «Счастливой Москве» Платонова, и целому ряду других по-настоящему вершинных текстов отечественной прозы рубежа 1920-1930-х годов, «строящих» своими «стилевыми голосами» единую русскую литературу, отразившую, как в зеркале, катастрофическую реальность своего времени. Примечания 1 В числе наиболее интересных и научно-объективных публикаций, посвященных личности М. Горького, его взаимоотношениям с властью и русской эмиграцией, назовем следующие: М. Горький и его эпоха. Новый взгляд на Горького /B.C. Барахов. М.: Наследие, 1995. Вып. 4. 260 с ; Спиридонова Л. А. М. Горький: диалог с историей. М.: Наследие: Наука, 1994. 318 с ; Примочкина Н. Н. Писатель и власть: М. Горький и литературное движение 20-х годов. М.: Рос. полит, энцикл., 1998. 301с. и др. См.: Затонский Д. В. Искусство романа и XX век. М.: Худож. лит., 1973. 535 с. См.: Овчаренко А. И. М. Горький и литературные искания XX столетия // Овчаренко А. И. Избр. произведения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1986. Т. 1. 591 с. См.: Сухих С. И. «Жизнь Клима Самгина» в контексте мировоззренческих и художественных исканий М. Горького: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1993.46 с. См.: Заманская В. В. Русская литература первой трети XX века: Проблема экзистенциального сознания. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та; Магнитогорск, 1996. С.245-258. См.: Спиридонова Л. М. Горький: новый взгляд. М.: ИМЛИ РАН, 2004. С. 179— 195; Иванов Н. Н. Мифотворчество русских писателей (М. Горький, А. Н. Толстой). Ярославль: Ярослав, гос. пед. ун-т, 1997.145 с. См.: Воронин В. С. Художественное время и пространство в «Жизни Клима Самгина» М. Горького: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Н. Новгород, 1993. 21 с. 26 См.: Ермакова М. Я. Роль Горького в модификации философского романа XX века // Горький и его эпоха: материалы и исслед. М., 1995. Вып. 4. С. 39-45. 9 См.: Колобаева Л. А. М. Горький // История русской литературы XX века (2090-е годы). Основные имена. М.: Б. и., 1998. С. 62-85. 10 См.: Голубков М. М. Максим Горький. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 93 с. См.: Полыскалов В. Ю. Сопоставление как стилистический прием в «Жизни Клима Самгина» // М. Горький и проза XX века: Межвуз. сб. / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. Горький, 1981. С. 71-79. В своем понимании стиля как основного художественного закона творчества писателя мы опираемся на работы Ю. Тынянова, Я. Эльсберга, А. Лосева, А. Соколова, М. Гиршмана, В. Эйдиновой и др. 13 См. подробнее: Белоусова Е. Г. «Колеблющаяся антитетичность» как стилеобразующий принцип в рассказах М. Горького 1922-1924 годов // Литература в контексте современности: Материалы II Междунар. науч. конф., Челябинск, 25-26 февр. 2005 г.: В 2 ч. Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2005. Ч. 1. С. 123-127. 14 Это свойство стилевой динамики Горького, несмотря на то, что сама природа его стиля трактуется ученым совершенно иначе, отмечает еще Е. Тагер. (См.: Тагер Е. Б. Избранные работы о литературе. М.: Сов. писатель, 1988. С. 99-131.) 15 См., например: Пришвин М. «Векселя, по которым когда-то придется расплачиваться...» // Дружба народов. 1993. № 6. С. 232, 235; Примочкина Н. Н. Горький и писатели русского зарубежья. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 41-43. 16 Сухих С. И. Указ. соч. С. 29. 17 Горький М. Собрание сочинений: В 25 т. М.: Наука, 1974. Т. 21. С. 468. Далее в квадратных скобках цитируется по этому изданию. 18 Воронин В. С. Указ. соч. С. 18. 19 Там же. С. 20. 20 О том, ч т о активность являлась к л ю ч е в ы м качеством в системе ценностей Горького (как раннего, так и позднего), писалось уже немало. Из работ последнего времени отметим чрезвычайно интересное исследование С. Семеновой, где раскрывается близость Горькому идей Н. Федорова. «Интересный старше. Мне у него ценна и близка проповедь "активного" отношения к жизни», — признается писатель Пришвину в письме, датированном октябрем 1926 года, т. е. написанном в самый разгар его работы над «Самгиным». (Цит. по: Семенова С. Г, Русская поэзия и проза 1920-1930-х годов. Поэтика — Видение мира — Философия. М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2001.С. 248.) 27