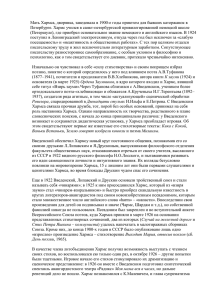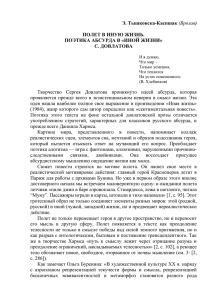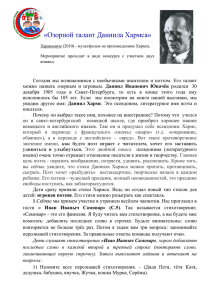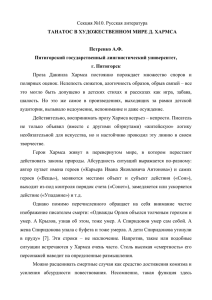Художественный мир прозы Даниила Хармса
реклама
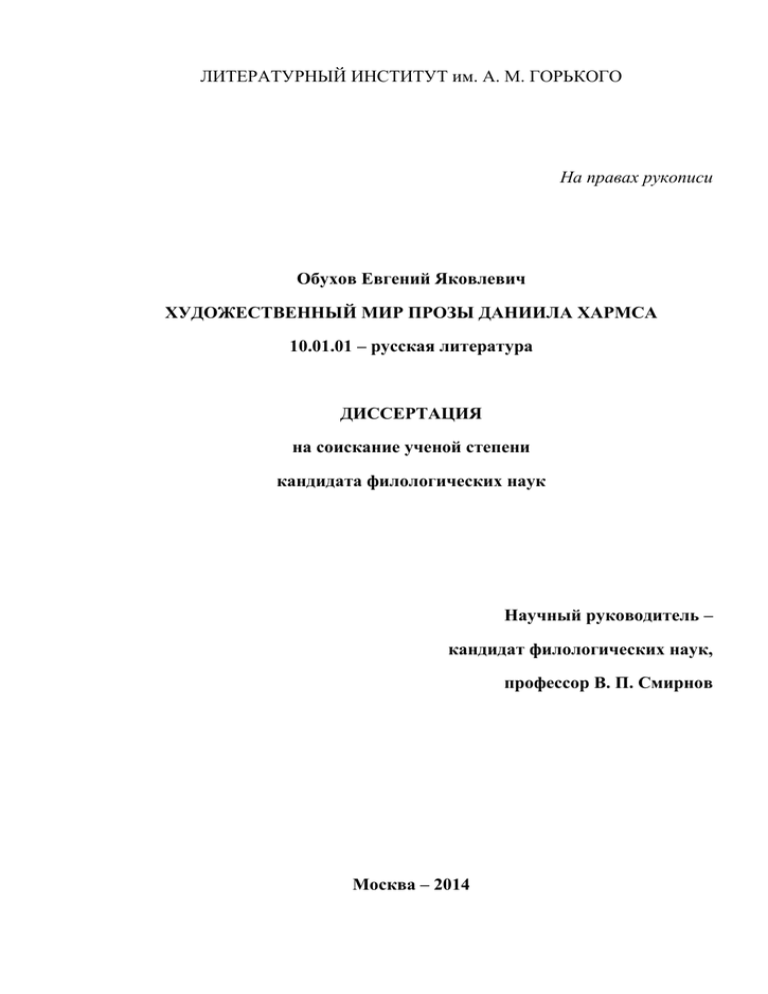
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ им. А. М. ГОРЬКОГО На правах рукописи Обухов Евгений Яковлевич ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПРОЗЫ ДАНИИЛА ХАРМСА 10.01.01 – русская литература ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата филологических наук Научный руководитель – кандидат филологических наук, профессор В. П. Смирнов Москва – 2014 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 3–20 Глава I. Смысловые доминанты прозы Д. Хармса 21–127 Глава II. Спасение как смысловая доминанта прозы Д. Хармса 128–156 §1. Повесть «Старуха» 130–134 §2. Цикл «Случаи» 134–143 §3. Феномен чуда в прозе Д. Хармса и его эволюция 143–156 Глава III. Ведущие мотивы и приемы прозы Д. Хармса 157–212 §1. Сквозные мотивы 158–183 §2. Устойчивые приемы 183–203 §3. Возможный инструментарий для различения художественного и биографического в записях Д. Хармса 203–212 Заключение 213–218 Список использованной литературы 219–235 Приложение 236–245 2 Введение Даниил Хармс начал регулярно писать стихи с двадцатилетнего возраста. Поэтический период Хармса пришелся на середину 1920-х и начало 1930-х годов. В 1930-е произошел поворот к прозе, которую Хармс писал вплоть до начала Великой Отечественной войны. Хармс зарабатывал «детской» литературой. Его «взрослые» произведения опубликованы быть не могли. Читал их Хармс лишь очень немногим: в основном, жене и близким друзьям (41;64); (39;207). Однако это не означает, что Хармс был исключен из литературного процесса1. Можно отметить влияние, которое Хармс оказал на последующее развитие литературы. Широкое распространение в русской культуре получил оборот «как у Хармса» (применительно к той или иной ситуации или тексту). Далеко не каждый автор удостаивается подобного признания2. Хармс – один из немногих русских авторов, чьи произведения оказались наиболее актуальны для европейских театральных режиссеров XX века3. Даниила Хармса принято рассматривать в контексте русского авангарда и литературы абсурда. Впервые подробно и основательно соотнес Хармса с его современниками и эпохой Ж.-Ф. Жаккар. Жаккар сопоставил Хармса с футуристами и заумниками Алексеем Крученых, Велимиром Хлебниковым, Александром Туфановым, поэтом и заумником (а позднее одним из главных авангардных театральных режиссеров Ленинграда) Игорем Терентьевым; Жаккар изучил авангардные группы, в которых Хармс играл ключевую роль: «Орден заумников DSO», «Левый фланг», театральную группу «Радикс» (напрямую связанную с театральной секцией ОБЭРИУ), 1 Ср. с выводом Ж.-Ф. Жаккара: «И тот простой факт, что мы смогли связать его работы с произведениями тех авторов, которых он не знал и которые не знали его, свидетельствует о том, что мы имеем дело не с маргинальным, но со значительным явлением, показательным для одного из этапов эволюции литературы XX века в целом» (56;11). 2 О влиянии, оказанном Хармсом на литературу и культуру, см., например: (89, 20). 3 Только за последние годы можно отметить постановку Роберта Уилсона (одного из основных деятелей театрального авангарда) «Старуха» с Михаилом Барышниковым и Уиллемом Дефо в главных ролях, имевшую большой успех, например, в парижском «Театре де ла Вилль» и нью-йоркской Бруклинской академии музыки (BAM). А также спектакль венского Академитеатра – «Случаи» (режиссер Андреа Брет), на основе произведений Даниила Хармса, Жоржа Куртелина и Пьер-Анри Ками. О более ранних спектаклях см.: (35). 3 «Академию левых классиков» (куда входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Игорь Бахтерев, Георгий Кацман). Обратился Жаккар и к авангардной живописи: к Казимиру Малевичу, руководившему одно время ГИНХУКом (Государственным институтом художественной культуры), куда также входили художники-авангардисты Михаил Матюшин (автор теории «расширенного смотрения») и Павел Филонов. Жаккар подробно изучил «чинарей»: неофициальную группу, состоявшую из трех поэтов (Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Олейникова) и двух философов (Якова Друскина и Леонида Липавского). Конечно, Жаккар исследовал связь Хармса с ОБЭРИУ – последним официальным объединением, в котором состоял Хармс (куда помимо него входили поэты Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Игорь Бахтерев, позднее – Юрий Владимиров, прозаик Борис Левин, поэт и прозаик Константин Вагинов). На наш взгляд, Жаккар практически исчерпывающе описал литературное и – шире – культурное окружение Хармса. Но даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть: для интерпретации хармсовских прозаических произведений этот контекст дает лишь весьма ограниченные возможности. Среди вышеупомянутых лиц практически не было прозаиков. Прозу писали Вагинов (он тяготел к крупной форме, от которой Хармс был весьма далек), Левин, Владимиров, Введенский (их «взрослая» проза практически полностью утеряна)4. Таким образом, авангардисты того времени повлияли «становление» в Хармса: первую очередь «Учителями на поэтический своими считаю период, на Введенского, Хлебникова и Маршака» – все поэты (Дн.;1;313)5. Однако это только 1929 год, Хармсу 23 года. ОБЭРИУ существовало с 1927 по 1931 год, когда Хармс еще даже не успел по-настоящему обратиться к прозе (переломным моментом, видимо, стала ссылка в Курск в 1932-м – 56;50,176). ОБЭРИУ для 4 См. однако работу, где сопоставляется проза Константина Вагинова, Леонида Добычина, Сигизмунда Кржижановского и Даниила Хармса: (103). 5 Здесь и далее дневниковые записи Хармса цитируются по (6) с указанием в скобках номера тома и страниц. 4 Хармса в какой-то момент было основным делом6, однако, на наш взгляд, более значимый7 – прозаический – период с ОБЭРИУ впрямую не связан. Процитируем Жаккара: «Понятие “обэриутская поэтика” нам кажется спорным, и Хармс был гораздо более близок к Я. Друскину, чем к Н. Заболоцкому» (56;296); «И если можно, вне всякого сомнения, сказать, что есть много общего в творчестве Хармса и Введенского или Бахтерева, то, напротив, гораздо сложнее приобщить к этому явлению Заболоцкого или Вагинова. ОБЭРИУ – локальное во времени и разнородное объединение…» (56;118). Жаккар подчеркивает особую роль «чинарей» в жизни Хармса: «Чинарей, которые собирались задолго до образования ОБЭРИУ и которые будут продолжать встречаться еще долгое время после этого, связывало гораздо более сплоченное единство мысли…» (56;118). С последним можно согласиться, заметив при этом, что у «чинарей» как сообщества в середине 1930-х настанет явный кризис. «Чинари» для Хармса были близкими друзьями, однако к «чинарству» как к системе Хармс в свой «зрелый» период относился иронически, что мы попытаемся показать в дальнейшем. Важно отметить, что «квазитрактаты» Хармса очевидно восходят к философии «чинарей» и в особенности к работам Друскина. Тем не менее трактовать хармсовскую прозу через призму «чинарских» идей и трактатов нам представляется неверным, поскольку акценты в хармсовской прозе сделаны на другое, что мы также постараемся показать в нашей работе. 6 См.: (Дн.;2;67). Несмотря на то, что поэзия Хармса заслуживает пристального изучения, по нашему мнению, многие стихотворения поэтического периода вызывают ассоциацию, скорее, с упражнениями в «магической зауми» (определение Михаила Мейлаха и Владимира Эрля). Ср. также со свидетельством Л. Я. Гинзбург: «Олейников говорит, что стихи Хармса имеют отношение к жизни, как заклинание. Что не следует ожидать от них другого» (151;6). С другой стороны, в стихах Хармса, несомненно, прослеживается связь с теоретическими идеями русского авангарда. Жаккар подчеркивает, что «Хармс пытался выработать мировоззрение и одновременно поэтическую систему, способные не только познать, но и выразить мир во всей его целостности» (56;10). Далее Жаккар утверждает, что на этом пути Хармс потерпел поражение. Это еще один фактор, который отличает прозаический период, поскольку, на наш взгляд, на этом пути Хармсу удалось создать свою уникальную картину мира. Процитируем также Н. В. Гладких: «…пронизанные конструктивными устремлениями стихотворения Хармса, за единичными исключениями (и, разумеется, за исключением произведений для детей), остались умозрительными и малочитабельными. Зато его проза читается (и не только читается: у нее появилось весьма обширное количество продолжателей и подражателей) – потому что в прозе Хармс создал новые формы» (38;50). 7 5 По нашему мнению, проза Хармса в сущности имеет мало общего с творчеством некогда повлиявших на него авангардистов. Казалось бы, ее уместнее сопоставлять с юмористической прозой 1920-х – 1930-х годов (М. Зощенко, М. Булгаков, И. Ильф, Е. Петров, И. Бабель)8. Однако между этими авторами и Хармсом существует принципиальное отличие – у Хармса кардинально другая картина мира9, изучению которой в основном и посвящена данная работа. Судя по «записным книжкам», подлинный контекст, в котором ощущал себя Хармс, – это Гоголь, Прутков, Достоевский, Пушкин. Из зарубежных авторов – Гамсун, Майринк. А если смотреть широко, – Данте, Гете, Шекспир (Дн.;2;61,196; Дн.;1;447). На наш взгляд, теснее всех Хармс связан с Гоголем. И связь эта не столько внешняя (имеются в виду многочисленные формальные сходства), сколько глубинная. Литература Гоголя – это религиозная литература в светской оболочке. Если обращать внимание только на фабулу, этого легко не заметить. Неискушенный читатель может прочесть «Ревизора» и «Мертвые души» и не увидеть даже намека на религиозный пласт. Однако религиозный пласт там не просто присутствует – он в самой основе этих произведений10. Мы попытаемся показать, что аналогичное можно сказать и о главных хармсовских произведениях: о «Старухе» и «Молодом человеке, удивившем сторожа» (последнее стоит в центре цикла «Случаи»). При внимательном прочтении оказывается, что Гоголь (в драме и в прозе) и Хармс (в прозе и сценках) – апологеты православного взгляда, при этом вполне традиционного. Важно не познать мир, не выразить его адекватно и по возможности во всей полноте (программа авангарда). Важно другое – 8 Подлинного предшественника Хармса как автора «странных» рассказов назвала Н. В. Барковская, см.: (14). «Сказочки» Сологуба действительно очень похожи на то, что будет впоследствии писать Хармс (хотя у Хармса другие акценты и смысловые доминанты). 9 Здесь и далее под картиной мира мы понимаем образ мира, явленного в художественных произведениях (а не принятое в философии понимание к. м. как характеристики мировосприятия конкретного человека – см. 111). 10 См. об этом работу В. А. Воропаева (26). Также о религиозном смысле гоголевского творчества убедительно писали К. В. Мочульский, Д. И. Чижевский, А. Х. Гольденберг, Е. И. Анненкова, И. П. Золотусский. 6 спасение. В основе произведений не какие-то поиски, коллизии, сюжеты, философские размышления, а христианское представление о мире, человеке, его падении и вместе с тем – предназначении11. И Гоголь, и Хармс изображают мир, лежащий во зле. Только Гоголь это делает намного мягче – у него даже может угадываться любовь к этому нелепому грешному миру, к его обитателям12. Произведения Хармса намного жестче и очень коротки. У Хармса мир полон жестокости, насилия, обнаженного порока – автору любить там нечего (исключения крайне редки). Единственное, к чему можно – по Хармсу – стремиться в таком мире, – это к спасению от него. В этом смысле Хармс выступает продолжателем Гоголя и Достоевского. На наш взгляд, на данном этапе развития хармсоведения, когда написано множество работ, сопоставляющих Хармса с другими авторами и деятелями искусства13, важнее погрузиться не в изучение этих связей, а сосредоточиться непосредственно на хармсовских произведениях, поскольку именно в них, а не где-либо еще, находятся ключи к их пониманию14. Характерно, как отзывались о творчестве Хармса его талантливые коллеги-современники. Маршак отмечал у Хармса «абсолютный вкус» и 11 Ср. с дневниковой записью Хармса: «Интересно, что почти все великие писатели имели свою идею и считали ее выше своих художественных произведений. Так например, Blake, Гоголь, Толстой, Хлебников, Введенский» (Дн.;1;445). 12 «…Герои моих последних произведений, и в особенности “Мертвых душ”, будучи далеки от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему, близки душе…» (Гоголь Н. В. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ» // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. и писем: в 17 т. Т. 6: Выбранные места из переписки с друзьями. М. : Издательство Московской Патриархии, 2009. С. 81). 13 Хармса сопоставляют с Сологубом (14), Майринком (30, 136), Достоевским (59), Платоновым (76), Хлебниковым (91), Камю (109), Блоком (126), Белым (128), Беккетом (134), Чеховым (162), Гамсуном (168), о роли Гете для Хармса см. (90); более широкий контекст рассмотрен в (25, 56, 60, 78, 99, 115, 117, 118, 121, 132, 137, 141, 149, 158, 159, 163, см. также обзор Гладких 38;118–120, 38;160–161). О поиске интертекстуальных связей см., например, (92, 114). 14 Мы следуем идеям, высказанными А. П. Скафтымовым: «Только само произведение может за себя говорить. Ход анализа и все заключения его должны имманентно вырастать из самого произведения. В нем самом автором заключены все концы и начала <…> Наличность влияния одного произведения на другое, даже в случае, если оно было бы доказано с полной безусловностью, нисколько не может свидетельствовать в пользу усвоения качеств одного произведения другому. И здесь только само произведение может свидетельствовать о своих свойствах. Всякая генетическая справка при эстетическом анализе может дать исследователю лишь наводящее указание для размышлений над самим текстом» (129;27). 7 «классическую основу»15. «Классический отпечаток» в творчестве Хармса отмечен и в «декларации ОБЭРИУ» (Заболоцким)16. Высоко оценила творчество Хармса Ахматова: «…она выделяла Хармса-прозаика: “Он был очень талантливый. Ему удавалось то, что почти никому не удается, – так называемая “проза двадцатого века”: когда описывают, скажем, как герой вышел на улицу и вдруг полетел по воздуху. Ни у кого он не летит, а у Хармса летит”» (104;286)17. Ахматова фактически утверждает, что Хармс придумал свою литературу; свою – чрезвычайно убедительную – картину мира18. На наш взгляд, каждое из этих замечаний исключительно точно. Творчество Хармса, несмотря на первое – поверхностное – впечатление, действительно базируется на «классической основе» (особенно это касается прозы). Поэтому нет ничего удивительного в том, что классический анализ его прозаических произведений приводит к плодотворным результатам. Ближайший друг Хармса – философ Яков Семенович Друскин – относил Хармса к тому типу авторов, «чье творчество настолько тесно связано с их личной жизнью, что, не зная ее, мы не поймем и многих произведений этих авторов; внутреннее и внешнее, жизнь и творчество в 15 «Особенно мне жаль Хармса [судя по всему, Хармс не посчитал нужным ознакомить Маршака со своей «взрослой» прозой], человека с абсолютным вкусом и слухом и с какой-то – может быть подсознательной – классической основой» (96;509). Ср. с воспоминанием искусствоведа В. Н. Петрова (друга Хармса, которому посвящен «Исторический эпизод»): «Хармс был одарен тем, что можно было бы назвать чувством формы. Он знал точную меру во всем и умел мгновенно отличить хорошее от дурного. Он обладал безошибочным вкусом, одинаково проявлявшимся и в мелочах, и в крупном, от одежды и манеры держаться до сложнейших вопросов мировоззрения или суждений о жизни и искусстве» (113;239). Приведем также характерное воспоминание Е. Л. Шварца: «Я, рассказывая о Каверине, недостаточно подчеркнул разное отношение к форме его и гения Хармса; в частности, Каверин уважал форму, а Хармс, чувствуя ее неизмеримо точнее, владея ею, видел, когда она жива» (147;513). 16 Хармсовское «действие, перелицованное на новый лад, хранит в себе “классический” отпечаток» (102;288). 17 Здесь также уместно привести слова Друскина: «Когда начинаешь читать их [рассказы и стихи Хармса, написанные от первого лица] – смешно. Но постепенно смех как бы застывает, и под конец становится страшно. Они написаны с такой непосредственной художественной убедительностью, что иногда даже кажется, что первое лицо, от которого ведется рассказ, – это сам автор» (55;112–113). О том, что Хармс осознавал важность этой «убедительности», свидетельствует В. Н. Петров: «Важнейшим свойством писателя он считал властность. Писатель, по его убеждению, должен поставить читателей перед такой непререкаемой очевидностью, чтобы те не смели и пикнуть против нее» (113;244). Также упомянем, на наш взгляд, весьма точную догадку художника В. А. Власова: «Я не знаю, но думаю, что для людей, с которыми он часто встречался, ну, скажем, в сфере литературной, он обладал такой, мне представляется, огромной силой воздействия и влияния» (42;134). 18 Хармс «как художник сам создает жизнь, формирует ее» (72;204). 8 этом случае непосредственно соприкасаются» (55;108). Подход, при котором литературные произведения интерпретируются на основе биографического контекста и сторонних источников (литературных манифестов, философских трактатов и пр.), в случае Хармса представляется нам непродуктивным. При изучении хармсовских произведений мы будем обращаться к биографии писателя достаточно редко. Тем не менее мы согласны с тем, что у Хармса жизнь и искусство были тесно переплетены. Нам кажется важным привести и проинтерпретировать некоторые воспоминания о Хармсе, чтобы была возможность сравнить, как облик Хармса соотносится с его творчеством. Конечно, воспоминания часто противоречат друг другу, и относиться к ним как к непреложной истине не стоит. С другой стороны, если большинство воспоминаний свидетельствуют об одном и том же, то можно очень осторожно предположить (помня о возможных мифах), что это имело место в действительности. Даже среди профессиональных филологов и психиатров достаточно распространено мнение, что у Хармса было психическое расстройство 19. Однако несмотря на эпатирующее поведение, на наш взгляд, совершенно неверно видеть в Хармсе какого-то «чудака, не от мира сего»20. Есть немало обстоятельств, которые опровергают версию о психическом расстройстве или полной оторванности Хармса от жизни. (Замечания, которые мы сделаем ниже, интересно сопоставить и с хармсовским творчеством.) Например, Хармс чрезвычайно ценил хорошие манеры и сам в этом отношении был безупречен21. Хармс умел тонко чувствовать собеседника и при желании 19 См., например: (64, 19, 155). Процитируем замечание В. Н. Сажина: «Представление о забавном балагуре – Хармсе 1920-х годов (тем более – о других чинарях) не соответствует ни содержанию его творчества того времени, ни дневниковым записям» (123;197–198), а также Л. Пантелеева: «Я всегда знал, что Хармс умен, его чудаковатость была маской, а шутом гороховым, каким его считали некоторые, он никогда не был» (151;5). 21 «Всегда аккуратно и чисто одет был, причесан. Очень вежлив, хорошо воспитан. С девушками разговаривал на вы» (воспоминания Эммы Мельниковой – 42;119); «Этот человек пользовался большой любовью всех, кто его знал. Невозможно представить себе, чтобы кто-нибудь сказал о нем плохое слово – это абсолютно исключается. Интеллигентность его была подлинная и воспитанность – подлинная» (воспоминания художника С. М. Гершова – 42;123); «Внешне он лучше всего характеризовался одним словом – джентльмен. Высокий, красивый, прекрасно воспитанный, неизменно корректный, чистый, глубоко порядочный, он обладал совершенным чувством юмора и не менее совершенным чувством слова – и литературным слухом» (воспоминания драматурга, писателя Н. В. Гернет – 7;52); «Всегда подтянутый, 20 9 виртуозно подстраиваться под него: «Даниил Иванович в любой жизненной ситуации умел как-то сразу понять собеседника» (воспоминания художника Бориса Семенова) (7;28). Писательница С. М. Георгиевская вспоминает: «Хармс производил впечатление чрезвычайно светского человека. Держал себя свободно и, как все очень светские люди, давал возможность развернуться своему собеседнику»22. Георгиевская продолжает: «Он был неизменно корректен и вежлив. Ничего из того, что он думал и чувствовал, по его поведению было угадать нельзя» (42;130–131)23. В этом угадывается глубокая продуманность хармсовского поведения – о патологической неконтролируемости в данном случае говорить не приходится. Воспоминаний о Хармсе осталось не очень много, но все же достаточно, и в числе мемуаристов есть и очень близкие ему люди. Практически каждый говорит об особом поведении Хармса, но большинство даже намека не делает на его возможное сумасшествие24. В этом смысле очень показательны воспоминания жены Хармса Марины Малич: «Даня был странный. Трудно, наверное, было быть странным больше. Я думаю, он слишком глубоко вошел в ту роль, которую себе создал» (41;52). При этом у нее и мысли не возникало о сумасшествии мужа: эпизод в больнице, где Хармс имитировал психическое расстройство, произвел на нее сильнейшее впечатление: «Когда мы вышли на улицу, меня всю трясло и прошибал пот» (41;98). По воспоминаниям Малич, Хармс объяснял эту имитацию так: «– Я всегда вежливый, прекрасно воспитанный. Очень выдержанный» (воспоминания Н. Б. Шанько, переводчицы, жены А. И. Шварца – 42;135). «Впрочем, на общем фоне эпохи джентльменство Даниила Ивановича могло (и должно было) выглядеть только чудачеством» (воспоминания В. Н. Петрова – 113;239). 22 Ср. также с воспоминаниями Гершова: «Это был человек необычайного обаяния, больших знаний и большого ума. И беседы наши были только об искусстве – и больше ни о чем». Конечно, Хармс далеко не с каждым говорил «только об искусстве». Но и об искусстве Хармс с этим собеседником говорит поособому: «Наши беседы меньше всего касались поэзии, – эта область была для меня не очень знакома. Да и Даниил Иванович никогда ничего подобного не требовал, он знал мои склонности и что экзальтировать меня поэтическими находками невозможно, просто не поддаюсь» (42;123). Психическое же расстройство частично характеризуется неадекватными реакциями на окружающую действительность. 23 Характерно, что это воспоминания человека, который относился к Хармсу весьма холодно. Поскольку подозревал (возможно, обоснованно) плохое к себе отношение: «Относясь ко мне пренебрежительно, он не давал себе труда вступить со мной в разговор, о котором стоило бы вспомнить» (42;131). 24 В некотором роде типично воспоминание: «Даня иногда приходил, и мы с ним решали задачки по тригонометрии, алгебре. Он хороший математик был, очень развитой человек. Я после него не встречала никого такого. Во всех отношениях развитой» (воспоминание Мельниковой – 42;119). 10 совершенно здоров, и ничего со мной нет. Но я никогда на эту войну не пойду»25 (41;95). Мы не можем удостоверить подлинность этих воспоминаний, но мы имеем возможность изучать хармсовские произведения. По ним ясно, что Хармс, несомненно, критически относился к им написанному. Он тщательно редактировал свои тексты, которые в итоге получались отменно выверенными. Кроме того, Хармс понимал, как устроен феномен юмора, как он функционирует. Поэтому мы как исследователи хармсовской литературы убеждены в психической адекватности автора26. Не стоит путать невротическое расстройство (которое, на наш взгляд, действительно имело место) с психическим. В нашем изучении творчества Хармса мы основываемся не на биографическом материале, а исключительно на хармсовских произведениях27. Однако в рамках аксиологического подхода представляется важным напомнить о религиозности Хармса (что будет сделано во второй главе). Я. С. Друскин приоткрыл архив Хармса во второй половине 1960-х годов28. Первыми филологами, которые прикоснулись к хармсовскому творчеству, стали А. А. Александров (10–13) и М. Б. Мейлах (98–101). Чуть позднее Хармсом занялся В. И. Глоцер (39–42). Они были первыми, кто знакомил читателей с некоторыми «взрослыми» произведениями писателя. Значительная часть работ, в которых исследовалось творчество Хармса, пришлась на 1990-е годы, особенно на первую половину. В это время В. Н. Сажин сопоставляет Хармса с его литературным и биографическим контекстом (121–127). А. А. Кобринский рассматривает взаимодействие 25 «Он и представить себе не мог, как он возьмет в руки ружье и пойдет убивать» (41;94). См. также об этом: (98). 26 Ср. с выводом Н. В. Гладких: «Все написанное Хармсом и все написанное о нем современниками совершенно определенно говорит о том, что этот человек не был ни раздражительным неврастеником, ни чудаковатым романтиком, ни инфантильным “злым старичком”. Он был человеком последовательно и упорно воплощавшим некий проект, весь масштаб которого еще далеко не понят» (38;151). 27 Не соглашаясь притом со следующим подходом: «Говоря о Хармсе, стоит рассматривать прежде всего мироощущение, тип сознания и приемы жизнестроительства, а не текст как таковой» (148;56). 28 См.: (1;44). 11 алогизма и абсурда у Хармса (71–78). Чуть позднее Д. В. Токарев изучает Хармса в свете психоанализа (131–138). Необходимо также отметить работы А. Г. Герасимовой (где изучались образ автора, проблемы чуда, смешного, литературные аллюзии, связь с мистикой) (27–33), И. В. Кукулина (сосредоточившегося на проблемах взаимодействия автора и текста, героя и читателя, влиянии Хармса на андеграунд, а также на проблеме чуда) (88–90), Н. В. Гладких (изучавшего смешное, жанровую природу хармсовских произведений, критерии, произведению) (36–38), предъявляемые Ф. В. Кувшинова Хармсом к (исследовавшего гениальному телесность, логику художественного мира Хармса, его социум)29 (83–87). Особенно важна для нас работа Л. В. Боярского, посвященная анализу повести «Старуха» в русле религиозной проблематики (22). Наиболее значительными в хармсоведении считаются труды Ж.-Ф. Жаккара и М. Ямпольского (даже сейчас, когда с момента публикации этих книг прошло около двадцати лет). Видимо, не будет преувеличением сказать, что эти книги определили подходы и пути, которыми в дальнейшем следовало хармсоведение (и следует сейчас). Это подтверждают многие авторы, например М. Клебанов30. О том же пишет и Д. В. Токарев: «Можно говорить даже о том, что сформировались две модели критического анализа <…> текстов Хармса: первая представлена именем Жана-Филиппа Жаккара, в монографии которого (“Даниил Хармс и конец русского авангарда”, 1991) скрупулезно воссоздается контекст эпохи, прослеживаются связи между поэтикой Хармса и его предшественниками по авангардному творчеству Казимиром Малевичем, Михаилом Матюшиным, Александром Туфановым и 29 Подробный и репрезентативный обзор хармсоведения представлен Н. В. Гладких (38;3–23), который, несмотря на прошедшие полтора десятка лет, практически не устарел. Об этом свидетельствуют более современные обзоры Е. В. Захарова (62;8–11) и Е. Е. Саблиной (119;10–22), а также относительно небольшое число работ, написанных в последнее время. 30 «Чтобы увидеть подлинное лицо Хармса, необходим взгляд, способный с равной интенсивностью видеть вглубь и вширь. Взгляд, максимально охватывающий многообразие текстов Хармса и сведений о нем, приводящий к построению цельной и последовательной, насколько возможно, концепции, увязывающей способ прочтения и анализ прочитанного с осознанием и анализом релевантных контекстов и обстоятельств, в которых существовал и работал автор. На сегодняшний день известно, пожалуй, не более чем о нескольких попытках подобного подхода; и среди них две привлекают не только своеобразием, но и научной обстоятельностью и, как следствие, сравнительно большим форматом. Подразумеваются: “Даниил Хармс и конец русского авангарда” Ж.-Ф. Жаккара и “Беспамятство как исток” М. Ямпольского» (165). 12 др. В 1998 году появляется еще одна книга о Хармсе – концептуальная монография Михаила Ямпольского “Беспамятство как исток: (Читая Хармса)”. Сам автор предуведомляет читателя, что принятая в его исследовании точка зрения находится на “периферии филологии”. Метод Ямпольского – “свободное движение мысли внутри текста”, чтение как “неспециализированная рефлексия”, пренебрегающая историческими связями и параллелями ради восприятия текста как “внетемпорального”, “идеального” дискурса» (136;35). Жаккар как приверженец концептуального подхода утверждает, что доминанта хармсовской прозы – невозможность рассказать историю, «поэтика повествовательного заикания»31. В концепции Жаккара прозаический период отражает «поражение» первого (поэтического) периода (56;250). Хармс в молодости «пытался выработать мировоззрение и одновременно поэтическую систему, способные не только познать, но и выразить мир во всей его целостности» (56;10), «выразить невыразимое», создать «реальное» искусство. Однако эти попытки провалились. В своей прозе, по мысли исследователя, Хармс отразил «метафизический хаос», окончательно «изобразил мир в его бессвязности». Тем самым, по мнению Жаккара, Хармс своим творчеством показал невозможность «выражения невыразимого» (56;257). На наш взгляд, подбор Жаккаром хармсовских прозаических произведений для анализа и их интерпретация несколько тенденциозны. В действительности у Хармса больше законченных историй, нежели неоконченных. Интересно, что в своем монументальном труде Жаккар полностью обошел вниманием самое масштабное произведение Хармса – «Старуху». Эта повесть действительно плохо вписывается в концепцию, 31 «Проза писателя <…> представляет собой некоторым образом систему того, что мы могли бы назвать “нарушением постулатов нормального повествования” <…> Первым из этих нарушений и предопределяющим все остальные является невозможность рассказывать или, во всяком случае, завершить историю. Хаосу реального мира соответствует поэтика повествовательного заикания» (56;230); «Это приводит нас к характерной черте прозы Хармса, вытекающей из всего, что мы изучили до настоящего момента, – к ее стремлению быть лишь сосредоточением начал истории» (56;237). 13 представленную в жаккаровской монографии. Однако позднее Жаккар в эту концепцию «Старуху» «встроил»32: финальная молитва Богу понимается Жаккаром как молитва гусенице (с чем мы никак не можем согласиться). Исследование завершается выводом, который полностью соответствует предыдущему: «Авангард характеризуется построением систем <…> Конец авангарда наступил тогда, когда эти системы рухнули: это видно в торжестве быта, который захлестывает прозу Хармса <…> Жажда чуда выступает в этом контексте как последняя – и безнадежная! – попытка спасти систему именно в этом пункте: в ее началах возвышенного. Абсурд как форма экзистенциализма, характеризующий творчество Хармса второго периода, оказывается, по-видимому, результатом ухода возвышенного в сопровождении жесткого молчания Бога» (57;216). Подчеркнем, что и Жаккар отмечает важность фигуры Бога для интерпретации хармсовского творчества. Но для Жаккара это «молчание Бога» (с чем мы также не можем согласиться). Мы попытаемся показать, что в главных произведениях Хармса сакральное проявляется, что, впрочем, покажется не столь удивительным, если вспомнить о глубокой религиозности самого Хармса. Мысли и выводы Жаккара, на наш взгляд, спорны, но, несомненно, отличаются оригинальностью и являются частью большой концепции, созданной исследователем. Подход Ямпольского, по нашему мнению, обладает следующей важной особенностью: произведения Хармса для него, скорее, повод поговорить об интересующих его вещах, о некоторых философских идеях и системах (о чем исследователь, в сущности, сам заявляет в предисловии к своей книге). Это совершенно отдельное направление, находящееся на «периферии филологии». В нашей работе предпочтение отдано традиционному подходу, который базируется на непосредственном произведений Хармса. 32 См.: (57). 14 анализе художественных Современный исследователь Е. В. Захаров утверждает, что в последнее время многие специалисты, он в том числе, отходят от точки зрения Жаккара (62;11). Согласимся, что многие авторы действительно спорят с Жаккаром, но при этом они нередко придерживаются сходной методологии. В частности, в современном хармсоведении большинство интерпретаций хармсовских рассказов основаны не на них самих, а на сторонних текстах и теориях (преимущественно принадлежащих Друскину и другим «чинарям»; также привлекаются хармсовские «квазитрактаты»). Так, Захаров выделяет два типа повествователя: повествователя-человека и повествователя- «вестника» (напомним, «вестник» – термин, придуманный Друскиным). А один из главных выводов Захарова состоит в следующем: «Малая проза Д. Хармса воссоздает особый пограничный тип сознания, колеблющийся между аморальностью “недочеловека” и бесчувственностью “вестника”, что подталкивает реципиента к активной нравственной и эстетической работе над этими произведениями» (62;175). На наш взгляд, подобные рассуждения и выводы очевидно восходят к Жаккару. Необходимо дать рабочие определения основных понятий, которыми мы пользуемся при анализе хармсовской прозы. Под мотивом мы будем понимать устойчиво повторяющийся компонент литературного произведения, «обладающий повышенной значимостью» (139;267). Прием мы понимаем не в традиционном смысле (отсылающем к формальной школе – 152), как элемент повествовательной техники, но несколько шире, как определенную авторскую стратегию, связанную с уровнем повествования, персонажной сферой, жанровой природой или словесной тканью. Под «миром» в кавычках мы будем понимать «мир», который явлен в хармсовских произведениях33. 33 Иными словами, Хармс создает особую реальность, функционирующую по собственным законам: «Хармс создал свой художественный мир <…> мир по-своему организованный; целостный и завершенный» (119;25). Здесь мы следуем за Д. С. Лихачевым, обосновавшим понятие мира художественного произведения (с особым временем, пространством, законами) (94), С. Г. Бочаровым, последовательно различающим мир действительности и «мир» романа (применительно к «Евгению Онегину») (21), а также за А. П. Чудаковым, который рассматривает не столько мир отдельного произведения, сколько мир прозы писателя в целом (144). 15 Материалом исследования являются хармсовские прозаические тексты и «сценки»34. Объект исследования – художественный мир Хармса. Предмет исследования – смысловые доминанты прозы Хармса. Актуальность исследования обусловлена современным интересом к творчеству Хармса (в котором проза занимает особое место), а также сложностями, с которыми сталкиваются исследователи при интерпретации «странных» хармсовских произведений. В хармсоведении активно изучаются интертекстуальные связи; доминируют интерпретации, опирающиеся на биографический и литературный контексты, философские концепции35. Меньшее внимание уделяется непосредственному пристальному анализу произведений. В случаях, когда такой анализ все же имеет место, он часто осуществляется методами, находящимися на периферии или переднем крае филологии. На наш взгляд, проза Хармса весьма далека от идей так называемой литературы абсурда36 и намного ближе к русской классике XIX века, чем принято считать. По нашему мнению, методы анализа, применимые к этой классике, оказываются для интерпретации прозы Хармса гораздо продуктивнее, чем рассмотрение ее в русле литературы абсурда или в едином поле с современной Хармсу философией (в широком смысле). Кроме того, сохраняется необходимость в корректных изданиях и комментариях хармсовского наследия (что сильно осложняется отсутствием прижизненных изданий). Последнее невозможно без сколько-нибудь ясного понимания особенностей его прозы. Цель работы – выделение смысловых доминант прозы Хармса. 34 Мы уже объясняли нашу мотивацию ограничиться лишь прозой Хармса. Здесь добавим, что известные пьесы Хармса («Комедия города Петербурга» и в особенности «Елизавета Бам») относятся к «раннему» 1927 году. На конец 1920-х годов приходится и пик участия Хармса в ОБЭРИУ. В 1930-е он уже далек от программы и идеалов этого объединения. В общем, изучая прозу Даниила Хармса, мы вполне можем претендовать на то, что фактически изучаем его «зрелый» период, который, на наш взгляд, принципиально отличается от «раннего». 35 Взгляд на современное изучение Хармса хорошо иллюстрируют слова: «Произведения Д. Хармса имеют своего рода “эзотерический ключ” – определенный объем малоизвестной информации, без знания которого адекватное и полное понимание этих произведений затруднено. Таким ключом является, прежде всего, философия “чинарей”…» (119;12). 36 О литературе абсурда см., например, сборник «Абсурд и вокруг» (9), а также работы Жаккара (56– 61) и Джакуинты (164). 16 Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 1) характеристика хармсовской картины мира, воплощаемой миниатюрами; 2) интерпретация повести «Старуха» и цикла «Случаи» как занимающих особое положение в хармсовской прозе; 3) анализ хармсовского воплощения темы чуда; 4) выделение мотивов и приемов, определяющих самобытный характер хармсовской прозы; создание на основе этого системы критериев, позволяющих разграничить биографическое и художественное в эпистолярных и дневниковых хармсовских записях37. На защиту выносятся следующие положения: 1) Основная исключительно в смысловая доминанта хармсовской религиозно-нравственной, а не в прозы лежит философско- познавательной сфере и строится на оппозиции «спасение – не-спасение». 2) Смысловая доминанта цикла «Случаи» напрямую связана с проблематикой спасения и совпадает, таким образом, с проблематикой повести «Старуха». 3) Феномен спасения является ключевым и для хармсовского понимания чуда (что идет вразрез с «чинарской» концепцией, отраженной в комментариях Я. С. Друскина и позднейших интерпретаторов). 4) Инвариантная устойчивость сквозных мотивов и приемов хармсовской прозы позволяет разделять художественное и биографическое в текстах спорного статуса. 37 Значимость этой проблемы отмечена, например, М. Б. Мейлахом: «С законченными текстами соседствуют черновики и наброски, требующие особого подхода» (100;134). 17 Новизна исследования. Новыми в сравнении с существующими трудами являются следующие особенности настоящей работы: – перенос основного смыслового акцента в интерпретации хармсовской картины мира с философского и познавательного на религиозное и нравственное; – интерпретация повести «Старуха», опирающаяся на уникальный феномен возникновения текста, реализуемый последней фразой повести; – полный отказ от восходящей к воззрениям Я. С. Друскина интерпретации хармсовского понимания чуда, обоснование этого отказа и необходимости принятия альтернативного толкования; – целостная интерпретация цикла «Случаи», опирающаяся на особенности его композиции; – нахождение смысловых инвариантов хармсовских миниатюр и выделение устойчивых групп произведений, позволяющее уточнить и систематизировать как интерпретации отдельных миниатюр, так и в конечном итоге представление о хармсовской картине мира в целом; – выработка иного – противоположного устоявшемуся – воззрения на хармсовское «детоненавистничество», ставящего под сомнение последнее и отводящего ему единственно адекватную служебную роль; – создание системы критериев, позволяющих произвести достаточно уверенное отнесение текстов к той или иной группе и отменяющих таким образом спорный статус многих дневниковых и эпистолярных записей Хармса. Научно-практическая значимость исследования. Работа намечает путь к иному в сравнении с распространенными способу публикации хармсовского прозаического наследия. В частности, предлагаемое в настоящей работе деление миниатюр на группы позволяет принять принцип компоновки текстов, альтернативный хронологическому. Данный подход также применим к текстам Хармса, имеющим спорную природу (формально дневниковым и эпистолярным). 18 Методологическая база исследования. В исследовании мы придерживаемся традиционной установки на единство содержания и формы произведения (в отечественном литературоведении обоснованное М. М. Бахтиным). Представляется целесообразным изучать словесную ткань хармсовских произведений, способы повествования и т. д. исключительно в связи с их смысловым наполнением. Использование философских трактатов, записей, манифестов для изучения хармсовских произведений отнюдь не является необходимым и даже в ряде случаев отдаляет от их понимания, поэтому мы отдаем предпочтение имманентному анализу (в понимании, близком А. П. Скафтымову и Ю. Н. Чумакову). Монохромность хармсовских произведений обуславливает обращение к телеологическому принципу и поиску целого, к которому по-своему устремлен каждый компонент (А. П. Скафтымов, В. С. Непомнящий); также мы придерживаемся подхода, подчиняющего рассмотрение частных вопросов поиску доминанты произведения и предполагающего изучение художественного мира писателя в целом (А. П. Чудаков). В работе применяется также аксиологический подход, что обусловлено важнейшей ролью ценностей в творчестве Хармса. Апробация диссертации. Основные положения данной работы опубликованы в научных журналах «Вопросы литературы» («“Старуха” Д. Хармса в свете последней фразы», «Иное в произведениях Даниила Хармса», «О композиции “Случаев” Даниила Хармса», «“Водевили” Даниила Хармса»), «Литературная учеба» («Функции “детоненавистничества” в произведениях Д. Хармса»), «Вестник гуманитарного научного образования» («Сусанин и Пушкин Даниила Хармса»), а также в монографии «Удивить сторожа. Перечитывая Хармса». Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложения. В первой главе («Смысловые доминанты прозы Д. Хармса») предпринимается попытка целостной интерпретации хармсовской картины мира. Все прозаические миниатюры разбиваются на группы с целью выявления функций и роли каждой группы 19 для формирования этой картины. Основная тема первой главы – беспросветность «мира». Вторая глава («Спасение как смысловая доминанта прозы Д. Хармса») целиком посвящена теме спасения в религиозном понимании. Подробно анализируются повесть «Старуха» и цикл «Случаи» как основные произведения, этой теме посвященные. В этом же ключе рассматривается феномен чуда у Хармса. В третьей главе («Ведущие мотивы и приемы прозы Д. Хармса») характеризуются основные особенности прозы Хармса, для чего выделяются наиболее устойчивые мотивы и приемы. В результате вырабатывается способ различения хармсовских текстов – как тех, которые были рассмотрены в первой главе, так и иных. Библиография состоит из 168 источников. Общий объем работы – 235 страниц. 20 Глава I. Смысловые доминанты прозы Д. Хармса В прозе Хармса отчетливо выделяются авторские инварианты. Практически в каждом хармсовском произведении зрелого периода вычленяется некая доминанта. При этом произведений намного больше, чем различных доминант38 (их у Хармса, в действительности, не очень много). Уже одно это располагает к условному разбиению произведений на группы. Сам Хармс эти группы не выделял, однако даже если он не предполагал, что соответствующие рассказы могут быть соотнесены по какому-то конкретному признаку и могут условно рассматриваться в качестве некой группы, то получилось у него именно это. Мы предполагаем, что начиная с некоторого момента Хармс выработал определенную технику и овладел вполне конкретным арсеналом приемов, поэтому каждое его новое произведение, с одной стороны, отчасти дублировало уже некогда написанное, с другой же – добавляло новые оттенки к группе в целом. Поэтому наше условное общее разбиение на группы помогает в интерпретации конкретных миниатюр. Если в некоторых произведениях данной группы какой-то характерный для нее прием вполне очевиден и лежит на поверхности, то в других этот прием может быть совершенно незаметен. Но принадлежность к группе тем не менее определяется, что в свою очередь располагает к поиску данного приема, и этот поиск часто приводит к плодотворным результатам. Таким образом, наше условное разбиение на группы обогащает понимание Хармса. Ранее исследователями неоднократно предпринимались попытки классификации хармсовской прозы. 38 Избирая как основное при анализе хармсовской прозы понятие доминанты, мы опираемся на идею А. П. Скафтымова: «Пред исследователем внутреннего состава произведения должен стоять вопрос о раскрытии его внутренних имманентных формирующих сил. Исследователь открывает взаимозависимость композиционных частей произведения, определяет восходящие доминанты и среди них последнюю завершающую и покрывающую точку, которая, следовательно, и была основным формирующим замыслом автора» (129;133). 21 Так, Ф. В. Кувшинов классифицировал хармсовских персонажей на основе социальных типов («Философ-Художник», «Чудак-Чудотворец», «Правитель-Сверхчеловек-Недочеловек», «Обыватель» (83;125). С другой стороны, о невозможности выстраивания стройной типологии хармсовских персонажей высказывалась Е. Е. Саблина39. А. Г. Герасимова проводила классификацию хармсовской прозы, исходя из различных типов повествователей. Исследовательница выделяла «безликого повествователя-наблюдателя, лишенного эмоций и качеств и лишь иногда морализирующего» и «автора-персонажа, провокационно похожего на прочих персонажей-“недочеловеков”» (32;129). Произведения, где присутствуют данные типы повествователей, исследовательница условно отнесла к «случаям», а произведения, где таких повествователей нет (например, те, где повествователь близок самому Хармсу), – к «не-случаям». Таким образом, была создана глобальная классификация хармсовской прозы, состоящая, правда, всего из двух групп. Е. Е. Саблина предложила немного более разветвленную классификацию, которая основывается на «характере сюжетной ситуации и наличии / отсутствии имени персонажа» (119;132), а также на «типе героя» (119;148). В первую группу попадают «фрагменты, в которых повествуется о персонажах» (эта группа как самая объемная также разделена на подвиды: «фрагменты о персонажах, которые не имеют имен», «фрагменты о персонажах, которые названы по имени») (119;133). Во вторую группу «входят фрагменты, в которых появляется персонаж-повествователь» (там же). Произведения, которые не входят в первые две группы (трактаты40 и рассуждения) Саблина относит к третьей (119;134). О невозможности стройной жанровой классификации прозы Хармса пишет Н. В. Гладких: «…жанровая 39 природа текстов Хармса очень «Творчество Д. Хармса трудно поддается систематизации и классификации, и если количество персонажей поддается подсчету, выявляется повторяемость их имен, то каким-либо образом выстроить типологию персонажей в единую, стройную систему нам не представляется возможным» (119;38). 40 Мы не причисляем хармсовские «квазитрактаты» к его прозаическим произведениям, хотя определенная связь тут, несомненно, есть. 22 своеобразна. Не раз говорилось, что авторское название многочисленных прозаических текстов и сценок Хармса, завершившееся в 1939 году оформлением цикла “Случаи”, может быть наиболее удачным обозначением жанра этих произведений <…> Дело в том, что никаких устойчивых отличительных жанровых признаков случаи не имеют, за исключением сравнительно небольшой величины и отношения к сфере комического. Любой из них более или менее определенно соотносится с каким-либо жанровым прототипом, среди которых: рассказ, анекдот, сказка, драма, биография, автобиография, назидательный пример, басня, письмо, трактат, а также их комбинации. Случаи расслоены не только в жанровом плане, но и в родовом. У них есть два родовых полюса – проза и драма, причем драматические сценки часто написаны в стихах. Поэтому случаи нам кажется более правильным называть квазижанром» (38;99). Классификация по какому-то одному признаку (по типам персонажей или повествователей, по жанру, по характеру сюжетной ситуации и т. д.) не кажется нам плодотворной. Такие классификации получаются слишком общими и, на наш взгляд, в целом мало что проясняют в творчестве Хармса41. Однако в «зрелых» произведениях Хармса вычленяются отчетливые доминанты (иногда классификацию по несколько, чаще однородным одна). признакам Попытки провести представляются нам бесперспективными, поскольку в центре одних произведений – характерный персонаж, в то время как в центре других – характерный авторский прием. Мы же предлагаем разделение хармсовской прозы на группы, исходя из смысловых доминант миниатюр. Доминанты могут быть тематическими или же связанными непосредственно с формальной стороной (например, с особенностями повествования, сюжета, жанровыми аспектами)42. Отметим, 41 Впрочем, принадлежащее Герасимовой максимально общее разделение хармсовской прозы на «случаи» и «не-случаи» позволяет сделать важные выводы (ср. с изучаемой нами в этой главе группой «Я»). 42 Аналогичный подход использует Скафтымов: «Организующие доминанты могут оказаться и в смысле и в форме, и главная формирующая сила может колебаться между идейно-психологическим смыслом произведения и его формальной структурой» (129;133). 23 что наше разбиение на группы весьма условное. Одно и то же произведение можно отнести сразу к нескольким группам, поскольку в произведении может быть несколько доминант. Далее мы последовательно выделим и проанализируем соответствующие группы, придерживаясь следующей схемы: а) Мы условно называем конкретную группу произведений. Указываем принцип, по которому формируется данная группа, определяем характерные черты группы. Выделяем основные инварианты, присущие данной группе. б) Перечисляем названия произведений, которые, по нашему мнению, входят в данную группу (одно и то же произведение может быть причислено сразу к нескольким группам). в) Далее мы анализируем некоторые из произведений группы, чтобы продемонстрировать на примерах, «как сделаны» произведения данной группы. г) Мы пытаемся определить смысл инвариантов данной группы, иными словами – осмыслить группу в целом. 1) Водевили а) Начнем с группы текстов, которую мы условно назовем «водевили». Такое название объясняется тем, что Хармс сам иногда ставил соответствующую помету в названиях небольших сценок («водевиль»), которые, как мы увидим, являются типичными представителями данной группы. Сюда мы отнесем произведения, построенные по следующей схеме: в повествовании подвергается вычленяется нарушению, некий «сдвигу» канон, (в который впоследствии «равновесие» вкрадывается «небольшая погрешность»), что приводит к дискредитации первого. Часто «водевили» представлены в форме небольших сценок. Верно и обратное: большинство хармсовских сценок если и не эталонные хармсовские «водевили», то, по крайней мере, обладают соответствующими чертами. 24 б) К «водевилям» предлагаем отнести: «Объяснение в любви. Водевиль», «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного», «Ссора», «Воронин (вбегая)…», «Обезоруженный или Неудавшаяся любовь. Трагический водевиль в одном действии», «Неудачный спектакль», «Пушкин и Гоголь», «Дует. Дербантова и Кукушин-Дергушин», «Разница в росте мужа и жены», «О драме», «Одна особа…», «Первое действие “Короля Лира”, переложенное для вестников и жуков», «Тюк!», «Каштанов – Лиза! Я вас умоляю…», «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)…», «О Пушкине», «Леонидов: Я утверждаю…», «Нина – Вы знаете! А?...», «Петя входит в ресторан…», «Евстигнеев смеётся. Водевиль о трёх головах», «– Есть-ли что ни будь на земле…», «Бесстыдники. Опера в четырёх действиях», «Швельпин: Удивительная история!...», «Бытовая сценка. Водевиль», «– Федя, а Федя!..», «– Федя, а Федя?..», «Сад при замке барона…», «Дедка за репку (балет)», «Пашквиль», «Адам и Ева. подхихикивать…», Водевиль в «Князь – четырёх Вот, частях», «Муж наконец-то…», – Нечего «Всестороннее исследование», «Рыцари», «На кровате метался…», «Метро», «Ольга Форш подошла к Алексею Толстому…», «Экспромт». Близкое к «водевилям» «резонерство» (см. третью главу) мы отмечаем в начале «Голубой тетради» (до девятого номера включительно), «Один толстый человек…», «У одной маленькой девочки…», «Переводы разных книг…», «Аббат Руссо рассказывает…» (Дн.;1;469), «Жизнь это море, судьба это ветер…» (Дн.;2;129). в) Перейдем к демонстрации на примерах. Сценка «Объяснение в любви», названная «водевилем» самим Хармсом, – типичный представитель данной группы. Канон здесь вычленяется легко – это терзание героев, жаждущих объясниться друг другу в любви, но боящихся быть непонятыми и отвергнутыми. Явлены типичные театральные амплуа: тонко рефлексирующие герои. Но рефлексируют они, как это традиционно для театра, на весь зал. На этом и основан «сдвиг». Томящиеся влюбленные 25 («Тут никого нет. Посижу ка я тут <…> А, кажется, я одна. Никто меня не видит и не слышет <…> Вот хорошо, что я один. Я влюблён и хочу об этом подумать <…> Любит ли он меня? Мне так хочется, чтобы он сказал мне это. А он молчит, всё молчит» – с. 65–66)43, скорее всего, находятся едва ли не друг против друга. Этот эффект усиливается тем, что каждая следующая реплика как бы цепляется за предыдущую, хотя по замыслу герои друг друга принципиально не слышат. «Он: Как бы мне объясниться ей в любви. Я боюсь, что она испугается и я не смогу её больше видеть. Вот бы узнать, любит она меня или нет. Она: Как я его люблю! Неужели он это не видит. А вдруг заметит и не захочет больше со мной встречаться» (с. 66). То есть вынесенное в заглавие «объяснение в любви», на которое каждый влюбленный никак не может решиться, – это канон. А вот то, что влюбленные говорят об этом в непосредственной близости друг к другу, – «сдвиг». В этом тексте издевательство над театральной условностью доведено до гротескных масштабов. Следующее произведение, которое Хармс отнес к «водевилям» явно, – «Обезоруженный или Неудавшаяся любовь» («Трагический водевиль в одном действии»). Канон здесь – пылкий любовник, домогающийся «неприступной» дамы. Несмотря на то, что происходящее привычно (если мы говорим о текстах Хармса) отдает безумием, персонажи до поры до времени вполне соответствуют своим амплуа. «Благовоспитанная» дама «честно» разыгрывает полагающуюся в таких случаях прелюдию, но уже вотвот готова «уступить». Но тут происходит сбой в каноне. Дело в том, что в роли любовника выступает Лев Маркович, интеллигент: «Л. М. (Суетится, лезет рукой за своим инструментом и вдруг оказывается, не может его найти)» (с. 102). В «готовности» канонического любовника не может быть сомнений, она подразумевается как нечто само собой разумеющееся – 43 Здесь и далее ссылки на художественные произведения Хармса даются по изданию: (8) с указанием в скобках страниц. 26 препятствием же бывает только неуступчивость дамы (как правило, временная). Вокруг этой пошлости и построена миниатюра. Другое произведение, принадлежность которого к «водевилю» отмечена Хармсом в названии, – «Бытовая сценка». Сно выступает в каноническом амплуа шалящего весельчака. «Сдвиг» состоит в том, что на самом деле он просто безумен. Еще одно произведение (отчетливо неоконченное), которое к «водевилям» отнесено самим Хармсом, – «Евстигнеев смеётся. Водевиль о трёх головах». В этом произведении, ввиду его большого (в случае Хармса) объема, вычленяется сразу несколько канонов и, соответственно, сдвигов. Первый канон – типичный театральный монолог. Жена осуждает мужа, умоляет его «не дуть в флейту»; ее реплики – это сплошные штампы. Но этот внешне классический монолог дважды прерывается смехом Евстигнеева «Хы-хы-хы!». Эти междометия недоумка играют роль окончательно дискредитирующего все «сдвига». Один канон сменяется другим – монологом дамы из высшего общества, светской львицы: «О, душа моя, столько новостей! Столько новостей! Я брежу театрами и светской жизнью. Да, милочка, я вся для общества! Грегуар подарил мне тончайший заграничный <…> Ах, да, милочка, жё сюи малад…» Но вот чем это перемежается: «Грегуар подарил мне тончайший заграничный чулок, но, к сожалению, только один. Так что его нельзя носить» (с. 176). Отдельно комментировать, в чем состоит этот «сдвиг», – излишне. «Первое действие “Короля Лира”, переложенное для вестников и жуков». В данном случае канон и «сдвиг» представлены уже в заглавии (первая и вторая его части соответственно). Начало «переложения» совершенно канонично и очень близко к оригиналу: «Тронная зала во дворце короля Лира. Входят Кент, Глостер и Эдмунд. Кент – Мне казалось, что у короля сердце лежит больше к Альбини, а не к герцогу Коруэллскому. Глостер – Мне тоже так казалось, а вышло не так: при разделении королевства все получили по равной 27 доле. Все равны. Никому предпочтения». Едва прозвучала возвышенная интонация, как тут же проявляется «сдвиг» (традиционные аристократичные герои оказываются просто идиотами): «Кент – Это кто? (указывая на Эдмунда) Эдмунд (вздрогнув) – Он указывает на меня». Вот как преломилось благородное «Это ваш сын, милорд?»44 – в «мире» все просто: достаточно показать пальцем и спросить «Это кто?», да и Эдмунд ведет себя не совсем по-шекспировски. Интересно, что дальше Хармс возвращается к канону, который поразительно органично встраивается в логику хармсовского «мира»: «Глостер – Это мой незаконный сын [у Шекспира: “Я причастен, сэр, к его рождению ”]. Я раньше краснел, глядя на него, но теперь я привык». Последнее предложение – практически дословный перевод! Выходит, Шекспир сам впустил «сдвиг». Но если для многих он бы так и остался незамеченным, то Хармс, мгновенно уловив это отклонение, усилил его (тем самым ясно его продемонстрировав): «…Больше не краснею, а раньше краснел. Эдмунд – А я раньше не краснел, а теперь краснею. Кент – А я никогда не краснел. Даже не знаю, как это так». После этого Хармс снова возвращает канон: «…Но тише, идёт король. Входят Лир, Гонерилья, Регана и Корделия. Лир – Король французский полон славы» (с. 143). Однако читатель прекрасно помнит об имевшем место «сдвиге». Хармс дискредитирует не только театр, но и оперу. Обратимся к «Бесстыдникам. Опере в четырёх действиях» – сплошному издевательству над (теперь уже оперной) условностью. Боголюбов и Порошков поют: первый о том, как он собирается побить второго, а второй – о том, что ничего у первого не выйдет. Дискредитируется и исключительно оперная специфика: об экспрессивном действии под воздействием порыва (что несовместимо с каким бы то ни было промедлением) поется трижды («Вот я тебя сейчас побью», «Нет, побью!», «Побью!»), и трижды поется ответ («Нет, ты меня не побьёшь!», «Однако, не побьёшь!», «Не побьёшь!»). После чего «оба садятся на стулья», и о том же самом поют уже два (!) Хора («Он его 44 Здесь и далее «Король Лир» У. Шекспира цитируется в переводе Б. Л. Пастернака. 28 побьёт» – «Нет, он его <не?> побьёт»). Это безумие оканчивается тем, что так все и происходит: «Боголюбов <…> ударяет Порошкова палкой, но Порошков увёртывается от удара» (с. 196–197). Помимо театра и оперы Хармс дискредитирует и балет. «Дедка за репку» Хармсом назван балетом (хотя на этот раз сходств с анонсированным жанром несколько меньше). В центре действия – репа, которая, как выяснится, обозначает Россию. Далее на сцене появляются Кулак и Андрей Семенович. «Андрей Семёнович в золотом пенснэ» персонифицирует интеллигенцию, Кулак персонифицирует соответствующий класс. Они думают завладеть Россией. Далее на сцене появляется Америка, «тётя Англия», Франция. Канон легко угадывается – это изображение иностранной военной интервенции в России (1918–1921)45. Все заканчивается тоже вполне канонично: «…из люка вылезает огромный Красноармеец. Кулак и Андр. Сем. падают в верх тармашкой». Итак, здесь представлен канон в каноне: балетный рассказ об иностранной интервенции в образе известной русской народной сказки. «Сдвиг» – в невероятно сниженном изложении «истории становления молодой советской республики» (с. 218–221). В сценке «О драме» в роли канона выступает «возвышенная» богема и ее беседы об искусстве. «Сдвиг» – абсолютная бессмысленность и пустота этих разговоров. Заканчивается все и вовсе фантасмагорической картиной: «Все хором: Да, прозаическая драма – самый трудный вид творчества» (с. 129). В крохотной сценке «Воронин (вбегая)…» канон – поворотное историческое событие, «остановка истории». «Сдвиг» – то, что о нем было известно заранее. Возможно, здесь также высмеивается «театральный» подход к истории, когда уже имеется некое представление о значимости и последствиях исторических событий, на фоне которых разворачивается действие. Когда персонажи, у которых по сюжету все происходит буквально 45 Отмечено в: (119;122). 29 «на глазах», каким-то образом осмысляют происходящее едва ли не штампами из соответствующих учебников. В сценке «Дует. Дербантова и Кукушин-Дергушин» Дербантова выступает в классическом амплуа шалуньи. «Сдвиг» в том, что Дербантова просто сумасшедшая, что понятно из первой же реплики. Однако КукушинДергушин к ней относится именно как к шалунье, пытается говорить с ней вполне серьезно. Выглядит это, конечно, абсурдно. В сценке «Разница в росте мужа и жены» также обыгрывается канон. В центре – деятельный, державный, властный муж в разгаре своей «деятельности». Однако деятельность эта весьма странна: «Муж: Я выпорол свою дочь, а сейчас буду пороть жену». По канону всем полагается что-то робко и покорно ответить, по-простому говоря, что-то «проБэкатьпроМэкать». Но в «мире» Хармса метафора часто теряет переносный смысл: «Жена и дочь (из за двери): бэ бэ бэ бэ бэ! Мэ мэ мэ мэ мэ!»46. Муж готов раздавать новые указания: «Муж: Иван! Камердинер Иван! (входит Иван. У Ивана нет рук). Иван: Так точно!» По канону Иван – образцовый исполнитель указаний, обязанный держать ответ перед хозяином и отчитываться за любые непорядки. Такой «непорядок» действительно обнаруживается (в чем в очередной раз проявляется «сдвиг»): «Муж: Где твои руки Иван?». Деятельный хозяин требует ответа «по всей строгости». Камердинер рапортует: «Иван: В годы войны утратил их в пылу сражения!» (с. 115). Еще один развенчанный штамп. Амплуа здесь канонические, а реплики и, следовательно, ситуация в целом – абсурдны. В сценке «Каштанов – Лиза! Я вас умоляю…» Каштанов выступает в каноническом амплуа изнемогающего влюбленного, жаждущего узнать, «кто же его возлюбленная». «Сдвиг» заключается в невероятной глупости 46 Ср. с рассуждениями О. Л. Чернорицкой о связи абсурда и буквального восприятия метафор: «Чаще всего он [абсурд] возникает на основе отождествления элементов метафоры или ее разновидностей (оксюморона, гротеска, парадокса, олицетворения и т. д.) с введением данного тропа в профанную реальность вещного мира. В результате образуется эквивалент истины, способный при определенных художественных или исторических условиях зарекомендовать себя как абсурд. Мышление персонажа, склонного к буквальному прочтению метафор (отождествлению означаемого и означающего), Вольф Шмид называет абсурдным (“Проза как поэзия”)…» (143;2). 30 Каштанова. Канонический вопрос, который он постоянно повторяет («Лиза! Кто вы?»47), подразумевает переносный смысл. Однако этот переносный смысл, видимо, упраздняется глупостью Каштанова: «Елизав. – Да что вы привезались ко мне с идиотской фразой. Вы не знаете, кто я, что ли? Кашт. – Незнаю! Незнаю!» (с. 143–144). Переносный смысл упраздняется и в сценке «Князь – Вот, наконецто…». В качестве канона здесь представлена радостная встреча влюбленных. Князь «счастлив видеть» княгиню. «Сдвиг» в том, что утрачивается переносный смысл этих слов: «Княгиня – А я вас не вижу. Князь – Как так? Княгиня – Да вот не вижу вас» (4;270). В миниатюре «– Есть-ли что ни будь на земле…» в качестве канона выступает разговор ученика с гуру об устройстве бытия. Учитель вроде бы начинает отвечать по сути: «– Это… – начал мой учитель и вдруг замолчал». Тут происходит «сдвиг»: «И я стоял и молчал. И он молчал. И я стоял и молчал. И он молчал. Мы оба стоим и молчим. Хо – ля – ля!» Ученик, как видно, безумен. Видимо, как и его гуру: «Мы оба стоим и молчим! Хо – лэ – лэ! Да да, мы оба стоим и молчим!» (с. 186). Сценка «Петя входит в ресторан…» выстроена по уже известной схеме. Канон здесь – разговор с официантом. «Сдвиг» в том, что официант сумасшедший. В сценке «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)…» канон – первая половина текста без ремарок. «Сдвиг» – Григорьев все свои светские реплики произносит не иначе, как «ударяя Семёнова по морде» (с. 144–145). К «водевилям» есть основания отнести и сценку «Швельпин: Удивительная история…». Чтобы стал ясен канон, мысленно везде заменим слово «искусала» на «обидела». «Швельпин: Удивительная история! Жена Ивана Ивановича Никифорова [обидела] жену Кораблёва! Если бы жена Кораблёва [обидела] бы жену Ивана Ивановича Никифорова, то всё было бы 47 Ср. с диалогом Одинцовой и Базарова: «–…Словом, кто вы, что вы? – Вы меня удивляете, Анна Сергеевна. Вам известно, что я занимаюсь естественными науками, а кто я… – Да, кто вы?». 31 понятно. Но то, что жена Ивана Ивановича Никифорова [обидела] жену Кораблёва, это поистине удивительно! Смухов: А я вот нисколько не удивлён» (с. 199–200). Совершенно канонический диалог. Однако у Хармса вместо слов «обидела» именно «искусала». В этом и состоит «сдвиг». Условное выделение группы «водевили» помогает нам увидеть черты «водевилей» не только в сценках, но и в небольших рассказах, которые, на первый взгляд, к «водевилям» отношения не имеют. Однако в основе этих рассказов именно схема «водевилей»: канон – и его «сдвиг». В этом смысле очень показательна миниатюра «Одна особа…»: «Одна особа, ломая в горести руки, говорила: “Мне нужен интерес в жизни, а вовсе не деньги. Я ищу увлечения, а не благополучия. Мне нужен муж не богач, а талант…» (перед нами канон). А в продолжении – уже «сдвиг»: «…режиссёр, Мейерхольд!» (с. 131). Из речи «одной особы» до слов «режиссёр, Мейерхольд» следует, что избранник принципиально неизвестен. Вульгарная конкретизация, в свою очередь, не просто обесценивает, но и заменяет все сказанное ранее на диаметрально противоположное. Становится ясно, что «одной особе» нужны… «деньги, благополучие, богач… режиссёр, Мейерхольд». Знакомство с приемом, на котором построены «водевили», на наш взгляд, играет ключевую роль в интерпретации весьма сложной миниатюры «О Пушкине». Читателю довольно непросто решить, как в данном случае относиться к написанному. Но заметим, что канон вычленяется однозначно – это рассуждение о Пушкине. Можно даже сделать уточнение. Скорее всего, в этот момент Хармс задумывал или писал заказанный детским журналом рассказ «Пушкин» (он закончен на три дня позже, чем миниатюра «О Пушкине»). То есть канон – журнальное ознакомление неискушенной аудитории с Пушкиным. Проследим, как развивается этот канон (в миниатюре «О Пушкине»): «Трудно сказать что ни будь о Пушкине тому, кто ни чего о нём не знает. Пушкин великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин». Здесь угадывается интонация 32 снизошедшего до наивной аудитории интеллектуала. Пока рассказчик не дискредитирован, хотя появление в этом контексте Наполеона уже несколько настораживает. «И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто». Рассказчик настораживает все больше. «И Александры I и II, и III…» – это уже совсем «на грани» – «…просто пузыри по сравнению с Пушкиным» (с. 159). Все. Рассказчик по интеллектуальным способностям сравнялся с традиционными хармсовскими идиотами. Тот «сдвиг», который мы были вправе ожидать, обнаружив канон, действительно произошел. И несомненно достойная тема (рассказать о величии Пушкина) полностью извращена идиотизмом рассказчика. В позднем рассказе «Пашквиль» интрига кроется достаточно глубоко. Автор названием недвусмысленно дает понять, что текст компрометирующий (в данном случае скомпрометирован может быть только главный персонаж – Антон Исакович Ш.). Однако читателю отнюдь не просто понять, в чем, собственно, компрометация состоит. Попробуем взглянуть на эту историю с позиций схемы канон – «сдвиг». Тут же вычленяется канон: приторная история о счастливой семейной паре: «“А ну, голубушка, состряпай ка мне что ни будь из лапши”. И пока жена его стряпает, оно [то самое историческое лицо] сидит за столом и книгу читает». Далее следует «игривое» описание жены (преднамеренно переполненное уменьшительно-ласкательными): «Жена его хорошенькая, в кружевном передничке, с сумочкой в руках, а в сумочке носовой платочек и ватрушечный медальончик лежат, жена его бегает по комнате, каблучками стучит как бабочка, а оно скромно за столом сидит ужина дожидается». Очевиден эротический контекст. Следующее предложение это лишь впрямую подтверждает: «Всё так складно и прилично». «Жена ему что ни будь приятное скажет, а оно головой кивает. А жена порх к буфетику и уже рюмочками там звенит. “Налей ка, душенька, мне рюмочку”, – говорит оно. “Смотри, голубчик, не спейся”, – говорит ему жена. “Авось, пупочка, не сопьюсь”, – говорит оно, опрокидывая рюмочку в рот». Их обращения друг к другу («голубчик», «пупочка») – очередной штрих, свидетельствующий об 33 отнюдь не платоническом контексте. «А жена грозит ему пальчиком, а сама боком через двери на кухню бежит. Вот в таких приятных тонах весь ужин проходит, а потом предшествующему, они в спать закладываются». повествовании наступила Судя по всему кульминация. И действительно, осталось всего одного предложение. Но именно в этот момент происходит «сдвиг»: «Ночью, если им мухи не мешают, они спят спокойно, потому что уж очень они люди хорошие!» (с. 238–239). Оказывается, приторную страсть они только разыгрывают – между ними ничего нет. Об этом, оказывается, и поведал «Пашквиль», как и полагается. Все стало на свои места. Немаловажно, что Хармс таким образом дискредитировал знаменитого чтеца, декламатора (А. И. Шварца). Можно предположить, как Хармс воспринимал эстрадное чтение стихов, в том числе романтических и весьма «страстных», к примеру лермонтовских, далеко не столь юным чтецом (Шварц был почти на десять лет старше Хармса, которому в момент написания «Пашквиля» было тридцать четыре). Вероятно, Шварц, был весьма выразителен в своем декламаторском ремесле и, как и предполагается жанром, активно изображал «страсть». Чувствительный к любой фальши, Хармс не обратить на это внимания явно не мог. В рассказе Хармс даже прибегает к редкой для себя прямолинейности: акцентирует бесполость чтеца, употребляя по отношению к нему исключительно местоимение «оно». Несложно предположить и причину столь сильного неприятия. Чтец – имитатор по своей сути. И именно он пользовался в тот момент успехом и признанием. В то время как у подлинного творца – Хармса – не было даже гипотетической возможности опубликовать «взрослые» произведения. Благодаря «Пашквилю» можно понять чрезвычайно проблемное для интерпретации произведение, написанное приблизительно за пять лет до «Пашквиля», – «Адам и Ева. Водевиль в четырёх частях». В нем речь идет о той же семейной паре (вновь появляется Антон Исаакович, а сам водевиль посвящен А. И. Шварцу и его жене Н. Б. Шварц-Шанько). Канон здесь как 34 будто бы тот же – счастливая семья. Но если присмотреться, то окажется, что это не совсем так. На самом деле канон здесь не что иное, как всесильная любовь, преодолевающая любые преграды. И действительно: «Адам Исаакович и Ева Борисовна летают над городом Ленинградом. Народ стоит на коленях и просит о пощаде. Адам Исаакович и Ева Борисовна добродушно смеются». Влюбленные властвуют над миром… «Сдвиг» состоит в том, что это удалось совершенным обманщикам. Никакой влюбленности нет – впрямую сказано, что речь идет лишь о том, чтобы произвести впечатление на третьих лиц. То есть опять имитация. Но в «мире» она удается! В нем могут произойти какие-то внешние изменения («По улице скачут люди на трех ногах. Из Москвы дует фиолетовый ветер»), но главное – низость и мерзость – остается неизменным. Поэтому так просто стать в «мире» Адамом и Евой (точнее, Адамом Исааковичем и Евой Борисовной). Для этого надо всего лишь встать «на письменный стол, и, когда кто-нибудь будет входить <…> кланяться и говорить: “Разрешите представиться – Адам и Ева”». В этом смысле данная сценка более о «мире», нежели о чтеце. Несомненен здесь и эротический подтекст. Сопоставление с «Пашквилем» это только подтверждает: еще один «сдвиг» – в самой демонстрации интимной жизни и ее благополучия. Цель достигается: «Вейсбрем падает как пораженный громом». Водевиль заканчивается словами: «Адам и Ева сидят на березе и поют» (4;245–246). Преображение, в котором нет ничего кроме лжи, окончательно осуществилось. Отметим, что это произведение названо «водевилем» самим Хармсом. Это убеждает нас в уместности отнесения к «водевилям» и рассказа «Пашквиль». В более же широкой перспективе это подтверждает резонность группировки произведений, построенных по схеме канон – «сдвиг», и условное именование этих произведений «водевилями». Черты «водевилей» можно увидеть и в произведениях, где фигурируют хармсовские «доктора». В «Рыцарях» доктор совершенно каноничен. Он надевает халат, требует инструменты и даже произносит сакраментальное докторское «ну-с», прежде чем заняться больной. «Сдвиг» состоит в том, что 35 под этой маской – одержимый, который не в состоянии ни при каких условиях уйти, «так ничего и не сделав». И потому, поняв, что Звягиной не помочь, доктор, бездействие для которого немыслимо (он уже выполнил ритуал, он обязан продолжить!), дробит старушечью челюсть при помощи молотка и стамески, затем вырывает ее клещами, после чего, удовлетворенный, уходит. Аналогично доктор, задумавший «исследывать» («Всестороннее исследование»), уже не может не дать «исследывательскую пилюлю» – в крайнем случае она достанется первому же попавшемуся под руку. «Сдвиг» в безумие и садизм снова (как и в «Рыцарях») совмещен с совершенно традиционной – как и практически во всех произведениях Хармса – «декорацией». Произведения, в которых присутствует схема «водевилей», обнаруживаются и в цикле «Случаи». Например, в «Тюке» вычленяется канон – чеховская драматургия48. «Сдвиг» – безумие мира и отсутствие какой бы то ни было глубины. У Чехова все реплики включены в сложный, богатый контекст, где едва ли не за каждым словом скрывается что-то недоговариваемое. Но если «издевательство» Пети Трофимова вписано в его сложные взаимоотношения с Варей (да и с обитателями усадьбы вообще), то Евдоким Осипович просто дразнит Ольгу Петровну. Дразнит – и все; тут издевательство – без кавычек. Хармс предъявляет чеховскую модель, но на этот раз за ней – пустота. Также к «водевилям» можно отнести «Неудачный спектакль». Канон – формальный конферанс, вносящий изменения в программу. «Сдвиг» – «всех тошнит». Господа и дама пытаются соблюсти приличия, их неудавшиеся 48 На это обратил внимание Р. П. Айзлвуд (160). Речь идет, безусловно, о знаменитом чеховском приеме, когда «персонажи как бы не слышат друг друга» (В. Б. Катаев). Кроме того, некоторые чеховские фрагменты напоминают «Тюк» интонационно, а иногда даже структурно. Вот, например, отрывки из «Трех сестер»: «Тузенбах. Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий! Соленый (тонким голосом.) Цып, цып, цып... Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать. Тузенбах. Василий Васильич, прошу вас оставить меня в покое... (Садится на другое место.) Это скучно, наконец. Соленый (тонким голосом). Цып, цып, цып <…> Соленый (проходя в залу). Цып, цып, цып... Тузенбах. Довольно, Василий Васильич. Будет! Соленый. Цып, цып, цып...» «Цып» – практически тот же «тюк». Другие интонационно близкие моменты: Войницкий дразнит Елену Андреевну (начало третьего действия «Дяди Вани»), Трофимов «дразнит Варю» (начало третьего действия «Вишневого сада»). 36 фразы – это оборванные клише: «Уважаемый Петраков-Горбунов должен сооб…», «Чтобы не быть…», «Я была-бы…» (с. 351–352). Каждый следующий оратор делает вид, будто ничего особенного не происходит, однако имеющая место тошнота персонажей делает их реплики совершенно неадекватными происходящему. В сценке «Пушкин и Гоголь» канон – метафорическое изъяснение, основанное на переносном смысле слова «спотыкание»49. «Сдвиг» – классики буквально спотыкаются друг о друга (уже отмечавшееся отсутствие переносного смысла). Наконец, «Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного». Канон здесь – именно то, что изложено в названии, а также спор о профессиональной состоятельности, о призвании. «Сдвиг» – неадекватность заявленного формата и используемого языка (проще говоря, низость и грубость). Вариантом названия также было: «О том, как писатели чутки к словам (водевиль)» (с. 436), так что можно сказать, что это несколько другая вариация канона. Мы видим, что над этим текстом вполне могла стоять авторская помета «водевиль». Это вновь несколько оправдывает нас в нашем условном причислении к «водевилям» произведений, в которых этой пометы нет. г) С помощью главного приема «водевилей» – «сдвига» в каноне – Хармс подчеркивает определенные характеристики «мира» (фальшь, пустоту, низость, безумие, опасность). Особенно в связи с «водевилями» стоит отметить авторское издевательство над фальшью (поскольку остальные характеристики «мира» раскрываются и в текстах, к «водевилям» не относящимся). Видимо, Хармс был особенно чувствителен в отношении любой фальши. Как некий эмблематический 49 носитель узаконенной А. Т. Никитаев, например, предполагает следующий источник: «На заседании во время обсуждения реферата Д. С. Мережковского “Гоголь и о. Матвей” на реплику Мережковского: “Для вас Пушкин неинтересная величина, а для Гоголя в Пушкине было хотя еще не вмещенное историческим христианством, но несомненно религиозное начало”, – В. А. Тернавцев ответил: “Да, но это абсурд: для идущего на пророческое служение – спотыкаться об Пушкина!..”» (108;49). 37 условности подвергается нападкам театр (а также опера и балет), а для высмеивания фальши Хармс выбирает «водевили». Сам по себе канон являет образ общеизвестного и предсказуемого. Однако все разрушается из-за того, что в декорациях априори разумного канона действуют безумцы. Именно отсутствие у персонажей разума и разрушает канон, делая, тем самым, лживым любой «порядок». Таким образом, «Водевили» говорят, что все схемы лживы. 2) Мудрый старик а) Следующую группу назовем «Мудрый старик», ссылаясь на рассказчика из «Воспоминаний одного мудрого старика». В эту группу мы отнесем произведения, в центре которых стоит персонаж, условно названный нами мудрым стариком («мудрый старик» может быть и рассказчиком). Во избежание путаницы мы будем называть рассказчика из «Воспоминаний одного мудрого старика» оригинальным «мудрым стариком», остальных же персонажей данного типа мы будем называть «мудрыми стариками» условно. К «мудрым старикам» мы причисляем в первую очередь персонажей, которым свойственны следующие черты: мнимое чувство собственного достоинства, самовосхваление, невероятная глупость, ничтожность, трусость, жестокость к тем немногим, кто слабее их (женщины, дети, животные). При этом допускаются вариации. Оригинальный «мудрый старик», несмотря на невероятную глупость, обладает звериной осторожностью (подпитываемой его невероятной трусостью), благодаря которой ему – вполне сознательно – удается избежать побоев. Герою из рассказа «Личное пережевание одного музыканта», напротив, эта осторожность изменяет, что имеет соответствующие последствия: «Вот уже пятый день, как меня избили, а кости всё ещё ноют» (с. 167). Свою ничтожность, которую «мудрые старики», видимо, подсознательно ощущают, они пытаются компенсировать в фантазиях и в разговорах с самими собой. Эта попытка компенсации представлена в самом названии – «мудрый старик», поскольку из контекста 38 ясно, что «старик», напротив, чрезвычайно ничтожен, а «мудрость» – это выдуманная им компенсация. б) На наш взгляд, к группе «Мудрый старик» следует отнести «Воспоминания одного мудрого старика», «Теперь я расскажу…», «Инкубаторный период», «Липавского начала мучить кислая отрыжка…», «Не знаю, почему все думают…», «Однажды я пришел в Госиздат…», «Я встретил Заболоцкого, он шёл в пивную…», «Личное пережевание одного музыканта», «Рыцарь», «Однажды Марина сказала мне…», «Меня называют капуцином…», «Шашкин (стоя посередине сцены)…», «Прав был император Александр Вильбердат…», «Так началось событие…», «Я не люблю детей, стариков…», «Синфония № 2», «Исторический эпизод», «Оптический обман», «Лыкин сидел у окна и курил трубку…» (Дн.;2;156), « – Федя, а Федя!..», « – Федя, а Федя?..», «О Пушкине», «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)…» (последние четыре миниатюры мы также отнесли к «водевилям»). С оговорками к группе «Мудрый старик» можно отнести «Павел Супов разделся…», «О наших гостях», «Когда я вижу человека…»50. в) Начать резонно именно с «Воспоминания одного мудрого старика». В этом рассказе «мудрый старик» вспоминает о своем «могуществе»: «…было время, когда любой из вас пришел бы ко мне, и, какая бы тяжесть не томила его душу, какие бы грехи не терзали его мысли, я бы обнял его и сказал: “Сын мой, утешся, ибо никакая тяжесть души твоей не томит, и никаких грехов не вижу я в теле твоем”, – и он убежал бы от меня счастливый и радостный. Я был велик и силён <…> Мне часто целовали ноги, но я не протестовал: я знал, что достоин этого <…> Все преклонялись передо мной! И не только люди, даже звери <…> В то время я был действительно очень мудр и всё понимал. Не было такой вещи, перед которой я встал бы в тупик. Одна минута напряжения моего чудовищного ума, и самый сложный вопрос разрешался наипростейшим образом…». 50 Эти три миниатюры, видимо, находятся в сложном пересечении двух групп: «Мудрый старик» и «Я» (последняя будет рассмотрена ниже). 39 Процитированные реплики кажутся нам крайне типичными для типа «мудрый старик» вообще. Оригинальный «мудрый старик», как и остальные, оказывается ничтожеством. Это следует из его же рассказа: его банально обокрали. Однако впрямую «мудрый старик» в этом не признается. Отметим, что звериная осторожность помогает ему последовательно вести себя как жертва, никакого могущества – даже претензий на него – он не демонстрирует. «Старик» «мудр» только в своих речах (в действиях же он трусливо осторожен). Видимо, оригинальный «мудрый старик» трусливо осознает свое ничтожество, благодаря чему ему удается избежать побоев. Но он изо всех сил пытается компенсировать свою жалкую сущность – для этого и создается весь этот ореол мудрости. Неприятные моменты старательно вытесняются, «старик», к примеру, «точно не помнит», куда «исчезла» его жена (в то время как читатель догадывается, что она от него ушла). Он безропотно соглашается на мнимого брата, только бы выдержать «могущественную линию». Но даже здесь ему не удается скрыть свою природу: «Мой брат был полная моя противоположность: во-первых, он был выше ростом, а во-вторых, глупее». «Мудрый старик», который по придуманной им легенде отличается именно мудростью, казалось бы, должен в первую очередь обратить внимание на свое интеллектуальное превосходство, однако сначала он говорит о физическом превосходстве «брата», тем самым в очередной раз обнаруживая свою подлинную природу. Поясним, звериная осторожность не делает оригинального «мудрого старика» умнее: он, рассказав весьма постыдную для себя историю (что прекрасно понятно читателю и чего «мудрый старик», по-видимому, не осознает), как ни в чем не бывало продолжает говорить о своем «могуществе»: «Я жил один и пускал к себе только тех, кто приходил ко мне за советом. Но таких было много, и выходило так, что я ни днем, ни ночью не знал покоя <…> Один раз я не выдержал и рассмеялся. Они с ужасом кинулись бежать, кто в дверь, кто в окно, а кто и прямо сквозь стену». Однако осторожность героя проявляется даже в его собственных фантазиях, 40 поэтому и в начале, и в конце сказано: он «уже не то»; можно «считать даже, что его нет», ведь предъявить «мудрому старику» нечего (с. 201–206). В небольшом «сборнике» «Однажды я пришел в Госиздат…» мы моментально опознаем еще одного «мудрого старика»: «Все вокруг завидывали моему остроумию, но никаких мер не предпринимали, так как буквально дохли от смеха <…> Я вот, например, не тычу всем в глаза, что обладаю, мол, коллосальным умом. У меня есть все данные считать себя великим человеком. Да, впрочем, я себя таким и считаю <…> Почему, почему я лучше всех? <…> Я не считаю себя особенно умным человеком, и все таки должен сказать, что я умнее всех. Может быть, на Марсе есть и умнее меня, но на земле не знаю <…> В Союзе Писателей меня считают почему то ангелом. Послушайте, друзья! Нельзя же в самом деле передо мной так преклоняться. Я такой же, как и вы все, только лучше <…> вчера прибежал ко мне Олейников и говорит, что совершенно запутался в вопросах жизни. Я дал ему кое какие советы и отпустил. Он ушел осчастливленный мною и в наилучшем своем настроении» (с. 317, 319, 320, 322). Отдельно отметим обилие автобиографических деталей, в каком-то смысле побуждающих сопоставлять «мудрого старика» и Хармса. Чтобы разобраться в этом сопоставлении, необходимо проинтерпретировать произведение целиком. «Однажды я пришел в Госиздат» – это последовательность в некотором роде одинаковых по строению фрагментов. Каждый фрагмент устроен следующим образом: вначале рассказчик говорит нечто вполне приемлемое, и создается впечатление, что перед нами «нормальный человек» (а в данном контексте – и вовсе квази-Хармс). Но дальше суть высказываний и стилистика меняются так, что становятся очевидными глупость, грубость и, наконец, безумие рассказчика51. 51 О подобном, правда в связи с совершенно другим произведением, пишет и Жаккар: «...мы присутствуем при прогрессирующей деградации семантического соответствия единиц фразы: если первое предложение возможно, то второе уже всего лишь допустимо <...> что касается третьей – она, в сущности, асемантична» (56;227). 41 Проиллюстрируем эту схему примерами. «Я слыхал такое выражение: “Лови момент!”» – это обычная фраза, которая может быть произнесена нормальным человеком. «Легко сказать, но трудно сделать. По моему, это выражение бессмысленное. И действительно, нельзя призывать к невозможному» – здесь еще можно заподозрить некую игру ума. Но вот что происходит дальше: «Говорю я это с полной уверенностью, потому что сам на себе все испытал. Я ловил момент, но не поймал и только сломал часы. Теперь я знаю, что это невозможно». Оказывается, рассказчик банально глуп. Он не способен понять иносказательность изречения (вспомним об уже упомянутом упразднении переносного смысла), воспринимая его исключительно буквально, стало быть, не вкладывая в эти слова глубокого смысла, которого читатель ожидал вначале. «Также невозможно “ловить эпоху”, потому что это такой же момент, только по больше. Другое дело, если сказать: “Запечатлевайте то, что происходит в этот момент”. Это совсем другое дело. Вот например: раз, два, три! Ничего не произошло! Вот я запечатлел момент, в котором ничего не произошло. Я сказал об этом Заболоцкому. Тому это очень понравилось, и он целый день сидел и считал: раз, два, три! И отмечал, что ничего не произошло. За таким занятием застал Заболоцкого Шварц. И Шварц тоже заинтересовался этим оригинальным способом запечатлевать то, что происходит в нашу эпоху, потому что ведь из моментов складывается эпоха». Масштаб безумия все нарастает, в рассказчике уже практически безошибочно узнается «мудрый старик»: «Но прошу обратить внимание, что родоначальником этого метода опять являюсь я. Опять я! Всюду я! Просто удивительно!» И, наконец, апофеоз, чтобы уже не оставить никаких сомнений: «То, что другим дается с трудом, мне дается с легкостью. Я даже летать умею. Но об этом рассказывать не буду, потому что все равно никто не поверит» (с. 320–321). Другой фрагмент, выстроенный по той же схеме: «Теперь я скажу несколько слов об Александре Ивановиче». «Это болтун и азартный игрок». «Но за что я его ценю, так это за то, что он мне покорен». «Днями и ночами 42 дежурит он передо мной и только и ждет с моей стороны намека на какое ни будь приказание». Каждое новое предложение только усугубляет абсурдность предыдущего. Когда заканчивается один фрагмент, начинается другой. Все повторяется снова. Вот еще один пример: «Больше всего Александр Иванович любит макароны». «Ест он их всегда с толчеными сухарями и съедает почти что целое кило, а может быть, и гораздо больше». «Съев макароны, Александр Иванович говорит, что его тошнит, и ложится на диван». «Иногда макароны выходят обратно» (с. 323). В каждом фрагменте представлена постепенная трансформация рассказчика из, казалось бы, нормального человека в «мудрого старика». Характер хармсовской редактуры подчеркивает выделенный нами прием построения фрагментов. В черновом варианте было: «Я решил растрепать одну компанию, что и делаю. Начну с этой тумбы Валентины Ефимовны. Эта грязная баба приглашает нас к себе и, вместо еды, подает к столу какую то кислятину…» (с. 426). В беловом варианте: «Начну с Валентины Ефимовны. Эта нехозяйственная особа приглашает нас к себе и, вместо еды, подает к столу какую то кислятину…» (с. 318). Очевидно, дело не в боязни Хармса обидеть Валентину Ефимовну (это и так будет сделано), а в отчетливом желании именно постепенно наращивать глупость и безумие рассказчика. Пожалуй, самый важный для понимания фрагмент: «Когда два человека играют в шахматы, мне всегда кажется, что один другого околпачивает». «Особенно, если они играют на деньги». «Вообще мне противна всякая игра на деньги. Я запрещаю играть в своем присутствии». «А картежников я бы казнил. Это самый правельный метод борьбы с азартными играми». Наконец, главное: «Вместо того, чтобы играть в карты, лучше бы собрались да почитали бы друг другу морали. А впрочем, морали скучно. Интереснее ухаживать за женщинами». «Женщины меня интересовали всегда. Меня всегда волновали женские ножки, в особенности выше колен». «Многие считают женщин порочными существами. А я 43 нисколько! Наоборот, даже считаю их чем то очень приятными. Полненькая, молоденькая женщина! Чем же она порочна? Вовсе не порочна!» (с. 321– 322). Оказывается, рассказчику по-настоящему «интересно» только одно. Он во власти порока, и в этом – существо его личности. Не исключено, что обилие автобиографических деталей, то есть сближение рассказчика и Хармса, – это прием, свидетельствующий о горькой хармсовской самоиронии52. Сходная идея лежит в основе совсем маленького «сборника» «Я не люблю детей, стариков, старух и благоразумных пожилых…». В данном случае «мудрый старик» дает о себе знать сразу: «Травить детей – это жестоко. Но что ни будь ведь надо же с ними делать!». Однако далеко не все раздражает рассказчика: «Я уважаю только молодых и здоровых пышных женщин. К остальным представителям человечества я отношусь подозрительно» (здесь очевидна перекличка с рассказчиком из «Однажды я пришел в Госиздат…»). «Старух, которые носят в себе благоразумные мысли, хорошо бы ловить арканом». «Всякая морда благоразумного фасона вызывает во мне неприятное ощущение». Наконец: «Что такое цветы? У женщин между ног пахнет значительно лучше. То и то природа, а потому никто не смеет возмущаться моим словом» (с. 229). Ради этого все и затевалось: монолог рассказчика свелся к оправданию греха – под видом «борьбы с ханжеством» скрывается банальный порок. Отметим, что если полностью отвлечься от контекста этой миниатюры, то неясно будет авторское отношение к последней фразе («Что такое цветы…») – оно может быть как отрицательным, так и вполне положительным. Но именно то, что эти реплики произносятся «мудрым стариком», проясняет авторскую позицию. Рассказчик здесь, несомненно, дискредитирован. 52 Обратимся к дневниковой хармсовской записи от 18 июня 1937 года: «Я совершенно отупел. Это страшно. Полная импотенция во всех смыслах. Расхлябанность видна даже в почерке. Но какое сумасшедшее упорство есть во мне в направлении к пороку. Я высиживаю часами изо дня в день, чтобы добиться своего и не добиваюсь, но все же высиживаю. Вот что значит искренний интерес! Довольно кривляний: у меня ни к чему нет интереса, только к этому». Несомненно, ко всем цитатам надо относиться бережно. Кардинальное отличие Хармса от рассказчика в том, что тяга к пороку его очевидно тяготит, – рассказчик же не видит в этом никаких проблем (Дн.;2;193). 44 Видимо, впервые образ «мудрого старика» оформился в квазиавтобиографических рассказах: «Теперь я расскажу, как я родился…» и «Инкубаторный период». Рассказчик говорит о своей исключительности: «Теперь я расскажу, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения». Однако «мудрый старик» не понимает, что своим же рассказом выдает собственный идиотизм: «…я оказался недоноском и родился на четыре месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез. Присутствовавший при этом один наш знакомый студент Военно-медицинской Академии заявил, что запихать меня обратно не удастся. Однако, не смотря на слова студента, меня всё же запихали, но, правда, как потом выяснилось, запихать-то запихали, да в торопях не туда» (с. 126–127). Рассказчик совершенно не осознает смехотворную непристойность этой истории. В рассказе «Шашкин (стоя посередине сцены)…» явлен типичный «мудрый старик»: «Вот Куров этот мудростью не обладает, а я обладаю. Я в Публичной Библиотеке два раза книгу читал. Очень умно там обо всём было написано <…> А Куров что? Даже на часы смотреть не умеет. В пальцы сморкается, рыбу вилкой ест, спит в сапогах, зубов не чистит… тпфу! Что называется мужик! Ведь с ним покажись в обществе: вышибут вон, да ещё и матом покроют: не ходи мол с мужиком коли сам интеллигент. Ко мне не подкопаешься. Давай графа – поговорю с графом. Давай барона – и с бароном поговорю». От Шашкина ушла жена (видимо, как и от оригинального «мудрого старика»). Глупость и псевдозначительность – неизменные атрибуты «мудрых стариков». Однако большинство из них, несмотря на полное отсутствие ума, интуитивно понимают, в чем дело: «Ей видите ли вот чего надо! Меня она, видите ли, за мужчину не считает. А чем я виноват, что меня ещё в детстве оскопили? <…> Дура такая! Что ей Куров дался?» (Дн.;2;146–148). 45 Важная вариация «мудрого старика» представлена в текстах «Однажды Марина сказала мне…», «Личное пережевание одного музыканта». В них рассказчики предстают в амплуа обманутого мужа. Однако они не желают признавать реального положения вещей и в качестве компенсации придумывают свою интерпретацию событий: «Я начинаю думать, что я, в глазах жены, перехожу на задний план» («Личное пережевание одного музыканта», с. 167), «Я расспрашивал Марину о Шарике, Синдерюшкине и Мише. Марина увиливала от прямых ответов. Когда я высказал свои опасения, что компания эта, может быть, не совсем добропорядочная, Марина уверила меня, что это, во всяком случае, “Золотые сердца”» («Однажды Марина сказала мне…», с. 168–169). Как видно, ошибочно было бы утверждать, что злобность характерна для всех «мудрых стариков». Наиболее характерная их черта – все-таки глупость. Если «мудрый старик» беззлобен, то авторская дискредитация этого персонажа может быть довольно мягкой (как в случае рассказчика из «Однажды Марина сказала мне…»). Однако относительно мягкая ирония может перерастать и в уничтожающее издевательство, даже если персонаж не злобный, а «всего лишь» невероятно глупый. Таков главный герой рассказа «Рыцарь» Алексей Алексеевич Алексеев. У этого «рыцаря» даже вроде бы наличествуют благородные помыслы – он где-то слышал, что нужно «пожертвовать собой». Но это не имеет никакого смысла ввиду полного отсутствия у героя ума. Так, Алексей Алексеевич, «увидя из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошёлки стекляный колпак для настольной лампы, который тут же и разбился», искренне «желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая на полном ходу, упал и раскроил себе о камень всю рожу». Другая «дама, перелезая через забор, зацепилась юбкой за гвоздь и застряла так, что, сидя верхом на заборе, не могла двинуться ни взад ни вперед». Этой «даме» (отдельно отметим, что Алексея Алексеевича совершенно не смущает ее поведение) действительно можно было бы помочь, но поскольку «рыцарь» 46 знает только один способ сделать это – «пожертвовать собой», – то «Алексей Алексеевич начал так волноваться, что от волнения выдавил себе языком два передних зуба». Хармс открывает читателю онтологию этой глупости. Дело в том, что у Алексея Алексеевича совершенно нивелировано понятие о личном. Он отказался от частной, интимной сферы – и освободившееся место заняли «стяг, фанфара, эполеты». Алексей Алексеевич ранен в весьма деликатное место – «в чресла» – но это не мешает ему говорить об этом всем подряд. Можно, пусть и с оговорками, гордиться потерей руки, ноги, но «разбитые чресла» на эту роль явно не подходят. У Алексеева нет даже представления о чем-то непроизносимом вслух. Разума у него нет, зато пафоса в избытке: «На фронте Алексей Алексеевич отличался небывало возвышенными чувствами и всякий раз, когда он произносил слова: стяг, фанфара или даже просто эполеты, по лицу его бежала слеза умиления». Хармс показывает, как выглядит пафос у идиота, как выглядит патетика в сочетании с глупостью (неумением разобраться в ткани бытия), «возвышенность» без ума. Отказавшись от частного, Алексеев целиком обратился к общественному служению. Но идиот может служить только следующим образом: «С небывалой легкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за Веру, Царя и Отечество, что и доказал в 14-ом году, в начале германской войны, с криком “За Родину!” выбросившись на улицу из окна третьего этажа» (с. 161–162). Другая, как бы «интеллигентная», вариация «мудрого старика» представлена в рассказе «Так началось событие…». Здесь персонаж (что характерно, его тоже зовут Алексей Алексеевич Алексеев) оскорблен тем, что ему надо выносить помойное ведро («Ему, научному работнику, возится с помойным ведром!»). В то же время Алексеев, видимо, дико напуган (либо Гороховым, либо его женой, которая и указала ему на необходимость вынести ведро), и ничего не сделать с ведром для него немыслимо. И он находит «выход»: «Внезапная мысль блеснула в его голове. Он поднял оброненную мадам Гороховой ложку и твёрдыми шагами подошёл к ведру 47 <…> Давясь от отвращения, он съел всю кашу и выскреб ложкой и пальцами дно ведра». Алексеева не смущает, что он предпочел нечто гораздо более оскорбительное: «– Вот, – сказал Алексеев, мо́я под краном ложку. – А ведро я всё таки на двор не понесу». Это та самая компенсация, которая характерна для «мудрых стариков» (с. 224–225). Черты «мудрого старика» легко различить в рассказчике из текста «О Пушкине» («Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь» – с. 159), а также в Семёнове из «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)…». Семёнов поддерживает светскую беседу с Григорьевым, который после каждой реплики «ударяет Семёнова по морде». Отметим, что Семёнов практически в точности повторяет поведение рассказчика из миниатюры «Личное пережевание одного музыканта»: «Я, брат, долго терпел. Но хватит. С тобой, видно, нельзя по хорошему. Ты, брат, сам виноват…» В этой реплике легко узнается компенсация, свойственная «мудрым старикам». Как и в случае рассказчика из «Личного пережевания одного музыканта», «вылазка» Семёнова ему не помогает – он лишь в очередной раз получает «каблуком по морде» (с. 146). Один из последних хармсовских текстов – «Синфония № 2» – вершина темы «мудрого старика». Рассказчик пытается рассказать какую-нибудь историю. Пробует первый раз – не удается. Пробует второй раз – снова не удается. Пробует третий раз: «Ну и Бог с ним. Я лучше расскажу про Анну Игнатиевну. Но про Анну Игнатиевну рассказать не так-то просто. Во первых, я о ней ничего не знаю, а во вторых, я сейчас упал со стула и забыл, о чём собирался рассказывать. Я лучше расскажу о себе». Читателю ясно, что рассказчик историю рассказать не в состоянии, однако следующая реплика напоминает о рассказчике из «сборника» «Однажды я пришел в Госиздат…»: «Я высокого роста, не глупый, одеваюсь изящно и со вкусом, не пью, на скачки не хожу, но к дамам тянусь». Читатель улавливает черты знакомого типажа и обоснованно ожидает развития распространенной у Хармса эротической темы. «И дамы не избегают меня. Даже любят, когда я с ними 48 гуляю. Серафима Измайловна неоднократно приглашала меня к себе, и Зинаида Яковлевна тоже говорила, что она всегда рада меня видеть». Рассказчик, как мы видим, обладает чертами «мудрого старика». Он очень глуп: например, принимает дежурную по отношению к нему реплику за выражение искренней симпатии. «Но вот с Мариной Петровной у меня вышел забавный случай, о котором я и хочу рассказать». Читатель уже прекрасно знает, что рассказчик не в состоянии рассказать ни одной истории53. С другой стороны, повторимся, читатель вполне имеет основания ожидать развития эротической темы. Однако далее следует: «Случай вполне обыкновенный, но всё же забавный, ибо Марина Петровна, благодаря меня, совершенно облысела, как ладонь. Случилось это так: пришёл я однажды к Марине Петровне, а она трах! и облысела. Вот и всё» (с. 258–259). «Вот и всё» – традиционный для Хармса конец – здесь обретает особое звучание. Читатель с высокой вероятностью оказывается порочнее рассказчика (последний просто невероятно глуп, но не более). Пожалуй, читатель и есть главный «мудрый старик» этого текста. г) «Мудрые старики» – это типичные обитатели жуткого хармсовского «мира». Они невероятно глупы. Для Хармса это принципиальный момент: ум он особо ценил. В лучшем случае «мудрые старики» просто ничтожны, в худшем – порочны и жестоки. Традиционный мудрый старик – сплав опыта и мудрости, в этом его сила. В «мире» же разрушается устоявшееся представление об этих качествах: хармсовский «мудрый старик», напротив, невероятно труслив и глуп. Жалкий и трусливый «мудрый старик» – это воплощенный оксюморон. Дискредитируются жизненный опыт и накопленная «мудрость человечества» как таковая (которой в «мире» Хармса, оказывается, просто нет). Итак, от «мира» не спасает опыт. 53 Происходит знаменитая (благодаря Жаккару) потеря повествования. Но не у Хармса, а у рассказчика. На наш взгляд, следует тщательно различать первое и второе. Когда повествование прерывает рассказчик, это свидетельствует исключительно о глупости последнего. Если же это преднамеренно делает Хармс – то здесь уже речь о пустоте «мира». 49 3) Потери а) Следующую группу произведений мы условно назовем «Потери» (по названи ю одного из самых характерных хармсовских рассказов этой группы – «Потери»). Произведения этой группы обычно построены по следующей схеме. Персонаж начинает терять предметы или испытывать некий ущерб (что мы условно называем потерями). «Потери» следуют одна за другой, что напоминает «принцип домино». Они принимают разнообразные формы, однако опознаются практически безошибочно. Это могут быть, с одной стороны, потери предметов (носового платка, шапки, колбасы, кефира) или их поломка (можно сломать пенсне), травмы и причинение физического ущерба (персонаж может упасть, удариться, могут произойти и другие неприятности: например, у автомобиля лопнет шина; неприятности бывают весьма экстравагантными: из носа может выскочить маленький шарик), потеря памяти, а с другой – и более общие потери: потеря ориентации в пространстве, потеря возможности уснуть в сочетании с потерей бодрости (вследствие непреодолимого желания спать именно в этот момент), потеря рассказчиком нити повествования. «Потери» – это некоторая «воронка», попав в которую, выбраться уже невозможно. Оканчивается череда «потерь» обычно какой-то главной «потерей». Это может быть погружение персонажа в сон (потеря бодрствования) или – традиционно в некотором смысле тождественная сну – смерть (потеря жизни). Это может быть и потеря персонажем идентичности (смерть при жизни). б) К данной группе, на наш взгляд, следует отнести произведения (они, заметим, либо полностью построены по схеме «потерь», либо содержат элементы «потерь»): «Потери», «Скасска», «Страшная смерть», «Жил-был человек…», «Столяр Кушаков», «Однажды Антон Бобров…», «Человек с глупым лицом…», «Димитрий Петрович Амелованев…», «Однажды Семёнов пошёл гулять…», «Происшествие в трамвае», «Случай с Петраковым», «Сон», «Кулаков уселся в глубокое кресло», «Вот начальник военного округа…», «Смерть старичка», «Макаров! Подожди! – кричал Сампсонов…», 50 «Я залез на забор…», «Василий Антонович вышел из дома…», «Антон Антонович сбрил себе бороду…», «Ровно 56 лет тому назад…», «Когда сон бежит от человека…», «Случай с моей женой», «У Колкова заболела рука…», «Сон дразнит человека», «Приключения Катерпиллера», «Миронов завернул в одеяло…». в) Очень четко схема «потерь» прослеживается в рассказе «Скасска». «Жил-был один человек, звали его Семёнов. Пошёл однажды Семёнов гулять и потерял носовой платок». Это первая «потеря», за ней сразу же следует вторая: «Семёнов начал искать носовой платок и потерял шапку». Как только Семёнов пытается найти только что потерянное, он неотвратимо теряет чтото новое: «Начал шапку искать и потерял куртку. Начал куртку искать и потерял сапоги». Остановить процесс «потерь» чаще всего невозможно: «Пошёл Семёнов домой и заблудился». Если раньше Семёнов терял вещи, то теперь он потерял ориентацию в пространстве. Последняя «потеря» – это уже окончательная потеря самосознания, метафорой чего является потеря бодрствования: «Сел Семёнов на камушек и заснул» (с. 82–83). Так сон в «потерях» практически равнозначен смерти. Мотив сна – центральный в таких рассказах, как «Случай с Петраковым», «Сон дразнит человека» (персонажи попадают в «воронку» «потерь»; их телам наносится ущерб, они теряют возможность спать и бодрствовать, когда следует), «Сон» (здесь уже сон полностью поглощает персонажа, что приводит к его смерти). В рассказе «Потери» тоже присутствует мотив сна. Пожалуй, наиболее явно связь смерти и сна представлена в рассказе «Когда сон бежит от человека…». Одна из самых знаковых хармсовских «потерь» – потеря идентичности. Проследим ее развитие. В рассказе «Жил-был человек, звали его Кузнецов…» Кузнецов выходит из дома, после чего на него с крыши поочередно начинают падать кирпичи, что влечет за собой «потери»: сначала Кузнецов забывает, зачем пошел в магазин, затем – куда он пошел, затем – откуда он вышел и, наконец, кто он. Однако в этом рассказе идея потери 51 личности, видимо, не нашла полного выражения. Хармс, возможно, почувствовал недостаточную смысловую насыщенность рассказа и решил в качестве компенсации написать не вполне свойственный для себя конец: «Пожалуйста! Если кто ни будь встретит на улице человека, у которого на голове пять шишек, то напомните ему, что зовут его Кузнецов и что ему нужно купить столярного клея и починить ломаную табуретку»54 (с. 132). В некотором роде «чистовым» вариантом этого рассказа можно назвать написанный позже рассказ «Столяр Кушаков» (именно он вошел в цикл «Случаи»). Перекличка двух рассказов очевидна: «Жил-был человек, звали его Кузнецов» («Жил-был…», с. 131) – «Жил-был столяр. Звали его Кушаков» («Столяр Кушаков», с. 338); «Однажды сломалась у него табуретка. Он вышел из дома и пошёл в магазин купить столярного клея, что бы склеить табуретку» («Жил-был…», с. 131) – «Однажды вышел он из дома и пошел в лавочку купить столярного клея» («Столяр Кушаков», с. 338); «Когда Кузнецов проходил мимо недостроенного дома, с верху упал кирпич и ударил Кузнецова по голове» («Жил-был…», с. 131) – «Была оттепель, и на улице было очень скользко. Столяр прошел несколько шагов, поскользнулся, упал и расшиб себе лоб» («Столяр Кушаков», с. 338). В «Столяре Кушакове» Хармс использовал более сложные ходы (особенно это заметно, если сопоставить финалы) и воплотил идею потери личности (причем эта «потеря» произошла еще до начала повествования) не в скрытой, а в явной форме. Поясним. Столяр Кушаков терпит ущерб: поскальзывается, падает, последовательно расшибает себе лоб, нос, щеку, подбородок. Однако на этот раз это не приводит к потере памяти – данный рассказ сделан сложнее. Кушакову приходится заклеить пластырем все лицо, после чего его не узнают дома. Оказывается, личности у Кушакова не было и до всех этих происшествий: когда герою необходимо хоть как-то себя идентифицировать, ничего кроме «я столяр» он сказать не в состоянии («Столяр Кушаков», 54 Такое окончание напоминает о хармсовской «детской» прозе. Ср. также с финалом «Синей птицы» Метерлинка («Мы вас очень просим: если кто-нибудь из вас ее найдет, то пусть принесет нам – она нужна нам для того, чтобы стать счастливыми в будущем...»). 52 с. 339). Из этого следует, что отличали его от других только внешние черты – лоб, нос, щека, подбородок. Та же идея присутствует и в тексте «Антон Антонович сбрил себе бороду и все его знакомые перестали его узнавать…», из которого следует: единственное, что выделяло Антона Антоновича, – его борода. Рассказ «Случай с моей женой», на наш взгляд, лежит в пересечении двух групп: «Потерь» и «Водевилей». Канон здесь – потеря контроля над ногами. Но в последнем предложении кроется ключевая деталь: «– Вот и я, – сказала моя жена, широко улыбаясь и вынимая из ноздрей застрявшие там щепочки». Перед нами «сдвиг». Дело не в том, что у жены будто бы что-то не так с ногами, – дело в ее сумасшествии, которого совсем не замечает ее мужрассказчик («опять начали корёжиться ноги» – с. 223). Главная «потеря» здесь – потеря рассудка, причем у всех персонажей. В рассказе «Приключение Катерпиллера» описана жизнь Мишурина, который «любил лежать под диваном или за шкапом и сосать пыль». Но «однажды его пригласили в гости, и Мишурин решил слегка пополоскать свою физиономию. Он налил в таз теплой воды, пустил туда немного уксусу и погрузил в эту воду свое лицо. Как видно, уксусу в воде было слишком много и потому Мишурин ослеп». Произошла «потеря» – Мишурин ослеп. Но глобально это ничего не изменило: «До глубокой старости он ходил ощупью и по этому, а может быть и не по этому стал еще больше походить на катерпиллера». Все возвратилось к тому, с чего началось: дело не в «потерях», они лишь усиливают то, что есть и так. Отсюда и оговорки («а может быть и не поэтому») – детали не принципиальны (с. 248–249). Важно совсем не то, что Мишурин ослеп, а то, что он – сущностно – «катерпиллер»55. Важно в контексте «потерь» упомянуть и миниатюру «Димитрий Петрович Амелованев…». Скорее всего, это незаконченный текст. Но он в 55 То есть, если переводить с английского, гусеница. Отметим, что сущность Мишурина явлена уже в названии рассказа. 53 каком-то смысле примыкает к «потерям»: здесь имеет место «потеря» несколько иного рода – потеря повествования. Аналогичное можно отметить и в миниатюре «“Макаров! Подожди!” – кричал Сампсонов…» (где встречаются и уже привычные нам «потери»: «Макаров <…> поминутно спотыкался <…> зацепился карманом за сучок и остановился», «Сампсонов <…> с этими словами спотыкнулся о кочку и упал» – с. 186–187): потерю смысла, цели, сценария, структуры действия56. В миниатюрах «Однажды Семёнов пошёл гулять…» и «Происшествие в трамвае» происходит не просто потеря повествования, а потеря какой бы то ни было концентрации у рассказчика: он никак не может развернуть свой рассказ и все время повторяется. Жаккар назвал это «повествовательным заиканием». В миниатюре «Я залез на забор…» «потери» случаются как бы на разных уровнях. Первая, уже привычная, «потеря» открывает рассказ: герой залезает на забор, но тут же сваливается. Со второй попытки – с трудом – на забор залезть удается. «Но только я уселся верхом на заборе, как вдруг подул ветер и сорвал с моей головы шляпу» (еще одна традиционная «потеря»). «Шляпа перелетела через курятник и упала в лопухи» (с. 192). Видимо, эта миниатюра о напрасности усилий. Главная «потеря» здесь – это обессмысливание любых попыток что-либо сделать, так как никакие усилия не приносят результата. Похожее мы обнаруживаем и в тексте «Василий Антонович вышел из дома…». Здесь персонажем потеряно все: часы, смысл путешествия, сон – потерян результат как таковой. Любые усилия к желаемому не приведут – всегда вмешается судьба. Здесь уместно привести раннюю дневниковую запись самого Хармса (1928 года): «Я весь какой-то особенный неудачник. Надо мной за последнее время повис непонятный закон неосуществления. Что-бы я ни пожелал, какраз этого и не выйдет. Всё происходит обратно 56 Однако у этого текста может быть и другая интерпретация, о которой мы скажем, разбирая группу «Я». 54 моим предположениям. Поистине: человек предпологает, а Бог распологает. Мне страшно нужны деньги, и я их никогда не получу, я это знаю! Я знаю, что в ближайшее-же время меня ждут очень крупные неприятности, которые всю мою жизнь сделают значительно хуже чем она была до сих пор. День ото дня дела идут всё хуже и хуже…» (Дн.;1;231). г) На основе проанализированных произведений можно предположить, что «потери» построены, в основном, на отсутствии личности у фигурирующих в них персонажей. Единственное, что у них есть, – это внешние элементы. Поэтому потеря предметов для них равносильна полному распаду, смерти. Абсурд состоит не в обилии или характере неприятностей, а в том, сколь неадекватные последствия они имеют. То есть важны и абсурдны не столько внешние события, сколько сущность персонажей (манифестация этой мысли – рассказ «Приключение Катерпиллера»). Персонажам не удается задуманное. Случайная потеря неизбежно приводит к уже нескончаемой череде новых потерь, что заканчивается сном, обмороком, а чаще всего смертью. В этой фатальности и неостановимости дальнейших потерь видится указание на то, что человек не более чем совокупность предметов его земного бытия. «Сцепленность» элементов поддерживает его существование (жизнью это именовать трудно), но случайная утрата любого приводит к некоему эффекту домино – мгновенно рушится все, а так как личности у героя нет, утрата эта означает прекращение и самого его существования. Как отмечал Ж.-Ф. Жаккар, частным случаем потерь является и часто встречающееся прерывание самого повествования. Все это в конечном итоге указывает на отсутствие смысла бытия описываемых персонажей. Даже сон, в котором герои могут искать временного убежища, убегает, ибо столь же эфемерен, сколь и все вокруг. «Потери» обнаруживают невозможность «поставить себя на твёрдую ногу» (с. 334). Итак, от «мира» не спасает житейское. 55 укорениться в быту, 4) Порок а) К следующей условной группе мы отнесем произведения, в центре которых порочность персонажей. «Порок» у Хармса распадается на две доминанты: пол и власть. Многие хармсовские персонажи чрезвычайно похотливы, причем женщины – особенно. Нередко этот порок составляет смысловой центр произведения (что может выражаться в эротических фантазиях персонажа, часто высказанных вслух, или в определенных действиях, например раздевании). Другая грань «порока» – это уродливая и часто опасная жажда власти, свойственная многим хармсовским персонажам. В ее основе садистское желание полностью подчинить себе хоть кого-то, всецело его контролировать. Мотивы персонажей здесь самые низменные и инфернальные. б) На наш взгляд, к группе «Порок» следует отнести: «Иван Григорьевич Кантов шёл…», «Фома Бобров и его супруга», «Факиров. Моя душа болит…», «Неожиданная попойка», «Но художник усадил натурщицу…», «Лекция», «Власть», «– Да, сказал Козлов…». Половую доминанту можно отметить также в «Лидочка сидела на корточках…», «Говорят, скоро всем бабам…», «О том, как рассыпался один человек», «– Ва-ва-ва! Где та баба…», «Я не люблю детей, стариков…», «Однажды я пришел в Госиздат…», «Помеха». в) Обе доминанты «порока» представлены в позднем хармсовском рассказе «Власть». Фаол последовательно создает «непростую теорию», согласно которой на любой поступок можно посмотреть так, а можно и иначе («Грех от добра отличить очень трудно»). Далее, видимо, выясняется, зачем Фаолу нужна эта «гибкость»: «Возьмем любовь. Буд то хорошо, а буд то и плохо. С одной стороны, сказано: возлюби, а с другой стороны, сказано: не балуй. Может, лучше вовсе не возлюбить? А сказано: возлюби. А возлюбишь – набалуешь. Что делать?». «Возлюби» – это, как известно, канонический текст, а вот «не балуй» – уже «творчество» Фаола, искажающего ясную заповедь «не прелюбодействуй» и намеренно создающего во всем этом 56 видимость противоречий. Фаол встает на демагогический путь оправдания страстей, который, в конце концов, приводит к соответствующему выводу: «Вот я говорил о любви, я говорил о тех состояниях наших, которые называются одним словом “любовь”. Ошибка ли это языка, или все эти состояния едины? Любовь матери к ребенку, любовь сына к матери и любовь мужчины к женщине – быть может, это всё одна любовь?» На что Мышин, который до бессмысленные того валялся междометия, на полу живо и произносил реагирует: исключительно «Определенно». Идея «непорочности» всякой любви Мышину определенно понятна и близка. Это половой аспект рассказа. Есть здесь и вторая доминанта порока (о чем говорит и заглавие): когда Мышину надоедает слушать Фаола, он кричит: «Хветь! <…> Сгинь!» «И Фаол рассыпался, к<ак> плохой сахар» (с. 246, 248). Когда надо, Мышин может быстро «вскочить с пола» и продемонстрировать силу. В рассказе «Фома Бобров и его супруга» также представлены обе доминанты «порока». С одной стороны, бабушка Боброва издевается над внуком, демонстрируя свою власть над ним, переходящую (как это часто у Хармса) в садизм. С другой стороны, в монологе о жене Боброва бабушка обнаруживает крайнюю заинтересованность в эротической сфере, к которой сама уже не имеет прямого отношения, о чем, видимо, бесконечно сожалеет. В рассказе «Неожиданная попойка» очень ярко представлена половая составляющая «порока». Антонина Алексеевна властвует над мужем (в рассказе есть и эта доминанта «порока»), однако ее попытки соблазнить собственного мужа оказываются безуспешными. Тогда она решает приобщиться к эротической сфере по-другому: «Антонина Алексеевна высказала желание принять участие в попойке, но обязательно в голом виде да ещё вдобавок сидя на столе, на котором предпологалось разложить закуску к водке. Мужчины сели на стулья, Антонина Алексеевна села на стол и попойка началась» (с. 121). 57 Тема пола развивается в «Но художник усадил натурщицу на стол…». Это в некотором роде безумный «водевиль», где канон – светская беседа коллег в соответствии с правилами хорошего тона (Петрова: «Абельфар пошла поправится. Чувствую, что и мне скоро придется сделать то же самое»). «Сдвиг» – характер реплик, которые как часть светской беседы просто немыслимы: «Петрова сказала, что натурщица очень соблазнительная женщина, но Страхова и Амонова заявили, что она слишком полна и неприлична. Золотогромов сказал, что это и делает её соблазнительной, но Страхова сказала, что это просто противно, а вовсе не соблазнительно» (с. 147). Все это обсуждение носит совершенно обыденный характер. Это «мир» без табу. Инфернальная жажда власти и изощренный садизм персонажей хорошо прослеживаются в двух как бы рифмующих рассказах: «Иван Григорьевич Кантов шёл…» и «– Да, – сказал Козлов, притряхивая ногой…». Первый рассказ («Иван Григорьевич Кантов шёл…») – ранний, написан, предположительно, еще до ссылки Хармса в Курск. Кантов и Пономарев случайно встречают собачку: «– Посмотри Кантов какая собака, – сказал Пономарёв. – Очень смешная, – сказал Кантов. – Эй, собачка, пойди сюда! – крикнул Пономарёв и по цокал зубами. Собака перестала зевать и пошла к Пономарёву сначала обыкновенно, потом очень тихо, потом ползком, потом на животе, а потом перевернулась брюхом вверх и на спине подползла к Пономарёву. – Очень скромная собачка, – сказал Пономарёв. – Я возьму её себе» (с. 27). Наверняка Пономарёва привлекла в собачке ее готовность исполнить что угодно. О садизме Пономарева явно не сказано, однако, имея общее представление о хармсовских рассказах, этот садизм можно угадать с вероятностью ошибки, близкой к нулю. В этом же убеждает и следующий рассказ «– Да, – сказал Козлов, притряхивая ногой…». Это уже, напротив, одно из самых поздних хармсовских произведений. «– Да, – сказал Козлов, притряхивая ногой, – она очень испугалась. Ещё бы! Хо-хо!» Очевидно, 58 чужой страх доставляет Козлову особое удовольствие. «Но сообразила, что бежать ни в коем случае нельзя. Это всё же она сообразила». Козлов, как и Пономарев, делает замечание о «смирившейся» со своей участью с особым удовлетворением: «Но тут хулиганы подошли ближе и начали ей в ухо громко свистеть. Они думали оглушить её свистом. Но из этого ничего не вышло, т. к. она как раз на это ухо была глуха. Тогда один из хулиганов шваркнул её палкой по ноге. Но и из этого тоже ничего не вышло, потому что как раз эта нога была у неё еще пять лет тому назад ампутирована и заменена протезом. Хулиганы даже остановились от удивления, видя, что она продолжает спокойно итти дальше. – Ловко! – сказал Течорин. – Великолепно!» Упоение и смакование персонажей здесь тоже очевидно. «Ведь что бы было, если бы хулиганы подошли к ней с другого бока? Ей повезло. – Да, – сказал Козлов, – но обыкновенно ей не везёт. Недели две тому назад её изнасиловали, а прошлым летом её просто так, из озорства, высекли лошадиным кнутом. Бедная Елизавета Платоновна даже привыкла к подобным историям. – Бедняжка, – сказал Течорин. – Я был бы непрочь её повидать» (с. 253–254). Отметим композиционное, стилистическое и структурное сходство с финалом предыдущего рассказа: «– Очень скромная собачка, – сказал Пономарёв. – Я возьму её себе» («скромная» как бы рифмуется с «бедняжкой» и т. д.). Видимо, «привычка к подобным историям» стала для Течорина решающим доводом, и он решил «повидать бедняжку». С такой Течорин сможет удовлетворить самые прихотливые желания. В этом рассказе снова встретились обе доминанты хармсовского «порока»: пол и власть. г) Произведения, которые мы отнесли к группе «порок», играют важную роль в формировании хармсовской картины мира. Это «мир», где царит порок, «мир», где грех неотвратимо тотален и обыден. Важно отметить и хармсовские акценты, поскольку, вообще говоря, порок можно понимать довольно широко. Однако Хармс подчеркивает именно половой аспект (порочное вожделение, пол) и изощренный садизм (в данном случае условно 59 названный нами власть). Хармс отдельно указывает на близость этих пороков, на их общую природу (в текстах они переплетены практически до неотделимости), поэтому мы и выделили для них единую группу. В отличие от «мудрых стариков» и подобных им персонажей хармсовские садисты не глупы, а, напротив, коварны и расчетливы. Порок благополучно сосуществует с представлениями о ценностях: персонажи, поглощенные пороком, к этим ценностям апеллирует. Осведомленность о нравственных категориях пороку совершенно не мешает. Итак, от «мира» не спасают ценности. 5) Насилие а) Несмотря на то, что у Хармса действительно присутствует акцент на пол и власть, к пороку в «мире» можно отнести и другие аспекты (в очередной раз напоминаем, что наше деление на группы весьма условное). Так, чрезвычайно важную роль в хармсовских произведениях играет насилие. Однако, несмотря на то, что насилие во многом примыкает к «пороку», мы условно выделим произведения, в которых насилие («истории дерущихся», издевательство садистов, членовредительство) доминирует, в отдельную группу. К этой же группе мы условно причислим произведения, в которых фигурирует хармсовский доктор (поскольку доктора у «зрелого» Хармса – все как один изощренные садисты). б) На наш взгляд, к группе «Насилие» следует отнести: «Охотники», «Баня», «У дурака из воротника…», «– Пейте уксус господа…», «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)…», «История дерущихся», «Что теперь продают в магазинах», «Однажды Петя Гвоздиков…», «Грязная личность», «Некий Пантелей ударил пяткой Ивана…», «Я подавился бараньей костью…», «В окно влетел маленький кузнечик…» (Дн.;2;11), «Воспитание», «У Колкова заболела рука…», «Федя Давидович», «Пакин и Ракукин», «Начало очень хорошего летнего дня. Симфония», «Реабилитация», «Суд Линча», «Машкин убил Кошкина», «Всестороннее исследование», «Рыцари», «На кровате 60 метался…». С оговорками к этой же группе отнесем рассказ «Вот, Леночка, – сказала тётя…». в) Концентрация драк в произведениях Хармса весьма высока. Рассказ «История дерущихся» (и даже само его название) прекрасно отражает то, как насилие представлено у Хармса: «Алексей Алексеевич подмял под себя Андрея Карловича и, набив ему морду, отпустил его. Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся на Алексея Алексеевича и ударил его по зубам <…> Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно искалеченным лицом и рваной ноздрей» (с. 341). Практически то же самое мы наблюдаем в «Машкин убил Кошкина», где представлен еще более жесткий вариант драки: «Тов. Машкин ударил кулаком по голове тов. Кошкина. Тов. Кошкин вскрикнул и упал на четверинки. Тов. Машкин двинул тов. Кошкина ногой под живот и еще раз ударил его кулаком по затылку. Тов. Кошкин растянулся на полу и умер. Машкин убил Кошкина» (с. 355). Жесткие и явные варианты насилия представлены также в миниатюрах «Суд Линча» («Толпа волнуется и, за неимением другой жертвы, хватает человека среднего роста и отрывает ему голову» – с. 351), «Что теперь продают в магазинах» («Эти слова так взбесили Коратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой ноздрей сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошолки самый большой огурец и ударил им Коратыгина по голове. Коратыгин схватился руками за голову, упал и умер» – с. 354), «Грязная личность» («Сенька стукнул Федьку по морде и спрятался под коммод. Федька достал кочергой Сеньку из под коммода и оторвал ему правое ухо» – с. 190), «Реабилитация» («Не я оторвал ему голову, причиной тому была его тонкая шея. Он был создан не для жизни сей. Это верно, что я сапогом размазал по полу их собачку» – с. 260) и «Начало очень хорошего летнего дня» («Крестьянин Харитон остановился, поднял камень и пустил им 61 в Тимофея <…> Тут же невдалеке носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая, толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стену» – с. 365). Насилие в «мире» одобряется и даже встречает «сочувствие»: «Люди стояли, тупо глядели и порой выражали своё сочувствие Колкову. – Так её! Так её! – говорил рослый мужик в коричневом пиджаке, ковыряя перед собой в воздухе кривыми пальцами с черными ногтями. – Тоже ешшо барыня! – говорила толстогубая баба, завязывая под подбородком головной платок. В это время Колков изловчился и пнул даму коленом под живот. Дама взвизгнула и, отскочив от Колкова, согнулась в три погибели от страшной боли. – Здорово он её в передок! – сказал мужик с грязными ногтями» («У Колкова заболела рука…», с. 222). Насилие может быть явлено и в более изощренной форме, как, например, в «Охотниках». Интрига намечена уже в первой фразе: «На охоту поехало шесть человек, а вернулось-то только четыре. Двое-то не вернулись». Сразу возникает вопрос, что же случилось. Следующее предложение как будто снимает этот вопрос: «Окнов, Козлов, Стрючков и Мотыльков благополучно вернулись домой, а Широков и Каблуков погибли на охоте». Однако интрига остается, поскольку пока не ясно, что скрывается за формулировкой «погибли на охоте». Если принимать во внимание, что речь идет о хармсовском «мире», то «несчастный случай» можно исключить уже на уровне догадок. И действительно, в центре интриги вновь оказывается бесчеловечное насилие. Вот что происходит с Козловым: «Окнов: Мало того, что я тебя сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе еще оторву ногу», «Стрючков: Что же с ним делать? Мотыльков: А тут уж ничего с ним не поделаешь. По-моему, его надо просто удавить. Козлов! А, Козлов? Ты меня слышишь?» (с. 356–358). С этой «охоты» Козлов не вернется. Ситуацию логично экстраполировать на «гибель» Широкова и Каблукова, о которой было сообщено в самом начале. 62 Насилие доминирует и в рассказе «Воспитание». В этом смысле очень характерно указание матроса, которое он дает няньке своих детей: «Если же они очень шалить будут, ты их полей скипидаром или уксусной эссенцией. Они тогда замолкнут». В этом же рассказе проявляется еще один важный для Хармса аспект: «“…А потом ещё вот что, нянька, ты конечно любишь есть. Так вот уж с этим тебе придётся проститься. Я тебе есть давать не буду”. – Постойте, да как же так? – испугалась нянька. – Ведь всякому человеку есть нужно. “Ну, как знаешь, но только пока ты моих детей няньчишь, – есть несмей!” Нянька было на дыбы, но мотрос стегнул её палкой и нянька стихла» (с. 218). Нянька осведомлена, что «всякому человеку есть нужно», но в ней нет ничего кроме униженности и страха. Сначала она, правда, от ужаса пытается возразить матросу, но тот быстро ставит ее на место. Это классическая хармсовская диспозиция: слабая «жертва» попадает под власть «сильного» («жертва», однако, ничем не лучше «палача»). Аналогичное наблюдается и в «Пакине и Ракукине»: «– Ну ты, не очень-то фрякай! – сказал Па́кин Раку́кину» (с. 366). Пакину даже не нужно бить Ракукина, чтобы властвовать. Отметим, что и здесь Ракукин в своей беспомощной злобе ничем не лучше Пакина. Ракукин умирает от страха (переусердствовав в исполнении указаний Пакина), хотя Пакин к нему даже не притронулся. В рассказе «Федя Давидович» в качестве пресмыкающейся жертвы выступает Федя. Федя приходит к соседу по квартире, который назван «хозяином комнаты» (причем, заметим, не Фединой комнаты!), чтобы получить деньги за украденное для него масло (которое Федя приносит во рту). «– За деньгами придешь завтра утром, – сказал хозяин». Хармс уже не добавляет: «… комнаты». «– Ой что вы! – вскричал Федя. – Мне ведь их сейчас нужно. И ведь полтора рубля всего... – Пошел вон, – сухо сказал хозяин, и Федя на ципочках выбежал из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь» (с. 362–363). Видно, как Федя практически беспрекословно со страхом слушается «хозяина», которому продался. Последнему даже не надо 63 демонстрировать силу. Возможно, здесь немаловажна следующая деталь: «хозяина» совершенно не смущает, что масло Федя принес во рту. Полное отсутствие брезгливости подчеркивает «нечеловечность» хозяина, которая, видимо, так пугает и порабощает Федю. Насколько «мир» безнадежно слит с насилием, показано в рассказе «Однажды Петя Гвоздиков…»57. Человек испорчен пороком, причем изначально. Безнадежно порочен по сути уже ребенок58. Мастера непосредственного, а также изощренного насилия – хармсовские доктора. Продемонстрируем это на примере рассказа «На кровате метался полупрозрачный юноша…». С одной стороны, насилие доктора явно и примитивно («Господин в крахмальном воротничке ударил кота сапогом по морде»). С другой стороны, докторское издевательство может быть и весьма изощренным. Доктор разыгрывает сложный спектакль. Он подстраивается под агонизирующего благородного юношу, отвечая ему как бы аристократично и псевдоинтеллектуально. От этого представления доктор получает несомненное удовольствие. «– Доктор, скажите мне откровенно: я умираю? – Видите ли, – сказал доктор, играя цепочкой от часов. – Я бы не хотел отвечать на ваш вопрос. Я даже не имею права отвечать на него». Это явное иезуитство, переходящее в изуверство. «– То, что вы сказали, вполне достаточно, – сказал юноша. – Теперь я знаю, что надежд нет. – Ну, уж это ваша фантазия, – сказал доктор. – Я вам про надежды не сказал ни слова» (с. 250). Длить эту беседу доктору особенно приятно. г) Наверное, трудно было бы найти человека более чуждого насилию, нежели Хармс. «Я никогда не дрался, даже в детстве» – воспроизводит по памяти слова Хармса А. Порет (7;71). Скорее всего, именно поэтому у него столько «историй дерущихся», садистов и извергов, ведь в действительности мир насилием полон (особенно это касается той эпохи, в которую жил 57 Нередко этот рассказ, равно как и «Вот, Леночка, – сказала тётя…», помещается в раздел «детской» прозы, на наш взгляд ошибочно. 58 Подробно этот рассказ обсуждается в связи с мотивом «детоненавистничества» в третьей главе. 64 Хармс59). Показывая невероятную концентрацию и неизбежность насилия, Хармс подчеркивает безнадежную испорченность «мира» (причем априорную60), в котором, следовательно, ничего хорошего быть не может. Отчасти в этих акцентах, сделанных Хармсом, и проявляется отсутствие у писателя иллюзий по поводу человеческой природы. Насилию у Хармса почти непременно сопутствует цинизм. Именно это в конечном итоге указывает на закономерность насилия, на то, что корни его – в самой человеческой природе, никак иначе. Именно насилие вносит основной вклад в создание хармсовской картины мира – «мира адского». Крайне цинично насилие в «Охотниках», «Начале очень хорошего летнего дня», «Пакине и Ракукине» и т. д. Известно, что после нарушения табу должна следовать катастрофа. Однако в «мире» Хармса нарушение табу не влечет за собой катастроф: в «мире» это норма. Драка и даже убийство в «мире» – это обыденные явления. Как «потеря», как сон. Драка уже неотделима от «нормального» течения жизни. Итак, от «мира» не спасает и табу. 6) Иное а) Основание для выделения следующей группы менее очевидное, чем в уже рассмотренных случаях. К группе, которую мы условно назовем «Иное», мы отнесем произведения, в которых представлена иная реальность. 59 Приведем отрывки из воспоминаний Алисы Порет: «Одна черта Хармса меня изумляла – отсутствие храбрости. Он боялся моей собаки, доброй, умной, хорошей»; «Когда Хармс провожал меня домой и мы шли по набережной и он видел вдали двух пьяных или просто группу мужчин, он всегда под разными предлогами поворачивал назад или тянул в переулки, будто бы желая показать мне какое-то чудо архитектуры». Порет, не имея возможности даже заглянуть в хармсовские «взрослые» тексты, поняла то же самое, что и современный читатель: Хармс, видимо, очень боялся, что его побьют. Интересно, что благодаря ее же воспоминаниям мы можем догадываться о механизме возникновения этих знаменитых «историй дерущихся». «Чтобы вселить мужество», Порет рассказала Хармсу историю прогуливающейся белой ночью пары: дама не побоялась, несмотря на предупреждение кавалера, пройти мимо трех пьяниц, а когда они начали к ним приставать, «двинула одного», потом второго, третий же убежал. «Рассказ мой очень понравился Хармсу» (возможно, еще и потому, что влюбленность кавалера, С. М. Алянского, «после этой прогулки – как рукой сняло»), «но он придумал другой конец»: «– Зачем она не тюкнула третьего? – сказал он. – Надо было ей догнать его, оглушить кулаком и бросить в Неву, потом вернуться к Алянскому и с его помощью перемахнуть и тех двух, а потом уже говорите – “и совершенно неизменившимся голосом прочла следующую строчку”» (они читали друг другу стихи) (7;69–71). Только так – в текстах – мог Хармс противостоять ненавистному ему насилию. 60 См., например, рассказ «Однажды Петя Гвоздиков…». 65 Примеры разнообразны: иные действующие лица (например, выдающиеся исторические личности – Пушкин, Гоголь, Сусанин), иное место действия (например, Америка – вместо обычно подразумеваемого Ленинграда или по крайней мере Советского Союза; это может быть и более экстравагантный вариант, например рай), иная историческая эпоха (то есть не советская, например эпоха легендарного сусанинского подвига). б) К группе «Иное», на наш взгляд, следует отнести: «Давайте посмотрим в окно…», «Можно ли до Луны докинуть камнем», «Ссора», «Грехопадение или познание добра и зла», «Пушкин и Гоголь», «Четвероногая Ворона», «Исторический эпизод», «Анегдоты из жизни Пушкина», «Как известно, у Безименского…», «Метро», «Ольга Форш подошла к Алексею Толстому…», «Экспромт», «Пашквиль», «Дедка за репку (балет)», «В Америке жили два американца…», «Американский рассказ», «Американская улица…». С оговорками к этой же группе можно причислить рассказ «Господин невысокого роста…». в) Начнем с «Исторического эпизода». Заметим, ничтожество, именуемое Сусаниным, является патриотом не только для рассказчика. Уже хозяин харчевни, объясняя боярину Ковшегубу, «кто есть сей», именует его патриотом. Поэтому предположение, что настоящего Сусанина подменил на «фальшивого» рассказчик, неверно. Реплика хозяина этого не допускает – это «тот самый» Сусанин. Исключено и предположение, что все злонамеренно рассказчиком вымышлено, что он специально дискредитирует Сусанина. Если бы это было так, то ничтожность такого «патриота» рассказчиком бы осознавалась. Но Хармс отдельно заботится о том, чтобы облик рассказчика угадывался читателем вполне отчетливо: сам рассказчик глуп, серьезен и примитивен, следовательно, к такой мистификации не способен. Видимо, следует признать, что в рассказе речь идет о настоящем Сусанине. Легко улавливаются параллели между Сусаниным и «мудрым стариком». Сусанин отличается от оригинального «мудрого старика» только еще большей глупостью, поскольку теряет бдительность. Проследим: Сусанин осознает 66 себя патриотом, благо его таким «назначили» при каких-то неведомых обстоятельствах, – это известно даже хозяину харчевни. Он старается соответствовать своей роли, заботится об облике, что его в конце концов и подводит. То, что Ковшегуб «хватил по зубам сидящего орлом Иван Ивановича» и «Иван Иванович <…> повалился на бок», еще не мешает ему продолжать разыгрывать патриота. Он отвечает хозяину харчевни весьма примечательным образом. Несмотря на глупую искренность («Жив, да ти́лько страшусь, что меня еще чем-нибудь ударят»), он все же вспоминает о том, что он «патриот» («Я человек храбрый, да ти́лько зря живот покладать не люблю»). Дальше глупость берет вверх, Сусанин просто не понимает, какие слова с обликом храбреца и героя уже несовместимы («Вот я приник к земле и ждал: чего дальше будет? Чуть что, я бы на животе до самой Елдыринской слободы бы уполз…»). Хозяину ясно, что патриотом «назначено» ничтожество, однако он не возражает. Но тут возникает «борода». Осторожность совершенно отказывает безнадежно глупому «патриоту», и амбиции берут вверх. И когда хозяин харчевни говорит, что у него «брада была клочна», Сусанин не выдерживает и дает волю возмущению. Все немедленно встает на свои места: «Хозяин зажмурил глаза и, размахнувшись, со всего маху звезданул Сусанина по уху» (с. 359–360). Как мы видим, знание о том, что «этот – патриот!», ничуть не остановило хозяина харчевни. Именно это окончательно подтверждает, что ничтожество было патриотом «назначено» и перед нами фальшивка. Но только – это важно – фальшивка «старая», не времен рассказчика – а времен самого «патриота»! Уже хозяин харчевни знает, во-первых, что этот – «наш патриот», и тут же, во-вторых, что это ложь. То есть Сусанин фальшив изначально. Не «вранье потом» – ложь от самого истока! Сусанин был именно такой, как в рассказе, подвига – не было. Миф же – был. Еще в то время. Из рассказа следует, что ложь не вытеснила истину «со временем» – ничего кроме лжи никогда и не существовало. 67 Аналогичное мы видим и в «Анегдотах из жизни Пушкина». Обратим внимание: о Пушкине рассказывает его современник, причем рассказчик снова глуп и бесхитростен – стало быть, правдив. Вывод тот же: в «мире» Пушкин был таким, как его описывает современник, – идиотом. И это не позднейшие фальсификации. Степень «идиотичности» Пушкина наращивается от «анегдота» к «анегдоту» – заканчиваются «анегдоты» буквальным признанием Пушкина идиотом: над ним потешается даже глупый рассказчик. Напомним, не доверять правдивости излагаемого нет никаких оснований. В «Пушкине и Гоголе» воплощен аналогичный принцип, однако свои нюансы. «Спотыкание», о котором идет речь, некогда имело, судя по всему, иносказательный смысл. Но в «мире» ничего многомерного нет. В «мире» «споткнулся» может означать только одно, и никакого переносного смысла (метафорическое «спотыкание классиков друг о друга») не предполагается. Пушкин и Гоголь на самом деле (доверяем ремаркам) просто спотыкались. При этом клоунада двух классиков изображается даже без помощи рассказчика, так что здесь и «не доверять» некому: имеются одни лишь ремарки, непосредственно описывающие происходящее. Рассказ «Четвероногая Ворона» отсылает к знаменитой басне Крылова. «Жила была четвероногая ворона. Собственно говоря, у неё было пять ног, но об этом говорить не стоит». Как и в случае с Сусаниным, Пушкиным и Гоголем, это действительно та самая история вороны и лисы, но рассказанная в «мире». В «мире» ворона – это пятиногое чудище, а диалог в «мире» лишен какой бы то ни было сложности (за которую в басне отвечает хитроумная велеречивая Лиса): «Увидала она ворону и кричит ей: “Эй, – кричит, – ты, ворона!” А ворона лисе кричит: “Сама ты ворона!” А лиса вороне кричит: “Сама ты ворона!” А лиса вороне кричит: “А ты, ворона, свинья!”». Типичный хармсовский диалог: в нем полностью отсутствует интеллектуальная составляющая. Даже у лисы нет никаких мотивов (вспомним басню, где ситуация противоположна): она просто – и это 68 подчеркивается – «увидала ворону». В «мире» смысла нет никакого, только мерзость: «А ворона слезла на землю и пошла на своих четырех, или, точнее, на пяти ногах в свой паршивый дом» (с. 207–208). Ничего возвышенного и иного в «мире» нет. Также заметим, что дискредитация самой возможности возвышенного в связи с писателями может иметь и другую составляющую. В таких рассказах в качестве Пушкина и Гоголя – подлинно великих (напомним, в мире, а не в «мире») – могут выступать и намного менее значительные фигуры, к которым у Хармса могли быть и личные претензии. Например, А. И. Безыменский («Как известно, у Безименского очень тупое рыло…»). Как и в «Историческом эпизоде», подчеркнуто, что о «тупом рыле» «Безименского» известно всем. Аналогичный пример: «Этой лопатой Константин Федин съездил Ольгу Форш по морде» («Ольга Форш подошла к Алексею Толстому…» – с. 88). Говоря об «ином», необходимо затронуть небольшую серию произведений, которую можно условно назвать «американской». Начнем с самой характерной для этой подгруппы миниатюры – «Американская улица…». Читателю настойчиво напоминают, что действие «пьесы» происходит в Америке. На самом же деле иного оказывается не очень много. За билетами стоит уже вполне знакомая нам очередь. Автору важно, что на сцене именно американцы, и именно миллиардеры. Просто это такие американцы и такие миллиардеры – грубые, вульгарные и мерзкие. Они ничем принципиально не отличаются от уже привычных хармсовских персонажей: «Драка в очереди. Королева собачей шерсти расправляется с королём мятных лепёшек. Другие американцы скачат вокруг и кричат: – “Держу парей: Он – её!” – “Держу парей: она – его!” <…> Двери распахиваются, и в зал врываются ободранные американцы, с криком и гвалтом занимают свои места» (с. 110). «Американское» для читателя должно обозначать нечто принципиально иное. На деле же иное – в который уже раз, заметим, – 69 оказывается псевдоиным. В данном случае «ключ» к этому приему состоит в том, что «американское» – это «советское» (напомним, что и «советское» в соответствующее время «предлагалось» России как нечто принципиально иное – строй, который якобы в корне изменит жизнь и человека). Феноров по какой-то причине (совершенно не принципиально, по какой) пропустил наступление «американского» («советского»): «Это вот значит и есть Америка!... Да! Ну и Америка!... Вот это да-а!... Эй, послюшайте!... Вы!... Это Америка?» Видимо, окружающее настолько «отличается» от уже виденного Феноровым, что вопрос «Это Америка?» надо задавать отдельно. Американец (об этом говорит ремарка – нужно верить) отвечает: «Ies, Америка». Собственно, больше никак он свою «американскую» сущность не проявит, да и в единственном слове делает ошибку. «Феноров (басом) – Вот ето да!... А вот они, это тоже американцы? Ам. – Американцы. Феноров (фальцетом) – Ишь ты!... (ниже) Американцы!... (осматриваясь)». Нетрудно уловить недоверие и даже некоторую насмешку Фенорова. Обыватель Феноров откуда-то осведомлен о «передовых американцах» («передовых советских»): «А что, скажем, для примера, милиардеры здесь тоже есть? Ам. – Этого, друг мой, сколько угодно». «Встроенных» в «американское», действительно, «сколько угодно». Феноров продолжает задавать каверзные уточняющие вопросы (ведь особых отличий глазами не увидишь): «А почему вот для примера скажем вы милиардеры и американцы, а ходите вроде как бы все ободранные? Ам. – А ето всё по причине так называемого кризиса. Феноров (фальц.) – Ишь ты!» Американец тоже почувствовал, как «впечатлен» Феноров: «Ам. – Право слово, что так! Феноров (бас.) – Вот ето да-а!...» Очевидна искусственность и этого возгласа. Теперь уже очередь американца задавать вопросы: «А позвольте вас спросить, кто вы сами-то будите? Феноров – Да моя фамелия Феноров, а социальное происхождение – я хрюнцуз». Феноров понял, что в Америке, какая бы она ни была, лучше не быть не пойми кем (особенно в отношении «социального происхождения»), и поэтому он – «хрюнцуз». «Ам. – Хм… И что же, парлэ ву франсе? Феноров 70 (фальцетом) – Чиво это? Ам. – По французски то вы парлэ? Феноров (фальцетом) – Чиво это? Ам. – Да по французски то вы калякаете?» Американец относится к ответам собеседника с недоверием, как и сам Феноров. В слова друг друга они не верят, но свои роли играют исправно. Феноров окончательно понимает, что эта Америка ему по зубам, здесь он как-нибудь устроится: «Феноров – Чиво не можем, того не можем. Вот по американски, етого сколько хош. Это мы умеем!...» (с. 108–109). Феноров чувствует себя уже вполне уверенно и решает пойти на главное мероприятие – выступление джаз-оркестра. Конферансье – по статусу самый культурный персонаж этого текста – ничем не лучше, а даже хуже остальных. Он циничен и беспринципен. Прекрасно понимая, что перед ним просто сброд, он с виртуозностью под него подстраивается и с ним заигрывает. Конферансье отлично держит свою публику. В рамках нашей «советской» параллели: конферансье – это советский деятель. Он понимает, что только так и можно вести себя «с народом», конферансье вполне осознает фиаско декларируемых претензий режима и управляется с толпой именно благодаря полному отсутствию насчет нее иллюзий. Джаз можно символически воспринимать как квинтэссенцию всего «американского». Может быть, джаз (в нашей «советской» параллели – идеология) так хорош, чтобы оправдать всю внешнюю неприглядность Америки? Но и последний «чистый» элемент «американского» дискредитирован. Причем Хармс делает это весьма тонко: «Конф. – В джазе участвует жена мистера Вудлейка, баронесса фон дер Клюкен, и их дети!» (с. 111). Джаз-оркестр (который и так был уже слегка странен из-за «баронессы») мгновенно превращается в некий цыганский табор: участвуют все «от мала до велика». В связи с этим понятна озабоченность конферансье: просто так слушать джаз (идеологическую речь), может, и не стали бы (и лишь «зацепив» свою ужасную публику и получив тем самым над ней некую власть, конферансье говорит «хватит» и объявляет джаз-оркестр). Последние реплики выглядят уже как эпилог и замыкают композицию, обозначая рефрен – снова начинается скандал, практически уже 71 перерастающий в очередную драку; отличие только в том, что Феноров – уже «американец», не хуже остальных. Помимо прочего, эта сценка – насмешка над «советским» по существу. По Хармсу, «советское» дискредитировано прежде всего тем, что, претендуя на исправление человеческой природы, провозглашая это во всеуслышание (даже до Фенорова долетело!), оно не в состоянии в этой природе ничего не только исправить, но даже хоть сколько-нибудь улучшить. Грязь бытия остается грязью. «Передовые» вот-вот подерутся, любые несоответствия заявленному образу благополучно спишутся на «кризис» («переходный период», «болезни роста», «наследие прошлого»). Феноров безошибочно чувствует это и – успокаивается. Хармс, таким образом, смеется над режимом и даже объясняет, почему. Эта же идея («американское» – это вовсе не иное) развита в «Американском рассказе». Казалось бы, совсем незамысловатый рассказ, где очередной сторож-дурак не в состоянии ничего понять. Сторож обвиняет парня, который якобы сломал ему руку, хотя из его же, сторожа, рассказа следует, что руку ему никто не ломал. Однако при более внимательном прочтении становится очевидно, что перед нами очередная зарисовка на тему цинизма. Парень «плох», и даже весьма, – просто не тем, в чем обвинялся первоначально. «Люди дурны все равно» – излюбленная хармсовская идея. И «справедливый» американский суд, который, скорее всего, оправдает парня, по существу ошибется. Цинизм снова не будет ни замечен, ни пресечен (на это косвенно указывает интонация рассказчика, упорно интересующегося рукой и никак не реагирующего на откровенно грязную сущность поведения «парня»). В наиболее явной форме о том, что «американское» – это не иное, сказано в миниатюре «В Америке жили два американца…»: «Сейчас у нас, сейчас тут у нас… Я говорю у нас тут в Соединенных штатах, Американских Соединённых штатах, В Соединённых штатах Америки, тут, у нас… ты понимаешь где?» (с. 75). Иное заявлено названием страны – Соединенные 72 штаты, – но названием все и заканчивается. При этом объяснить или хотя бы намекнуть, в чем же состоит это иное, американец (не какой-нибудь сторонний наблюдатель, который может просто не знать) не в состоянии. «Грехопадение или познание добра и зла. Дидаскалия», возможно, является главным произведением в группе «Иное». В тексте много канонических элементов: «Figura (указывая рукой на дерево, говорит): Вот это дерево познания добра и зла. От других деревьев ешьте плоды, а от этого дерева плодов не ешьте» (ср.: «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», Быт 2:16–17). В конце Ева пробует плод на вкус (у Хармса уточняется: яблоко) и дает съесть его Адаму. Падшие тут же осознают свою наготу, Ева вожделеет Адама (ср.: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги», Быт 3:7). Следует положенная расплата: «Figura: Ты, человек, и ты, человечица, вы съели запрещенный плод. А потому вон из моего сада!» (ср.: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского», Быт 3:23). Итак, иное заявлено в самой возвышенной сфере: перед нами «история изгнания из рая». Однако «рай» этот, как и вся история, очень странен. Настораживает уже первая ремарка: «Аллея красиво подстриженных деревьев изображает райский сад. Посередине Древо Жизни и Древо Познания Добра и Зла. Сзади направо церковь». С одной стороны, это близко к Библии (ср.: «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла», Быт 2:9), с другой, здесь есть нарочитая искусственность: «аллея красиво подстриженных деревьев» и, главное, совершенно неуместная в Эдеме церковь (куда всякий раз уходит Figura: и после запрета, и после наказания). Настоящим «сдвигом» оказывается явление некого Мастера Леонардо, который буквально взрывает канон. Именно он начинает играть роль дьявола: вооружившись полуправдой, он уговаривает Еву съесть яблоко. Отметим, что здесь у него есть особая мотивация: он хочет пробудить в Еве 73 чувственность и вожделение (пока «любовь» для Евы только нечто «очень смешное», чего Мастеру Леонардо явно не достаточно). «И когда ты съешь этот плод, ты сразу поймешь, что хорошо и что плохо. Ты сразу узнаешь очень много и будешь умнее самого Бога». Эти слова Мастера Леонардо вновь отсылают к канону (змей в Библии говорит: «…в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло», Быт 3:5). Ева уже совершенно готова откусить от яблока, как вдруг появляется Адам, «Мастер Леонардо скрывается за кусты», и происходит прелюбопытный диалог: «Адам: Это кто был? Ева: Это был мой друг. Мастер Леонардо. Адам: А что ему нужно? Ева: Он посадил меня верхом к себе на шею и бегал со мной по саду. Я страшно смеялась. Адам: Больше вы ничего не делали?» Ошеломляющий вопрос – оказывается, и Адам осведомлен о взаимоотношении полов. В неведении, таким образом, в «раю» пребывает только Ева. Становится понятна реплика Мастера Леонардо: «Ева: <…> Хочешь тоже на меня верхом сесть? М. Л.: Да хочу. Но только ты ничего не говори Адаму» (с. 95–96, 98–99). Мастер Леонардо тоже прекрасно знает об осведомленности Адама. Роли распределены следующим образом: Ева – невинная, но бойкая дамочка, Мастер Леонардо – пылкий сладострастник, а Адам – вялый обманутый муж (еще и, видимо, скрывающий свою искушенность от жены, возможно ввиду той самой вялости). Пошлейший треугольник, банальный лубок, но только перенесенный в «рай». Пошлостью пронизаны и реплики («М. Л.: Ты, я вижу, молодец. Ева: Да, я бойкая баба» и т. д.). К этому еще добавляются атрибуты жизни обывателя, причем советского. Адам почему-то уходит «собирать малину», а потом приходит с «картузом, полным малины, в руках». Характерна также следующая цитата: «М. Л.: Ну хорошо. Я верю тебе. Ты была в хорошей школе. Я видел Адама, он очень глуп. Ева: Он грубоват немного» (с. 96–97) – типичный пример пошлости и житейского (в «раю»!). Все это особенно контрастирует с высоким каноном 74 (который здесь совершенно недвусмысленно присутствует) и высокой лексикой («человек и человечица» и т. д.). Мастер Леонардо не просто прекрасно адаптируется в «раю», он еще и верховодит, причем везде. Так, он вместе с ангелом (!) изгоняет из рая Адама и Еву. А в финале выясняется, что он еще и распоряжается самим занавесом! Это не просто старый (возможно, первый) обитатель рая, успешно там устроившийся, – это главное лицо театра. Мастер Леонардо всюду. И «рычаги» – у него в руках, причем и там, и здесь! Для него нет границы между сакральным и житейским, небесным и земным, она им упразднена. Он единственный свободно перемещается из одного пространства в другое; притом очевидно, что у него «все схвачено» в обоих «измерениях». г) На наш взгляд, то, каким у Хармса предстает «иное», чрезвычайно важно для понимания художественного мира и философии писателя. Подведем итог для этой группы. Сусанин, Пушкин, Гоголь оказываются такими же идиотами, как и прочие обитатели «мира». Здесь нет ни гениев, ни подвигов, ни каких-либо отвлеченных рассуждений или форм речи. Причем это не «переврано впоследствии», не искажено – этого изначально не существовало. Возвышенного никогда не было. Более того, возвышенность и пафос неуместны априори, они лживы по определению, ибо «плох» человек всегда. Как видим, даже в произведениях, где номинально должно быть представлено иное, фактически представлен типичный хармсовский «мир». Даже исторические личности полностью и органично в него встроены. Это, прежде всего, мир порока. С бросающимся в глаза обилием «историй дерущихся» на все лады, немыслимым цинизмом, окончательным провалом коммуникации и т. д. Хармс утверждает, что исторические персонажи находятся внутри ровно того же жуткого «мира». То есть всемирная история есть история этого «мира». Дискредитация возвышенного как изначально ложного – важнейший штрих. 75 «Американское» – другой штрих в этой же картине. У читателя вновь разрушается некое, даже в некотором роде благородное, представление, существующее как нечто самоочевидное. Америка, таким образом, обозначает нечто, с чем уже были связаны положительные ожидания или, хуже того, иллюзии. Даже Феноров поначалу тушуется и, боясь ударить в грязь лицом, выдумывает «хрюнцуза». Ведь еще, того гляди, и не примут – в американскую-то (советскую) страну. И он настороже. Но «американское» («советское») – и в этом все дело, – на его счастье, оказывается все той же знакомой обывательской мерзостью, люди так же грубы, глупы и вульгарны. И налет «американского» («советского») ровным счетом ничего не в состоянии изменить! Все ожидания опрокидываются. Выходит лишь смехотворная картина все того же жуткого существования. Именно человек упраздняет иное, делая фальшивым все возвышенное. Он способен опошлить даже рай. «Рай» этого «мира» ужасен. Везде царит пошлость, которая даже старше этого самого «мира». Вот такой «рай» будет предлагать Мастер Леонардо. Итак, на наш взгляд, произведения из группы «Иное» направлены на то, чтобы подчеркнуть: человек плох, изменить его нельзя – он останется все тем же. А раз так, то и никакой выход в сферу иного для него невозможен. Под личиной нового окажется старое – мерзкое, как и все земное. Мерзость человека – причина всех мерзостей «мира». Итак, ничто иное, ничто возвышенное от «мира» тоже не спасает. 7) Философское а) Любое литературное произведение можно обсуждать в контексте и с позиций тех или иных философских идей. Как мы видим, произведения Хармса к этому особенно располагают61. Однако на наш взгляд, помещать в центр филологического анализа философские теории следует только тогда, когда к этим философским теориям есть явная отсылка в литературном 61 См. в связи с этим: (25, 54, 65, 66, 81, 131, 138, 158) и многие другие работы. Отметим, что часто в центре внимания исследователей находятся не рассказы, а (квази-)трактаты. 76 произведении. Для Хармса это довольно редкий случай – впрочем, такие произведения есть (в них, добавим, не только содержание, но и само заглавие недвусмысленно отсылают к философии). б) К группе «Философское» мы условно относим произведения «О явлениях и существованиях № 1», «О явлениях и существованиях № 2» и, с некоторыми оговорками, «Голубую тетрадь № 10» («Был один рыжий человек…»). в) «Околофилософские» произведения Хармса мы будем сопоставлять с идеями Канта, и тому есть несколько причин. Во-первых, слева от знаменитого рассказа о «рыжем человеке» Хармс некогда поставил помету «Против Канта» (с. 429). Это сильная позиция: хотя бы однажды Хармс свой рассказ соотнес с кантианством. Кроме того, Канта, скорее всего, активно обсуждали «чинари». Во-вторых, сами миниатюры («О явлениях и существованиях») практически впрямую отсылают к идеям Канта (особенно «№ 2»). С другой стороны, глубокое – научное – соотнесение Хармса с Кантом, на наш взгляд, было бы неадекватным. По словам Друскина – ближайшего Хармсу человека – Канта Хармс не читал. На наш взгляд, Канта Хармс мог и читать, но с высокой вероятностью имел представления о его идеях в основном по разговорам в кругу «чинарей». Поэтому и мы позволим себе некоторые вольные упрощения62. Можно предположить, что две миниатюры «О явлениях и существованиях» соответствуют двум главам кантовской «Критики чистого разума»: «О времени» и «О пространстве». Кант считал, что в сознании человека еще до появления какого-либо жизненного опыта заложены представления о пространстве и времени63. В «№ 2» речь о пространстве: «…за спиной Николая Ивановича нет ничего <…> совсем ничего нет, даже воздуха нет <…> не только за спиной 62 Далее в сносках наши рассуждения подкрепляются цитатами из Канта. «Существуют две чистые формы чувственного созерцания как принципы априорного знания, а именно пространство и время» (68;49); «Пространство и время мы можем познавать только a priori, т. е. до всякого действительного восприятия» (68;62); «Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта» (68;50) и т. д. 63 77 Николая Ивановича, но впереди, так сказать, перед грудью и вообще кругом нет ничего <…> не только за спиной Николая Ивановича или спереди и вокруг только, а так же и внутри Николая Ивановича ничего не было, ничего не существовало». Да и сам «Николай Иванович не существовал и не существует». Раз представление о пространстве у человека априорное, доопытное, значит, пространство существует не в связи с предметами, следовательно, все предметы можно убрать, и это не повлияет на наше глубинное понимание пространства64. Но не зря у Хармса все построено вокруг слов «за», «впереди», «внутри». Если убрать все предметы, то эти слова потеряют смысл. Действительно: «…если мы говорим, что ничего не существует ни из нутри, ни с наружи, то является вопрос: из нутри и с наружи чего? Что-то, видно, всё же существует? А может, и не существует? Тогда для чего же мы говорили из нутри и с наружи?» (с. 93–95). Речь здесь, в общем-то, о том, что без системы отсчета нет и пространства. Чтобы понятие пространства имело хоть какой-то смысл, необходимо задать тело65 отсчета. То есть вопреки Канту («пространство есть ничто»66) пространства без тел как раз нет. Хармс дал двум своим текстам заглавие «О явлениях и существованиях». Что он мог подразумевать под этими словами? «Явление», наверное, понимается в традиционном смысле: нечто, что мы наблюдаем (приблизительно так этот термин понимал и Кант67). Но, по Канту, невозможно познать вещь посредством наблюдений (опыт является продуктом наших субъективных ощущений, соответственно, объективной картины он дать не в состоянии), а других возможностей у нас нет, отсюда и принципиальная непознаваемость любой вещи («вещь сама по себе»68). 64 «Никогда нельзя себе представить отсутствие пространства, хотя нетрудно представить себе отсутствие предметов в нем» (68;50–51). 65 Именно тело, точки недостаточно! 66 «…Как только мы отбрасываем условия возможности всякого опыта…» (68;54). 67 «Те созерцания, которые относятся к предмету посредством ощущения, называются эмпирическими. Неопределенный предмет эмпирического созерцания называется явлением» (68;48). 68 «Каковы предметы сами по себе и обособленно от этой восприимчивости нашей чувственности, нам совершенно неизвестно»; «…каковы предметы сами по себе – этого мы никогда не узнали бы и при помощи самого ясного знания явлений их, которое единственно дано нам» (68;61–62). 78 «Существование» тоже имеет ясный традиционный смысл (как в высказывании «я существую»), но Хармс написал не «о явлениях и их существовании»69, а «о явлениях и существованиях». Возможно, Хармс здесь, вслед за Кантом, подразумевает оппозицию «явления предмета» и «предмета самого по себе» (явления отдельно, подлинные существования отдельно)70. То есть хармсовское «о явлениях и существованиях» может означать в кантовской терминологии «о явлениях и о вещах самих по себе»71. Либо слово «существование» понимается Хармсом традиционно, и в заглавии он подчеркивает проблему существования предметов, возникающую в связи с Кантом. Итак, любой предмет, например петух, на самом деле находится в нашем сознании, в реальности же петух может оказаться чем-то совершенно иным72. То есть петуха, того, что живет в нашем сознании, не существует 73. Вот как это у Хармса: «Говорят, один знаменитый художник рассматривал петуха. Рассматривал, рассматривал и пришел к убеждению, что петуха не существует». (Ирония ситуации состоит еще и в том, что художник пришел к «убеждению» о несуществовании петуха не умозрительно – как это обычно бывает при подобных теоретических рассуждениях, – а глядя на петуха непосредственно.) «Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель давай смеяться. Как-же, говорит, не существует, когда, говорит, он вот тут вот стоит, и я, говорит, его отчетливо наблюдаю» (с. 93). В каком-то смысле в «Критике чистого разума» Кант полемизирует именно с таким «приятелем». 69 Именно такие формулировки, кстати, находим у Канта: «…мы можем спокойно выводить явления в мире и их существование из других явлений…» (68;373). Слова «существование» и «явления» встречаются рядом у Канта довольно часто, но практически всегда в значении «существование явления» (например: «…если бы явления были вещами в себе и, значит, их условия вместе с обусловленным всегда принадлежали бы к одному и тому же ряду созерцаний, то необходимая сущность как условие существования явлений чувственно воспринимаемого мира была бы совершенно невозможна» – 68;341). 70 «Мы отличаем предмет как явление от того же предмета как объекта самого по себе» (68;67). 71 В этом предположении Кант использует термин «существование» в более традиционном значении, нежели Хармс. 72 «Я называю трансцендентальным всякое познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов» (68;44). 73 У Канта много высказываний, соприкасающихся с этой темой, к примеру: «…если бы мы устранили наш субъект или же только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все отношения их в пространстве и времени и даже само пространство и время исчезли бы: как явления они могут существовать только в нас, а не сами по себе» (68;61). 79 Теперь о времени. Обратимся к структуре «№ 1» (в квадратных скобках будем условно нумеровать моменты времени): «Художник Миккель Анжело садится на груду кирпичей [1] и, подперев голову руками, начинает думать. Вот проходит мимо петух и смотрит на художника Миккеля Анжело <…> Тут художник Миккель Анжело поднимает голову и видит петуха [2] <…> А петух не стоит уж больше <…> а уходит <…> к своим курам [3]. И художник Миккель Анжело поднимается с груды кирпичей, отрехает со штанов красную кирпичную пыль, бросает в сторону ремешок и идет к своей жене [4] <…> Говорят, один знаменитый художник рассматривал петуха [отсылка к уже произошедшему 2]. Рассматривал, рассматривал и пришел к убеждению, что петуха не существует [еще одна отсылка к произошедшему после 1, возможно, к 2]. Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель давай смеяться [5] <…> А великий художник опустил тогда голову, и как стоял, так и сел на груду кирпичей [6]. всё» (с. 91–93). Если традиционно изобразить время в виде прямой линии (этот образ использовал и Кант), то получим следующую картину: 1 2 3 4 5 (6) 6 (1) где точки 1 и 6 неотличимы друг от друга (так пара точек по бокам физической карты мира соответствует одной точке на Земле; аналогично, если двигаться вдоль широты – «прямой линии», – то в конце концов попадешь в ту же точку, из которой начался путь). «Груда кирпичей» (в самом начале и самом конце текста) – деталь, с помощью которой Хармс указывает на это «схлопывание». В начале фигурировало настоящее время («садится»), в конце – прошедшее («сел»), тем самым обозначены начало и конец одного и того же момента. Относительно, например, разговора с «приятелем» этот момент является одновременно и будущим, и прошлым. В общем, непонятно, как устроено время в этом рассказе Хармса, но уж точно 80 нелинейно. Это можно воспринимать как некий «ответ» Канту. Кант считал время (как и пространство) априорным понятием, представление о котором получено принципиально не из жизненного опыта. Более того, Кант настаивает, что и понятия одновременности и последовательности событий также получены нами не из опыта74. Кант считает, что человеку от природы дано понимание того, что различные времена не могут сосуществовать. А Хармс говорит, что если бы наш мир был устроен иначе (как в рассказе, например), то и наши представления о времени были бы другими75. Таким образом, в этих двух рассказах Хармс как бы спорит с теориями Канта. Но его возражения, если говорить объективно, не отличаются особой оригинальностью. Про пространство Хармс высказал очевидную с точки зрения физики вещь. Кроме того, он фактически стал на сторону классиков философии («ничто» нет). В другом рассказе Хармс предъявил сомнительную временную конструкцию, не вполне дотягивающую даже до древнегреческого софизма. Едва ли эту вымышленную конструкцию можно квалифицировать как резонное возражение фундаментальному труду Канта. Дело, видимо, в том, что главные возражения Хармса лежат не в сфере философских теорий – они более глобальны. Чтобы это понять, достаточно просто прислушаться к интонации. Вот в каком антураже ведутся глубокомысленные рассуждения о пространстве: «Вот бутылка с водкой, так называемый спиртуоз. А рядом вы видите Николая Ивановича Серпухова». Перед нами просто банальный алкоголик: «Вот из бутылки поднимаются спиртуозные пары. Поглядите, как дышит носом Николай Иванович Серпухов. Поглядите, как он облизывается и как он щуриться. Видно, ему это очень приятно, и главным образом потому, что спиртуоз». Невозможно оградиться от низкого «мира». Никак. А вот в каких выражениях ведется полемика: «Откровенно говоря, ничего нет». Это как бы подражание Канту. 74 «Время не есть эмпирическое понятие, выводимое из какого-нибудь опыта. В самом деле, одновременность или последовательность даже не воспринимались бы, если бы в основе не лежало априорное представление о времени» (68;54–55). 75 Кант же утверждает обратное: «Время есть не что иное, как форма внутреннего чувства, т. е. созерцания нас самих и нашего внутреннего состояния» (68;56). 81 «Но на это нам плевать, нас интересует только спиртуоз и Николай Иванович Серпухов. Вот Николай Иванович берет рукой бутылку со спиртуозом и подносит ее к своему носу. Николай Иванович нюхает и двигает ртом, как кролик». Далее: «Полное отсутствие всякого существования, или, как острили когда-то: отсутствие всякого присутствия». Нетрудно заметить травестирование. «Вот ловко! Николай Иванович выпил спиртуоз и похлопал глазами. Вот ловко! Как это он!» Рассказчик (в данном случае философ!), как всегда, недалеко ушел от персонажа (в данном случае обычного алкоголика). «Вы спросите: А как же бутылка со спиртуозом?» Это, видимо, передразнивание Канта, который нередко предвосхищает вопросы читателей и ведет с ними воображаемый диалог (часто это довольно каверзные вопросы-опровержения, на которые Кант с блеском отвечает). В данном случае философ доходит до противоречия, которое окончательно разрушает его теорию. Все заканчивается признанием фиаско: «Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать. До свидания» (с. 93–95). Тотальная дискредитация: не столько Канта, сколько жанра подобных рассуждений в принципе. Но еще радикальнее дискредитация в «№ 1». «По дороге художник Миккель Анжело встречает Комарова, хватает его за руку и кричит: “Смотри!”» (Кант как бы указывает Комарову на явление). «Комаров смотрит и видит шар. “Что это?” – шепчет Комаров. А с неба грохочет: “Это шар”. “Какой такой шар?” – шепчет Комаров. А с неба грохот: “Шар гладкоповерхностный!”» (с. 92). В контексте рассуждений Канта шар – это «вещь сама по себе». Познать ее невозможно, поэтому о том, что это шар, может сообщить только источник высшего знания, «небо» (очередная ирония в том, что буквально строчкой выше сказано: Комаров и сам видит шар). Возможно, Хармс здесь демонстрирует нелепость кантовских умозаключений и возникшей в результате картины мира, не отразившей главного. На наш взгляд, дело тут в следующем. Шар, скорее всего, висит в воздухе. И вопрос «что это?» означает, скорее, «что происходит?». 82 Возможно, Комаров шепчет от ужаса. А в вопросе «какой такой шар?» может быть не только ужас, но и недоумение (от неадекватного ответа «неба»). Неадекватность этой «философской картины» в том, что она совершенно игнорирует подлинную «ткань бытия». По нашему предположению, Комаров посылает «небу» совершенно иной запрос. А в ответ он получает неинформативную нелепицу (обыгрывающую концепцию «вещи самой по себе»). «Комаров и художник Миккель Анжело садятся в траву, и сидят они в траве, как грибы. Они держат друг друга за руки и смотрят на небо» (с. 92). Комаров – это персонаж «мира». Хармс низводит философа ровно до того же уровня. Вершина дискредитации. Итак, «О явлениях и существованиях» – это типичные хармсовские рассказы, и ни в коем случае не стоит их называть философскими в классическом смысле этого слова. Завершая этот «философский разговор», обратимся к рассказу «Был один рыжий человек…», напротив которого стоит помета «Против Канта». Здесь снова видны следы кантовских идей. Хармс последовательно лишает своего «рыжего человека» свойств: «…не было глаз и ушей. У него не было и волос <…> не было рта <…> Носа <…> рук и ног <…> живота <…> спины <…> хребта <…> и никаких внутренностей у него не было. Ничего у него не было» (с. 326)76. На наш взгляд, искать, в чем именно состоят возражения Канту в этой миниатюре, – занятие бесперспективное. Слишком мало данных. (Нужно признать, что и наши предположения о философских возражениях Хармса Канту носят, разумеется, гипотетический характер.) Здесь можно усмотреть и очередное издевательство над «вещью самой по 76 Напоминает отрывок из Канта: «Отбрасывайте постепенно от вашего эмпирического понятия тела все, что есть в нем эмпирического: цвет, твердость или мягкость, вес, непроницаемость; тогда все же останется пространство, которое тело (теперь уже совершенно исчезнувшее) занимало и которое вы не можете отбросить. Точно так же если вы отбросите от вашего эмпирического понятия какого угодно телесного или нетелесного объекта все свойства, известные вам из опыта, то все же вы не можете отнять у него то свойство, благодаря которому вы мыслите его как субстанцию или как нечто присоединенное к субстанции (хотя это понятие обладает большей определенностью, чем понятие объекта вообще). Поэтому вы должны под давлением необходимости, с которой вам навязывается это понятие, признать, что оно a priori пребывает в нашей познавательной способности» (68;34). 83 себе» (в данном случае эта «вещь» – «рыжий человек») и её (не)существованием77. С другой стороны, мы можем сосредоточить внимание именно на том, что «был один рыжий человек». Может, игра построена на том, что «рыжий человек» априори существует (раз о нем зашла речь), и можно планомерно лишать его свойств, «безболезненно» для его существования? Или же здесь речь о том, что свойство существования (бытия) принципиально отличается от других свойств? Тогда это отсылает к разделу о «невозможности онтологического доказательства бытия Бога», где Кант обосновывает, что существование – это особый предикат (свойство), принципиально отличающийся от других. Тогда неудивительно, что подобное повествование о «рыжем человеке» привело к абсурдному результату. Получается, что текст не столько против Канта, сколько на тему Канта. г) На наш взгляд, смысл только что рассмотренных хармсовских рассказов состоит в следующем. Хармсу не было важно поспорить с Кантом в узкопрофессиональном смысле – он не стремился опровергнуть какие-то идеи философа. Возражения Хармса имеют более глобальный характер. Во всех упомянутых «околофилософских» произведениях есть фразы, подобные следующей: «Так что не понятно, о ком идёт речь. Уж лучше мы о нём не будем больше говорить» (с. 326). Всякий раз эти рассказы оканчиваются затруднениями философствующего. Хармс дискредитирует с помощью своих ярких и проверенных средств саму манеру философствования (в данном случае кантовскую). Тут уже не так важно, верно ли Хармс понимал Канта или не верно, возражал он ему или варьировал его идеи, – дискредитированы соответствующая манера рассуждений и обобщенный образ философа. Интересно, что, переписывая текст миниатюры «Был один рыжий человек…» в «Случаи», Хармс не стал воспроизводить свою противокантовскую – 77 Приведем еще одну цитату, перекликающуюся с этой миниатюрой: «…как только мы устраним наши субъективные свойства, окажется, что представляемый объект с качествами, приписываемыми ему чувственным созерцанием, нигде не встречается, да и не может встретиться, так как именно наши субъективные свойства определяют форму его как явления» (68;63). 84 видимо, уже отжившую – помету. Тем самым философское отодвинулось еще дальше, и в миниатюре окончательно вышли на первый план собственно хармсовские доминанты78. Отметим, что дискредитированный Кант предстал в облике художника «Миккель Анжело», что, безусловно, напоминает дискредитацию писателя Пушкина или патриота Сусанина. Таким образом, «философское» у Хармса – это еще одна форма дискредитации «иного». В философии «выхода» также нет и быть не может. Это все та же хармсовская манифестация отсутствия возвышенного. Итак, от «мира» не спасает и познание. 8) Сокрытое а) Следующую группу произведений условно назовем «Сокрытое». К ней мы будем причислять произведения, в центре которых находится нечто тайное, потустороннее (иногда это тайное весьма трудно в произведении заметить). Хармса, конечно, нельзя причислить к писателям-реалистам. Однако если исходить из художественной системы Хармса, усвоить законы его «мира», то можно, с некоторыми оговорками, утверждать, что «фантастические» события происходят в его произведениях далеко не так часто, как принято считать. Тем важнее отслеживать явные «нарушения физической структуры мира»79. б) К группе «Сокрытое», на наш взгляд, следует отнести: «Иван Петрович Лундапундов…», «Одна муха ударила…», «Андрей Иванович плюнул в чашку с водой…», «О ровновесии», «История», «Карьера Ивана Яковлевича Антонова», «Новая Анатомия», «Басня», «Кассирша», «Отец и Дочь», «Новые Альпинисты», «– Н-да-а! – сказал я…», «Праздник», «Вот какое странное происшествие…» (Дн.;2;91), «Вот что рассказывают моряки…» (Дн.;2;17), «Сундук», «Пасскалия № 1», «Мальтониус Ольбрен», 78 См. подробнее в «Удивить сторожа. Перечитывая Хармса» (110). Ср. с дневниковой записью: «Интересно только чудо, как нарушение физической структуры мира» (Дн.;2;146). 79 85 «Шапка», «Математик и Андрей Семёнович», «Макаров и Петерсен», «Петро́в и Камаро́в». в) На первый взгляд, в крошечной сценке «Петро́в и Камаро́в» в фамилии персонажа допущена обычная хармсовская «ошибка». Но после слов Петрова в этом возникают сомнения: «Эй, Камаро́в! Давай ловить камаров!». Возможно, в «мире» есть «камары», – нечто необычное, «сокрытое». И Камаров имеет непосредственное к ним отношение, на что указывает его фамилия. Но он, подобно чудотворцу, созданному для чудес, но не творящему их (см. хармсовскую повесть «Старуха»), – от этого сокрытого отказывается: «Нет, я к этому ещё не готов; Давай лучше ловить котов!» (с. 336). Судя по ответу, Камаров понимает, о чем идет речь. Но он оправдывается тем, что «ещё не готов», ему проще ограничиться привычными «котами». В сценке «Математик и Андрей Семенович», на первый взгляд, математик – идиот, а Андрей Семенович ведет себя вполне разумно. При первом прочтении может показаться, будто идиот-математик страшно горд своими знаниями, ничего на самом деле не стоящими. Однако обратим внимание на первую же ремарку: в ней сказано, что математик вынимает из головы шар. Можно сказать, что он совершил чудо, символом которого в данном случае выступает это загадочное действие. У читателя есть в этом определенная уверенность, ведь не только математик говорит о вынутом из головы шаре – о том же сообщает и сама ремарка. Это позволяет по-другому взглянуть на диалог, представленный в сценке (позволим себе несколько изменить реплики, чтобы схематически показать развитие диалога): «Я совершил чудо. Я совершил чудо <...> Ну и ладно. Ну и ладно <...> Нет, не ладно!» и так далее. Андрею Семеновичу, если он и видит чудо (формально), уж точно нет до него никакого дела. При этом в самом Андрее Семеновиче, судя по тексту, ничего примечательного нет. Математик, конечно, «странен» и вряд ли «приспособлен к жизни», зато доступ к «сокрытому» есть именно у него. 86 Сценка «Макаров и Петерсен. № 3» представляет собой разговор двух персонажей и напоминает диалог математика и Андрея Семеновича. Макаров говорит о книге с очевидным пиететом. Петерсен же настроен скептически. Но как только звучит название книги («МАЛГИЛ»), Петерсен исчезает. То есть происходит нечто непонятное, механизмы чего «сокрыты». Несмотря на то, что Макаров о «сокрытом» читал, он в таком же недоумении. Не он сотворил такое с Петерсеном, а книга. Макаров вдруг понимает, что если и можно найти какие-то отгадки, то только в ней. В книге сказано, что человек становится шаром, но постепенно. Петерсен в «сокрытое» не верил и, видимо, ничего не желал замечать. Но ему тем не менее все это продемонстрировали, превратив его в шар мгновенно. Петерсену недостаточно было тонких намеков, его бы удовлетворили только грубые доказательства – и он их получил. Как видим, «сокрытое» вовсе не обязательно является благом80. В рассказе «Сундук» «человек с тонкой шеей» решает испытать судьбу и закрывается в сундуке. Судьба должна решить, задохнется он или выживет. По-видимому, происходит чудо: сундук пропадает и рассказчик «неизвестным способом» спасается. Однако, судя по интонации рассказчика, он это чудо не осознает. Даже в беспросветном «мире» есть место чуду, но дела до него никому нет. В миниатюре «Новая Анатомия» Хармс, вероятно, посмеивается над человеческими знаниями: ведь «случай» признается «особенно редким» не потому, что «на носу выросли две голубые ленты», а по причине имеющихся на них надписей с именами планет (с. 132). Напрашивается вывод: «люди» близоруки, их, конечно, что-то удивляет, но лишь поверхностное, а понастоящему чудесное остается незамеченным. Тема чуда прослеживается и в рассказе «Иван Петрович Лундапундов…». У персонажа выскальзывает из рук яблоко, «Иван Петрович нагнулся, чтобы поднять яблоко, но что-то больно ударило Ивана 80 См. также «Вот что рассказывают моряки…» (Дн.;2;17). 87 Петровича по голове. Иван Петрович вскрикнул, поднял голову и увидел, что это было яблоко. Оно висело в воздухе». Казалось бы, перед нами материальное чудо. Однако далее следует вроде как развенчание этого чуда: «Оказывается, кто-то приделал к потолку длинную нитку с крючком на конце. Яблоко зацепилось за крючок и не упало» (с. 34–35). Чудо как будто бы аннулировано. Но не все так просто. Прикрепленная к потолку нитка с крючком, на самом деле, лишь немногим менее удивительна, чем повисшее в воздухе яблоко. Но в «мире» если и будут удивляться, то всегда не тому – мы вынуждены вновь это констатировать. В рассказе «Андрей Иванович плюнул в чашку с водой. Вода сразу почернела…» мы усматриваем хармсовскую издевку над бессмысленным – исключительно внешним – чудом, над его якобы спасительностью (ведь для подлинного чуда, как следует из рассказа «Утро», обязательно «должно измениться что то во мне» – с. 46). «Плюнул в чашку» – «вода почернела» – «выпил воду» – и все изменилось: «на душе стало светло» («Андрей Иванович…», с. 87–88). Невозможно не уловить здесь сарказма. В рассказе «О ровновесии» истопник при паровозе Николай Иванович Серпухов «однажды», совершенно непонятно как (это остается за пределами повествования), попадает «в Европейскую Гостинницу, в ресторан». И «вот тут то», почувствовав себя человеком, Николай Иванович осмеливается задуматься: «Интересно, как человек устроен». И – о чудо! – «сокрытое» отвечает моментально: «Только это он себе сказал, откуда ни возмись, появляется перед ним фея и говорит: – Чего тебе, добрый человек, нужно?». В это же мгновение проявляется доминанта рассказа – ужас, паническая боязнь всего, в том числе чуда: «Николай то Иванович и сам не на шутку струхнул и говорит просто так, что бы только отвязаться: – Извините, – говорит, – особого такого ничего мне не требуется». На этом все могло бы и закончиться, но фея дает еще один шанс: «– Нет, – говорит неизвестная дамочка, – я, – говорит, – что называется, фея. Одним моментом, что угодно, смастерю». Фея – это посланник «оттуда»: она может ответить на любые 88 вопросы, сделать все что угодно. Однако мир Николая Ивановича наполнен страхом: «…какой-то гражданин в серой паре внимательно к их разговору прислушивается. А в открытые двери метр-д’отель бежит, а за ним ещё какой-то субъект с папироской во рту». Здесь Хармс делает акцент и на социальный аспект (советскую действительность), не случайно Жаккар угадывает в этих фигурах «стражей того порядка, который власть хотела бы установить» (56;145). Первый ответ фее можно было бы списать на эффект неожиданности и растерянность. Но фея заговаривает с Николаем Ивановичем дважды. Быть рабом страха – это осознанный выбор Николая Ивановича: «…выбежал на улицу Лассаля и сказал себе: “Кавео! Камни внутрь опасно! И чего чего только на свете не бывает!”». Это классический пример компенсации (Николай Иванович не хочет себе признаваться, что напуган до смерти). Идиот-рассказчик понимает эту историю уже привычным для нас образом: «Теперь все знают как опасно глотать камни. Один даже мой знакомый сочинил такое выражение: “Кавео”, что значит: “Камни внуть опасно”». Разумеется, никакого отношения к камням история не имеет (чего абсолютно не понимает рассказчик), однако слово «кавео» использовано неслучайно. Перевести его с латыни можно как «я опасаюсь» (или «я остерегаюсь»). Николай Иванович, видимо, в отличие от рассказчика, многое понимает: «А придя домой, Николай Иванович так сказал жене своей» – отчасти библейский стиль, что вполне соответствует пафосу следующей реплики: «Не пугайтесь, Екатерина Петровна, и не волнуйтесь. Только нет в мире никокого ровновесия. И ошибка-то всего на какие ни будь полтора килограмма на всю вселенную, а всё же удивительно, Екатерина Петровна, совершенно удивительно!» Вроде бы ни о чем страшном речи нет, но Николай Петрович невольно проговаривается: «…не пугайтесь, не волнуйтесь». Николая Петровича вдруг заинтересовал вопрос о душе, но страх давно заставил от нее отказаться, равно как и от собственной личности. Он уговаривает себя, что ничего страшного в этих «полутора килограммах» нет. Николай Петрович, по-видимому, чудо распознал (что нехарактерно для 89 Хармса): «…удивительно <…> совершенно удивительно!» (с. 89–91). Чудо – наверное, спасительное – здесь кодируется «небольшой погрешностью», но из «ровновесия» Николаю Петровичу выйти, видимо, не суждено… Рассказ «Басня» – некая вариация рассказа «О ровновесии». Здесь несколько другие образы, но ситуация повторена практически полностью: снова начинается все с сокровенной просьбы («Один человек небольшого роста сказал: “Я согласен на всё, только бы быть хоть капельку повыше”»), за которой следует появление «волчебницы», при этом просящий «от страха ни чего сказать не может», а затем следует вторая реплика «волчебницы» (с. 133). Сходство, пусть и менее явное, есть и в окончании рассказов: переживания героев о том, что попросить у феи («волчебницы») о чуде они так и не смогли. Обратимся к рассказу «История». Абрам Демьянович неизвестно почему ослеп и неизвестно почему прозрел. Завершается рассказ еще более загадочно: «С этого дня Абрам Демьянович пошёл в гору. Всюду Абрам Демьянович нарасхват. А в Наркомтяжпроме так там Абрама Демьяновича чуть на руках не носили. И стал Абрам Демьянович великим человеком» (с. 117). Непонятно ничего: ни как герой пошел в гору, ни почему он был нарасхват. Почему ничтожный Абрам Демьянович стал «великим человеком», не объясняется вовсе – нет даже намека. Идея «Истории» в том, что в «мире» не просто есть «сокрытое», а «сокрыто» самое главное. Это предположение подкрепляет рассказ, написанный в тот же день – «Карьера Ивана Яковлевича Антонова». В этом рассказе «ясно» все, кроме главного. Оно «сокрыто». Нет и намека на то, что же это за загадочные «самые остроумные способы», которые всякий раз приносили «остроумцам» такую славу. Интересный штрих к «сокрытому» добавляет миниатюра «– Н-да-а! – сказал я…». Оказывается, крыса, умеющая говорить (что является необычным для «мира» Хармса), тоже страдает от холода. Видимо, в «сокрытом» все так же плохо, как и здесь. И там тоже – холодно. Это дает 90 основания полагать, что «сокрытое» не сильно отличается от всего остального (ср. с дискредитацией «иного»). «Шапка» – один из самых тревожных хармсовских рассказов, где из сферы «сокрытого» материализуется дьявольское. В этом рассказе «синерожий» хладнокровно, и оттого еще более изощренно, издевается над «усатым». Последний не выдерживает: «– Ах ты, дьявол ты этакий» – «усатый» еще не понимает, сколь точно он подобрал слово, – «Морочишь ты меня, старика! Отвечай мне и не заворачивай мне мозги: видел ты их или не видел? Усмехнулся еще раз другой, который синерожий, и вдруг исчез, только одна шапка осталась в воздухе висеть». Загадки рассказа разрешились. Теперь ясно не только то, как «шапки на людей надеть, а самих людей не заметить», но и то, кто был перед нами. Практически наверняка – некое воплощение дьявола. Интересно, что и «старик» это понял: «– Ах, так вот кто ты такой! – сказал усатый старик…» «Старик за шапкой, а шапка от него, не дается в руки старику. Летит шапка по Некрасовской улице мимо булочной, мимо бань. Из пивной народ выбегает, на шапку с удивлением смотрит и обратно в пивную уходит». Отметим очень важную деталь: «народ» чудо (в данном случае дьявольское) видит, удивляется ему, но это совершенно ничего в нем не меняет. «Народу» все равно. Близость ада «народ» совершенно не пугает (хотя доказательство более чем наглядное – шапка летит по воздуху). «И обратно в пивную уходит» (показательно, куда они уходят: «мерзость быта» в «мире» пересиливает даже ужас ада). «А старик бежит за шапкой, руки вперед вытянул, рот открыл; глаза у старика остеклянели, усы болтаются, а волосы перьями торчат во все стороны» (с. 210). Дьявол, как ему и положено, спровоцировал и погубил поддавшегося ему старика. г) «Сокрытое» у Хармса – это нечто тайное, потустороннее, нечто, что «нарушает физическую структуру мира». Однако, как и в случае с «иным», спастись с помощью «сокрытого» нельзя. Необычное, потустороннее 91 существует, но пока не «изменится что-то во мне» – чуда не будет81. «Сокрытое» «мир» не улучшает (и вообще вовсе не обязательно является благом). Более того, явление «сокрытого» и реакции на него персонажей – еще один прием, с помощью которого Хармс демонстрирует глупость персонажей. Персонажи могут увидеть «сокрытое», но в подавляющем большинстве случаев не способны хоть сколько-нибудь адекватно его оценить: они безнадежно к этому «сокрытому» невосприимчивы82. Либо, как Николай Иванович Серпухов, невероятно всего боятся. Потому, повторимся, непосредственно сокрытое от «мира» не спасает. 9) Картина мира а) Выделим наиболее общую (с точки зрения предлагаемого нами критерия) группу, которую условно назовем «Картина мира». К ней мы отнесем рассказы, повествующие о «мире» в целом, где резкий сюжетный или тематический акцент отсутствует. В таких рассказах, как правило, частные события или частные описания обобщаются до образа «мира» в целом. б) К группе «Картина мира», на наш взгляд, можно причислить следующие рассказы: «На набережной нашей реки…», «Бобров шёл по дороге…», «Один монах вошёл в склеп…», «Пиеса», «Происшествие на улице», «Окно, занавешанное шторой…», «Когда жена уезжает…», «Говорят, скоро всем бабам…», «Человек с глупым лицом…», «Вот однажды один человек…», «Феодор Моисеевич был покороче…», «Судьба жены профессора», «Случаи», «О том, как рассыпался один человек», «– Ва-ва-ва! Где та баба…», «Один механик…», «Кассирша», «Отец и Дочь», «Кулаков уселся в глубокое кресло…», «Вот начальник военного округа…», «Миронов сел на трамвай…», «Мария и Аня обращали на себя внимание…», «Вываливающиеся старухи», «– Я не советую есть тебе…», «У него был 81 Подробнее об этом см. во второй главе. Ср. у А. А. Кобринского: «…сталкиваясь с чудом, обыватель повергается в недоумение. Впрочем, у него есть тоже свое оружие – он готов все непонятное, странное объявить несуществующим или “оптическим обманом”, таков инстинкт самосохранения» (71;67). 82 92 такой нос…», «Оптический обман», «Когда сон бежит от человека…», «Помеха», «Перечин сел на кнопку…», «Упадание (Вблизи и вдали)», «Один человек гнался за другим…», «Встреча», «Швельпин: Удивительная история!...», «Миронов завернул в одеяло…», «Постоянство веселья и грязи», «Как странно…», «Художник и Часы», «Востряков, смотрит в окно на улицу…», «На улицах становилось тише…», «Одна девочка сказала: “гвя”…», «Голубая тетрадь № 10», «Сонет», «Предназначение». в) Характерный пример рассказа, где важна картина мира в целом, а не частности, – рассказ «Случаи». Повествователь сообщает о смертях и неудачах различных персонажей. В центре рассказа находится, на первый взгляд, отсутствие причинно-следственных связей и неверная логика (или даже ее отсутствие) у рассказчика. Однако стоит обратить особое внимание на характерную деталь (на которую, как всегда, не обращает внимания традиционно глупый рассказчик): «…жена Спиридонова упала с буфета». Отсюда становится понятно: видимо, главное не то, что «все умирают» (и как они это делают), а как все живут. Умирающие, вопреки финальной реплике рассказчика, вовсе не «хорошие люди» (с. 334), что следует из его же слов. «Мир» полон безумия и греха. В рассказе «Вываливающиеся старухи» акцент снова сделан на общие свойства «мира»: здесь процветают страсти («черезмерное любопытство» – с. 334), от которых и умирают. Повторяется в точности одна и та же ситуация, убеждающая читателя, что у «старух» разума нет – его заменяет «любопытство». Снова важнейшим действующим лицом является рассказчик, который абсолютно лишен способности к рефлексии, он «созерцатель», отдавшийся «плавному течению жизни»: вот здесь он посмотрел на «вываливающихся старух», а теперь пришло время смотреть на «одного слепого». В «мире» нет иерархии, в том числе иерархии ценностей (или же она есть, но никем не воспринята). «На набережной нашей реки...» – характерный для данной группы рассказ. Тонет командир полка. Заметим, тонущий назван «командиром 93 полка» не случайно: вместо зачастую обезличенных персонажей Хармса перед нами человек с какой-то историей, с собственным лицом. Здесь дело не только в праздном любопытстве толпы: командир полка не просто кричит – он впрямую молит о помощи («опять кричал чтоб его спасли»). Так что нельзя сказать, будто толпа бездействует из-за глупости. Им, видимо, приятно смотреть на того, кто выше их по положению, но теперь так же как и они беспомощен и ничтожен. Тонет командир полка, а не один из них. Нет, будь он одним из них, его бы тоже не стали спасать, но это было бы не так приятно. То, что никто не помог, неудивительно, удивительно было бы обратное. «Народ начал расходится» (с. 25). Интонация рассказчика остается ровной, никакой проблемы он не видит, просто спокойно констатирует. Картина мира, включающая в себя рассказчика, совершенно монохромна. «Происшествие на улице» – очередная версия хармсовского «мира», где многие его мерзкие черты представлены исключительно отчетливо. «Однажды один человек соскочил с трамвая, да так неудачно, что попал под автомобиль» (первое – обитателям «мира» не везет). «Миллиционер ощупал эти колёса…» (второе – в «мире» отсутствует брезгливость). «Вокруг собралась довольно многочисленная толпа»; «Какая-то дама всё оглядывалась на другую даму, а та, в свою очередь, всё оглядывалась на первую даму» (третье – порочное любопытство). «Какой-то гражданин с тусклыми глазами всё время сваливался с тумбы» («мета безумия», впрямую перекликающаяся с «упавшей с буфета» женой Спиридонова из рассказа «Случаи»). «Тусклые глаза» могут свидетельствовать об утрате личности. «Потом толпа разошлась и уличное движение вновь восстановилось. Но гражданин с тусклыми глазами долго ещё валился с тумбы, но наконец и он прекратил своё занятие». «Мир» снова вошел «в свою колею», в некотором роде – в «ровновесие». Но тут же происходит новое «происшествие», все плохое повторяется: «В это время какой-то человек, несший стул, видно, только что купленный, – со всего размаху угодил под трамвай». И «опять пришёл миллиционер, опять собралась толпа, и остановилось уличное 94 движение, и гражданин с тусклыми глазами опять начал сваливаться с тумбы». В «мире» ход событий безальтернативен: одно и то же сменяется одним и тем же. «Ну а потом всё опять стало хорошо…» – явный контраст, сопоставимый с «началом хорошего летнего дня» (с. 366), ложный оптимизм – «…и даже Иван Семёнович Карпов завернул в столовую» («Происшествие на улице», с. 433–434). Последнее предложение – завершающий штрих, обнаруживающий безумие и рассказчика (патологически не способного иерархизировать события своего же рассказа). Иногда у Хармса встречаются рассказы, где «мир» обрисован в более мягкой форме. В качестве примера можно привести «Когда жена уезжает куда ни будь одна…». Несмотря на явную иронию, в этом рассказе перед нами – как это ни удивительно – интересующиеся друг другом муж и жена («Вечером жена пишет мужу письмо и подробно описывает своё злоключение», «муж садится и пишет жене письмо»). Но и таких постигают сплошные несчастья. Однако в конце возникает явный контраст: «Но на улице муж находит папиросную коробку, а в коробке 30 000 рублей. Муж экстренно выписывает жену обратно и они начинают счастливую жизнь» (с. 136). Несчастья обрисованы очень подробно и реалистично, а счастье, наоборот, коротко и фальшиво (особенно выбивается «счастливую жизнь»). Видимо, это идиллическая штамп про фантазия, притом окрашенная иронией (скорее, самоиронией) по поводу возможности такого счастья. Следующая миниатюра – образец того, как достичь максимального эффекта минимальными средствами. «Говорят, скоро всем бабам обрежут задницы и пустят их гулять по Володарской». Пауза. «Это не верно! Бабам задниц резать не будут» (с. 138). Вот о чем говорят в «мире». Рассказчик пересказывает дикий (для читателя) слух, но сам никакой дикости не замечает, его ничто не смущает – он рассуждает об этом слухе как о вполне обычном и правдоподобном. Тем же тоном рассказчик этот слух опровергает. 95 В «мире» «обрезать бабам задницы» не является чем-то немыслимым – скорее, наоборот, этого ждут. Дикость в «мире» – норма. «Человек с глупым лицом съел антрекот, икнул и умер. Оффицианты вынесли его в корридор, ведущий к кухне, и положили его на пол вдоль стены, прикрыв грязной скатертью». Миниатюра типична для данной группы. На первый взгляд, это классические «потери» (обезличенный «человек с глупым лицом» – и далее по схеме). Но главный акцент здесь, видимо, сделан на другое. Действия «оффициантов» (второе предложение) описаны с несоразмерными подробностями в сравнении с тем, что собственно произошло (первое предложение). Тут мерзко все: прикрыли труп не просто «скатертью», а «грязной скатертью», вынесли не просто «в корридор», а «в корридор, ведущий к кухне» (с. 139). Отдельно подчеркивается близость к еде – брезгливость отсутствует полностью. Труп, по большому счету, так и не унесли. В общем, эта «кухня» мало отличается от мертвецкой. Мерзость быта сильнее физической смерти. И это страшнее, нежели смерть сама по себе. Важный штрих к картине мира дается в рассказе «Кулаков уселся в глубокое кресло…». Традиционный хармсовский ужас, «дикий страх» персонажа – на этот раз от лежания в гробу на собственных похоронах – перебивается неадекватной гордостью (с. 159). И вот именно эта реакция, этот контраст по-настоящему ужасны. Автор в очередной раз указывает на губительность социального. Кулаков имел все основания задуматься, умер он или просто спит, – но он выбирает смерть. Герой даже готов умереть (что в данном контексте предельно снижено), лишь бы у него были такие пышные похороны. Быт поглотил все (даже чудо и «рай», как мы помним). Следующая миниатюра также очень характерна для данной группы: «Миронов сел на трамвай и поехал, а куда нужно, не приехал, потому что по дороге скончался. Пассажиры этого трамвая, в котором ехал Миронов, позвали милиционера и велели ему составить протокол о том, что Миронов умер не от насильственной смерти» (с. 160–161). В «мире», видимо, 96 считается, что если человек умер в трамвае, то он по умолчанию убит пассажирами, именно это считается нормой. Противное же необходимо специально зафиксировать в протоколе. «Помеха» – один из самых поздних хармсовских рассказов. Пожалуй, именно в нем наиболее явно у Хармса отразились сталинские репрессии (на которых писатель в своем творчестве внимания не заострял, даже несмотря на то, что никаких иллюзий по поводу режима не питал). «Помеха» как бы складывается из двух разных повествований. Первое – привычная мерзость «мира», торжество похоти с неприглядными подробностями. Но это, оказывается, еще не все. Во второй части все меняется кардинально. Если Пронин и Ирина демонстрируют мерзость человеческого, то «человек в чорном польто» и дворник отвечают за бесчувственную безжалостность. И тут крайне важно отметить ключевую метаморфозу. Вначале Пронина и Ирину, как типичных ужасных хармсовских персонажей, совершенно не жаль. Но когда за ними приходят, они удивительным образом становятся похожими на людей. Название рассказа пронизывает ирония: героям «помешали». Но тут важно отметить, как ужасны были Пронин и Ирина до «помехи». Подлинная катастрофичность в том, что именно арест (чудовищность которого сама по себе неоспорима) обнаруживает в Пронине и Ирине Мазер нечто человеческое (в традиционном смысле этого слова). Несомненно, арест исключает нормальную жизнь, но в хармсовском «мире» «нормальная жизнь» выглядит чудовищно. Отсюда понятно, почему мы не находим в хармсовских дневниках и произведениях сетований по поводу репрессий. Глупо говорить о мерзостях извне, когда их главный источник – внутри. «Упадание (Вблизи и вдали)» – рассказ с научным «трюком». Персонажи «мира», как всегда, не отличаются интеллектом и осмысленностью действий: «Они съехали по крыше в сидячем положении до самой кромки и тут начали падать». Интрига рассказа не в самом падении (она фактически развеяна первым предложением), а в происходящем вокруг: 97 «Их падение раньше всех заметила Ида Марковна. Она стояла у окна в противоположном доме и сморкалась в стакан». Хармсу достаточно одной детали, чтобы обозначить «мир». Перед нами очередная хармсовская безумная любопытная старуха (хотя о возрасте Иды Марковны впрямую не сказано). Практически вне всяких сомнений в этом рассказе обыграно релятивистское замедление времени, на что намекает уже название: «Упадание (Вблизи и вдали)». Система отсчета, связанная с падающими, – это «упадание вблизи». А все эти иды марковны, дворник, милиционер и прочая толпа наблюдают «упадание вдали». Действительно, согласно специальной теории относительности (СТО) Эйнштейна, время для неподвижного наблюдателя течет медленнее, чем для движущегося объекта. У Хармса это позволяет любопытным собраться, открыть окна и подробно рассмотреть падающих. Здесь отдаленно звучит мотив дискредитации «иного»: прогресс и знания бессмысленны, «миру» ничто на пользу не пойдет. Вот так выглядит СТО на службе Иды Марковны. Выходит, СТО необходима, чтобы она, голая, визжа и стуча ногами, могла внимательно рассмотреть, как «падающие с крыши ударятся об Землю». В завершении рассказа картина мира традиционно дополняется тупым рассказчиком«резонером»: «Так и мы иногда, упадая с высот достигнутых, ударяемся об унылую клеть нашей будущности» (с. 244–245). В некоторых рассказах, которые мы относим к группе «Картина мира», доминирует та или иная эмоция. Например, в миниатюре «Художник и Часы» преобладает злоба. «Что ещё? А ещё вот что: художник Серов поломал свои часы. Часы хорошо ходили, а он их взял и поломал. Чего ещё? А боле ничего. Ничего и всё тут! И своё поганое рыло, куда не надо, не суй! Господи помилуй!» (с. 216). Рассказчика захлестывает ненависть, ему уже совершенно не важно, о чем говорить. Другая эмоция – тревога – преобладает в миниатюре «Как странно, как это невыразимо странно…». Тут рассказчик, видимо, близок Хармсу (о чем, в первую очередь, свидетельствует интонация). Рассказчик отчетливо ощущает 98 присутствие «злого человека за стеной». Пока это ему всего лишь «странно», а не страшно. Автор прекрасно осознает постоянное наличие зла (оно тут, «за стеной», «стоит только пробить в стене дырку и посмотреть…»), но пока он позволяет себе это зло не замечать: «Но не надо думать о нём. Что он такое?» (с. 43); отметим, что это раннее хармсовское произведение. г) На наш взгляд, произведения, которые мы отнесли к группе «Картина мира», достигают следующей цели. Каждое произведение из этой группы (как правило, очень небольшое) по прочтении вызывает у читателя определенное настроение, рисует образ «мира» в целом. Отметим, что и произведения из предыдущих групп тоже в конечном итоге проясняли и уточняли хармсовский «мир», однако они были построены на конкретных и иногда специфических приемах. В произведениях же из группы «Картина мира» в фокусе находятся не отдельные аспекты «мира», но дается ощущение от него в целом (которое может вызвать даже одна деталь). Во многих из них «мир», как в зеркале, отражается полно и отчетливо. «Мир» этот, как мы попытались показать, следуя за Хармсом, пуст, безумен, низок, фальшив, мрачен, враждебен, страшен и опасен. Картина мира монолитна в своей катастрофичности. И спасения из этого «мира» как будто бы нет. 10) Чинари а) К следующей группе мы отнесем произведения, в которых Хармс в художественной форме изобразил «чинарей», а также произведения, построенные на «чинарских» идеях. б) «Чинари», на наш взгляд, изображены в следующих произведениях: «Тетерник, входя и здороваясь: Здраствуйте! Здраствуйте!...», «Иван Петрович Лундапундов…», «Одна муха ударила…», «Четыре немца ели свинину…», «Тут все начали говорить по своему…», «Однажды я пришел в Госиздат…», «Пять неоконченных повествований». «Чинарские» идеи можно опознать в текстах «Шёл трамвай…», «Как странно…», «Сонет», «Новая Анатомия», «Первое действие “Короля Лира”, переложенное для вестников и 99 жуков», «О том, как меня посетили вестники», «Связь», «Сундук», «Власть», «Как легко человеку запутаться…», а также в «Меня называют капуцином», «Я не люблю детей, стариков…». в) В сценке «Тетерник, входя и здороваясь: Здраствуйте! Здраствуйте!...» фигурирует четыре персонажа, которые «выдумывают» некое название. На наш взгляд, эти четверо не кто иные, как «чинари». Неизвестно, какое название они придумывают, – возможно, для своей группы или своего проекта (здесь уместно также вспомнить историю возникновения названия ОБЭРИУ). На наш взгляд, можно даже идентифицировать каждого персонажа: Тетерник – Введенский, Камушков – Друскин, Грек – Липавский, Лампов – Хармс. Тетерник (Введенский) – самый рассеянный и легкомысленный, опаздывает. В Камушкове (Друскине) проявляются обстоятельность, вежливость и занудность. Грек (Липавский) говорит немного и придумывает заумное название с совершенно неясным смыслом («Напырсетет»)83. Лампов (Хармс) предлагает хорошие названия (по крайней мере, полагаем, так в тот момент казалось автору этого раннего произведения), которые, однако, отвергнуты. Отметим ироничность, с которой Хармс изображает «чинарей». И уже в этом произведении Хармс себя им противопоставляет. Пока, правда, в малой степени. Как мы уже отмечали, в миниатюре «Иван Петрович Лундапундов…» явлено «сокрытое». В то же время миниатюра заканчивается следующим образом: «Морозов, Угрозов и Запоров пришли к Ивану Петровичу Лундапундову» (с. 35). К Ивану Петровичу пришли три друга. Уместно предположить, что пришли три «чинаря». И тем самым тема чуда аннулирована. Обратим также внимание на говорящие фамилии гостей. Когда приходят «Морозов, Угрозов и Запоров», говорить о чуде уже неуместно. 83 Кроме того, отметим, что «Трактат о воде» Липавского носил подзаголовок «Рассказ маленького грека». 100 В рассказе «Одна муха ударила в лоб…» в «семье Рундадаров» есть основания увидеть семью Липавских («Отец Рундадаров, Платон Ильич, любил знания высоких полетов: Математика, Тройная Философия, География Эдема…»; «Двери дома Рундадаров были открыты всем странникам, посетившим святые точки нашей планеты»; «Ежедневно у Рундадаров собирались почётные гости и обсуждались признаки законов алогической цепи»). Заметим, что собеседников-друзей снова четверо: «Среди почётных гостей были: профессор железных путей Михаил Иванович Дундуков, игумен Миринос II и плехаризиаст Стефан Дернятин». В Дернятине, персонаже, с которого начался текст, есть основания увидеть Хармса (кроме того, «Дернятин заговаривал на тему “Женщина и цветы”»84). В Мириносе II можно различить черты Друскина, памятуя о религиозности последнего. Снова отметим, что «чинари» представлены в ироническом свете (в качестве примеров подходят все уже процитированные фрагменты, но приведем еще один: «Гости, разговаривая, поплевывали в корыто: таков был обычай в семье Рундадаров» (с. 37–39), однако в данном случае Хармс из «чинарей» не выделен. Аналогичную ситуацию находим в гораздо более «зрелом» произведении «Однажды я пришел в Госиздат…». В нем уже все «чинари» (и не только они) названы поименно. «Чинарство» здесь снова дискредитировано, равно как и рассказчик (то есть как бы сам Хармс), который в данном случае из «чинарского» сообщества не выделен, а полностью в него встроен. Характерен фрагмент «Я слыхал такое выражение: “Лови момент!”…» и далее. А также: «Леонид Савельевич совершенно прав, когда говорит, что ум человека – это его достоинство. А если ума нет, значит, и достоинства нет. Яков Семенович возражает Леониду Савельевичу и говорит, что ум человека это его слабость. А по моему, это уже парадокс. Почему же ум это слабость? Вовсе нет! Скорее, крепость. Я так думаю. Мы 84 Ср. с фрагментом из «сборника» Хармса «Я не люблю детей, стариков…»: «Что такое цветы? У женщин между ног пахнет значительно лучше…» (с. 229). 101 часто собираемся у Леонида Савельевича и говорим об этом» (с. 320). С учетом контекста (философствующий рассказчик полностью во власти порока) это весьма сильный укол в адрес «чинарей» (которые действительно часто собирались у Липавского) и выразительная оценка степени осмысленности их бесед. В рассказе «Четыре немца ели свинину…» вновь действует четыре персонажа, в которых есть все основания увидеть «чинарей». Персонажи именуются исключительно «немцами»: «немец Клаус», «немец Михель». Можно сравнить с «чинарь Хармс», «чинарь Введенский» (так они не раз себя называли, к примеру в письме к Пастернаку – «Борису Леонтьевичу»). Перед нами «разговоры чинарей» – «элитарного общества» – в версии Хармса. Отметим, что знак «избранности» в рассказе выбран весьма сомнительный: для этого достаточно быть «немцем». Однако эта «немецкость» (то есть «чинарство») ничем положительным персонажей не наделяет. Более того, «немцы» ведут себя как невоспитанные дети: «Особенно один немец, по имяни Михель, смеялся над кривыми ногами немца Клауса. Тогда немец Клаус показал пальцем на немца Михеля и сказал, что он не видел второго человека, так глупо выговаривающего слова “кривые ноги”». Не стоит думать, что «немцы» просто безобидно шутят: «Тут немец Клаус выпил немного зелёного пива с такими мыслями в своей голове: “вот между мной и немцем Михелем начинается ссора”». Это ссора самого низкого уровня: ее участники соревнуются в том, кто кого обиднее обзовет и за кем останется последнее слово. И «немцу Клаусу» (в котором угадывается Хармс) ничего не остается, как утешаться собственной «недосягаемостью»: «…немец Клауз, отпив немного пива, посмотрел на всех с видом, говорящим следующее: “Я знаю, что вы от меня хотите, но я для вас запертая шкатулка”» (с. 69). Наверное, и Хармс ощущал себя в обществе «чинарей» «запертой шкатулкой» (о чем впрямую говорит рассказ), но полностью дистанцироваться, видимо, не удавалось – взгляд «немца Клауза» все равно заискивающе направлен на окружающих. Этот рассказ – еще одно 102 подтверждение того, что Хармс не безоглядно отождествлял себя с «чинарством» и «чинарями». Очевидно, он относился к «чинарству» критично. В рассказе «Тут все начали говорить по своему…» в Хвилищевском также узнается «чинарь» («Хвилищевский уверял, что ему известно такое число, что если его написать по китайски сверху вниз, то оно будет похоже на булочника»). В Факирове есть основания увидеть Хармса (особенно показательно, что он курит трубку). Характерно появление еще одного «чинаря»: «Неизвестно, чем бы это всё кончилось, но тут вошёл Уемов и принёс много новостей». В этом рассказе «чинарство» вновь подано иронически: «Числа такая важная часть природы! И рост и действие, всё число. А слово это сила. Число и слово, – наша мать» (с. 101). В «Пяти неоконченных повествованиях» «чинари» угадываются в «четырех любителях гарема». «Чинари» и их встречи вновь дискредитированы: «Они считали, что приятно иметь зараз по восьми женщин. Они собирались по вечерам и рассуждали о гаремной жизни. Они пили вино; они напивались пьяными; они валились под стол; они блевали. Было противно смотреть на них. Они кусали друг друга за ноги. Они называли друг друга нехорошими словами. Они ползали на животах своих» (4;27). Отдельно дискредитирован философ (чей образ наверняка отсылает к Друскину). Теперь обратимся к произведениям, где проявляются «чинарские» идеи или «чинарский» стиль рассуждений, но вначале коротко их охарактеризуем. «Чинари» культивировали особый способ общения. Их собрания напоминали философский кружок, в той или иной степени претендующий на философское и общенаучное новаторство, возникающее как следствие пересмотра базовых принципов познания. Они стремились отрешиться от предрассудков, традиционной логики, знаний и познавать мироздание непосредственно. Для стороннего наблюдателя «чинарский» метод познания характеризуется, скорее, некоторой идиотичностью. Наверное, в «чинарстве» 103 было немало игровых элементов, но в целом «чинари» в своем «чинарстве» были серьезны. Начнем с раннего рассказа «Шёл трамвай…». Рассказчик ставит «чинарский» вопрос: кто идет – дождик или странник. Далее следует «чинарское» решение этой задачи: «Разберём по отдельности: судя по тому, что если стать в пиджаке, то спустя короткое время он промокнет и облипнит тело – шёл дождь». Отметим, что в этом, еще раннем, рассказе «чинарское» впрямую не дискредитировано. Однако уже здесь показано, сколь уместны «чинарские» рассуждения в «мире»: из окна высунулась «голова, принадлежащая кому угодно, только не человеку, постигше<му> истину», которая «свирепо отвечала: вот я тебя этим (с этими словами в окне показывалось что-то похожее одновременно на кавалерийский сапог и на тапор) дважды двину, так живо всё поймёшь!». Рассказчик предпочитает продолжить игнорировать мерзость «мира» – пока он еще считает это возможным. Ему дорого собственное возвышенное настроение: «Судя по этому, шел скорей странник, если не бродяга, во всяком случае такой где-то находился поблизости, может быть за окном» (с. 31). В другой ранней миниатюре «Как странно, как это невыразимо странно…» рассказчик также решает игнорировать человека за стеной «в рыжих сапогах и со злым лицом». Он пытается оградиться от неприятного вполне «чинарским» способом: «Но не надо думать о нём. Что он такое? Не есть ли он частица мертвой жизни залетевшая к нам из воображаемых пустот?» (с. 43). Еще раз отметим, дискредитации «чинарства» у Хармса может и не быть, и особенно это касается ранних произведений. Иная ситуация в более поздних произведениях. Например, в центре фабулы рассказа «Сонет» находится вполне «чинарское» выяснение вопроса о том, что идет раньше: 7 или 8. «Чинарское» здесь сильно дискредитировано последним предложением: «Мы спорили бы очень долго, но, по счастию, тут со скамейки свалился какой то ребёнок и сломал себе обе челюсти. Это нас отвлекло от нашего спора. А потом мы разошлись по домам» (с. 336). Хармс, 104 возможно, издевается над своими же «философскими изысканиями». Праздно рассуждая об устройстве мироздания, можно позабыть о душе85. Похожее обнаруживаем и в рассказе «Связь», который обращен к Друскину (начинается с обращения «Философ!») и формально посвящен существованию некоторой связи между персонажами, им неизвестной, но явной для читателя. Однако в действительности повествование примечательно не этой связью, а образом «мира», который, как обычно, мерзок и безумен: сбитая хулиганами шапка истлевает в луже азотной кислоты, тесть кондуктора умирает оттого, что объелся помидорами, его труп отправляют в покойницкую, но потом, перепутав, вместо него хоронят какую-то старушку. В таком «мире» отвлеченно интересоваться какими-то общими скрытыми связями абсурдно, как и полагать, что подобные интеллектуальные поиски обогатят понимание общей картины. «Связь» – очередной рассказ, обличающий «чинарей» в принципиальном неумении различать главное. Отметим, что «Первое действие “Короля Лира”…» Хармс называет «переложением для вестников и жуков». Само слово «вестник» уже отсылает к «чинарскому», а соседство «вестников» и «жуков» – очевидное проявление иронии. В «пытливой» беседе, разворачивающейся в данной сценке (очевидно дискредитированной), где обсуждается, кто как краснеет, угадываются «разговоры чинарей». Вновь мы отмечаем иронию по отношению к «чинарству». В рассказе «Сундук» в ходе мыслей рассказчика узнается «чинарский» метод исследования бытия: «Крышка сундука закрыта и не пускает ко мне воздуха. Я буду задыхаться, но крышку сундука все равно не открою. Постепенно я буду умирать. Я увижу борьбу жизни и смерти. Бой произойдет неестественный, при равных шансах, потому что естественно побеждает смерть, а жизнь, обреченная на смерть, только тщетно борется с врагом, до 85 Ср. с: «Их интерес [обэриутов] – это интерес не к человеку прежде всего, а к истине, существующей независимо от человека как субъекта» (97;38). Исследователи часто не принимают во внимание критическое отношение Хармса к философствованию обэриутов и «чинарей». 105 последней минуты не теряя напрасной надежды. В этой же борьбе, которая произойдет сейчас, жизнь будет знать способ своей победы: для этого жизни надо заставить мои руки открыть крышку сундука. Посмотрим: кто кого?» (с. 339–340). Отметим, что и здесь «чинарское» дискредитировано («чинарь», очевидно, глуп; его рассуждения не лишены логики, но его деятельность идиотична). «Жизнь побеждает смерть неизвестным способом». Происходит чудо, истоки которого «сокрыты». Вновь оказывается, что «чинарство» – неадекватный инструмент для познания мира. Бесперспективность «чинарской» практики отражена, на наш взгляд, в одном из самых поздних хармсовских рассказов: «Как легко человеку запутаться…». «На воду смотреть всегда полезно и поучительно. Даже если там ничего не видно, а всё же хорошо. Мы смотрели на воду, ничего в ней не видели, и скоро нам стало скучно. Но мы утешали себя, что всё же сделали хорошее дело. Мы загибали наши пальцы и считали. А что считали, мы не знали, ибо разве есть какой либо счет в воде?» (с. 243). На наш взгляд, ироническое отношение к этой деятельности в этом рассказе очевидно. Черты «чинаря» прослеживаются и в Фаоле – персонаже рассказа «Власть»: «Мы грешим и творим добро в слепую. Один стряпчий ехал на велосипеде и вдруг, доехав до Казанского собора, исчез. Знает ли он, что дано было сотворить ему: добро или зло?». Фаол в этом рассказе дискредитирован: он глуп, а в конце и вовсе «рассыпается, как плохой сахар». Герой на самом деле занимается «оправданием греха», приравнивая «любовь матери к ребенку, любовь сына к матери и любовь мужчины к женщине» (с. 245, 248). Напрашивается сравнение с фрагментом из «Однажды я пришел в Госиздат…»: «Многие считают женщин порочными существами. А я нисколько! Наоборот, даже считаю их чем то очень приятными. Полненька, молоденькая женщина! Чем же она порочна? Вовсе не порочна!» (с. 322). На «оправдании греха» построен и небольшой «сборник» «Я не люблю детей, стариков…», который оканчивается вполне «чинарской» сентенцией: «Что такое цветы? У женщин между ног пахнет 106 значительно лучше. То и то природа, а потому никто не смеет возмущаться моим словом» (с. 229). Под видом «борьбы с ханжеством» скрывается банальный порок. В очередной раз эпатажный характер высказываний вполне прозрачно намекает на «чинаря», увы, подозрительно напоминающего «мудрого старика». Отблеск «чинарского» есть даже в рассказе «Меня называют капуцином…», в частности в рассуждениях рассказчика «о том, как выдавать девиц замуж» (с. 214). Некоторая близость «чинарского» и такого ужасного персонажа («капуцина») – очередное развенчание «чинарства». г) Хармс, на наш взгляд, в своих произведениях дискредитировал «чинарство». Важно отметить, что эта дискредитация была направлена не против «чинарей» лично, а против убеждения, будто «чинарство» как система идей и поведения может хоть как-то возвысить или спасти. Однако при дискредитации «чинарства» основная мишень писателя – не чужие, но собственные несовершенства. Часто Хармс вносит в облик «чинаря» узнаваемые черты «мудрого старика». Возможно, Хармс таким образом стремится показать, что «чинарь» не сильно отличается от прочих, «чинарство» – лишь внешнее, маска, а если заглянуть глубже и добраться до «человеческого», там окажется привычный порок. Итак, и «чинарство», как и прочее «иное», от «мира» не спасает. 11) Я а) К группе «Я» мы условно отнесем произведения, в которых в той или иной форме присутствует сам Хармс. Это может быть художественное изображение Хармсом самого себя, то есть рассказчик или какой-то другой персонаж наделяются хармсовскими чертами. К этой же группе мы отнесем произведения, в которых присутствует особая лирическая, человеческая (в традиционном смысле этого слова) интонация, явно выделяющаяся из общего тона хармсовского «мира». Близкая многим личным дневниковым записям, эта интонация является подлинно хармсовской. 107 б) К группе «Я», на наш взгляд, следует отнести следующие произведения: «Едит трамвай…», «Шёл трамвай…», «Одна муха ударила…», «Утро», «К одному из домов…», «В 2 часа дня на Невском проспекте…», «Иван Фёдорович пришёл домой…», «Я один. Каждый вечер…», «Гиммелькумов смотрел на девушку…», «Мы жили в двух комнатах…», «– Видите ли, – сказал он…», «Вот однажды один человек…», «Квартира состояла…», «Феодор Моисеевич был покороче…», «Новые Альпинисты», «В одном большом городе…», «Один человек, не жалея более…», «Я долго смотрел на зелёные деревья…», «Такие же длинные усы…», «Я родился в камыше…», «Иван Яковлевич Бобов…», «У дурака из воротника его рубашки…», «О наших гостях», «Когда я вижу человека…», «Страшная смерть», «Лыкин сидел у окна и курил трубку…» (Дн.;2;156), «Промокнув от дождя…» (Дн.;2;91), «Я видел перед собой дом…» (Дн.;2;174), «“Макаров! Подожди!” – кричал Сампсонов…», «Василий Антонович вышел из дома…», «Семья Апраксиных состояла…», «Павел Супов разделся…», «Однажды я вышел из дома…», «Поздравительное шествие», «В кабинет, озаряемый темной лампой…», «Тетрадь», «Новый талантливый писатель», «Калиндов стоял на цыпочках…», «Осень прошлого года…», «Я поднял пыль…», «Все люди любят деньги…», «Один графолог…», «Я не стал затыкать ушей…», «В трамвае сидели два человека…», «Молодой человек, удививший сторожа», «Старуха». в) «Едит трамвай…» – один из самых ранних хармсовских рассказов. Хармса можно угадать в «новом пассажире», который отделен от толпы – дистанцирован от нее, но тем не менее вынужден с ней взаимодействовать. Поначалу «новый пассажир» обращается к толпе на близком ей языке («Продвиньтесь пожалуйсто!») и терпит поражение. Тогда «новый пассажир» решает поступить по-другому: он произносит с достоинством казалось бы неуместную среди этого контингента реплику: «Разрешите пройти». И она действует как заклинание: толпа расступается («стоящие лезут на колени сидящим» – с. 30). Вероятно, эта миниатюра о том, как Хармс хотел прожить 108 жизнь: быть обособленным от окружающей его мерзости и иметь достаточно власти и силы, чтобы эту дистанцию держать. Это ранняя мечта. Судя по всему, позднее Хармс осознал ее несбыточность и даже, возможно, наивность. Рассказ «Утро» типичен для данной группы. Повествование ведется от первого лица, рассказчик практически тождественен Хармсу. Стоит обратить внимание на особую лирическую интонацию этого рассказа (именно она характерна для многих произведений группы «Я»). Рассказчик одержим одним – поиском чуда. Он «просит Бога о чуде», «все равно, каком чуде» (с. 46). Однако никакого чуда пока не происходит. Хармс еще не знает, как решить эту важнейшую для него тему – тему чуда. Ранние произведения, принадлежащие данной группе, на наш взгляд, посвящены исключительно художественному изображению Хармсом самого себя («К одному из домов…», «В 2 часа дня на Невском проспекте…», «Иван Фёдорович пришёл домой…», «Я один. Каждый вечер…» – вовсе своеобразный литературный дневник, – равно как и «Мы жили в двух комнатах…»). Перечислим некоторые характерные черты, по которым в персонаже можно опознать самого Хармса. Если хармсовский персонаж курит трубку, то это практически гарантия того, что Хармс указывает на себя («К одному из домов…», «Гиммелькумов смотрел на девушку…», «Тут все начали говорить по своему…», «Макаров! Подожди! – кричал Сампсонов…», «Семья Апраксиных состояла…», «Востряков, смотрит в окно на улицу…», «Я не стал затыкать ушей…», «Старуха»). «Молодой человек» – еще одно указание на Хармса («К одному из домов…», «В одном большом городе…», «В трамвае сидели два человека…», «Молодой человек, удививший сторожа»). Персонажа, близкого Хармсу, часто выдает особый, отличающий его от толпы внешний вид. Он может выделяться вниманием к костюму и аккуратностью: «молодой человек, в обыкновенном чёрном двубортном пиджаке, простом синем вязанном галстуке и маленькой фетровой шапочке коричневого цвета» («К одному из домов…», с. 48); «Смит был аккуратен; ходил он в коротких клетчатых штанах и носил крахмальные воротнички» 109 («Квартира состояла из двух комнат…», с. 141); «Он был всегда гладко выбрит и хорошо подстрижен. Галстук был всегда выглажен и хорошо завязан» («Семья Апраксиных состояла…», с. 192). Схожесть с «американцем» – тоже характерная хармсовская черта («К одному из домов…», «Семья Апраксиных состояла…»; в миниатюре «Квартира состояла из двух комнат…» персонаж носит фамилию Смит). Наличие у персонажа шляпы также позволяет предполагать, что перед нами персонаж, близкий Хармсу («К одному из домов…», «– Видите ли, – сказал он…», «В кабинет, озаряемый темной лампой…», «Старуха»). Сюда же можно отнести высокий рост и длинные ноги («К одному из домов…», «Феодор Моисеевич был покороче…», «В кабинет, озаряемый темной лампой…», «Старуха»), сутулость («В 2 часа дня на Невском проспекте…»). Если персонаж отчетливо чем-то выделяется из «мира», удивляет, с высокой вероятностью он отсылает к самому Хармсу: «Иван Фёдорович любил удивить людей и некоторые вещи делал шиворот на выворот. Он нарочно приучил кота Селивана сидеть в прихожей, а собаку Кепку лежать на плите» («Иван Фёдорович пришёл домой…», с. 55); особенно показателен в этом смысле рассказ «Молодой человек, удививший сторожа»86. Выделяться такой персонаж может и речью – той самой интонацией и особыми образами: «Когда тонкая фарфоровая чашка падает со шкапа и летит вниз, то в тот момент, пока она ещё летит по воздуху, вы уже знаете, что она коснётся пола и разлетится на куски. А я знаю, что если человек взглянул на другого человека медным взглядом, то уж рано или поздно, он неминуемо убьёт его» («– Видите ли, – сказал он…», с. 134). В раннем рассказе «Едит трамвай…», видимо, отразилось хармсовское желание как-то повлиять на мир. Судя по всему, позднее Хармс осознает тщетность этих попыток, что в итоге воплотится в «Молодом человеке, удивившем сторожа»: от «мира» можно в лучшем случае только спастись. 86 Значимо, что в этом случае слово «удивить» Хармсом даже вынесено в заглавие. См. об этом подробнее «Удивить сторожа. Перечитывая Хармса» (110). 110 Учитывая образ хармсовского «мира», ясно, что его обитатели книгам чужды. Появление в хармсовском тексте какой-либо книги, даже ее упоминание – это нечто особенное, часто отсылающее к самому Хармсу (книга обнаруживает Хармса в таких произведениях, как «Утро», «К одному из домов…», «Мы жили в двух комнатах…», «Тетрадь», «Все люди любят деньги…», «Востряков, смотрит в окно на улицу…», «Старуха»). Также важная черта персонажа, выдающая в нем самого Хармса, – невозможность что-либо сделать, периодически настигающая тотальная бездеятельность: «Передо мной лежала бумага, чтобы написать что то <…> Я ничего не написал и лег спать» («Утро», с. 46); «Так, ничего не делая, он просидел за столом часа три и даже по лицу не было видно, чтобы он о чём ни будь думал» («К одному из домов…», с. 49); «Я ничего не делаю: собачий страх находит на меня» («Я один. Каждый вечер…», с. 57); «Книга не развлекала меня, а садясь за стол, я часто просиживал по долгу, не написав ни строчки», «Сегодня я ничего не мог делать. Я ходил по комнате, потом садился за стол, но вскоре вставал и пересаживался на кресло качалку. Я брал книгу, но тотчас же отбрасывал её и принемался опять ходить по комнате» («Мы жили в двух комнатах…», с. 84–85); «Надо воспользоваться этой тенью и написать несколько слов о чудотворце <…> Больше я ничего написать не могу. Я сижу до тех пор, пока не начинаю чувствовать голод» («Старуха», с. 266). Хармсу была свойственна грустная ирония по отношению к себе. В качестве иллюстрации можно привести, например, рассказ про Гиммелькумова («Гиммелькумов смотрел на девушку…») с отчетливыми автобиографическими реалиями. В предпоследней части рассказа речь заходит о поиске «внутренней идеи, чтобы на всю жизнь погрузиться в неё» – отметим, цель вполне достойная. Следующая, заключительная часть рассказа показывает, как нелепа реализация этой цели: «Гиммелькумов повторял правила о переносе слов и долго размышлял о буквах с т в, которые не делятся. “Ныне, я очень жад – ный”, – говорил сам себе Гиммелькумов. 111 Его кусала блоха, он чесался и раскладывал в уме слово “естество”, для переноса с одной на другую строчку» (с. 70–71). Самоиронии полна и миниатюра «Новый талантливый писатель». Герой (Андрей Андреевич) придумывает типичный хармсовский рассказ. Завершается произведение самоиронией: «Вот какой рассказ выдумал Андрей Андреевич. Уже по этому рассказу можно судить, что Андрей Андреевич крупный талант. Андрей Андреевич очень умный человек, очень умный и очень хороший!» (с. 217). Самоирония составляет и центр рассказа «Все люди любят деньги…». Рассказчик говорит о своем равнодушии к деньгам, противопоставляя себя остальным. Однако тот пыл, с которым он говорит о деньгах, обнаруживает его крайнее неравнодушие к теме. На этом контрасте и построен рассказ. Учитывая детали хармсовской биографии (писатель почти все время остро нуждался в деньгах), мы с достаточной уверенностью можем различить здесь самоиронию. Когда изображается персонаж данного типа, часто подчеркивается, что он как минимум небогат («В одном большом городе…», «Один человек, не желая более питаться…», «Иван Яковлевич Бобов…»), а часто и вовсе испытывает существенные материальные трудности – живет на грани или даже за гранью голодания («Утро», «Мы жили в двух комнатах…», «Старуха»). Персонажа, в котором узнается Хармс, часто преследуют неудачи, что у читателя вызывает сочувствие. Это может быть неудача с обувью: «На правом сапоге отлетает подметка» («Утро», с. 44); «…при этом он шаркнул ножкой, но, как видно, не удачно, потому что от сапога той ноги, которой шаркнул молодой человек, отлетел каблук» («В одном большом городе…», с. 171); «тонкий» никак не может завязать шнурки (в «детском» рассказе «О том, как старушка чернила покупала»). Неудачи эти самого разного рода: «Видно было, что он только что из парикмахерской, где его побрили, но нечайно полоснули бритвой по щеке, потому что поперёк лица молодого 112 человека шёл свежий ещё пластырь. Подойдя к даме, молодой человек, в знак приветствия, поднял обе руки, причом от этого движения справа под мышкой у него лопнул пиджак и от туда выглянуло что то фиолетовое» («В одном большом городе…», с. 171); «И вот теперь, когда мне дали пощёчину через окно, я ощутил знакомое мне чувство…» («Тетрадь», с. 215); «Так хорошо начался день, и вот уже первая неудача. Мне не следовало выходить на улицу» («Старуха», с. 263)87. Портрет такого персонажа иногда создается по гоголевскому рецепту (портрет Чичикова в начале «Мертвых душ»): «К одному из домов, расположенных на одной из обыкновенных Ленинградских улицах, подошёл обыкновенный с виду молодой человек, в обыкновенном чёрном двубортном пиджаке, простом синем вязанном галстуке…» («К одному из домов…», с. 48); «Человек, о котором я начал эту повесть, не отличался никакими особенными качествами, достойными отдельного описания. Он был в меру худ, в меру беден и в меру ленив…» («Один человек, не желая более питаться…», с. 180). Также для данного персонажа характерно демонстративное поведение по отношению к прохожим (истоком которого чаще всего является страх): «…но вдруг ему стало стыдно перед прохожими: ещё начнут на него смотреть и оглядываться, потому что шёл шёл человек, а потом вдруг повернулся и обратно пошёл. Прохожие всегда на таких смотрят» («Один человек, не желая более питаться…», с. 180), «Выйдя из подъезда, он посмотрел раньше в обе стороны, а убедившись, что никого по близости нет, вышел на улицу и быстро зашагал <…> но увидав, что теперь навстречу ему идёт не служащий, а служащая, опустил голову и перебежал на другую сторону улицы» («Иван Яковлевич Бобов…», с. 195), «Двое мальчишек 87 Сравним с хармсовской записью 1928 года: «Я весь какой-то особенный неудачник <…> Что-бы я ни пожелал, какраз этого и не выйдет <…> Я знаю, что в ближайшее-же время меня ждут очень крупные неприятности, которые всю мою жизнь сделают значительно хуже чем она была до сих пор» (Дн.;1;231). В дневнике также находим зафиксированные Хармсом «неудачи четверга» (Дн.;1;288) – и запись: «Настроение у меня мучительное. Удары со всех сторон. Папа сломал руку. Лизу сократили. Я литературно бессилен. Эстер меня разлюбила. Я слаб физически. Всё плохо» (Дн.;1;314). 113 остановились передо мной и стали меня рассматривать. Я сделал спокойное лицо и пристально смотрел на ближайшую подворотню, как бы поджидая кого-то <…> И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу с ним к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивленное лицо, достаю часы и пожимаю плечами» («Старуха», с. 289–290). Отмеченные детали, по которым в персонаже можно узнать Хармса, иногда позволяют сделать довольно значительные выводы, которые в противном случае (если не выделять группу «Я») было бы сделать затруднительно. Так, в рассказе «“Макаров! Подожди!” – кричал Сампсонов…» в Сампсонове узнается Хармс – хотя бы потому, что он курит трубку. Это позволяет провести интересные параллели. Посмотрим на Макарова – как он бежит: «Уже не хватало дыхания, уже клокотало в груди у Макарова, но Макаров бежал, размахивая кулаками и глотая воздух широко раскрытым ртом. Не смотря на все усилия, Макаров бежал небыстро, поминутно спотыкался и придерживался руками за все встречные предметы». Обратим внимание, как бежит Сампсонов: «Сампсонов бежал легко и свободно, прижав кулаки к бокам. На лице Сампсонова сияла счастливая улыбка и было видно, что бег ему доставляет удовольствие» (с. 186–187). Видимо, бег – это метафора творчества. В Макарове можно осторожно угадать Николая Макаровича Олейникова. Символично, что Сампсонов тоже спотыкается и падает, подобно своим же (хармсовским) персонажам. Также выделение группы «Я» помогает в интерпретация следующих, на первый взгляд весьма неясных, произведений. В рассказе «Вот однажды один человек…» представлен типичный хармсовский персонаж с типичной хармсовской фамилией Петров. С Петровым случается падение («потеря»), он глуп, однако в данном случае незлобен. Он даже изображен с некоторой любовью. Дело в том, что за Петровым следует «художник Трёхкапейкин». Отсылку к Хармсу можно увидеть уже в имени этого персонажа: во-первых, он художник, творец, вовторых, беден (бедность, как мы видели, часто намекает на Хармса). 114 Художник «идет за Петровым» и «его ноги на бумажку зарисовывает» (с. 140). Хармс фактически выводит в произведении себя и своего персонажа. Этот рассказ – не единичный случай. Следующие миниатюры, которые мы рассмотрим, тоже обладают этой особенностью. В них звучит своеобразное признание Хармса в любви к своему творчеству. Так, в рассказе «Новые Альпинисты» типичный хармсовский персонаж – это Бибиков. Он постоянно падает («потери»). Есть тут и Аугенапфель – «человек в клетчатых брюках» (опознавательная черта самого Хармса, см. наши примеры, касающиеся внешнего вида и прозвища «американец»). Аугенапфель хочет познать бытие, он ищет «духана» (видимо, от слова «дух»). Аугенапфель способен видеть – он видит всадника. Однако в своих поисках герой натыкается на «сокрытое» – всадник неожиданно достает деревянное яблоко и раскусывает его пополам. Учитывая, что имя Аугенапфель отсылает к немецкому слову «глазное яблоко», это «сокрытое» обладает зловещим оттенком. Аугенапфель падает вслед за Бибиковым. На пути познания бытия далеко не продвинешься, кроме того, это опасно – Хармсу остается литература. «Таким образом Бибиков и Аугенапфель познакомились друг с другом» (с. 158). Это можно прочесть как: таким образом Хармс познакомился со своим персонажем, своей литературой – и испытал на себе ее силу. Хармс – полноценный обитатель «мира», его постигает та же участь, что и созданного им персонажа. В рассказе «Такие же длинные усы…» типичные хармсовские персонажи – пан Пшеховский и Матвей Соломанский. Во второй части появляется рассказчик, сам Хармс: «Я писал стихи о часах, а в соседней комнате сидел пан Пшеховский и шил на швейной машинке карманы. Машинка стучала неравномерно и мешала мне сосредоточиться» (с. 189). Это аллегорическое изображение того, как у Хармса в голове вертятся его сюжеты, движутся его герои. Он не может писать стихи, поскольку его отвлекают и занимают именно эти – прозаические персонажи. 115 Нечто подобное мы наблюдаем и в рассказе «Калиндов стоял на цыпочках…». Калиндов неотступно следует за автором, «заглядывая в лицо». Как автор ни пытается отделаться, отдохнуть от Калиндова, ему это не удается. Хармс не может уйти от своих персонажей. Рассказ «Поздравительное шествие» написан «к семидесятилетию Наташи», тети Хармса. Рассказ полон типичных хармсовских персонажей: это Артомонов, Хрычов, Молотков. Они, разумеется, начинают ругаться, и вот уже Молотков «носком сапога выбивает стул из под Артомонова», как в комнату входит «Я»: «– Стоп! – сказал я. – Прекратите это безобразие! Сегодня Наталии Ивановне исполнилось семьдесят лет». Хармс здесь выступает как создатель, конечно же способный управлять своими персонажами. «– Взяться за руки! – скомандовал я. Артомонов, Хрущов и Молотков взялись за руки. – А теперь за – а мной! И вот, постукивая каблуками, мы двинулись по направлению к Детскому Селу» (с. 212). Хармс дарит своей тете самое дорогое, что у него есть, – свою литературу (в данном случае практически в буквальном смысле). Показателен рассказ «Я поднял пыль…». Повествование ведется от первого лица, и в рассказе действительно много автобиографического, но явленного в весьма тонкой форме. «Я поднял пыль» можно перефразировать: я создал «мир». «Дети бежали за мной и рвали на себе одежду. Старики и старухи падали с крышь» (с. 228). Это и дальнейшее – отсылка к собственным персонажам и сюжетам, от которых рассказчик хочет убежать, отдохнуть. Отдохнуть от персонажей и от жизни, наполненной ими. К группе «Я» также относятся, на наш взгляд, два несомненно главных хармсовских творения: рассказ «Молодой человек, удививший сторожа» как центр цикла «Случаи» и повесть «Старуха». В финале повести «Старуха» найден тот «выход», который отсутствовал в других произведениях. «Выход» – в обращении к Богу. 116 Этот «выход» воплощается и в рассказе «Молодой человек, удивший сторожа», который «проходит на небо», покидая этот «мир», помахав ему рукой. (Подробно обо всем этом см. во второй главе.) г) Хармсу, видимо, хотелось изобразить себя. Поэтому у него много произведений, содержащих своеобразный автопортрет. Попутно Хармс вводит себя в свой «мир». Он показывает, что и он часть этого жуткого «мира», от которого ничего хорошего ожидать нельзя. «Мир» крайне опасен и мерзок: в нем царят «мудрые старики», дерущиеся, садисты, а заправляет всем Мастер Леонардо. В «мире» нет ничего чистого и возвышенного. Да, в нем даже возможны чудеса («сокрытое»), но глобально они ничего не меняют. Образ «Я» – светлое пятно в мрачном «мире», но никак не способное что-либо изменить. Группа «Я» дискредитирует самое главное – «хорошего человека». Но дискредитация эта неизбежна, поскольку и такой человек – часть земного, он падший, он слаб. От «мира» не спастись собственными силами. Но все же «выход» есть, о чем подробно говорится в следующей главе. Оставшиеся группы Нам осталось выделить еще три группы. Однако мы не считаем их столь же важными для хармсовского творчества, для понимания его «мира», как предыдущие. Мы даже позволим себе назвать их маргинальными группами. Поэтому мы не станем анализировать их так же подробно, как предыдущие. Как ни странно, одна из таких групп – это «Юмор». Странность состоит в том, что многие до сих пор воспринимают Хармса едва ли не как юмористического писателя, тексты которого направлены преимущественно на то, чтобы вызвать смех. На самом же деле у Хармса совсем немного произведений, где в центре именно юмор – нечто смешное, забавное и не более. На наш взгляд, это «Дорогой Никандр Андреевич…», «Старичок чесался обеями руками…», «Хотите, я расскажу вам рассказ…», «Окунев 117 ищет Лобарь», «Два человека разговорились…», «У него был такой нос…», «ртом и раздувает живот…». «Письмо» «Дорогой Никандр Андреевич…» юмористическое, и юмор его создается как постоянными повторами, гиперболизированной обстоятельностью, так и самим содержанием. Пишущий письмо убеждает себя в том, что Никандр Андреевич женился (хотя письмо, в котором это, видимо, должно сообщаться, герой, судя по всему, еще не читал). Также в этом неадекватно длинном письме смешны фразы о том, что «буквально нет времяни» (с. 72). Произведение «Старичок чесался обеями руками…» построено на стилевых контрастах, что и создает комический эффект. «Старичок чесался обеями руками» – предельно сниженное действие, однако далее следует неадекватно обстоятельное разъяснение: «Там, где нельзя было достать двумя руками…» и т. д. В следующей части несовместимы форма «так называемый, дым» и сниженная лексика («обсаленная» и «помятая» птица). В следующей части патетика («какая сила характера!») неадекватна своему предмету («Хвилищевский ел клюкву»). В следующей части комизм основан на несоответствии употребляется лексики применительно и предмета к собаке), описания которое (слово еще «висок» усиливается тривиальностью ситуации («собака обнюхивала дверь»). В предпоследней части «пузыри, вышедшие из коробки» контрастируют с последующими действиями и репликами Хвилищевского. В последней части присутствует то же стилистическое несоответствие, даже в рамках одного предложения: «Хвилищевский прищурил правый глаз и с достоинством вышел из залы» – предложение закончилось на высокой ноте, однако тут же следует снижение: «Но ему всё таки показалось, что он слышал, как хихикнул Цуккерман» (с. 115). Юмор миниатюры «Хотите, я расскажу вам рассказ…» построен на том, что рассказчик забыл очень простое слово: «курица». Все остальные 118 предлагаемые им варианты («крюкица», «кукрикица», «кирикукукрекица» – с. 137) намного сложнее. В миниатюре «Два человека разговорились…» юмор обусловлен только тем, что диалог «заикающегося на гласных» и «заикающегося на гласных и на согласных» акустически напоминает звуки, издаваемые примусом (с. 206). А вот произведение «У него был такой нос…» полно уже весьма изощренного юмора. Текст разбит на четыре сходно устроенные части. Юмор заключается в уточнениях. Зачины странны, но не безнадежны, уточнения должны как будто бы снять оттенок нелепости, но в действительности нелепость только усиливается. Рассказчик на уточнениях начинает заговариваться и все вновь и вновь заканчивается абсурдом. Попытки уточнить картину только делают ее более абсурдной. (Напомним, что мы также причисляли это произведение к группе «Картина мира».) Произведения, которые не имеют отчетливой доминанты, а просто являются некоторым описанием (даже иногда наброском) или обладают неким сюжетом, мы условно отнесем к группе «Зарисовки». Сюда же попадают и многие из неоконченных хармсовских текстов. К этой группе мы можем условно причислить следующие произведения: «Некий инженер…», «Маляр сел в люльку…», «Один человек лёг спать…», «Красная <гибель?>», «Он был так грязен…», «Одному французу подарили диван…», «Косков потерял свои часы…», «Победа Мышина», «– Так, сказал Ершешен…», «А мы всегда немного в стороне…», «П<ётр> М<ихайлович>: Вот этот цветок…», «Я шёл по Жуковской улице…», «Одна жена, ложась в постель…», «Лиза – Вы знаете что случилось…», «Один человек зевнул…», «Вот описание комнаты…», «Вот уже несколько дней…», «Из дыма появляется Кукурузов…», «Соловей пел в саду…», «Шура, Коля и Федя сломали дверь…» (Дн.;1;11). Эти произведения, на наш взгляд, отходят от тех доминант, на которых построены рассмотренные ранее основные группы и которые составляют хармсовскую картину мира. При этом данные 119 произведения и не открывают, на наш взгляд, новых направлений. Обратим внимание на относительно малое количество таких текстов. Произведения, которые мы не отнесли даже к «зарисовкам» и в которых нам часто затруднительно выделить вообще какой-либо акцент, мы отнесем к группе «Неопределенное». Сюда попадают «История Сдыгр Аппр», «Вещь», «Мы лежали на кровати…», «Одна муха ударила…», «Однажды Андрей Васильевич…», «В одном городе…», «Нам бы не хотелось…», «В семь часов Николай Николаевич встал…», «Александр Иванович Дудкин…», «Елена Ивановна – Ну вот…», «Баронесса и Чернильница», «У одной бабушки…» и даже знаменитый рассказ «Судьба жены профессора». В основном в этом списке находятся ранние произведения, относящиеся к периоду, когда хармсовские приемы еще не сформировались. Это, на наш взгляд, наиболее неясные и размытые произведения писателя. Сделаем некоторые замечания обзорного характера о возникновении и разработке рассмотренных выше групп. Стиль прозы Хармса, ее смысловые доминанты сформировались не сразу. Но начиная с момента, когда это произошло, «неудач» и проходных текстов уже практически не было. Уже в самых первых произведениях – «Александр Иванович Дудкин: Вот уже 7 часов утра. Петухи давно пропели…» (<1927>), «История Сдыгр Аппр» (1929) – можно увидеть зачатки хармсовского стиля (хотя поставить их в один ряд со «зрелыми» произведениями, на наш взгляд, невозможно). Рассказ «Вещь» (1929) некоторыми аспектами может напоминать даже поздний период, хотя от многих мотивов из этого рассказа Хармс впоследствии откажется, а другие мотивы здесь еще недостаточно разработаны и продуманы. Можно сказать, что в «Вещи» просто собраны «зачатки» целого ряда мотивов, но они не получают никакого разрешения, смысл рассказа расплывается. «Зрелый» Хармс уже практически никогда не смешивает более двух-трех мотивов или приемов, едва ли не каждое его произведение будет обладать некой индивидуальной доминантой. 120 Рассказ «На набережной нашей реки…» – также один из самых ранних (<1929>) – первый, который не уступает «зрелым», в том числе по четкости и осмысленности. Другой рассказ – «Иван Григорьевич Кантов шёл…» (<Конец декабря 1929 – 2 января 1930>) – тоже вполне совершенный образец, в котором различимы черты «зрелой» хармсовской прозы. (Однако начало этого рассказа обнаруживает Хармса раннего: «Иван Григорьевич Кантов шёл, опираясь на палку и переступая важно, по гусиному. Он шёл по Гусеву переулку и нёс под мышкой гуся» – с. 27. Это очевидная языковая игра. Позднее Хармс от подобного откажется, возможно, ввиду некоторой примитивности данного приема.) Этот рассказ составляет своеобразную пару с одним из самых поздних: «– Да, – сказал Козлов, притряхивая ногой…» (<1940>). Как мы уже отмечали, в обоих рассказах в смысловом центре – садист, стремящийся к обладанию покорной жертвой («– Очень скромная собачка, – сказал Пономарёв. – Я возьму её себе» – «– Бедняжка, – сказал Течорин. – Я был бы непрочь её повидать», с. 27, 254). Однако тенденции к формированию единого стиля в этих ранних миниатюрах еще нет. Встречаются произведения, которые лишь немногим уступают поздним (в частности, по краткости и наличию смысловой доминанты, которая вычленяется при анализе именно поздних произведений): «Иван Петрович Лундапундов хотел съесть яблоко…» (<1930>), «Как странно, как это невыразимо странно…» (1931). При этом они перемежаются с совершенно «расплывчатыми» произведениями, на которых явно отразился хармсовский поэтический период, как бы осененный «звездой бессмыслицы»: «Елена Ивановна – Ну вот, Фадей Иванович, всё дожди…» (<1929>), «Баронесса и Чернильница» (<1930>), «Мы лежали на кровати. Она к стенке на горке лежала…» (1930), «Давайте посмотрим в окно: там увидем рельсы…» (1930). Показателен рассказ «Однажды Андрей Васильевич шёл по улице…» (<1931>): в нем есть черты «зрелого» Хармса (те самые зачатки мотивного ряда), однако ключевая его черта, характерная именно для ранних произведений, – невозможность вычленения ясной идеи. 121 В это же время Хармс начинает изображать в произведениях (по крайней мере условно, хотя и это вопрос спорный) себя и свои жизненные ситуации: «Тетерник, входя и здороваясь: Здраствуйте! Здраствуйте!..» (1929), «Одна муха ударила в лоб бегущего мимо господина…» (<1929–1930>). В этих произведениях присутствуют те же особенности (которые мы бы рискнули отнести к «недостаткам»), что и в других текстах раннего корпуса. Более совершенен (на наш взгляд) рассказ «Едит трамвай…» (<1930>), который может быть (возможно, с некоторыми оговорками) поставлен в один ряд со «зрелыми» произведениями. Первый переломный момент – написание объемного (для Хармса) рассказа «Утро» (25 октября 1931). В нем явлена интонация рассказчика типа «Я» (подробнее об этом типе рассказчика см. в третьей главе). В каком-то смысле этот рассказ – прообраз повести «Старуха» (к написанию которой Хармс на тот момент, видимо, не готов). До конца того (1931-го) года Хармс пишет, в основном, тексты с отчасти похожей интонацией, в персонажах которых узнается он сам: «К одному из домов, расположенных…», «Вот я сижу на стуле. А стул стоит на полу…», «В 2 часа дня на Невском…», «Прежде, чем притти к тебе, я постучу в твоё окно…», «Иван Фёдорович пришёл домой…», «В одном городе, но я не скажу в каком…». Но в то же время Хармс пишет «Веля – Меня зовут веля…», «Пиесу для мужчины и женщины», где прозаическая речь перемежается поэтической (последняя же – из совсем другого, скажем так, «магического» дискурса). Так что говорить о «зрелом», «смысловом» периоде все еще преждевременно. Вторым и основным переломом стал первый арест (1931 год) и последующая ссылка в Курск (с середины июля по середину октября 1932 года). В том же году (1932-м) Хармс разводится с первой женой (Эстер). К 1932 году относится единственный прозаический рассказ «Я один. Каждый вечер Александр Иванович…», который во многом повторяет стилистику «Утра»: он квазибиографический, это литературная зарисовка жизни в Курске. Приблизительно в то же время (<1932–1933>) написан еще один подобный 122 рассказ: «Мы жили в двух комнатах. Мой приятель…». И уже в 1933-м один за другим начинают появляться «зрелые», на наш взгляд вполне совершенные, произведения: «Один монах вошёл в склеп к покойникам…», «Объяснение в любви. Водевиль» (первое произведение, которое можно без оговорок отнести к группе «Водевили»88), «Пиеса», «Четыре немца ели свинину и пили зелёное пиво…», «В Америке жили два американца…» (первое появление «американского»), «Фома Бобров и его супруга. Комедия в 3-х частях», «Скасска» (первое произведение, которое можно условно отнести к группе «Потери»), «Воронин (вбегая)…». Правда, все еще встречается смешение прозы и стихов («Вбегает Рябчиков с кофейником в руке…», «Бал»), но это явление уже практически окончательно сходит на нет. (Некоторое исключение составит, пожалуй, только рассказ конца 1930-х годов (<1937–1938>) «Востряков, смотрит в окно на улицу…», который только подтвердит «правило». Поэтическая речь в нем – уже не «заклинательная», а вполне смыслово-содержательная. Кроме того, в этом рассказе переход от стихотворной речи к прозаической символически происходит после «стука в дверь». Можно провести параллели со ссылкой Хармса в Курск, которая стала для него водоразделом между поэтическим и прозаическим периодами.) В общем, в 1933 году Хармс в каком-то смысле выходит на новый уровень; и даже не вполне удавшееся и оставленное произведение «П<етр> М<ихайлович>: Вот этот цветок красиво…» содержит в совершенстве описанную сценку – и лишь в самом конце (возможно, от некоторой безысходности) появляются «магические» стихи, и Хармс обрывает текст практически на полуслове. Если в 1933-м Хармс берет свою «высоту», то начиная с 1934-го он на ней держится. В том же году (1934-м) Хармс женится на Марине Малич (вторая и последняя жена). Подавляющее большинство произведений, датированных 1934 годом (или более поздним), обладают четкой смысловой 88 В качестве несформировавшихся предшественников этой группы можно назвать сценки «Елена Ивановна – Ну вот, Фадей Иванович…» и «Баронесса и Чернильница». 123 доминантой (крайне немногочисленные исключения могут составить разве что некоторые большие, не имеющие разрешения рассказы, а также предположительно неоконченные произведения). «Проходных» произведений практически нет, что особенно удивительно, поскольку о публикации чего бы то ни было речи и быть не могло, и в качестве материала исследования мы рассматриваем вообще весь массив текстов, которые Хармс когда-либо писал, а не то, что он счел бы возможным опубликовать. Достаточно много типичных произведений написано и до 1934 года, но в этот период встречаются и другие миниатюры, очень далекие от стиля «зрелого» Хармса. Поэтому корректнее говорить, что стиль Хармса окончательно сформировался к 1934 году. Именно на период с 1934 по 1941 гг. приходится творчество «зрелого» Хармса, когда он создает абсолютное большинство своих ныне известных («взрослых») текстов, в том числе наиболее значительные произведения: повесть «Старуха» и цикл «Случаи». Диаграммы и графики в приложении наглядно иллюстрируют распределение хармсовских прозаических произведений по группам, а также зависимость этого распределения от года создания. Практически в каждую группу попадает достаточно большое число произведений (Рисунок 2). При этом отсутствует группа, которая существенно больше (здесь и далее – в смысле количества текстов) всех остальных. Больше всего текстов в приблизительно равных (по количеству) группах «Я», «Водевили», «Картина мира». Меньшее количество текстов в других приблизительно равных группах – «Потери», «Мудрый старик», «Насилие», «Сокрытое». Еще чуть меньше группы «Чинари», «Иное», а также «Порок» (группа, которая перекликается с группой «Насилие»). Совсем мало текстов в группе «Философское», примыкающей к близким группам «Чинари» и «Иное». Группы «Юмор», «Неопределенное» действительно оказываются маргинальными – не только в идейном, но и в количественном отношении. Также маргинальна группа «Зарисовки», хотя в 124 ней не так мало текстов (однако многие из них – едва начатые наброски, поэтому не следует «Зарисовки» приравнивать к таким группам, как «Сокрытое», «Чинари» даже в количественном, не говоря уже о качественном, отношении). Отметим: почти все хармсовские тексты и, соответственно, группы по большому счету об одном и том же – о «мире». В каком-то смысле они уточняют одну – монохромную – картину мира. Существенно выбиваются из нее, пожалуй, только произведения группы «Неопределенное». Диаграмма показывает, что не только «мир», но и весь корпус хармсовских прозаических произведений – монохромен, в нем почти нет «белых пятен» (Рисунок 4)89. Показательно, как разбиваются на группы произведения из составленного собственноручно Хармсом цикла «Случаи», поскольку это тот баланс, который был выбран самим писателем (Рисунок 5). «Белых пятен» в нем нет вовсе: все маргинальные группы отсутствуют. Как, впрочем, отсутствует и группа «Порок». Что полностью компенсируется резким доминированием «Насилия» – самой масштабной группы в «Случаях». Это доминирование очень показательно, поскольку ясно обнаруживает авторский акцент. Другое важное отличие, бросающееся в глаза, – в «Случаях» практически нет «Я». Почти все авторское внимание отдано «мерзости мира», в то время как «Я» появляется единственный раз («Молодой человек, удививший сторожа»)90. В «Случаях» бо́льшая доля (нежели в среднем по всем текстам) у групп «Сокрытое», «Иное», «Потери», «Картина мира». Интересно посмотреть на распределение текстов по группам в разные периоды творчества. В условно «раннем» периоде (1929–1932 гг.) особенно 89 С этим выводом перекликается наблюдение Е. В. Захарова: «Обратим внимание на оппозиционную пару цветов – черный и белый. Черный цвет – наиболее активно используемый Д. Хармсом. Черными могут быть борода, зубы, одежда, вода. Мир вещей, природа и сам человек маркированы этим цветом. Черный цвет стабильно присутствует в произведениях писателя на протяжении всех лет его прозаического творчества, начиная с 1929 года (“История Сдыгр Аппр”) и вплоть до 1940 (“Господин не высокого роста с камушком в глазу”). Белый цвет – один из наименее представленных в прозе Д. Хармса – после 1935 года практически исчезает из сенсорного поля зрения писателя. Данные наблюдения не дают нам полного права говорить о “черном” мире прозы Д. Хармса, но широта и стабильность использования этого цвета позволяют предположить, что его присутствие все же символично» (62;132). 90 Однако это единичное появление «Я» в данном случае – момент ключевой, см. вторую главу. 125 заметно «белое пятно» – тексты групп «Неопределенное» и «Зарисовки» занимают более четверти общего объема (Рисунок 6). В этот период доминирует группа «Я», следом за ней – близкая группа «Чинари». Доминанты групп «Мудрый старик», «Насилие», «Водевили», «Потери» еще не придуманы вовсе. Видимо, в этот период Хармс писал «о себе» и «о друзьях» – в некотором роде от безысходности: не были готовы другие темы. В начале «зрелого» периода (условно 1933–1936 гг.) все свои доминанты Хармс уже придумал (Рисунок 7). Обращает на себя внимание резкое уменьшение доли, которую занимают тексты группы «Я» и «Чинари» (за счет общего роста числа прозаических текстов). Практически исчезает доля «Неопределенных» текстов. Стоит отметить, что именно в этот период высока доля «Водевилей» (наряду с «Картиной мира» это доминирующие группы данного периода). Относительно невысока доля «Насилия». Доля остальных групп (в данном периоде) практически совпадает с соответствующей долей за весь период хармсовского творчества. В конце зрелого периода (условно 1937–1941 гг.) доля «Неопределенного» тоже исчезающе мала, зато относительно велика доля группы «Зарисовки» (Рисунок 8). Возможно, Хармс пытался придумать чтото новое, хотел нащупать какие-то новые доминанты – но, видимо, не очень успешно. Да и попыток, как мы видим, было на самом деле немного. Также вновь резко возрастает доля группы «Я». Возможно, последнее связано с тем, что именно в этот период Хармс активно думает и пишет на тему «спасения – не-спасения» от «мира». Увеличивается доля «Насилия» (по сравнению с началом «зрелого периода»)91, хотя она все равно более чем в два раза меньше доли «Насилия» в «Случаях». «Мир» становится все хуже и хуже, все опаснее и опаснее92. 91 Доля увеличивается во многом за счет падения числа текстов (резкого в 1939-м и 1941-м гг.). По сходной причине так велика доля группы «чинари» в «ранний» период (на который приходится малое число прозаических текстов). 92 Что мы отдельно покажем на примере «Случаев» – см. вторую главу. 126 График зависимости суммарного количества текстов от хронологического периода подтверждает, что по-настоящему писать прозу Хармс начал с 1933 года (Рисунок 1). С тех пор этот процесс не прекращался, хотя на графике виден резкий спад в 1939 году. Но не стоит забывать, что именно в этот год написана повесть «Старуха» – текст беспрецедентного для Хармса объема, а также, видимо, закончена работа над циклом «Случаи». В 1941 году Хармс либо почти ничего не написал, либо тексты утеряны (поэтому на графиках, где по оси абсцисс отложены годы, 1939-й и 1941-й годы закономерно аномальны). Графики, отражающие эволюцию конкретной группы по годам, подтверждают выводы, сделанные ранее. Кроме того, большинство из них свидетельствуют, в общем-то, об одном и том же: когда Хармс находил какую-то доминанту, он ее последовательно разрабатывал (повторял и варьировал в разных произведениях). Практически никогда Хармс не прекращал писать произведения той группы, доминанту которой нашел. В этом смысле выделяются группы «Философское» (в которой просто почти нет текстов), «Сокрытое» (один текст написан в 1938 году и далее текстов этой группы уже нет: видимо, после того, как Хармс достиг некой ясности в отношении чуда, «сокрытое» стало ему неинтересно) и «Порок». Произведения последней группы (где в качестве доминант выделены «пол» и «власть») Хармс практически не писал в период с 1937-го по 1939 годы, а в 1940-м написал сразу четыре. Т. е. это едва ли не единственная группа, где мы видим отчетливый спад интереса, а затем его возрождение (похожая ситуация с группой «Иное»). 127 Глава II. Спасение как смысловая доминанта прозы Д. Хармса В предыдущей главе мы попытались показать, что «мир» Хармса беспросветен. Однако за пределами рассмотрения мы намеренно оставили еще одну доминанту, присутствующую (с некоторыми оговорками) всего в двух произведениях. Тем не менее, если рассмотреть хармсовскую прозу как единое целое, именно она окажется ключевой93. В этой главе мы постараемся обосновать существование и единственность пути спасения от «мира» (по Хармсу). Напомним о религиозности Хармса, которую особо подчеркивали многие исследователи94. Недвусмысленно о религиозности Хармса говорится в записях Л. Пантелеева: «В группе обериутов <…> я могу назвать троих верующих»; «Православными, по-церковному религиозными людьми были Хармс, Введенский и Юра Владимиров»95. Очень интересен описанный Пантелеевым эпизод: «– Каким вы представляете Бога? – спросил меня однажды Даниил Иванович. – Стариком Саваофом, каким его изображают под куполом церквей? С бородой? – В детстве – да, представлял таким. – А я и сейчас именно таким. Краснолицым, с белой пушистой бородой» (112;43). Хармс настаивает на традиционном, традиционном до наивности. Религиозность Хармса отмечает его сестра (Е. И. Грицына): «И я ходила с 93 Здесь мы опираемся на идею наличия некоторого смыслового центра, подчиняющего себе все остальные доминанты, о которой говорит А. П. Скафтымов: «…идеи здесь [в художественном произведении] существуют во взаимной связи, в иерархической взаимозависимости и, следовательно, среди многих есть одна центральная, обобщающая и для художника направляющая все остальное» (129;31). 94 Характерна запись М. Харитонова: «В пору, когда я это писал, до меня еще не дошли дневники и философские заметки Хармса, я не подозревал о подлинном трагизме его собственной жизни, о глубоком религиозном импульсе его поисков» (140;185). Такое восприятие Хармса свойственно многим исследователям – приведем еще несколько цитат: «Духовная серьезность внезапно открывается во многих текстах Чинарей…» (82;138); «Вообще чинари были глубоко верующими людьми. Богословские вопросы являлись одними из главных в философских трактатах Друскина и в беседах чинарей между собою…» (123;197); «Представить “чинарей” вне их религиозности, их понимания Христа невозможно» (22;17). Религиозность как доминанту хармсовского творчества выделяли несколько исследователей, но наиболее близок к нашему подход Л. Боярского (22). Н. Каррик видит в прозе Хармса «теологию абсурда» (161). Л. Ф. Кацис подчеркивает важность религиозного у Хармса (69–70). Однако с выводами Кациса мы никак не можем согласиться: «Он представляет себя Новым Христом. Христом Третьего Завета» (69;96), так как заключение в этом случае сделано исключительно на основе анализа таблицы «рай – мир – рай» (Дн.;2;107). О ключевой роли религиозности в творчестве Хармса пишут и в последние годы (см., например, 95). 95 Приведем еще несколько цитат: «Духовная близость между нами была, мы чувствовали ее оба. Конечно, прежде всего и тут связывала нас наша вера»; «В знак этой дружбы мы поменялись как-то с Даниилом Ивановичем – по его предложению – молитвенниками»; «Проходили мимо церкви Вознесения. Даниил Иванович поднялся на паперть, опустился на колени и стал молиться. Молился долго» (112;43–44). 128 папой к заутрене, а вот Даня не ходил. Хотя в душе он тоже верил» (7;18) и – его жена (Марина Малич): «…он был очень религиозен. Не помню, была ли я с ним когда-нибудь в церкви. Но у нас, конечно, были в доме иконы. Он искал, всегда искал Того, Кто помог бы ему не страдать и встать на ноги. Он все время страдал, все время»; «Он был не просто верующий, а очень верующий, и ни на какую жестокость, ни на какой жестокий поступок не был способен» (41;84,91). О традиционной религиозности Хармса говорит его ближайший, тоже глубоко религиозный, друг – Я. С. Друскин. Вот как он объясняет привычку Хармса сохранять все свои записи: «Мне кажется, у Хармса было, может, неосознанное ощущение ответственности за каждое совершенное дело и за каждое слово, записанное или сказанное, хотя бы и мысленно: “За каждое праздное слово дадите ответ на Суде”» (1;54)96; «…он [Хармс] и говорил, что в жизни есть две высокие вещи: юмор и святость» (55;112); «Последний месяц до своего исчезновения он повторял: “Зажечь беду вокруг себя”…» (55;113). Большое влияние оказал на Хармса его отец, Иван Павлович Ювачев, который прошел путь от атеиста до «истово верующего христианинапроповедника» (127;5)97. Под псевдонимом Миролюбов он выпустил в свет прозаические религиозно-нравственные сочинения. Видимо, Иван Павлович не понуждал Хармса к вере: «Религиозное сознание Хармса всегда было абсолютно свободным» (22;18). Хорошо известно, что писатель серьезно интересовался разными религиозными течениями, мистикой, магией, изучал буквально все касающееся этой сферы98. Обратим также внимание на сохранившийся протокол личного обыска, прошедшего в здании УНКВД ЛО. То есть на список предметов, которые 96 Мы также здесь совершенно согласны с А. А. Александровым: Хармс «писал для себя, для друзей, для Бога» (12;353). 97 Ср.: «Собственно, семья писателя была хранительницей религиозного отношения к жизни в годы закрытия церквей» (12;352). 98 См., например: (18, 30, 107, 116, 136). «Я, например, не понимал, как в одной душе могут уживаться вера и суеверие. А Даниил Иванович был суеверен» (воспоминание Л. Пантелеева – 112;44). См. также хармсовский список «книг, имеющих отношение к магии» (Дн.;1;87–88). 129 были при Хармсе в момент, когда его арестовали в последний раз – видимо, прямо на улице. При нем были иконки, крестик, а единственной книгой был «Новый завет» с пометками и записями на полях99. О православном взгляде Хармса на собственную жизнь свидетельствуют его дневники. В моменты духовных переживаний, страданий Хармс обращается к Богу100 – не к духам и мистике. Хармсу выпало жить в очень тяжелое время. Тем показательнее, что в его дневниках нет жалоб на судьбу и внешние обстоятельства. Видимо, свои несчастья Хармс считал расплатой за греховную жизнь. «На что робщу я? Мне дано все, чтобы жить возвышенной жизнию. А я гибну в лени, разврате и мечтании» (Дн.;2;196). § 1. Повесть «Старуха» «Старуха» обладает чертами религиозной проповеди. Мистически Старуха (смерть, судьба) вмешивается в жизнь героя, парализуя ее101. Невозможность написать рассказ и невозможность продолжить знакомство с «дамочкой» – отражение невозможности творчества и любви для человека, ощущающего близость смерти и не решившего вместе с тем «вопроса о смерти». На самом деле, нерешенный вопрос есть скорее вопрос о бессмертии, о том, как спастись. Безуспешность попыток героя избавиться от трупа – отражение краха идеи о «спасении своими силами», без Бога. Молитва героя в финале (в некотором роде противопоставленная отвлеченным разговорам о 99 Полный перечень изъятых вещей состоит из двадцати четырех позиций. Помимо паспорта, свидетельства об освобождении от воинской обязанности, других справок, заявления, записной книжки, членского билета Союза советских писателей и пр. у Хармса с собой были: «Новый завет» с пометками и записями на полях, две медные и одна деревянная иконка, восьмиугольная брошка с разноцветными камнями и с надписью «Святый Иерусалим (Апок. XXI гл.) 22 апр. 1907 г. СПБ», нашейная иконка с надписью «Благослови. Даниилу Ювачеву от Митрополита Антония 22 августа 1906 г.», крестик (3;362– 364). 100 Примеры исключительно многочисленны, приведем лишь некоторые: «В Твои руки Боже передаю судьбу свою, делай всё так как хочешь Ты», «В руце Твои Господи, Иесусе Христе, предаю дух мой…» (Дн.;2;176,196), «Раба Божия Ксения помоги мне, спаси и сохрани всю мою семью» (Дн.;1;231). Обращение к местночтимой святой показательно особо. 101 Тому, «кто тащит с собой смерть, за жизнью не угнаться…» (32;137). 130 Боге в середине повести) – найденный путь. «Спасение верой» – прямой и довольно легко считываемый смысл повести102. Впрочем, если интерпретацию закончить на этом месте, то останется много вопросов103. Чем завершается линия «чудотворца, не творящего чудес»104, действительно ли молитва была спасительной – или же это просто обращение к гусенице в период «молчания Бога»? На наш взгляд, ключевой момент в повести «Старуха» – это не только финальная молитва героя, но и следующая за ней заключительная фраза: «На этом я временно заканчиваю свою рукопись, считая, что она и так уже достаточно затянулась» (с. 292). Фраза может быть приписана Хармсу как автору, но «я» указывает на то, что формально по тексту это последняя фраза рассказчика. Именно рассказчик говорит, что заканчивает свою рукопись105, которая и писаться-то им все это время не могла. Он нигде не начинает писать то, что неким непостижимым образом писать заканчивает, – заканчивает просто потому, что теперь все сказано. Чудо писательства напрямую связано с чудом спасения – невозможно жить, не избавившись от смерти. 102 Нам представляется неверным видеть в «Старухе» манифестацию идей, так или иначе близких экзистенциализму (некоторое сходство с экзистенциализмом – лишь внешнее). «Глубинное содержание повести – трагизм смерти, в которой Хармс видит непреодолимое экзистенциальное одиночество» (149;283. См. также 154). Тема одиночества, разумеется, присутствует, но оно принципиально не «непреодолимое» (Бог и «непреодолимое экзистенциальное одиночество» – «две вещи несовместные») – об этом и повесть. «Старуха Хармса – это сама Судьба, Рок, неотвратимо преследующий безвинного человека. Бытовые неудачи буквально сыплются на рассказчика, превращая жизнь в тихий ад» (149;283). Идея о страдающем, «безвинном человеке» максимально далека от Хармса. Отметим, что религиозный смысл повести отмечали многие исследователи: «…произведение вписывается в обширный диалог между верующим и Богом» (119;90); «По ходу сюжета “Старухи” герой понимает, что за потусторонними силами, с которыми он непредсказуемо взаимодействует, – Бог» (88;83); «…молитва не стилизует текст, а выступает его смысловым центром. Молитва в “Старухе” – не обыденное действие “героя”, а неожиданный выход из безвыходной ситуации. И это не абстрактное моление, а православная молитва» (22;18). 103 Ср.: «Ни сюжетной, ни психологической развязки нет, произведение оборвано волею автора» (82;133); «Автор <…> придал повести характер незаконченности <…> О чуде размышляет и рассказчик. Ничего определенного он себе ответить не может» (13;184). 104 Напомним соответствующий абзац из «Старухи»: «Теперь мне хочется спать, но я спать не буду. Я возьму бумагу и перо и буду писать. Я чувствую в себе страшную силу. Я все обдумал еще вчера. Это будет рассказ о чудотворце, который живет в наше время и не творит чудес. Он знает, что он чудотворец и может сотворить любое чудо, но он этого не делает. Его выселяют из квартиры, он знает, что стоит ему только махнуть пальцем, и квартира останется за ним, но он не делает этого, он покорно съезжает с квартиры и живет за городом в сарае. Он может этот старый сарай превратить в прекрасный кирпичный дом, но он не делает этого, он продолжает жить в сарае и в конце концов умирает, не сделав за свою жизнь ни одного чуда» (с. 264–265). 105 Об этом же см.: «…последний абзац повести обнаруживает, что мы имели дело с рукописью, то есть с записками этого первого лица, героя» (114;94). 131 Рукопись возникает как чудо. Оказывается, все это время герой ее создавал, впрямую сказано, что именно он ее завершает. Причем – и это исключительно важно – «я» последней фразы принципиально неотличимо от «я» всего предшествующего повествования; в переходе к последней фразе настоящее время сохраняется, эти «я» подчеркнуто неразличимы. «Я» автора и есть «я» героя. Стало быть, рукопись неким мистическим образом писал тот самый несостоявшийся автор рассказа о чудотворце, пытавшийся избавиться от старухи и додумавшийся до спасительного шага. Именно ему не давала писать старуха, и именно к нему вернулось то самое «чудо писательства» после молитвы… О чем хотел писать герой, заключительной фразой признающий рукопись своею, нам, как известно, было сказано с самого начала – о чудотворце; видимо, перед нами не что иное, как этот самый рассказ. Повествование о чудотворце появилось чудом – чудо произошло. Оно произошло с автором – и, как отблеск этого чуда, случилось другое: мы прочитали повествование про не могущего писать, написанное именно тем, кто не мог писать. Коллизия чудотворца – модель той духовной ситуации, в которой пребывает герой. В образе чудотворца, не творящего чудес, на первый взгляд отражено осознанное неписательство героя, считающегося писателем. Однако обратим внимание: несмотря на то, что чудотворец не совершает ни одного чуда, явно и сразу утверждается, что он может творить чудеса. Геройписатель же не просто не хочет, а не может создать повествование: непоявление рассказа о чудотворце отнюдь не является результатом его сознательного решения не писать106. Чудотворец не хочет что-то делать – тогда как писатель не может. Значит, герой – в рамках истинной аналогии с чудотворцем – не делает что-то другое, что ему свойственно и что он способен сделать в любой момент. 106 Здесь мы никак не можем согласиться с распространенным в хармсоведении мнением, будто «персонаж сознательно отказывается от использования магической силы» (86). Якобы «Чудотворец сознательно отказывается использовать свой дар» (154;55). 132 Речь, естественно, идет о вере. Не-творение чудотворцем (то есть изначально призванным к чуду) никаких чудес – метафора безверия героя. Чудотворец – в некотором роде душа героя: все, что происходит с ней в «метафизическом» пространстве, подобно, пусть и на другом уровне, бытовым неурядицам чудотворца. И так же, как чудотворец очевидно способен преодолеть все встречающиеся ему преграды, совершив чудо, – и «метафизические» преграды и опасности героя могут быть, несомненно, преодолены – верой. Но чудотворец не творит чудес – и умирает, не сделав того, к чему был призван. Вот так и герой – постоянно говорит о сакральном, словно чувствуя, что выход именно здесь, – и не молится. Чудо, к которому на самом деле герой был призван всегда и совершить которое мог в любой момент, происходит в самом конце. Герой обращается к Богу. И тут же появляется рукопись – «чудо писательства». При этом она оказывается историей о том, как некто призванный совершил наконец то, к чему был призван. И, таким образом, рукопись предстает тем самым вожделенным повествованием о чудотворце, на этот раз счастливо заканчивающимся тем, что герой совершает чудо. Но тогда все, что говорилось о чудотворце, произошло с рассказчиком. Значит, чудотворец на самом деле не кто иной, как он сам. Но последняя фраза повести, как уже говорилось, – это прямое авторское слово. Однако «я» неразличимы, стало быть, рассказчик это сам Хармс. Перед нами три сюжетных пласта – пласт автора «Старухи» (Хармса), пласт героя «Старухи» – рассказчика. И, наконец, пласт чудотворца. Чудо веры влечет за собой чудо писательства (мгновенно после молитвы). Автор «Старухи», Хармс, явив текст «из ниоткуда», – оказывается чудотворцем. Но по тексту все это совершает герой «Старухи»! Более того: герой, признаваясь, что заканчивает рукопись, оказывается самим Хармсом – автором «Старухи». Пласты «схлопываются». Происходит «слияние» трех «я» в одно – Хармса. Итак, повесть «Старуха» – это, в сущности, тот самый рассказ о чудотворце, «повествование о чуде». После небрежных упоминаний о 133 чудесном («есть ли чудо?») Хармс заключительной своей фразой вдруг представляет нам его само – именно в этом качестве неожиданно начинает выступать собственно текст повести. И именно внимательное прослеживание функции последней фразы – несомненного ключа ко всей повести – вдруг открывает читателю весь ее смысл. § 2. Цикл «Случаи» «Случаи» занимают особое место в хармсовском наследии. Это сборник, составленный писателем собственноручно, – то есть очевидны как отбор текстов, так и неслучайность их расположения. Некоторые косвенные факты дополнительно свидетельствуют о тщательности, с которой Хармс подходил к созданию цикла. Расположение текстов отнюдь не соответствует хронологическому или иному столь же явному признаку; кроме того, существует текст сначала включенный, но затем удаленный из цикла («Происшествие на улице»). Все это говорит о том, что цикл следует рассматривать не как простую совокупность текстов, но в неком единстве, над созданием которого автор специально работал. Итак, «Случаи», на наш взгляд, следует рассматривать именно как цикл107. Сначала обратим внимание на бросающиеся в глаза очевидные смысловые пары, то есть произведения, явно близкие друг другу, – сюжетно, по названию или же по какому-либо иному признаку. Перечислим эти парные произведения: «Пушкин и Гоголь» – «Анегдоты из жизни Пушкина»; «Случай с Петраковым» – «Сон дразнит человека»; «История дерущихся» – «Машкин убил Кошкина»; «Математик и Андрей Семенович» – «Макаров и Петерсен». Существуют и менее очевидные пары, к ним мы обратимся 107 Так поступают многие исследователи. Например, «Случаям» посвящена работа М. Н. Липовецкого, анализирующего этот цикл «в его композиционном и семантическом единстве» (93;126). 134 позже. Пока прокомментируем (и постараемся обосновать) парность уже перечисленных. 1) «Пушкин и Гоголь» – «Анегдоты из жизни Пушкина». Признак парности очевиден – фигура Пушкина, однако близость произведений этим не исчерпывается. Миниатюры эти отнюдь не сводятся к буквальному пародированию официоза, как принято считать. Представление Пушкина недоумком если и призывало уничтожить миф о Пушкине – то не сталинский, а вересаевский («Пушкин в жизни»)108: полемически заостренное представление о том, каким был Пушкин в жизни «на самом деле», призвано эпатировать интеллигентного обывателя, испытывающего дискомфорт при соприкосновении с официальным сталинским Пушкиным как «борцом с самодержавием». Этот интеллигент стремится отыскать у Вересаева некую духовную опору, он тянется к «Пушкину с человеческим лицом». Хармс отказывает в «прочности» такой опоре. Для него попытка подобного рода – непозволительная наивность, безусловно заслуживающая осмеяния. (Сам Пушкин, кстати, «выводится из-под удара»: в миниатюрах принципиально не затронуто его творчество – то, что только и делает его великим, а также подчеркнуто искажаются биографические факты.) В «Пушкине и Гоголе» делается еще один шаг. Эпатируется интеллигент-гуманитарий, привыкший к «спотыканиям классиков» – в метафорическом, разумеется, смысле. Между тем рассказчик настаивает, что никакого переносного смысла не существует – они спотыкались на самом деле. Эти миниатюры, как и «Исторический эпизод» в том же цикле, призваны дискредитировать возвышенное, которому якобы есть место в «мире». Хармс настаивает на беспросветности мрака. На том, что любое «земное возвышенное» в конечном итоге зиждется на лжи, почему и бессмысленно искать здесь духовную опору. Этот прием – частный случай 108 На сходство «анегдотов» и вересаевского «Пушкина в жизни» впервые указал О. А. Лекманов (92). См. также замечание Н. А. Богомолова: «Хармс как бы достраивает, доводя до абсурда, целую линию мемуаристики» (17;250). О предполагаемой исследователями пародии хармсовских «анегдотов» на обывательские представления см. обзор Н. В. Гладких (38;139), а также работу И. В. Кондакова (79). 135 весьма распространенного у Хармса приема компрометации «иного», всегда оказывающегося псевдоиным, сохраняющим в себе всю мерзость бытия (прием, наиболее отчетливо выраженный в «американских» текстах Хармса, см. первую главу). 2) «Случай с Петраковым» – «Сон дразнит человека». Эти рассказы очевидно близки историей потери сна. Данный сюжет – один из примеров хармсовских «потерь». Человеку не удается задуманное. Напомним, у Хармса случайная «потеря» по непонятным причинам неизбежно приводит к уже нескончаемой череде новых «потерь», что заканчивается сном, обмороком, а часто и смертью персонажа (см. первую главу). Кроме рассмотренных рассказов, образующих пару, упомянутые мотивы выражены в цикле своеобразной триадой «Столяр Кушаков» – «Сон» – «Потери», делающей эти мотивы практически сквозными. (В «Столяре Кушакове» ущерб в конце концов приводит к потере идентичности, в рассказе «Сон» к ней же приводит собственно сон, в «Потерях» герой страдает от ущерба и пытается скрыться от реальности, заснув – своеобразная альтернатива спасения, – но и во сне ужас продолжается, ибо сон у Хармса есть лишь усиление действительности.) 3) «История дерущихся» – «Машкин убил Кошкина». Помимо явного сюжетного сходства – драки – можно отметить и совпадение в нюансах. Доминанта этих рассказов – насилие. Миниатюры сходны деталью, связанной с номинацией персонажей. В первом рассказе дерущиеся называются по имени-отчеству, что, разумеется, создает требуемый контраст с тем, что они делают, во втором они не просто Машкин и Кошкин, а товарищи Машкин и Кошкин. («Товарищи» эти утрачиваются лишь тогда, когда любая «хорошая мина» уже совершенно бессмысленна – «Машкин убил Кошкина», с. 355.) Этим передается особый цинизм – неотъемлемый спутник насилия у Хармса. Цинизм, разумеется, проявляется не только в номинациях. В первой миниатюре Андрей Карлович без малейшей брезгливости вставляет в свой 136 рот челюсть, которой только что искалечил лицо Алексея Алексеевича, и заботится лишь о том, чтобы челюсть «пришлась на место» (с. 341), во втором рассказе же присутствует характерная для хармсовского насилия деталь – удары в пах. 4) «Математик и Андрей Семенович» – «Макаров и Петерсен». Оба текста оформлены как пьесы и посвящены теме чуда. Совпадает и метафорическое обозначение чуда – неведомого и «сокрытого» – шар. Математик только на первый взгляд безумен в сравнении с «нормальным» Андреем Семеновичем. Миниатюра начинается с чуда: «математик вынул из головы шар» (не изо рта – из головы!). Но Андрей Семенович, как практически все хармсовские персонажи, к чуду безразличен. Быт у Хармса как будто одолевает все, даже чудо, усиливая торжество той самой «мерзости бытия». Однако не всегда. Напоминающий математика Макаров не может творить чудес, но ни на секунду не позволяет себе усомниться в возможности чуда – отсюда такой пиетет в отношении книги. Не верящий в это Петерсен позволяет себе насмешку – и его немедленно настигает наказание. Причем наказание исходит именно от того чуда, о котором повествует высмеянная книга, – и, опять же, кара постигает его не за неверие как таковое, но за цинизм. В книге сказано, что человек становится шаром постепенно. Петерсену же уготовано мгновенное превращение – и весьма ужасное, судя по тексту. Чудо может быть страшно – для таких, как Петерсен. Миниатюра «Макаров и Петерсен» отчасти продолжает незаконченную перепалку математика и Андрея Семеновича, являясь, в некотором роде, завершением сюжета. Теме чуда посвящен и «Сундук» – ирония по поводу планирования чуда, да еще в определенном, требуемом виде. Чуду будет посвящен и «Молодой человек, удививший сторожа», рассказ, речь о котором пойдет ниже. Теперь обозначим пары рассказов, связь которых менее очевидна. 137 5) «Случаи» – «Начало очень хорошего летнего дня». На первый взгляд, с «Началом...», которое обозначено как симфония, следовало бы сопоставить «Сонет». Однако содержанием «Начало…» ближе, как нам представляется, именно к рассказу «Случаи». Как в «Случаях», так и в «Начале...» нас встречает беспорядочное, казалось бы, нагромождение сходных по характеру и, разумеется, мерзких и мрачных событий, которые даются практически в виде перечня. Оба этих текста подробно рассмотрены у Ж.-Ф. Жаккара и являются, по его мнению, ярчайшими примерами «повествовательного заикания» (56;247–250)109. Отчасти с Жаккаром можно согласиться, хотя названное им явление, по нашему мнению, в данном случае лишь надводная часть айсберга. Не менее, нежели незаконченность как таковая, важен характер событий, именно он, в сущности, и создает то самое ощущение целостной картины мира. Заметим, что и здесь второй текст пары завершает намеченное в первом. Дело в том, что «Случаи» отнюдь не сводимы к простому перечислению «исходов» (смерти и неприятности), – ничуть не менее важны причины. В ряду хоть сколько-нибудь «удобоваримых» действий «ненароком» закрадывается следующее: жена Спиридонова умерла, «упав с буфета». Вкрапление этой малой детали немедленно смещает все повествование в пространство абсурда, который только усиливается: далее и «бабушка Спиридонова спилась и пошла по дорогам», и «Михайлов перестал причёсываться и заболел паршой», и «Круглов нарисовал даму с кнутом» (с. 334)... Но если в «Случаях» странное имеет вид вкрапления и последнее событие – вполне невинное «важничанье» Перехрестова, получившего «телеграфом четыреста рублей», то в «Начале….» вкраплениями выглядят уже немногочисленные островки здравого смысла. Здесь «мир» ужасен уже тотально. Отсутствует даже фирменный хармсовский прием – совмещение греховного, совершаемого персонажами, с их осведомленностью об общепринятых ценностях. В этой миниатюре герои не утруждают себя даже 109 Также интересный анализ рассказа «Случаи» – с тонко подмеченными деталями – см. в диссертации Н. В. Гладких (38;92–96). 138 показной рефлексией – перед нами просто дикий разгул. Абсурдное смещается – как и в целом в творчестве Хармса – к греху. Оба текста заканчиваются нередкой у Хармса резонерской фразой, открывающей тупоумие мнимого рассказчика и включающей его, таким образом, в картину мира (что делает ее уже полностью однородной). 6) «Голубая тетрадь № 10» – «Пакин и Ракукин» – еще одна неочевидная пара, тем не менее выделенная нами, поскольку это снова в некотором роде «досказывание» истории110. Первая миниатюра говорит о рыжем человеке, у которого ничего нет (оговоримся сразу, «антикантианский» аспект этого текста мы уже не рассматриваем, поскольку помета «Против Канта», присутствующая в «Голубой тетради», перенесена автором в сборник не была). Рассказ начинается с утверждения, что рыжий человек был – и переходит к тому, что у него ничего не было. Но отсутствие волос, глаз, ушей еще не означает, что не было ничего, и «не понятно, о ком идёт речь» (с. 334)! Это «не понятно» во многом потому, что у человека не было другого, метафорой чего и выступают части тела, – личности. Именно и только в этом случае разговор о человеке действительно не имеет смысла. Рассказ «Пакин и Ракукин» неявно заканчивает этот сюжет, подробно описывая, как происходит утрата «всего». Еще до своей физической смерти Ракукин был уничтожен страхом – и жизнь сделалась невозможной. Отдельно подчеркнуто, что именно утрата личности в рассказе явилась причиной смерти персонажа (без единого, заметим, удара, что в принципе нехарактерно для Хармса). Если теперь все это изобразить в виде схемы, то получится следующая картина: 110 О связи этих рассказов см. также в: (160), (89;15–16). 139 1. Голубая тетрадь № 10 2. Случаи 3. Вываливающиеся старухи 4. Сонет 5. Петро́в и Камаро́в 6. Оптический обман 7. Пушкин и Гоголь 8. Столяр Кушаков 9. Сундук 10.Случай с Петраковым 11.История дерущихся (насилие) 12.Сон 13.Математик и Андрей Семенович 14.Молодой человек, удививший сторожа 15.Четыре иллюстрации того, как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного 16.Потери 17.Макаров и Петерсен 18.Суд Линча (насилие) 19.Встреча 20.Неудачный спектакль 21.Тюк! 22.Что теперь продают в магазинах (насилие) 23.Машкин убил Кошкина (насилие) 24.Сон дразнит человека 25.Охотники (насилие) 26.Исторический эпизод (насилие) 27.Федя Давидович (насилие) 28.Анегдоты из жизни Пушкина 29.Начало очень хорошего летнего дня (симфония) (насилие) 30.Пакин и Ракукин (насилие) Более надежные пары соединены сплошной линией, менее надежные – пунктиром. Цикл оказывается устроенным по принципу матрешки, а именно имеет некую сердцевину, причем расположена она, чего и следовало ожидать, в 140 центре. Точнее, с малым смещением, что также вполне логично ожидать от Хармса, основавшего примерно в это же время «Орден равновесия с небольшой погрешностью». Посмотрим, что же оказывается сердцевиной сборника. Заметим, во-первых, что при четном числе текстов центр приходится, как понятно, не на текст, а на промежуток: при тридцати текстах это промежуток между 15-м и 16-м текстами. Во-вторых, у Хармса, вследствие «небольшой погрешности», сердцевиной оказываются 14-й и 15-й тексты. Именно эту сердцевину выявляет наш анализ композиции цикла с выделением пар. («Потери» – 16-й текст – сюда не включен, поскольку он уже включен в «триаду», о которой мы говорили, и, таким образом, «центральным» не является.) Это произведения «Молодой человек, удививший сторожа» и «Четыре иллюстрации того как новая идея огорашивает человека, к ней не подготовленного». Пару они, на наш взгляд, не образуют, а потому разберем их по отдельности. Интерпретацию «Четырех иллюстраций...» мы предложили в предыдущей главе. Сейчас же обратим внимание на то, что 1-й и 4-й диалоги образует пару – так же, как 2-й и 3-й. Пара «Писатель – Читатель» сходна с парой «Химик – Физик»; кроме того, учитывая, что герои оценивают друг друга, здесь не нарушена некая адекватность самого факта оценки – экспертизы. «Художник – Рабочий», а также «Композитор – Ваня Рублев» являются очевидной социальной сатирой и, таким образом, тоже близки. Наконец, именно в этих диалогах все происходит «неожиданно». Оказывается, «Четыре иллюстрации...» в некотором роде устроены так же, как и весь цикл в целом, а именно по принципу матрешки. В сердцевине цикла, таким образом, находится не только само смысловое ядро – но и ключ к его отысканию. Именно в этом, по нашему мнению, состоит особая функция «Четырех иллюстраций...», помещенных в центр и непосредственно после «Молодого человека...» – рассказа, являющегося смысловым ядром композиции и основным для понимания смысла цикла. 141 «Молодой человек, удививший сторожа» – повествование о спасении. Это беспрецедентный для Хармса рассказ. В нем в полной мере явлена «мерзость мира» (за которую отвечает сторож), но интонация повествования светлая. Хармс воплощает здесь сокровенное – облик, которым он мечтал обладать в жизни (в «молодом человеке» узнается сам автор). «Молодой человек» вдруг спрашивает сторожа о «главном» – о небе, о том, что сознанию сторожа бесконечно чуждо, и о чем он никогда не слышал. Сторож пытается спровадить странного собеседника, но «молодой человек» и не думает отступать: «– Вам куда нужно? – спросил сторож, делая строгое лицо. Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал: – На небо!» А вот вершина лишь отчасти насмешливого диалога: «Молодой человек улыбнулся, поднял руку в желтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез» (с. 346–347)… «Молодой человек» помахал рукой – этому «миру» – улыбнувшись. «Сторож понюхал воздух. В воздухе пахло жжеными перьями». Не ангел ли забрал героя? Это чудо – спасительное. Сторожу оставалось только «понюхать воздух». Запах «жженых перьев» – единственный жалкий трофей, оставленный «миру», некая метафора отброшенной и сгоревшей оболочки. Но сторожа так просто не проймешь: он «распахнул куртку, почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек, и медленно пошел в свою сторожку» (с. 347) – чудеса ни в чем «мир» не убедят, он никак не изменится. Зато «молодой человек» уже недосягаем. Он спасся – чудом111. А «мир» остается, разумеется, прежним. «Случаи» после «Молодого человека…» продолжаются, и картины окружающей действительности во всей ее «мерзости» и абсурде становятся даже хуже, чем прежде. Сползание в ад неотвратимо: вторая, после центра, половина «Случаев» еще страшнее первой, почти все миниатюры, принадлежащие к группе «Насилия» – там. Просвета в «мире» нет и никогда не будет. Он становится тем страшнее, чем 111 И все-таки сторож хотя бы «удивился», о чем говорит заглавие рассказа – «молодому человеку» удалось и это. 142 пристальнее в него вглядываешься. И нет ничего хуже повторения судьбы жалкого Ракукина, безвольно поддавшегося адскому закону этого «мира». Но, оказывается, страшные «Случаи» – в некотором смысле оптимистичный цикл. Такой вывод можно сделать, если вдуматься в его структуру. У финального текста («Пакин и Ракукин») есть прямая, центральная антитеза – «Молодой человек, удививший сторожа» (одна миниатюра как бы зеркальное отражение другой, мрачной и безнадежной). И отсюда – можно «пройти на небо». Цикл «Случаи» написан о том, что надежда существует и тогда, когда надеяться нет ни малейших оснований. Потому что есть чудо – оно не принадлежит «миру», оно сильнее его; так в конечном итоге – по Хармсу – и придет избавление. Удивительно, но самые масштабные произведения Даниила Хармса, притом такие разные, – «Старуха» и «Случаи» – написаны, в сущности, об одном и том же112. Оказывается, что не только в дневниковых записях, но и в своем творчестве Хармс следует православным канонам. Это в точности соответствует русской традиции «пасхального христианства»113, где земной мир – царство «князя мира сего» – «лежит во зле». И спасение, цель жизни одна – «пройти на небо»114. § 3. Феномен чуда в прозе Д. Хармса и его эволюция Хармс всю жизнь искал чудо115. На наш взгляд, для понимания хармсовских произведений необходимо проанализировать этот поиск. 112 Поэтому мы не можем согласиться с принятыми в хармсоведении выводами: «Жизнь, по Д. Хармсу, бессмысленна, ничтожна, в ней “грех от добра отличить трудно”, нужно во что-то верить, а веры нет»; «…и А. Введенский, и Д. Хармс продолжают традиции авангардистской литературы, они не высмеивают общественные недостатки и человеческое несовершенство, а показывают абсурдность бытия» (119;32,113); «…в хармсовском творчестве отмечаются ярко выраженные доминанты. Прежде всего – отрицательный характер его поэтики в целом <…> именно в связи с этим многие исследователи говорили, что он создал литературу абсурда…» (52;44). «Отрицательность всего хармсовского мира» – это лишь «первый шаг» Хармса. Но нельзя забывать о важнейшем для Хармса феномене – феномене спасения. Это «второй» и главный «шаг» Хармса. 113 См., например, работу В. С. Непомнящего (105;167–169). 114 Символично, что первая изданная на родине «взрослая» книга Хармса называется «Полет в небеса». 115 См.: «Основополагающее понятие художественной философии Хармса – “чудо”. Хармс считал, что ожидание чуда – содержание и смысл человеческой жизни…» (22;20). 143 Впервые хармсовское чудо намечается в рассказе «Иван Петрович Лундапундов…». Иван Петрович ударяется о висячее в воздухе яблоко. Перед нами вроде как материальное чудо. Однако «оказывается, кто-то приделал к потолку длинную нитку с крючком на конце. Яблоко зацепилось за крючок и не упало». Чудо как будто бы аннулировано, но не все так просто. Прикрепленная к потолку нитка с крючком на самом деле лишь немногим менее удивительна, чем повисшее в воздухе яблоко, просто в «мире» если и будут удивляться, то всегда не тому. Между тем отголосок «сокрытого» читателю – прозвучал. Тема чуда возвратилась. Возвратилась на короткий срок, до тех пор, пока «Морозов, Угрозов и Запоров» не пришли «к Ивану Петровичу Лундапундову» (с. 35). Интонация повествования совершенно сменилась. Пора вернуться на землю. Когда приходят Морозов, Угрозов и Запоров, уже не до чуда – теперь оно совсем неуместно. Мы уже говорили в связи с этим рассказом о дискредитации «чинарства». Видимо, Хармса и тогда волновало чудо, и даже в далеком 1930-м он предчувствовал, что друзья ему тут не помогут. Впрочем, в предыдущей миниатюре все на уровне отдаленных намеков, темы и мотивные линии лишь зарождаются. А в 1931-м Хармс пишет, быть может, главный «набросок» «Старухи» – рассказ «Утро». Интонация и фабула этого рассказа чрезвычайно напоминают позднюю повесть. Как и в «Старухе», рассказчик видит себя со стороны (засыпая, он мысленно произносит: «Я вижу свою комнату и вижу себя, лежащего на кровате»116, с. 48), играет на публику («Я лезу в карман за папиросами, но вспоминаю, что у меня их больше нет. Я делаю надменное лицо и быстро иду к Невскому, постукивая тросточкой»117, с. 45) и живет в ужасном мире («Дом на углу Невского красится в отвратительную желтую краску <…> Меня толкают встречные люди. Они все недавно приехали из деревень и не умеют 116 Ср.: «Я оглядываюсь и вижу себя в своей комнате, стоящего на коленях посередине пола» («Старуха», с. 267). 117 Ср.: «И вот из-за этих паршивых мальчишек я встаю, поднимаю чемодан, подхожу с ним к подворотне и заглядываю туда. Я делаю удивленное лицо, достаю часы и пожимаю плечами» («Старуха», с. 290). 144 еще ходить по улицам. Очень трудно отличить их грязные костюмы и лица. Они топчатся во все стороны, рычат и толкаются. Толкнув нечайно друг друга, они не говорят “простите”, а кричат друг другу бранные слова», с. 45). Как и в «Старухе», повествователь практически отождествляется с Хармсом: тут и обилие настоящего времени («Я иду по Литейному мимо книжных магазинов», с. 44), и привычные вызывающие сочувствие детали («Я надел сапоги. На правом сапоге отлетает подметка», с. 44), и зародыш «временно́го схлопывания»: «Сегодня воскресение» – слова рассказчика, «25 октября 1931 года, воскресение» – дата в конце текста (с. 44, 48). На этом совпадения не кончаются: «Я обдумывал свой сон: почему собака посмотрела в реку и что она там увидела. Я уверял себя, что это очень важно: обдумать сон до конца» (с. 45–46). В «Старухе» именно во сне «мир» предстает в подлинном свете (венцом чего становится «разговор с собственными мыслями»). Вот и рассказчик «Утра» предчувствует важность сна, но развить эту тему Хармс пока не готов: «…я не мог вспомнить, что я видел дальше во сне, и я начинал думать о другом» (с. 46). Хармс пока «не знает», и в этом незнании – главное отличие «Утра» от «Старухи». В центре рассказа «Утро» – ожидание и поиски чуда. «Вчера я просил о чуде. Да да, вот если бы сейчас произошло чудо» (с. 44). Повествователь чувствует, что чудо как-то неразрывно связано с писательством: «Передо мной лежала бумага, чтобы написать что то. Но я не знал, что мне надо написать. Я даже не знал, должны быть это стихи, или рассказ, или рассуждение. Я ничего не написал и лег спать. Но я долго не спал. Мне хотелось узнать, что я должен был написать. Я перечислял в уме все виды словестного искусства, но я не узнал своего вида. Это могло быть одно слово, а может быть, я должен был написать целую книгу. Я просил Бога о чуде, чтобы я понял, что мне нужно написать» (с. 46). Оказывается, чудо – это не нечто абстрактное и недостижимое. Нужно что-то написать – и чудо свершится. Но вот что? Через восемь лет Хармс поймет. 145 Сейчас просьба рассказчика – прямая, почти меркантильная – явить чудо. Но к Хармсу еще «не пришла» Старуха. Лишь после ее появления герой обратится к Богу с молитвой – и только тогда появится чудо. В «Старухе» Хармс не «вопрошает», а «отвечает». Возможно, поэтому в повести тема чуда внешне как будто бы периферийна (в отличие от «Утра», где просьба о чуде едва ли не сбивается на вопль). А между тем именно «Старуха» станет подлинным воплощением чуда… Но об этом – чуть позже, пока же вернемся к «Утру»: «Я сел на кровате и закурил. Я просил Бога о каком то чуде. Да да, надо чудо. Все равно какое чудо» (с. 46). Герой просит о любом чуде, пусть это будет даже и не писательство. Возможно, нечто материальное, однако… «Я зажег лампу и посмотрел вокруг. Все было попрежднему. Да ничего и не должно было измениться в моей комнате. Должно измениться что то во мне» (с. 46). После этого из «Утра» тема чуда пропадает. «Утро» – не просто рассказ, художественное произведение, это в какомто смысле дневник. Повествование наполнено той самой особой задумчивостью («Звонил Володя. Татьяна Александровна сказала про меня, что она не может понять, что во мне от Бога и что от дурака», с. 44) – не свойственной большинству хармсовских произведений, но нередко встречающейся в его личных записях. Это далеко не единственный случай, когда хармсовский дневник принимает утонченную художественную форму – ср. с «Мне вдруг казалось, что я забыл что то, какой то случай или важное слово. Я мучительно вспоминал это слово и мне даже начинало казаться, что это слово начиналось на букву М. Ах нет! совсем не на М, а на Р» («Мы жили в двух комнатах…», с. 85). Ведь это те самые «мучительные» поиски слова! Коллизия «Утра» повторена практически дословно. Выходит, ищет не только рассказчик, но и сам автор…118 В «Утре» Хармс еще не готов 118 На автобиографичность отчасти указывает и письмо к Р. И. Поляковской, написанное практически через неделю после «Утра»: «Я знал, что мне надо написать что-то, но я не знал что. Я даже не знал должны это быть стихи, или рассказ, или какоето рассуждение, или просто одно слово. Я смотрел по сторонам и мне казалось что вот сейчас, что то случится. Но ничего не случалось. Это было ужасно. Если бы рухнул потолок было бы лучше чем так сидеть и ждать не известно чего» (4;138–139). 146 высказаться о чуде, и автору остается лишь писать о себе: возможно, поэтому после слов «Должно измениться что то во мне» (с. 46) повествование окончательно становится художественно-дневниковым. Впоследствии нечто необычное, напоминающее чудо, будет не раз происходить в хармсовских произведениях119. Но все же чудом это не будет – появление «фантастического» или «необъяснимого» в этих рассказах имеет иное назначение120. Поиск того самого чуда, отчетливо воплощенный в «Утре», вернется на бумагу только в тяжелейшем для Хармса 1937 году, когда писатель фактически окажется за гранью нищеты. 31 октября Хармс запишет: «Меня интересует только “чушь”: только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своём нелепом проявлении…» (Дн.;2;195). На первый взгляд, к чуду эта запись имеет малое отношение. Но, видимо, в эти дни Хармс вновь пронзительно ощущает потребность в чуде и 10 ноября пишет один из самых туманных своих текстов: «Пассакалию № 1». Многие интонации этого рассказа напоминают «Утро», а в качестве «basso ostinato» (неизменной басовой темы, многократно повторяющейся на протяжении произведения) в нем звучит тема чуда. Рассказ действительно музыкальный: «Тихая вода покачивалась у моих ног. Я смотрел в темную воду и видел небо. Тут, на этом самом месте, Лигудим скажет мне формулу постраения несуществующих предметов» (с. 187). Взаимоотношения героя и Лигудима неясны. В новом предложении мы читаем следующее: «Я сунул в воду палку. И вдруг под водой кто то схватил мою палку и дёрнул». Проявляется нечто потустороннее, «сокрытое». «Я 119 Например, это может выражаться в «нарушении физической структуры мира»: «Дядя достает изо рта молоток» («П<етр> М<ихайлович>: Вот этот цветок…», c. 63), «Андрей Иванович плюнул в чашку с водой. Вода сразу почернела <…> Попугаев мгновенно исчез. Собака опять влетела в окно, легла на своё прежнее место и заснула» («Андрей Иванович плюнул в чашку с водой…», с. 87), «– Ничего! – сказала вдруг крыса громко и отчётливо» («– Н-да-а! – сказал я ещё раз…», с. 178). Фантастические события происходят в рассказах «Отец и дочь», «О том, как рассыпался один человек», «Смерть старичка», «Господин не высокого роста с камушком в глазу…», «Теперь я расскажу, как я родился, как я рос…», «Инкубаторный период», а в рассказе «Я родился в камыше. Как мышь…» фантастичен еще и антураж. Нечто загадочное может быть и не столь явным, порой оставаясь за пределами повествования (рассказы «История» и в особенности «Карьера Ивана Яковлевича Антонова»). Не забывает Хармс и о «нечистой силе» (рассказы «Праздник» и «Шапка»). Отдельный пласт – «сокрытое» в «Случаях» (и не только в них). 120 Разве что дважды «оттуда» действительно явится «посланник» (фея в тексте «О ровновесии» и «волчебница» в «Басне»). Вот тут-то и можно было задать интересующие вопросы, попросить о сокровенном, но оба раза герой не смеет к ним обратиться. 147 выпустил палку из рук и деревянная палка ушла под воду с такой быстротой, что даже свистнула. Растерянный и испуганный стоял я около воды». Палка не просто ушла под воду – ее «кто-то со свистом» утащил. Герой понимает: чудеса – существуют. Тут является Лигудим. Герой рассказывает ему о случившемся, на что Лигудим реагирует довольно странно: «Прошло четыре минуты, в течении которых Лигудим смотрел в темную воду». Видимо, Лигудим тоже «не знает», но что сказать – находит: «Это не имеет формулы. Такими вещами можно пугать детей, но для нас это неинтересно. Мы не собиратели фантастических сюжетов. Нашему сердцу милы только бессмысленные поступки». Как видим, это практически цитата недавно сделанной дневниковой записи. «Народное творчество и Гофман противны нам. Частокол стоит между нами и подобными загадочными случаями»! Чудо есть. И герой об этом знает, вот только «для нас это неинтересно». Трудно сказать, соглашается ли в данный момент Хармс с этой декларацией (отчасти основанной на его же недавнем высказывании «о чуши») или нет, но рассказ заканчивается очень странно – Лигудим словно сходит с ума: «Лигудим повертел головой во все стороны и, пятясь, вышел из поля моего зрения» (с. 188). Как бы то ни было, вопреки собственной записи и словам Лигудима (а может быть, и благодаря им), интересоваться чудом Хармс продолжает, о чем свидетельствует сделанный через несколько дней (15 ноября) набросок («разроботка») рассказа: «Мальтониус Ольбрен». Замысел таков: герой каждый день, много месяцев подряд, часами старается совершить «чудо» («подняться на три фута над землей»), но однажды «понимает, что он давно уже поднимается на воздух» (с. 189–190). Заметим, к Богу тут никто не обращается, все удалось «своими силами». Такое ощущение, что Хармс решил «сдаться»: герой стремится к «чуду» и оно ему на этот раз удается. Причём «чудо», надо сказать, не самое изысканное. Оно напоминает друскинский «Сон I», где «чудом» оказалось «подбрасывание выше трамвайных проводов» (что тут же было признано, согласно самому же 148 автору, «неинтересным»)121. Неудивительно, что план рассказа не очень вдохновил Хармса (судя по сохранившемуся архиву, замысел воплощен не был). А на следующий день Хармс записал: «Я больше не хочу жить <…> Мне больше ничего не надо. Надежд нет у меня никаких. Ничего не надо просить у Бога». Стало быть, о чуде тоже. Но и в отчаянный момент Хармс не отворачивается от Бога, пытаясь обратиться в смирение: «…что пошлёт Он мне, то пусть и будет: смерть так смерть, жизнь так жизнь – всё, что пошлёт мне Бог. В руце Твои Господи, Иесусе Христе, предаю дух мой. Ты мя сохрани, Ты мя помилуй и живот вечный даруй мне. Аминь» (Дн.;2;196). Однако Хармсу было предначертано другое – ему был дан талант, и он прекрасно это знал: «Элэс [Липавский] утверждает, что мы из материала предназначенного для гениев. 22 ноября 1937 года» (там же). Хармсу надо было писать: бездеятельность была для него не исполнением, а нарушением завета. «На что робщу я? Мне дано всё, чтобы жить возвышенной жизнию. А я гибну в лени, разврате и мечтании» (там же). Подобный взгляд чрезвычайно характерен для русской литературы еще пушкинских времен (в свою очередь опирающейся на дух старой, «допетровской России»): беды человека связаны не с внешними обстоятельствами (сколь бы чудовищными они ни были), а с ним самим. В своей записи Хармс удивительно точно выразил это мировоззрение, не будучи знакомым с которым невозможно понять его произведения. Тут же делается знаковая для будущей повести запись: «Человек не “верит” или “не верит”, а “хочет верить” или “хочет не верить”. / Есть люди, которые не верят и не не верят, потому что они не хотят верить и не хотят не верить. Так я не верю в себя, потому что у меня нет хотения верить или не верить. / Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобочевский был в геометрии» (там же). Эту довольно многозначную запись мы привели в качестве иллюстрации важного этапа, ведь в «Старухе» эти, на данный момент 121 См.: (32;136). 149 серьезные, слова будут сильно дискредитированы контекстом (идея «сверхчеловека», конечно же, окажется тупиковой)122. «Ошибочно думать, что вера есть нечто неподвижное и самоприходящее. Вера требует интенсивного усилия и энергии, может быть, больше, чем всё остальное. / Сомнение – это уже частица веры» (там же). Как мы видим, поиски чуда («Пассакалия № 1», «Мальтониус Ольбрен») соседствуют с размышлениями о вере. Судя по всему, Хармс ощущает их неразрывную связь (вот и в «Утре» герой просит чуда – у Бога), но его рассудок пока еще, видимо, не соединяет эти понятия. Пока у него вера – отдельно, чудо – отдельно, о чем впрямую свидетельствует рассматриваемый отрывок дневника. Последняя цитата была о вере, в то время как о чуде там не сказано. Тем показательнее непосредственно следующая за всем этим (для стороннего взгляда неожиданная, «логически ниоткуда не вытекающая») запись: «Есть ли чудо? Вот вопрос, на который я хотел бы услышать ответ» (там же). Поразительно, насколько близко Хармс здесь приблизился к «Старухе» (где почти все будет построено на недвусмысленной истине: вера – это чудо). Почти наверняка это все еще 22 ноября 1937 года. В начале июня 1938-го Хармс пишет небольшой трактат из шести пунктов. «1. Цель всякой человеческой жизни одна: бессмертие. 1-а. Цель всякой человеческой жизни одна: достижение бессмертия. 2. Один стремится к бессмертию продолжением своего рода, другой делает большие земные дела, что бы обессмертить своё имя, и только третий ведёт праведную и святую жизнь, чтобы достигнуть бессмертия как жизнь вечную. 3. У человека есть только два интереса: земной – пища, питьё, тепло, женщина и отдых и небесный – бессмертие. 4. Всё земное свидетельствует о смерти. 5. Есть одна прямая линия на которой лежит всё земное. И только то, что не лежит на этой линии, может свидетельствовать о бессмертии. 6. И потому человек ищет отклонение от этой Земной линии и называет его прекрасным или гениальным» (Дн.;2;199). Это очередная веха. От Бога Хармс не отходит 122 Подробнее см. в главе о «Старухе» в «Удивить сторожа. Перечитывая Хармса» (110). 150 никогда, но сейчас его особенно заинтересовало именно бессмертие. Сосредоточенность на бессмертии как таковом, конечно же, тоже заведет в тупик (что отразится в том же разговоре с Сакердоном Михайловичем). 14 февраля 1939 года Хармс пишет блестящий по форме «Трактат более или менее по конспекту Эмерсена» практически на ту же тему. Трактат состоит из пяти частей, первые три из которых довольно травестийны. В них повествуется о «совершенных предметах», то есть предметах, не имеющих никакого практического смысла и ни с чем не связанных (тем самым их приобретение или потеря не имеет никаких последствий). Но в четвертой части трактата тон совершенно меняется, Хармс становится предельно серьезен и заводит речь о самом, по-видимому, на тот момент для него сокровенном: «IV. О приближении к бессмертию123. Всякому человеку свойственно стремиться к наслаждению, которое есть всегда либо половое удовлетворение, либо насыщение, либо приобретение. Но только то, что не лежит на пути к наслаждению, ведёт к бессмертию». Это практически цитата пункта 5 предыдущего трактата. «Все системы ведущие к бессмертию в конце концов сводятся к одному правилу: постоянно делай то чего тебе не хочется, потому что всякому человеку постоянно хочется либо есть, либо удовлетворять свои половые чувства, либо что-то преобретать, либо всё, более или менее, зараз. Интересно, что бессмертие всегда связано со смертью и трактуется разными религиозными системами либо как вечное наслаждение, либо как вечное страдание, либо как вечное отсутствие наслаждения и страдания». После чего Хармс эффектно заканчивает трактат: «V. О бессмертии. Прав тот, кому Бог подарил жизнь как совершенный подарок» (4;29–30). Итак, акцент вновь сделан на бессмертие. Видимо, это еще один шаг в тот же тупик. Хармс всегда пытался найти какие-то жизненные рецепты (отметим многочисленные дневниковые записи, где он сам себе дает задания), а здесь рецепт даже подчеркнут. «Ужели слово 123 Надо сказать, к столь выделяющейся четвертой части Хармс подошел только с четвертого раза. Первые три (черновые) попытки были вариациями предыдущих частей. 151 найдено?» Вряд ли. «Делать постоянно то, что не хочется» – сомнительное предписание. Также вызывает сомнение, будто все, что не нравится, – хорошо; а все хорошее – не нравится. Финал достаточно темен: «Прав тот, кому Бог подарил…». Почему не Бог дарит тому, кто прав? Заметим, этот трактат для автора отнюдь не проходной и, как мы видим, находится в очень важном для Хармса контексте. И поэтому его «редакторская ремарка» – четкая и жесткая; после даты стоит приписка: «Чёл. Статья глупая. Хармс» (4;111). Хармс все еще в поисках. Но они близятся к завершению. Чуть более чем через три месяца он пишет «Старуху» – повесть, где впервые сведены воедино две темы – чуда и веры. Хармс, давно ощущавший эту связь (божественная интуиция в «Старухе» воплощается в «собственных мыслях» и разговоре с ними), только теперь выразил ее в слове. Герой повести (а вместе с ним и сам Хармс) как будто проделывает некий путь, перед читателем предстает своего рода ретроспектива: вот он, путь к чуду, к Богу. Хармс явно показывает, в чем чудо. Чудо происходит. Притом и духовное («должно измениться что-то во мне»), и материальное («нарушение физической структуры мира»): герой молится – и возникает текст повести. Хармс наконец «понял, что ему нужно написать». И написал. Поиск – завершен. После всего сказанного по меньшей мере странным выглядит восходящее к Друскину современное приписывание Хармсу понимание чуда как «нетворения чудес» («достаточно было сознания, что он может творить чудеса» – 55;111–112)124. Истоки этой идеи иногда пытаются искать в христианстве, что само по себе достаточно странно. Если взглянуть на некоторые тексты и фрагменты дневника, можно понять: Хармс чуда – 124 См., например: «Теперь он понимает, что “чудо” – это когда жизнь идет своей обычной, как оказалось, непостижимой для человека чередой» (103;61); «Не творение чудес – это тоже своего рода чудо…» (65;57). «…Именно отказ чудотворца от совершения чудес оказывается в конечном итоге равным чуду…» (142;233); «Чудотворец умирает, забытый всеми, не совершив ни одного чуда, и в этом – чудо его жизни» (22;24). Характерно, как об этом пишет В. С. Воронин: «По точному определению В. И. Мартынова, притча писателя о чудотворце, не совершившем никаких чудес, – “эпиграф ко всему искусству XX века”» (25;165). 152 жаждал. Иногда даже «всё равно, какого чуда». А над «течением жизни как таковым» (точнее, над его радостным приятием или даже упоением жизнью) он впрямую издевался («Я слыхал такое выражение: “Лови момент!”…», с. 320). Видимо, Хармс очень боялся за всю жизнь так и не совершить чуда. Приблизительно в это же время Хармс заканчивает составление «Случаев». О чуде в сборнике напоминает мотив «сокрытого» («Петро́в и Камаро́в», «Сундук», «Математик и Андрей Семенович», «Макаров и Петерсен»), и все же это не совсем то чудо, поиски которого Хармс начал в «Утре». Да и персонажи предпочитают ничего сверхъестественного не замечать. Если судить только по этим рассказам, то тема чуда в «Случаях» вроде как «смазана». Но это обманчивое впечатление: в сердце цикла находится «молодой человек», удививший самого «сторожа»125. «Молодой человек» наверняка понимает, что есть только один путь спасения от этого «мира» – «пройти на небо». И происходит чудо – ему это удается126. «Молодому человеку» удалось возвыситься (вот он, «Лобочевский в жизни»!) – и, несомненно, Хармс мечтал повторить его судьбу. Оказывается, и возвышенное – есть. Надо просто не в Сусанине и Пушкине его искать. Нельзя заменить сокровенное, Бога – Сусаниным и Пушкиным (героическим и эстетическим) – они окажутся плохими «подпорками». К своему «поиску чуда» Хармс написал своеобразный эпилог: зрелый, выдержанный и удивительно спокойный рассказ – один из последних. Это слегка грустное, мягко-снисходительное и в то же время светлое 125 Еще в «Утре» Хармс предчувствовал этот разговор. Засыпая, герой видит следующую картину: «Я стою рядом с дворником и говорю ему, что, прежде, чем написать что либо, надо знать слова, которые надо написать» (c. 47). Разговор с дворником о самом сокровенном. Откуда вообще мог взяться такой образ? Видимо, Хармс чувствует, что «чудесное исчезновение» как-то будет связано именно с дворником (сторожем). 126 Важность категории «чуда» в «Случаях» отмечал А. А. Кобринский: «…в “Случаях” впервые реализуется альтернатива этому абсурду – категория чуда» (71;67). О вере как спасении от «мира» говорит М. М. Шмидт: «На первый взгляд, ситуация безнадежная, тьма безраздельно властвует над миром. Хотя есть нечто, несущее в себе спасение, хоть и призрачное. Это спасение неразрывно связано с проблемой веры…» (153;21–22); «…чудо – единственный способ спасения в мире Хармса. Важно отметить, что в творчестве Хармса, как и в его жизни, мотив чуда неизменно связан с религиозными вопросами, которые были важны для писателя. В трудные моменты своей жизни Хармс мог опираться лишь на веру в Бога» (154;47); «Хармс освобождает героя от хаоса жизни путем приобщения к Богу» (154;63). Ключевую роль веры в произведениях Хармса подчеркивает и Кобринский: «Тема веры, становящаяся опорой в творчестве для самого писателя, определяется специфическим религиозным мировоззрением Хармса» (75;6). 153 воспоминание о наивной молодости: «В трамвае сидели два человека и рассуждали так: Один говорил: “Я не верю в загробную жизнь…”». Легкая ирония явлена сразу: подобный разговор ведется в трамвае. «Реальных доказательств того, что загробная жизнь существует – не имеется. И авторитетных свидетельств о ней мы не знаем. В религиях же о ней говорится либо очень неубедительно, например, в исламе, либо очень туманно, например, в христианстве, либо ничего не говориться, например, в библии, либо прямо говорится, что её нет, например, в буддизме». Это напоминает тот самый хармсовский интерес к бессмертию, причем здесь отдельно акцентировано, что интерес этот – «внебожественный» («Меня интересует только вопрос: есть ли загробная жизнь или её нет?»): перебираются какие угодно «доказательства», для чего привлекаются и все религии. «Случаи ясновидения, пророчества, разных чудес и даже привидений прямого отношения к загробной жизни не имеют и отнюдь не служат доказательством её существования». Это «узкий интерес» – чудо как таковое собеседника не очень волнует: «Меня нисколько не интересуют рассказы, подобные тому, как один человек увидел во сне льва и на другой день был убит вырвавшимся из Зоологического сада львом. Меня интересует только вопрос: есть ли загробная жизнь или её нет?» Собеседник несколько путается, начинал он с декларации «не веры в загробную жизнь», а теперь почему-то засомневался. «“…Скажите, как по вашему?” Второй Собеседник сказал: “Отвечу вам так: на ваш вопрос вы никогда не получите ответа, а если получите когда ни будь ответ, то не верьте ему. Только вы сами сможете ответить на этот вопрос…”» (c. 252). Как можно заметить, «Второй собеседник» сразу взял тон мудреца. «Если вы ответите да, то будет да, если вы ответите нет, то будет нет». Но вот и речь второго собеседника стала довольно сомнительной: «Только ответить надо с полным убеждением, без тени сомнения, или, точнее говоря, с абсолютной верой в свой ответ». Вспомним дневниковую запись о «хотении верить» и «хотении не верить». «Первый Собеседник сказал: “Я бы 154 охотно ответил себе. Но ответить надо с верой. А чтобы ответить с верой, надо быть уверенным в истинности своего ответа. А где мне взять эту уверенность?” Второй Собеседник сказал: “Уверенность, или точнее, веру нельзя приобрести, её можно только развить в себе”». Кажется, что перед нами – продолжение той же дневниковой записи («Ошибочно думать, что вера есть нечто неподвижное и самоприходящее. Вера требует интенсивного усилия и энергии, может быть, больше, чем всё остальное»). Эти объяснения малоубедительны, и в общем неглупый «Первый Собеседник» тут же на это указывает: «Как же я могу развить в себе веру в свой ответ, когда я даже не знаю, что отвечать, да или нет». «Второму собеседнику» теперь особо нечего возразить – и он, почувствовав бесплодность своих суждений, отделывается пустыми словами: «Выберете себе то, что вам больше нравится»127. Беседа об устройстве мироздания оканчивается поистине по-хармсовски: «– Сейчас будет наша остановка, – сказал первый Собеседник и оба встали со своих мест, чтобы итти к выходу» (с. 252–253). «Низкий» внешний мир всегда вмешается в размышления о «высоком», но на этот раз это не более чем забавно. Друзья с наивным простодушием вот тут, в трамвае, хотели выяснить главные вопросы бытия – «дойти до самой сути». В произведении появляется военный. О нем ничего плохого не сказано – напротив, он вежлив и статен. В художественной системе Хармса такой персонаж – отчетливо положителен. Обладая реальным опытом, умом и тактом, он, видимо сам того не понимая, ставит все на свои места: «– Простите, – обратился к ним какой-то военный черезвычайно высокого роста. – Я слышал ваш разговор и меня, извините, заинтересовало: как это могут два ещё молодых человека серьозно говорить о том, есть ли загробная жизнь, или её нет?» (с. 253). В этом диалоге угадывается разговор молодых Хармса и Введенского128, как будто автор «Старухи» вновь – с легкой 127 Вспоминается мизансцена «Старухи», когда рассказчик в ответ на полностью перевранную Сакердоном Михайловичем идею о «вере – не вере» (!) произносит: «Может быть и так <…> Не знаю» (с. 278). Перед нами некое безволие, характерное для того, кто осознал шаткость своего воззрения. 128 Однако разграничивать роли не стоит. Хармсовские черты есть в каждом из собеседников, хотя во «втором», пожалуй, их больше. 155 улыбкой – вспомнил некоторые свои мысли и суждения, желание постичь сокровенное в беседе или пытливыми размышлениями. Этим рассказом Хармс обнаруживает свое зрелое охлаждение к некогда чрезвычайно волновавшей его теме. Подобные вопросы теперь потеряли актуальность и остроту. 156 Глава III. Ведущие мотивы и приемы прозы Д. Хармса Для Хармса характерен быстрый темп повествования. Все происходит стремительно. Либо много событий, либо много глаголов, либо много ярких деталей (которые уже сами по себе становятся событием). У Хармса нет «провисаний» и какой бы то ни было избыточности (произведения наподобие «Дорогой Никандр Андреевич…» – отдельный случай). Часто превалируют короткие предложения с очень простой и ясной структурой, длинные же предложения преимущественно четкие и понятные, хорошо воспринимаемые на слух129. (Приведем предложение из «Рыцаря»: «Так, например, однажды, увидя из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошёлки стекляный колпак для настольной лампы, который тут же и разбился, Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая на полном ходу, упал и раскроил себе о камень всю рожу» – с. 161.) Хармсу присуща краткость. Краткость во всех смыслах. Большие тексты Хармс часто бросал писать. Не окончены ранние произведения «Одна муха ударила в лоб бегущего мимо господина…», «П<етр> М<ихайлович>: Вот этот цветок красиво…» (хотя уже то, что написано, значительно превышает объем среднего хармсовского текста). Аналогичная ситуация – с произведениями «Маляр сел в люльку и сказал…», «Евстигнеев смеётся». Законченных хоть сколь-нибудь объемных произведений сравнительно немного. В их числе «Судьба жены профессора», «Кассирша», «Отец и дочь», «Рыцарь», «Иван Яковлевич Бобов проснулся…», «Американская улица…», «Дедка за репку», «Победа Мышина», «Помеха», «Власть», – объем которых, тем не менее, не превышает пары страниц. В цикле «Случаи» большинство произведений тоже очень небольшие, чуть длиннее остальных: 129 Ср.: «Язык прозы Хармса предельно четок, лаконичен и контрастен. При этом кроме поступков и речей персонажей, в прозе и сценках больше ничего нет: от любых описаний, пейзажей и предметности, как и от портретов и характеристик, действие освобождено. Перечисленные признаки характерны и для поэтики произведения, довольно уникального в мировой литературе – Библии» (38;85). 157 «Молодой человек, удививший сторожа», «Охотники», «Исторический эпизод», «Федя Давидович», «Анегдоты из жизни Пушкина», «Пакин и Ракукин». На этом фоне некоторой «эпичностью» выделяются «Утро», «Грехопадение или познание добра и зла», «Лидочка сидела на корточках…», «Однажды я пришел в Госиздат…» и отчасти «Воспоминания одного мудрого старика». Самое длинное хармсовское произведение – повесть «Старуха», у другого автора соответствовавшая бы в лучшем случае рассказу средней величины. Такая краткость повышает роль мотивов и делает особенно заметными композиционные и повествовательные приемы. Постараемся выделить как основные, так и периферийные хармсовские мотивы и приемы, которые нам удалось зафиксировать. Отметим, что осведомленность о данных приемах часто позволяет узнать Хармса буквально по одному предложению. § 1. Сквозные мотивы 1) Мотив обыденности насилия В хармсовском «мире» насилие – в порядке вещей. Поскольку это наблюдение подтверждается множеством примеров, приведем лишь некоторые из них (часть – повторно). «Пассажиры этого трамвая, в котором ехал Миронов, позвали милиционера и велели ему составить протокол о том, что Миронов умер не от насильственной смерти» («Миронов сел на трамвай и поехал…», с. 161). В «мире» по умолчанию считается, что смерть – насильственная, противное необходимо оговаривать отдельно. Показательно, что подчеркнуто обыденная реплика «Пожалуй, судя по тому, что лето было дождливое, зима будет холодная. Если лето дождливое, то зима всегда холодная» – сопровождается ремаркой «ударяя Семёнова по морде» (из сценки «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)…», с. 145). Хармсовский насильник обязательно себя проявит: «В это время Колков изловчился и пнул даму коленом под живот. Дама взвизгнула и, отскочив от Колкова, согнулась в три погибели от страшной боли» («У Колкова заболела 158 рука…», с. 222). У Хармса всегда важно, куда бьют: «А я его стук по морде, а потом еще сапогом в промежность. Мой гость падает навзнич от страшной боли. А я ему каблуком по глазам!», «Я спокойно наливаю полную чашку кипятка и плещу кипятком гостю в морду» («Когда я вижу человека…», с. 256–257), «А я бы пнул его сапогом прямо в морду <…> Терпеть не могу покойников и детей» («Старуха», с. 277); «Тов. Машкин двинул тов. Кошкина ногой под живот и еще раз ударил его кулаком по затылку» («Машкин убил Кошкина», с. 355). Особенно характерные подробности (описания жестоких убийств) представлены в «Реабилитации». Хармсовское описание насилия носит достаточно специфический и узнаваемый характер, что легко заметить по подобным примерам: «Потом доктор, не обращая внимания на громкие крики и вой Звякиной, приставил к ее челюсти стамеску и сильно ударил по стамеске молотком. Звякина завыла хриплым басом. Раздробив стамеской челюсти Звякиной, доктор схватил клещи и, зацепив ими звякинские челюсти, вырвал их. Звякина выла, кричала и хрипела, обливаясь кровью» («Рыцари», с. 233); «Андрей Карлович сел на него верхом, вынул у себя изо рта вставную челюсть и так обработал ею Алексея Алексеевича, что Алексей Алексеевич поднялся с полу с совершенно искалеченным лицом и рваной ноздрей» («История дерущихся», с. 341); «Эти слова так взбесили Коратыгина, что он зажал пальцем одну ноздрю, а другой ноздрей сморкнулся в Тикакеева. Тогда Тикакеев выхватил из кошолки самый большой огурец и ударил им Коратыгина по голове» («Что теперь продают в магазинах», с. 354); «носатая баба била корытом своего ребенка. А молодая, толстенькая мать терла хорошенькую девочку лицом о кирпичную стену» («Начало очень хорошего летнего дня», с. 365); «Жена Ивана Ивановича Никифорова искусала жену Кораблёва!» («Швельпин: Удивительная история!..», с. 199). Как видно, перед нами вполне однородный ряд – методичное, детальное описание насилия, в большинстве случаев лишенное оценочности. Есть и совсем специфические детали – такие как «отрывание» разных частей тела: «Мало того, что я тебя 159 сейчас этим камнем по затылку ударил, я тебе еще оторву ногу» («Охотники», с. 357); «Сенька стукнул Федьку по морде и спрятался под коммод. Федька достал кочергой Сеньку из под коммода и оторвал ему правое ухо» («Грязная личность», с. 190); «Толпа волнуется и, за неимением другой жертвы, хватает человека среднего роста и отрывает ему голову. Оторванная голова катится по мостовой и застревает в люке для водостока» («Суд Линча», с. 351). Мотив насилия у Хармса также отлично иллюстрируется в номере 12 из «Голубой тетради»: «Некий Пантелей ударил пяткой Ивана. Некий Иван ударил колесом Наталью…» Каждое новое предложение продолжает эту «схему», только вместо «пятки» и «колеса» фигурируют «намордник», «корыто», «поддёвка», «доска», «лопата», «кувшин». Все «ударяют» друг друга «по кругу», а после того, как «некая Татьяна ударила кувшином Елену», рассказчик констатирует: «И началась драка» (это тот тип хармсовского рассказчика, который невероятно глуп и испорчен; то, что происходило до этого, он дракой не называет). Далее каждый, соответственно, «отвечает» (действие движется в обратном направлении): «забором», «матрацом», «чемоданом», «подносом», «руками», «Семён плевал Наталье в уши. Наталья кусала Ивана за палец. Иван легал Пантелея пяткой. Эх, думали мы, дерутся хорошие люди» (с. 327). Такие рассказы, как «Грязная личность», демонстрируют абсолютную безнаказанность зла. Зло в этом «мире» побеждено не будет. 2) Мотив обыденности порока В «мире» Хармса торжествует порок, которому подвержены почти все персонажи. Иногда порочность обнаруживается с помощью одного штриха, но чаще она абсолютна. Подробно об этом мы говорили в первой главе, когда изучали соответствующую группу произведений. Одна из граней порочности персонажей – их похотливость. «Антонина Алексеевна высказала желание принять участие в попойке, но обязательно в голом виде да ещё вдобавок сидя на столе, на котором предпологалось разложить закуску к водке» («Неожиданная попойка»). Уже по одному этому 160 предложению можно безошибочно узнать, что текст принадлежит Хармсу, равно как и по предложению «Мужчины сели на стулья, Антонина Алексеевна села на стол и попойка началась» (с. 121). Впрочем, Хармс легко узнается чуть ли не по каждому предложению, которые мы приводили (благодаря «выпуклости», резкости и самобытности его приемов). Хармсовские дамы похотливы, однако этим отличаются не только они: «Я уважаю только молодых и здоровых пышных женщин. К остальным представителям человечества я отношусь подозрительно» («Я не люблю детей, стариков, старух…», с. 229). См. также «Помеху», «Однажды я пришел в Госиздат…», «Лекцию», «Но художник усадил натурщицу…». Последний рассказ отчетливо демонстрирует, что хармсовский «мир» еще и лишен каких бы то ни было табу. Похоть в этом «мире» тоже вполне тотальна (в сочетании с насилием): «Недели две тому назад её изнасиловали, а прошлым летом её просто так, из озорства, высекли лошадиным кнутом. Бедная Елизавета Платоновна даже привыкла к подобным историям» («– Да, – сказал Козлов, притряхивая ногой…», с. 253). Другой характерный порок в хармсовском «мире» – еще одно воплощение страстей – любопытство. Главные носители этого любопытства – старухи (для которых, видимо, другие пороки уже не столь актуальны). Это видно в миниатюрах «Вываливающиеся старухи» («Одна старуха от черезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась», дальше из-за того же любопытства вывалятся еще пять старух, с. 334), «Я подавился бараньей костью…» («Из окна смотрела любопытная старуха», с. 330), «Рыцари» («Старухи, сгорая от любопытства, удалились с большим неудовольствием»; едва лишь доктор открыл двери, как «старухи с визгом ввалились в комнату и выпученными глазами уставились кто на Звякину, а кто на окровавленные куски, валявшиеся на полу» (с. 232–233). В рассказе «Упадание (Вблизи и вдали)» не в меру любопытны Иды Марковны: «Совершенно растерявшись, Ида Марковна содрала с себя рубашку и начала этой рубашкой скорее протирать запотевшее оконное стекло, чтобы лучше 161 разглядеть, кто там падает с крыши» (с. 244). Однако порок любопытства поразил не только старух. В рассказе «У Колкова заболела рука…» посмотреть на то, как Колков бьет «какую-то даму», «собралась толпа»: «Люди стояли, тупо глядели и порой выражали своё сочувствие Колкову» (с. 222). («Мир» монохромен: толпа сочувствует, разумеется, самому жуткому персонажу – Колкову.) То же происходит и в «Упадании (Вблизи и вдали)»: «На улице собралась уже небольшая толпа. Уже раздавались свистки и к месту ожидаемого происшествия не спеша подходил маленького роста милиционер. Носатый дворник суетился, расталкивая людей и поясняя, что падающие с крыши могут вдарить собравшихся по головам» (с. 245). Праздная толпа собирается и в неоконченном рассказе «Маляр сел в люльку и сказал…». 3) Мотив невоспринятых ценностей В «мире» Хармса ценности не отсутствуют и даже не попираются сознательно, а сосуществуют с пороком, грехом. Персонажи Хармса – люди «мира» – осведомлены о ценностях и время от времени апеллируют к ним. «Апокалиптическое» же впечатление создается как совершенной обыденностью «греха», так и тем, что ценности, к которым персонажи обращаются, абсолютно ими не восприняты. Самый яркий пример – «Реабилитация»: «Но это уж цинизм – обвинять меня в убийстве собаки, когда тут рядом, можно сказать, уничтожены три человеческие жизни. Ребенка я не считаю» (с. 260). Герой, очевидно, слышал о цинизме и, вероятно, знает лексическое значение этого слова, но суть данного понятия им совершенно не воспринята. В «Победе Мышина» Селезнева говорит: «Да я бы и не позволила в своем присутствии живого человека сжечь» (с. 236) – забывая, однако, что ничто не помешало коммунальным жителям облить этого «живого человека» керосином. В «Однажды я пришел в Госиздат…» находим фразу «Себялюбие не только грех, но и порок». Почти сразу за этим следует: «Почему, почему я лучше всех?» (с. 319). Это своеобразная манифестация вышеозначенного приема. В 162 том же произведении рассказчик не способен уяснить переносный смысл сказанного («Я слыхал такое выражение: “Лови момент!”…» и далее), однако об аллегориях он осведомлен: «Константин Игнатьевич Древацкий прячется под стол. Это я говорю в аллегорическом смысле» (с. 320, 323). В «Охотниках» Стрючков и Мотыльков знают, что ноги отрывать плохо, однако позднее они – «из жалости» – удавят Козлова. После этого Окнов произнесет «Господи благослови!», апеллируя к христианской традиции и культуре, смысла которой он совершенно не воспринял. Аналогичное встречаем и в рассказе «Пакин и Ракукин»: «Пакин перекрестился и на ципочках вышел из комнаты» (предварительно доведя Ракукина до смерти) (с. 368), и в «Кассирше»: «Господи <…> с нами крестная сила!» (штампы в устах безумной «публики») (с. 155). Бабушка из рассказа «Фома Бобров и его супруга» обвиняет жену внука в «бесстыдстве» («просто неприличная дама» (с. 77), хотя сама проявляет крайнюю заинтересованность эротической сферой. Также и лектор из рассказа «Лекция» осведомлен о правилах проведения лекции, что не мешает ему упиваться эротической тематикой. Рассказчик в «Грязной личности» так аттестует Федьку: «Федька – грязная личность. Федька – убийца Сеньки. Федька – сладострастник» – и тут же: «Федька – обжора» (с. 190–191). Однородность этого ряда, а также порядок обвинений демонстрируют, что рассказчик не воспринял суть ценностей, к которым он апеллирует. В том же ряду и Алексей Алексеевич из рассказа «Рыцарь», который, очевидно, абсолютно не воспринял и не разграничил значения слов «Вера», «Царь», «Отечество», «Родина», «либерал», «отчизна», «Христа ради», «за революцию», – для него это совершенно однородный ряд. В рассказе «Кассирша» заведующий осведомлен об убийстве, пугается трупа, однако его не смущает, что за убийство необходимо заплатить (нелепый) штраф в 15 рублей, что он тут же и делает («Пришла милиция, составила протокол и велела заведующему заплатить штраф – 15 рублей. Заведующий говорит: За что же штраф? А милиция говорит: за убийство. Заведующий испугался, 163 заплатил поскорее штраф и говорит: унесите только поскорее эту мертвую кассиршу»). В этом же рассказе есть другой явный пример невоспринятых ценностей: «– Нет, – говорит заведующий, – эта кассирша мне вместо жены служит. А потому прошу вас, не оголяйте ее с низу. Кассирша говорит: Вы слышите? Не смейте меня снизу оголять» (с. 153). Заведующий имеет представление о существовании частной жизни, о некоторых табу, что в то же время соседствует с совершенно непозволительными, циничными репликами. Аналогичное мы видим и в рассказе «Помеха»: «– Покажите, – сказал Пронин. – Нельзя, – сказала Ирина, – я без панталон» (с. 240). Ирина апеллирует к приличиям, которые в данном диалоге уже совершенно неуместны (поскольку полностью попраны). Те же выводы можно сделать и на основе фрагмента из «Упадания…»: «Однако, сообразив, что, пожалуй, падающие могут, со своей стороны, увидеть ее голой и невесть что про неё подумать…» (с. 244). В «Статье» «Прав был император Александр Вильбердат…» рассказчику нельзя инкриминировать полное отсутствие логики: сравнение стариков и детей действительно не лишено смысла. Да и хвастаться любовью к ним и вправду довольно нелепо. То есть рассказчик осведомлен о наличии некоторых общепринятых ценностей (за что же любить «жестоких и капризных»?), он даже о Тенирсе знает, но эти ценности в его сознании смещены. Таким образом, Хармсом дискредитируется не логика как таковая (которая якобы превращает любовь к детям в любовь к испражнениям), а именно логика таких персонажей. Это важное замечание: несмотря на то, что часто персонажи не способны адекватно понять причинно-следственные связи, было бы совершенно неверным утверждать, что логики в текстах Хармса нет нигде (см., например, рассказ «Кассирша» и многие другие). Она есть. Просто это такая логика. В маленьком «сборнике» «Я не люблю детей, стариков…» рассказчик осведомлен, что «травить детей» вроде как «жестоко» («Травить детей – это жестоко. Но что ни будь ведь надо же с ними делать!», с. 229). Герой, 164 несомненно, о ценностях слышал. Но внутренне эта идея им не воспринята. Не осознает смысла общечеловеческих ценностей (хотя он о них осведомлен) и Фаол из рассказа «Власть»: «И когда умерла мать, артист плакал, а когда девица вывалилась из окна и тоже умерла, артист не плакал и завел себе другую девицу. Выходит, что мать ценится, как уника, вроде редкой марки, которую нельзя заменить другой» (с. 246–247). К мотиву невоспринятых ценностей примыкает и представление о сумасшествии. Мы уже отмечали, что многие хармсовские персонажи безумны в прямом смысле этого слова – и, не замечая признаков собственного сумасшествия, прекрасно осведомлены о наличии этого феномена у других. Так, например, героя «Старухи» обвиняет в сумасшествии не вполне вменяемая Марья Васильевна («Шумашедший, – сказала Марья Васильевна и опять ушла на кухню, несколько раз по дороге оглянувшись на меня», с. 282). Речь рассказчика в миниатюре «Случаи» ближе к концу повествования начинает окончательно напоминать поток сумасшедшего сознания, при этом рассказчик осведомлен о сумасшествии как таковом («А Круглов нарисовал даму с кнутом в руках и сошёл с ума»). Вместе с тем рисование «хорошим человеком» «дамы с кнутом» рассказчика нисколько не удивляет, равно как его не удивляет и падение жены Спиридонова «с буфета» (с. 334). Не распознает очевидных признаков «сумасшествия» и рассказчик в «Судьбе жены профессора»: «И вот сидит совершенно нормальная профессорша на койке в сумасшедшем доме, держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок» (с. 150). 4) Мотив ничтожности персонажа Часто хармсовские персонажи полностью теряют человеческое достоинство и даже человеческий облик. «И вот инвалид труда стал всё чаще и чаще прикладываться к выгребным ямам. Трудно было слепому среди всей шелухи и грязи найти съедобный отброс…» («История», с. 116); «он любил лежать под диваном или за шкапом и сосать пыль. Так как он был человек не особенно аккуратный, то иногда целый день его рожа была в 165 пыли, как в пуху» («Приключение Катерпиллера», с. 248–249); см. также «Федя Давидович», «Так началось событие в соседней квартире…». Одна из отличительных черт большинства хармсовских персонажей – ничтожность. Так в тексте «Красная <гибель?>» «один инженер» даже технически не смог покончить с собой («Правда, его немного помутило, но даже не вырвало», с. 230). Петраков (из рассказа «Случай с Петраковым») не просто не может управлять сном, он даже не в состоянии лечь на кровать (так и спит на полу). Эта ничтожность персонажей также прекрасно видна, например, в многочисленных «потерях». Здесь уместно вспомнить и об отсутствии личности у некоторых персонажей, которую мы отмечали, анализируя группу «Потери» (на примере миниатюр «Столяр Кушаков», «Сон» и т. д.). Другое тотальное свойство «мира» – глупость. Большинство хармсовских персонажей безнадежно глупы. Поэтому, в частности, не способны шутить. Не шутит и рассказчик – он тоже непроходимо глуп. Это обстоятельство необходимо отметить: оно кажется парадоксальным, поскольку юмора в хармсовских текстах, действительно, много. Однако это юмор собственно Хармса: он шутит, смеется читатель, сам же «мир» монолитен – и никакой юмор ему неведом, юмор есть нечто принципиально стороннее, нечто свидетельствующее о «выходе» из этого жуткого «мира». Напомним, что, по нашему мнению, именно в «выходе» и находится главная смысловая точка хармсовского творчества. Очень выразительна глупость «доблестного рыцаря» Алексея Алексеевича Алексеева (из рассказа «Рыцарь»), который воспринял только одну мысль о том, что надо «пожертвовать собой». Рассказчик вплоть до самого конца повествования не понимает, насколько глуп Алексей Алексеевич («Вот краткая повесть жизни доблестного рыцаря и патриота Алексея Алексеевича Алексеева», с. 164), тем самым обнаруживая уже собственную непроходимую тупость. Аналогичная ситуация демонстрируется в «Историческом эпизоде» («Вот эпизод из жизни 166 знаменитого исторического лица, которое положило свою жизнь за царя и было впоследствии воспето в опере Глинки», с. 361). Не понимает глупости главного героя (Антона Исааковича) и рассказчик из миниатюры «Пашквиль», хотя читатель догадывается об этой глупости из его же рассказа. Персонажи Хармса часто не способны понять причинно-следственные связи (так, в миниатюре «– Я не советую есть тебе много перца…» рассказчик не понимает, что «один грек» умер не от пристрастия к перцу, а от боязни крыс и бессонницы). Об их глупости также свидетельствует неспособность отделить «главное от второстепенного». В первую очередь она проявляется в произведениях «Что теперь продают в магазинах» (рассказчик концентрируется на том, какие «большие огурцы продают теперь в магазинах», а не на том, что Тикакеев этим огурцом убивает Коратыгина, с. 354), «Новая Анатомия» (для рассказчика случай особенно удивителен не тем, что «на носу выросли ленты», а тем, что на них были надписи, с. 132), «Иван Петрович Лундапундов…» (Ивана Петровича удивляет висячее яблоко, но не удивляет зачем-то приделанная «к потолку длинная нитка с крючком на конце», с. 35), «Перечин сел на кнопку…» (у рассказчика отсутствует иерархия прегрешений, «доносительство» у него числится в одном ряду со «сплетничеством» и «не додаванием двух, а то и трех копеек», с. 243). Неадекватное восприятие может находиться не в смысловом центре произведения, а просто обнаруживаться в каком-то рядовом предложении: «Нельзя назвать это гигиеничным, если голая молодая женщина сидит на том же столе, где едят» («Неожиданная попойка», с. 121). Рассказчик помнит о гигиеничности, но его совершенно не смущает мизансцена в целом. В рассказе «Был один рыжий человек…» об отсутствии у «рыжего человека» рта мы узнаем только в связи с его немотой (хотя первое намного удивительнее второго). Да и любое предложение, равно как и рассказ в целом, иллюстрирует невозможность 167 отделить «главное от второстепенного» – ведь рассказчик с абсурдной обстоятельностью и упорством «регистрирует», чего же еще не было у того, кого нет вообще… Примеров подобного рода у Хармса очень много. Так, в другой миниатюре – «Случаи» – рассказчик не понимает, что главное не то, что «все умирают» (или испытывают ущерб), а то, как все живут («жена Спиридонова упала с буфета», с. 334). В «Охотниках» Козлова заботит не то, как он теперь будет жить без ноги, а лишь как «он дойдет до дома» (в связи с «Охотниками» также заметим: несмотря на заглавие, все персонажи здесь являются «охотниками» лишь номинально). Кушаков из рассказа «Столяр Кушаков» кричит на аптекаря всего лишь из-за резонного предложения впрок запастись пластырями, а на реплику домочадцев, по-настоящему страшную, игнорирующую какую бы то ни было его идентичность («– Рассказывай! – отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк и цепочку», с. 339), реагирует на удивление спокойно. В рассказе «Швельпин: Удивительная история!...» Швельпина удивляет, что именно «жена Ивана Ивановича Никифорова искусала жену Кораблёва» (вот если наоборот, «то всё было бы понятно»), а не то, что один человек кусает другого (с. 199). В рассказе «Приключение Катерпиллера» наблюдается привычная умственная неполноценность рассказчика, поскольку абсурдно говорить о «не особенной аккуратности» героя после слов о том, что герой «любил лежать под диваном» и «сосать пыль» (с. 248–249). Аналогично мы наблюдаем в «Истории»: «Хорошо, если дворник добрый попадётся, а другой так шугнёт, что всякий апетит пропадает» (с. 117) – странно утверждать, что «апетит пропадает» из-за дворника, когда речь идет о поиске «съедобного отброса» на помойке… Апофеоз невозможности отличить «главное от второстепенного» – невозможность сосредоточиться на чем-либо вообще. Так, Бобров из рассказа «Бобров шёл по дороге…» не в состоянии сконцентрироваться ни на одной идее. В миниатюре «Происшествие в трамвае» невозможность выделить чтолибо тотальна – такой рассказчик никак не может вести повествование. 168 Возможно, это яркое сочетание тотальной глупости рассказчика и персонажей с очевидным умом, литературным вкусом и тактом самого автора130 – один из наиболее характерных признаков хармсовского письма131. Ясно, что автор (ни в коем случае не путать с рассказчиком!) начисто лишен пафоса и иллюзий по поводу человеческой природы. Для хармсовских персонажей характерна «хорошая мина при плохой игре» («Неудачный спектакль»; «Пакин и Ракукин» – где Ракукин неуместно пытается изображать достоинство; «Сундук» – где рассказчик после неожиданного чуда, спасшего ему жизнь, продолжает фиксировать события с интонацией беспристрастного исследователя). Рассказчик из «Ровно 56 лет тому назад родился…» делает «хорошую мину», рассуждая о своей «знаменитости», но при этом покупает только одну банку шпрот, видимо ощущая, что никто к нему не придет. Кроме того, в «мире» отсутствует переносный смысл. В сценке «Пушкин и Гоголь» «спотыкание» классиков друг о друга (вроде как уместная аллегория в литературной статье) приобретает буквальный характер. И дело тут не в глупости воспринимающего, не уловившего «тонкости» словесной конструкции, – писатели спотыкаются по- настоящему! Как мы уже отмечали в первой главе, в «мире» никакого переносного смысла просто нет. Переносный смысл в «мире» можно найти только на уровне языковых конструкций – персонажи его принципиально не воспринимают. Рассказчик в «сборнике» «Однажды я пришел в Госиздат…» «ловил момент, но не поймал и только сломал часы». «Заболоцкий как то сказал, что мне присуще управлять сферами. Должно быть, пошутил. У меня и в мыслях ничего подобного не было» (с. 320–321). 130 Ср. с репликой Хармса из «Разговоров»: «Я произвожу неправильное впечатление. Я глубоко уверен, что я умнее и менее талантлив, чем кажусь» (1;188). 131 То же сочетание можно отметить и у Зощенко, например. Однако Хармс отличается именно образом «мира»: его «мир» намного мрачнее и невероятно жесток. Тупость и жестокость хармсовских персонажей предельна. Достаточно сравнить «Драку» Зощенко и «Историю дерущихся» Хармса. 169 Другой характерный пример – «Разница в росте мужа и жены». На отсутствие переносного смысла указывает уже название: различие в статусах (у мужа традиционно ведущая роль) сведено буквально к разнице в росте. Кроме того, когда жене и дочери – образно говоря – надо что-то «проБэкатьпроМэкать», они это делают совершенно буквально: «Жена и дочь (из за двери): бэ бэ бэ бэ бэ! Мэ мэ мэ мэ мэ!» (с. 115). В сценке «Каштанов – Лиза! Я вас умоляю…» Каштанов, видимо, не вполне понимает смысл вопроса «кто вы?» (аналогичное мы отмечали в «Князь – Вот, наконец-то…» – утрачивается переносный смысл слов «счастлив видеть»). Рассказчик, говоря о сильном биении сердца и судорожных движениях Аббата Руссо («Аббат Руссо рассказывает…»), воспринимает слова «у него была жаба» (Дн.;1;469) буквально, не понимая, что в данном контексте слово «жаба» обозначает не животное, а стенокардию. Не понимает переносного смысла сказанного и рассказчик из «Судьбы жены профессора»: матрос предлагает профессорше «пойти спать», а рассказчик, явно не улавливая эротического контекста, продолжает: «И действительно, захотелось профессорше спать» (с. 149). Не в состоянии разгадать смысл распространенного фразеологизма рассказчик из «Ровно 56 лет тому назад родился…»: «Да, гений не шило – в мешке не утаишь» (с. 201). А в рассказе «О явлениях и существованиях № 1» вопрос «что это?» означает, скорее, «что происходит?», однако на него дан неадекватный буквальный ответ. Рассказчик из этого же произведения не понимает переносного смысла утверждения «всё дым»: «А по-моему, не всё дым. Может, и дыма то никакого нет» (с. 92). Однако при этом не стоит забывать, что даже эти умственно неполноценные, а порой просто непроходимо тупые персонажи все же что-то ощущают. Это можно назвать неким звериным чутьем. Так, оригинальный «мудрый старик» («Воспоминания одного мудрого старика») последовательно реализует поведение жертвы – он знает, как надо себя вести, чтобы его не побили. Сусанин («Исторический эпизод») тоже понимает, что ему надо разыгрывать патриота. Шашкин («Шашкин (стоя 170 посередине сцены)…») на самом деле догадывается, в чем была главная претензия жены («ещё в детстве оскопили»). С другой стороны, менее глупыми эти персонажи от своих верных догадок и ощущений не становятся. 5) Мотив безумия В относительно «ранних» хармсовских произведениях глупость еще может проявляться в мягком варианте: «Дорогой Никандр Андреевич, получил твоё письмо…». Но позднее глупость уже не так невинна. А иногда хармсовские персонажи просто безумны. Уже в сценке «Дует. Дербантова и Кукушин-Дергушин» (<1930–1934>) Дербантова «бегает по саду и тычет пальцем в разные стороны» с криками «Жик! Жик! Жик!». Она просто сумасшедшая, чего не понимает ее глупый собеседник Кукушин-Дергушин, который разговаривает с ней вплоть до самого конца сценки как с адекватным человеком («В ваши лета, Анна Павловна, так шалить не полагается», с. 113–114). То есть глупы, скудоумны все. Некоторые еще и безумны132. (Важное исключение составляют хармсовские произведений, садисты.) где Хармсу персонажи принадлежит изъясняются достаточно лишь много междометиями («Американская улица…», «Разница в росте мужа и жены», «– Ва-ва-ва! Где та баба, которая сидела вот тут…», «Евстигнеев смеётся», «– Есть-ли что ни будь на земле…», «Власть»). В хармсовских произведениях часто появляется деталь, обнаруживающая безумие «мира» («мета безумия»). Например, в «опере» «Бесстыдники» находим: «Нарисовано, как с горы сбегает человек с самоваром в руках» (с. 196). Или в рассказе «Едит трамвай…»: «Сбоку на скамейке стоит кондукторша» (с. 30). Не менее красноречивы и другие примеры: «Какой-то гражданин с тусклыми глазами всё время сваливался с тумбы» («Происшествие на улице», с. 433); «Заведующий за голову руками схватился. Раскидал коленом яблоки по прилавку и говорит…» («Кассирша», с. 154); «по дороге на скрипача напали хулиганы и сбили с него шапку <…> 132 Ср. также со Сно из «Бытовой сценки». 171 Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела» («Связь» – 4;25); «На стене картина. На картине нарисована лошадь, а в зубах у лошади цыган» («Тюк!», с. 352). Отметим, что «Тюк!» – едва ли не самое странное произведение из цикла «Случаи», поэтому вышеозначенная деталь особенно важна. В деревенском доме, где обычно висят типовые полотна, на картине изображен не пейзаж и не просто лошадь, а лошадь, «в зубах» которой «цыган». Эта «мета» напоминает (или же дает понять), что «мир» – безумен, следовательно, не стоит удивляться происходящим в нем «странностям». Аналогично в рассказе «Оптический обман» мужик, показывающий кулак, сидит отнюдь не на какой-нибудь скамейке, а «на сосне» (с. 336). Дама (из рассказа «Рыцарь») сидит «верхом на заборе» (с. 161). В этом «мире» – такие дамы. 6) Мотив «мерзости быта» Приведем описание, напоминающее о гоголевских «Старосветских помещиках»: «Окно, занавешанное шторой, всё больше и больше светлело, потому что начался день. Заскрипели полы, запели двери, в квартирах задвигали стульями» («Окно, занавешанное шторой…»). В этой картине можно было бы даже увидеть элементы благостности – если бы речь шла не о хармсовском «мире». Следующее же предложение все ставит на свои места: «Ружецкий, вылезая из кровати, упал на пол и разбил себе лицо» (с. 133). Хармсовский «мир» погряз в «мерзости быта». Что бы ни происходило, какие бы речи ни велись, низкая трясина быта непременно даст о себе знать. Один из хармсовских «сигналов» «мерзости быта» – «нафталин». «От новой шубы столь невыносимо пахло каким-то фармалином и нафталином, что старушка, мать того артиста, однажды не смогла проснуться и умерла» («Власть», с. 246). Яркая зарисовка в одном предложении. Или еще: «Только вот ужасно пахнет нафталином. Если победит жизнь, я буду вещи в сундуке пересыпать махоркой…» («Сундук», с. 340). Мы видим, как «мерзость быта» врывается в высокий поединок между жизнью и смертью. Изыскания в вопросах бытия неизбежно натыкаются на житейское, что их совершенно 172 обесценивает. Человек – раб быта, и никакое «чинарство», увы, ему вырваться не поможет. Отвлечься от «высоких» идей и вспомнить о реальном мире приходится и в «Меня называют капуционом…»: «Я бы написал еще об имеющихся во мне знаниях, но, к сожалению, должен итти в магазин за махоркой» (с. 214). За «мерзость мира» у Хармса также отвечают дворники и сторожа («История», «Праздник», «Окно, занавешанное шторой…», «О том, как рассыпался один человек», «Кассирша», «Евстигнеев смеётся», «Победа Мышина», «Помеха», «Упадание (Вблизи и вдали)», «Судьба жены профессора», «Отец и Дочь», «У него был такой нос, что хотелось ткнуть…», «Старуха», «Молодой человек, удививший сторожа»). «Бытовое» может выглядеть и так: «Федя долго подкрадывался к маслёнке и наконец, улучив момент, когда жена нагнулась, что бы состричь на ноге ноготь, быстро, одним движением вынул пальцем из маслёнки всё масло и сунул его себе в рот» («Федя Давидович», с. 361). Жена не просто «стрижёт ногти», она «состригает ноготь», один (в этом Хармс!). В этот момент Федя «сует масло в рот». Чтобы отнести его «хозяину», который не побрезгует таким куском масла. Именно эта деталь обнаружит в «хозяине» полное отсутствие брезгливости. Возможно, именно в этом истоки того жуткого страха, который Федя испытывает по отношению к «хозяину». Такое же полное отсутствие брезгливости мы отмечали в рассказах «Приключение Катерпиллера», «История дерущихся», «Человек с глупым лицом съел антрекот…», «История» («И вот инвалид труда стал всё чаще и чаще прикладываться к выгребным ямам. Трудно было слепому среди всей шелухи и грязи найти съедобный отброс» – с. 116). В рассказе «Происшествие на улице» «миллиционер» «ощупывает колеса», под которые только что попал человек. «Мерзость земного бытия» компактно обрисована одним штрихом в «Историческом эпизоде»: «На дворе никого не было, если не считать свиньи, которая, вывалившись из корыта, валялась теперь в грязной луже» (с. 360). 173 Приведем еще два характерных примера: «…что случившийся тут поблизости дворник, старающийся поймать лопатой кошку, сказал расходившемуся старичку…» («Окно, занавешанное шторой…», с. 134); «один покойник, пока сторож, по приказанию начальства, мылся в бане…» («Старуха», с. 283). И там, и там речь как будто бы идет о дворнике (или стороже, у Хармса они в одной смысловой связке), но смысловой акцент сделан не на них, а на детали, обнаруживающей фундаментальные свойства «мира»: типовой дворник если и занят чем-то, то тем, что старается «поймать лопатой кошку» (об этом говорится как о само собой разумеющемся, в «мире» это никого не удивляет); сторож если и пойдет мыться, то только «по приказанию начальства», и т. д. 7) Мотив «детоненавистничества» Появление детей в произведениях Хармса всегда функционально. Так происходит в рассказе «Сонет». Без финала с «ребенком» рассказ утратил бы свою циничность и двусмысленность и стал бы тем самым парадоксальным размышлением о числах, каким его обычно пытаются представить. Хармс никогда не забывает насмешливо напомнить (о чем бы ни шла речь), каков есть «мир» – «числа числами», это, конечно, весьма занимательно, но «по счастию, тут со скамейки свалился какой то ребёнок и сломал себе обе челюсти. Это нас отвлекло от нашего спора. А потом мы разошлись по домам» (с. 336). Последний аккорд, как обычно взятый с повествовательной интонацией, ибо все «в порядке вещей», – не что иное, как очередное указание на уже упомянутую обыденность зла и отсутствие адекватного восприятия рассказчиком общечеловеческих ценностей. Мотив «детоненавистничества» в некотором роде примыкает к мотиву «невоспринятых ценностей». Часто дети в хармсовских произведениях – всего лишь одно из воплощений той самой ценности, чью суть персонаж постигнуть не в состоянии, даже если осведомлен в общих чертах о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Наиболее выразительно и явно это в рассказе «Реабилитация»: «Я и вытащил ребенка. А то, что он вообще не 174 жилец был на этом свете, в этом уж не моя вина. Не я оторвал ему голову, причиной тому была его тонкая шея. Он был создан не для жизни сей. Это верно, что я сапогом размазал по полу их собачку. Но это уж цинизм – обвинять меня в убийстве собаки, когда тут рядом, можно сказать, уничтожены три человеческие жизни. Ребенка я не считаю» (с. 260). Дети у Хармса наделены важными функциональными ролями. Одна из них – роль жертвы. Дети, женщины и животные служат характеристике оригинального «мудрого старика» («Воспоминания одного мудрого старика»). Дело в том, что именно на них проявляются его «могущество» и «сила», именно они должны «подтверждать» мифические качества объективно беспомощного «мудрого старика». Хармс последовательно заботится о том, чтобы изгоя (в данном случае «мудрого старика») невозможно было пожалеть, чтобы он ничем не вызывал сочувствия. Изгой всего лишь слабее, он ничем не лучше палача, и это подчеркивается как раз тем, что он сам ищет собственных жертв. Заметим, что жертвами такого героя могут быть только перечисленные выше слабые персонажи: женщины, дети и животные – единственные, кого он сильнее, а по отношению ко всем остальным жертва уже он сам. «Детоненавистничество» здесь – своеобразная метка протестного начала в персонаже, оно необходимо для указания как на его беспомощность, так и на свойственный персонажу цинизм. Причисление «изгоя мира» к «миру» и уравнивание в грехе со «злодеем» есть, на наш взгляд, функция «детоненавистничества» – и в процитированном рассказе, и в других, где явлен тот же образ рассказчика («Меня называют капуцином…», «Прав был император Александр Вильбердат…» и т. д.). Беспомощность фантазиями о героя столбняке «детаненавистничество» передается в повести выполняет и «детоненавистническими» «Старуха». прежнюю В функцию этом смысле обозначения протеста. Однако тут есть существенное отличие, и трактовка этого мотива в «Старухе» должна быть другой, поскольку рассказчик здесь совсем не «мудрый старик». Дело в том, что дети в «Старухе» – вестники нового мира, 175 который обещает быть еще хуже, чем нынешний (см. далее о функции инвалида, появляющегося трижды). То есть в данном случае «детоненавистничество» – некий авторский протест. Дети как носители цинизма чрезвычайно выразительно демонстрируют именно тотальность греха и – в этом смысле – монолитность «мира». Схожая роль у ребенка в рассказе «Однажды Петя Гвоздиков…». Петя Гвоздиков ходит по квартире, ему скучно. Но вот «если была бы кошка, то конечно было бы интересно прибить кошку гвоздём за ухо к двери, а хвостом к порогу» (5;702). Да, «скучно» быть может, спору нет, но лишь до тех пор, пока не появляется нечто по-настоящему «интересное». Дело не в том, что у Пети нет занятия, как это представляется на первый взгляд. У него как раз занятие есть – и оно очевидно «не скучное»! Просто кошки сейчас нет. Но если бы она была, то, «конечно», ни о какой скуке не было бы и речи. С подобным поворотом если не сюжета, то авторской мысли мы уже встречались в «сборнике» «Однажды я пришел в Госиздат...»: «Вместо того, чтобы играть в карты, лучше бы собрались да почитали бы друг другу морали. А впрочем, морали скучно. Интереснее ухаживать за женщинами» (с. 322). Как само собой разумеющееся: «не скучен» только грех. Сущность Пети явлена сразу же – к греху он расположен изначально, он – Гвоздиков. И если ему не помешать, он обязательно эти гвозди куда-нибудь вобьет, «интрига» лишь в тяжести последствий. Тем самым рассказ демонстрирует, что дети отнюдь не «ангельские души», дьявольское начало в них столь же сильно, сколь и во всех остальных – и лишь огромными усилиями можно попытаться его обуздать. Более мягкий вариант этой истории представлен в рассказе про Леночку («Вот, Леночка, – сказала тётя…»). Как видно, дети у Хармса могут быть не только жертвами, но и мучителями. В таких случаях дети по-прежнему играют важную роль в создании адской картины «мира», но только уже не потому, что страдают от зла, а потому, что являются его носителями. Важно отметить, что таких произведений мало (и мы их все перечислили). Для выражения мысли об 176 изначальной расположенности человека к дурному (а она присутствует у Хармса едва ли ни в каждом произведении) дети привлекаются исключительно редко. Видимо, в данном случае Хармс хотел показать не только некую тотальность порока, но и изначальное к нему предрасположение, именно поэтому Гвоздиков оказался не взрослым. Функциональные роли детей в хармсовских произведениях можно изобразить схемой: ДЕТИ Жертвы Мучители (маркировка протеста героя) (маркировка «адского мира») «мудрых стариков» героя типа «Я» (протест дискредитирован) (протест оправдан) (Отметим, что дети в «Старухе» являются и жертвами героя типа «Я», и мучителями.) Крайне важно упомянуть «взрослый» хармсовский рассказ, в центре которого находится ребенок, но «детоненавистничества» нет и в помине. Это рассказ «Лидочка сидела на корточках...». Самое плохое и гадкое здесь – это дядя Мика. Лидочка же вызывает сильное сочувствие. Мало того, авторское беспокойство за девочку столь велико, что рассказ (чрезвычайно редкий для Хармса случай!) имеет счастливый финал, не дискредитируемый ничем, и даже мужской голос и стук в дверь (снова – крайне нехарактерно для Хармса) имеют однозначно позитивное содержание. «Детоненавистничества» нет и следа, ребенок в рассказе – не только «страдающее», но и единственно привлекательное лицо. Любопытен хармсовский комментарий к созданию этого рассказа: «Хотел написать гадость и написал. Но дальше писать не буду: слишком уж гадко...» (с. 396). Впрочем, мироощущение, выраженное в рассказе, не 177 расходится с постоянной для (прозы) Хармса убежденностью в общей «мерзости мира», однако ребенок здесь не просто не принадлежит «миру», он ценность, которую требуется защитить – никак иначе. Особая роль и у девочки в «Неудачном спектакле», абсурдность которого заключается отнюдь не в происходящем на сцене (всех рвет), а в репликах, совершенно неадекватных происходящему. Господа и дама пытаются сохранить некий официоз, их неудавшиеся фразы – это оборванные штампы. Юмор знаменитой сценки в том, что на момент произнесения девочкой реплики «Нас всех тошнит!» – это ясно уже совершенно всем зрителям (с. 352). Тем не менее только маленькая девочка способна сказать об этом со сцены, не пытаясь приукрасить происходящее (как это делают все взрослые в этой сценке). Ее слова – чуть ли не наиболее деликатный выход из сложившейся ситуации. Мы можем сделать вывод, что появление мотива «детоненавистничества» в произведениях Хармса имеет функциональную нагрузку, благодаря чему подчас и раскрывается смысл написанного. Именно ребенок указывает читателю на отсутствие системы ценностей и обыденность зла в мире «Сонета». Именно дети выявляют низкую сущность почитателя «великого императора» («Прав был император…»). «Детская линия» играет в этих рассказах не просто важную, но ключевую роль. Она же выявляет, что изгой в «мире» Хармса совсем не прочь сам стать палачом: рассказчик из «Меня называют капуцином…» бьет палкой исключительно детей, а «мудрый старик» использует в подобных целях также женщин и животных. Как видно, дети помогают донести авторскую мысль: едва «ничтожество» находит наконец кого-то слабее себя – оно само тут же превращается в изверга. А в «сборниках» «Однажды я пришел в Госиздат…» и «Я не люблю детей, стариков…» «детоненавистничество» помогает раскрыть образ рассказчика. Итак, образ ребенка в хармсовской прозе может воплощать строго противоположные полюса (что же касается «детских» произведений 178 Хармса – там ребенок положителен всюду133). Именно эта вариативность детской темы указывает на ее абсолютную функциональность и выявляет ошибочность утверждений, будто бы «детоненавистничество» было присуще самому Хармсу (по крайне мере, если выводы делаются на основе его произведений). 8) Мотив дискредитации «чинарства» На этом мы останавливались отдельно, когда в первой главе изучали соответствующую группу произведений. Напомним, дискредитация «чинарства» для автора – способ указания не столько на несовершенства других, сколько на собственное несовершенство. «Чинарство» (как образ мыслей) широко представлено в хармсовской прозе и, на наш взгляд, отрицательно маркировано в «Однажды я пришел в Госиздат…», «Я не люблю детей, стариков…», «Сонет», «Меня называют капуцином…», «Власть», «Сундук», «Иван Петрович Лундапундов…», «Первое действие “Короля Лира”…», «О явлениях и существованиях» («№ 1» и «№ 2»), «Как странно, как это невыразимо странно…», «Как легко человеку запутаться…», «О том, как меня посетили вестники», «Связь», «Пять неоконченных повествований». Также мы отмечали дискредитацию «чинарей» в рассказе «Четыре немца…». В произведениях Хармса можно найти ироничное отношение к «чинарской» инверсии. Например, в рассказе «Андрей Иванович плюнул в чашку…» перед нами разворачивается следующий ряд действий: «Плюнул в чашку» – «вода почернела» – «выпил воду» и все изменилось – «на душе стало светло» (с. 87–88). Видимо, это издевка над бессмысленным – исключительно внешним – чудом, над его якобы спасительностью (ведь для подлинного чуда, как мы помним, обязательно «должно измениться что-то во 133 В «детской» прозе явлен идеальный, несбыточный мир, «жизнь, которая должна быть». Дети ведут себя не просто как взрослые, а как прекрасные взрослые – благородные и умные. И это понятно: тем, у кого ценности формируются, и нужно показывать, какими должны быть люди. Один из способов добиться этого – создать вокруг детей определенный ореол их «совершенства» (тот самый «возвышающий обман»), в беседе всякий раз подразумевая, что они хороши – уже сейчас. Конечно, хороши, раз сами взрослые так считают! 179 мне»). К инверсии прибегает и Сакердон Михайлович – один из самых зловещих хармсовских персонажей: «– Водку пить полезно, – говорил Сакердон Михайлович, наполняя рюмки. – Мечников писал, что водка полезнее хлеба, а хлеб – это только солома, которая гниет в наших желудках» (с. 274). Как отмечает В. Н. Сажин, Мечников был ярым противником алкоголя (с. 421). Вообще, разговор с Сакердоном Михайловичем в целом – едва ли не самая сильная дискредитация «чинарства»134. Уместно сопоставить дискредитацию «чинарства» с «детоненавистничеством»: как кажется, в случае последнего Хармс фактически доводит до логического завершения «чинарский» способ отношения к реальности. Обязательный пересмотр общепринятого, непременное отвержение любых штампов, явно культивирующееся в компании, – доводится до логического конца и, как оказывается, – до абсолютного гротеска. «Любить детей» – общепринятая добродетель, некое «общее место». Хармс ведет себя просто-напросто как образцовый и, главное, последовательный «чинарь» – и опрокидывает эту банальность. Получается: «дети – гадость», что уже могло бы смущать самих «чинарей». Хармс эпатирует «чинарей» не чем иным, как собственно «чинарством». Это насмешка. Он наглядно показывает им результат последовательного «исповедания» их же доктрины. Нам кажется большой ошибкой полагать, что Хармс не проявлял никакой критичности по отношению к «чинарству» и вообще мыслил как Друскин. Любопытный эпизод описан М. Б. Мейлахом с друскинских слов. Когда Введенский с маленьким сыном приехал из Харькова в Ленинград, Друскин стал объяснять мальчику все, как сказано у Мейлаха, «наоборот», инверсно, т. е. – «чинарски». «Введенскому это очень не понравилось, и он предложил Друскину так воспитывать собственных детей…» (101;446). 134 См. подробно об этом первую главу в «Удивить сторожа. Перечитывая Хармса» (110), а также: «Появление в тексте образа Сакердона Михайловича (его прототипом был Н. М. Олейников) связано с крахом “чинарства” как идеи» (22;24). 180 «Чинарское» даже у Введенского было совершенно отделено от реальной жизни и реального поведения. Представляется, что в таком случае есть не меньше оснований заподозрить подобную отстраненность (не столько внешнюю, сколько внутреннюю) и у Хармса, который в последние годы даже и в творчестве отошел от «левизны» («Старуха»), что, кстати, именно так и было истолковано тем же Введенским, творчество которого продолжало оставаться вполне «чинарским» всегда. 9) Мотив садизма О свойственном хармсовской прозе садизме мы говорили подробно, исследуя группу «Порок» («Фома Бобров и его супруга», «Иван Григорьевич Кантов шёл…», «– Да, – сказал Козлов, притряхивая ногой…»). Здесь же укажем только, что садисты от большинства хармсовских персонажей отличаются отсутствием глупости. Среди них те, кто бьют других в разнообразных «историях дерущихся»; такие персонажи, как матрос («Воспитание»), – и, конечно же, хармсовские доктора. Доктора – едва ли не самые зловещие хармсовские персонажи. Приход доктора без последствий не останется. 10) Мотив потери «Потери» подробно изучались в первой главе (в разделе о соответствующей группе). 11) Мотив сна Как и у многих других русских писателей, у Хармса сон – это мир подсознания, свободного от предрассудков и суждений героя. Так, в «Утре» рассказчик прямо говорит о важности сна: «Я уверял себя, что это очень важно: обдумать сон до конца» (с. 46). В «Старухе» именно во сне рассказчику открывается истинное положение вещей, является подлинная сущность Сакердона Михайловича (а у героя вместо рук – нож и вилка, словно подсказывающие, в чем же на тот момент состоит его жизнь). 181 Фактически Хармс продолжает традиции столь любимых им Пушкина и Гоголя (сны Татьяны, Гринева, сон Катерины из «Страшной мести»). Заснуть в хармсовском «мире» – отдельная проблема: «Я лежу на кушетке с открытыми глазами и не могу заснуть» («Старуха»). Быть может, в данном случае воображающий герой мечтает хоть на мгновение заглушить тревогу, отрешиться и воспарить над земным – и потому он столь жаждет уснуть посредине дня? Но в «мире» все не к месту: «Теперь мне хочется спать, но я спать не буду» («Старуха», с. 264). Человек бессилен, жить по собственному плану возможности нет (то же самое можно сказать и в связи со «Случаем с Петраковым», где Петраков смог лечь на кровать только в тот момент, когда спать уже не хотелось; эта же мысль будет усилена в рассказе «Сон дразнит человека»). Другой оттенок темы сна представлен в одноименном рассказе: там сон последовательно и агрессивно поглощает Калугина («Сон»). В «Потерях» Андрей Андреевич страдает от ущерба и пытается избежать реальности, заснув (мнимая альтернатива спасению). Хармсовский сон может обладать и вполне дьявольским оттенком (особенно отчетливым в рассказах «Сон» и «Сон дразнит человека»). Герой «Старухи» еще до каких-либо происшествий жаждет сна – видимо, ему хочется забыться, заглушить совесть, неустанно напоминающую о человеческом предназначении (глубинный пласт «рассказа о чудотворце»). Такой сон не возвышение, а дурман, почти смерть (ср. «Да, конечно, это сидит старуха и голову опустила на грудь. Должно быть, она уснула <…> И вдруг мне делается все ясно: старуха умерла» – «Старуха», с. 267)135. Но не только темные силы настигают спящего. Пытаясь сном заглушить «собственные мысли», герой «Старухи» 135 Близость сна и смерти видна в рассказе «Кулаков уселся в глубокое кресло…»: «Сидя заснул, а спустя несколько часов проснулся лёжа в гробу» (с. 159). Пожалуй, наиболее явно связь смерти и сна представлена в миниатюре «Когда сон бежит от человека…»: «…и человек лежит на кровати <…> а безжизненное тело останется лежать на кровати <…> “вот ещё один человек уснул”, и в этот миг захлопнется огромное и совершенно чёрное окно». Фамилия Окнов как бы напоминает о предназначении человека, напоминает, что главное – это душа и её «переход» (другими словами, Окнов – это «Духов»). Но Окнов своему предназначению не следует: «Окнов лежал с открытыми глазами, и страшные мысли стучали в его одервеневшей голове». Какие души, такие и мысли и голова, возможно, потому и окно – «совершенно чёрное» (с. 209). 182 невзначай открывает им простор, и перед ним разворачивается подлинная картина происходящего. Главное – прислушаться. Итак, мы выделили одиннадцать хармсовских мотивов: обыденности насилия, обыденности порока, невоспринятых ценностей, ничтожности персонажа, «мерзости быта», безумия, «детоненавистничества», дискредитации «чинарства», садизма, потери, сна. Все они – важные элементы, из которых формируется картина хармсовского «мира». Уже одно перечисление этих мотивов указывает на ее беспросветность – и в первую очередь ее делает таковой человеческая природа. Но кроме того, и во всем земном изначально присутствует какой-то изъян (вспомним мотивы «мерзости быта», потери и прочие): «Всё земное свидетельствует о смерти» (Дн.;2;199). § 2. Устойчивые приемы 1) Монохромность описания «Мир» у Хармса монохромен. Это тотально жуткий «мир». Яркими примерами служат рассказы «Случаи», «Начало очень хорошего летнего дня» (где концентрация разнообразных мерзостей исключительна даже для Хармса), «Неожиданная попойка». Монохромность «мира» часто бывает выражена как на сюжетном, так и на персонажном уровне. Так, показательна роль «инвалида» в «Старухе», появляющегося трижды: «…по панели идет человек на механической ноге. Он громко стучит своей ногой и палкой»; «…по противоположной стороне шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Шесть мальчишек бежало за инвалидом, передразнивая его походку»; «…по улице шел инвалид на механической ноге и громко стучал своей ногой и палкой. Двое рабочих и с ними старуха, держась за бока, хохотали над смешной походкой инвалида» (с. 265, 280, 288). Как видим, «мир» становится все хуже и хуже. Вначале инвалид идет один (заметим, инвалид не дискредитирован и скорее вызывает 183 у читателя сочувствие), потом его дразнят мальчишки, и, наконец, уже взрослые и даже сама старуха хохочут над несчастным. Происходит утрата «всего человеческого»: именно эти дети превратятся впоследствии в «рабочих и старуху», именно они будут хозяйничать в «новом мире». Ухудшается «мир» и в цикле «Случаи» (если рассматривать цикл в целом и следовать «от текста к тексту»): в частности, это можно видеть по увеличению концентрации насилия. То есть «мир» не просто плох изначально, он еще и изменяется к худшему. Отчетливое ухудшение «мира» можно наблюдать в рассказе «У Колкова заболела рука…». В начале повествования рассказчик нейтрален, но в процессе повествования он сам постепенно становится Колковым. Его интонации от нейтральных переходят к едва ли не восторженным (при том, что читателю очевидна мерзость описываемого). Впрочем, у Хармса плохи, как правило, все персонажи – например, не только садисты, но и их жертвы («Воспитание», «– Да, – сказал Козлов, притряхивая ногой…», «Охотники», «Грязная личность», «Рыцари»). Очевидное ухудшение происходящего можно отметить, к примеру, в «Четырех иллюстрациях…», «Анегдотах из жизни Пушкина». Хармс также часто использует и прием «расширения», помещая его в конец текста. Этот прием может быть явным – скажем, когда в финале появляются новые персонажи («Пиеса», «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)…», «Иван Петрович Лундапундов хотел съесть яблоко…», «Баронесса и Чернильница»), – а может быть косвенным: «Баня» (все повествование идет о бане, в конце же возникает другой достаточно распространенный у Хармса образ – трамвая: «Даже трамвай приятнее бани» – 5;533), «На набережной нашей реки…» («командир полка» тонет, после чего следует завершающее, «расширяющее» предложение: «Народ начал расходится» – с. 25), «Швельпин: Удивительная история!...» (сценка, где обсуждается, как одна женщина покусала другую, заканчивается ремаркой: «Варвара Семёновна кидается и кусает Антонину Антоновну» – 184 с. 200). Такое «расширение» пластов служит, на наш взгляд, именно для создания эффекта тотальной монохромности «мира». Чрезвычайно важное место в хармсовской прозе занимает рассказчик. На наш взгляд, у Хармса можно условно выделить два типа рассказчика: рассказчика типа «Я» и рассказчика типа «мудрый старик». Возможно, образ соответствующего рассказчика («мудрого старика») – одно из главных хармсовских «изобретений». Рассказчик типа «Я» (или же персонаж, напоминающий Хармса) возникает, соответственно, в произведениях группы «Я», «Чинари», иногда (частично) в произведениях группы «Сокрытое». Рассказчик типа «Я» выделен из «мира». В связи с ним в повествовании появляется лирическая интонация (видимо, свойственная самому Хармсу, но не свойственная большинству его рассказов). Крайне интересен другой рассказчик, появляющийся в остальных произведениях (которых большинство). Рассказчик типа «мудрый старик» – типичный персонаж собственно «мира» Хармса, полностью встроенный в этот «мир». Он глуп (хотя иногда осторожен), не ощущает «ткани бытия» и обладает всеми характерными изъянами персонажей «мира». Это передается его репликами, а также (что очень важно!) соответствующей интонацией. Вспомним, что образ «мудрого старика» достаточно вариативен – и в то же время чрезвычайно узнаваем. Об этом образе мы говорили подробно в первой главе, когда рассматривали соответствующую группу произведений. Однако тогда мы говорили о «мудрых стариках» вообще (это мог быть персонаж, рассказчик и даже читатель), сейчас же мы концентрируемся только на соответствующих рассказчиках. Такой рассказчик может находиться как в центре произведения (например, в «Воспоминаниях одного мудрого старика», «Однажды я пришел в Госиздат…», «Теперь я расскажу, как я родился…», «Не знаю, почему все думают, что я гений…» и т. д.), так и на периферии (см., например, про глупых рассказчиков в «Рыцаре» и «Историческом эпизоде», «Пашквиле», которых мы упоминали в связи с 185 мотивом ничтожности персонажа). Однако именно такой рассказчик, находящийся на периферии, и создает эффект монохромности, поскольку «мудрым стариком» оказывается не только главный герой, но и, казалось бы, сторонний объективный повествователь. Классическая «рамка» взламывается, и когда становится понятно, что и этот – как будто бы принципиально внешний элемент – тоже часть того же жуткого «мира», эффект тотальности многократно усиливается. Так, например, в монохромный «мир» полностью встроен рассказчик, от лица которого ведется повествование в «Охотниках»: «На охоту поехало шесть человек, а вернулось-то только четыре. Двое-то не вернулись» (с. 356). Ничего страшного в этом «невозвращении» рассказчик не видит, наоборот, для него это – занятная история. Точно так же полностью встроен в «мир» рассказчик из «Ровно 56 лет тому назад родился…». Редькин про себя говорит: «Я слишком знаменит…». Ровно то же самое до этого говорил и рассказчик: «Теперь это такая знаменитость, что мне нет нужды говорить, кто он такой»136 (с. 201). Разумеется, из его же рассказа следует ничтожность и безвестность Редькина, чего рассказчик, как всегда, не понимает. Рассказчику типа «мудрый старик» свойственно «резонерство». Едва ли не самый характерный пример, иллюстрирующий «резонерство», – миниатюра «Один толстый человек…»: «Но похудевший отвечал дамам, что мужчине худеть к лицу, а дамам не к лицу, что, мол, дамы должны быть полными. И он был глубоко прав» (с. 139). «Резонеров» в этой миниатюре целых два. Сначала делится своими соображениями «похудевший», а затем, в последнем предложении, мудрствует рассказчик. Еще лучше «резонерство» иллюстрируют следующие хармсовские «как бы дневниковые» заметки: «Ел сегодня английский ванильный мус и остался им доволен»; «Купался в Екатериненском пруду остался этим доволен» – и, наконец, «Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен» (Дн.;1;464). «Резонер» – это фактически тот же «мудрый старик»: каждый нюанс, каждая мелочь, 136 Отмечено Е. В. Захаровым (62;107). 186 коснувшаяся его жизни, – страшно важна. Он не замечает, что проговариваемое им в лучшем случае – банально137. (Отметим, однако, что этот прием был опробован задолго до Хармса: «Опять скажу: никто не обнимет необъятного» – так Козьма Прутков завершает серию своих афоризмов, в пятый раз делая это ошеломляющее своей «новизной» и «глубокомысленностью» замечание.) «Резонер» нередко пытается спрятаться за ширмой «глубокомысленности»: «Жизнь это море, судьба это ветер, а человек – это корабль. И как хороший рулевой может использовать противный ветер и даже итти против ветра, не меняя курса корабля, так и умный человек может использовать удары судьбы, и с каждым ударом приближаться к своей цели». Но эта «глубокомысленность» на поверку оказывается просто глупостью и неадекватностью: «Пример: Человек хотел стать оратором, а судьба отрезала ему язык и человек онемел. Но он не сдался, а научился показывать дощечки с фразами, написанными большими буквами, и при этом где нужно рычать, а где нужно подвывать, и этим воздействовал на слушателей еще более, чем это можно было сделать обыкновенной речью» (Дн.;2;129). Очевидно, что этот «пример» в наших комментариях не нуждается, тем более что на его «серьезность» особо указывают слова «рычать» и «подвывать». Чаще всего «резонерская» реплика – последнее предложение в произведении. Вспомним и перечислим некоторые из них: «Эх, думали мы, дерутся хорошие люди» (финал номера 12 «Голубой тетради», с. 327); «Хорошие люди и не умеют поставить себя на твёрдую ногу» (финал рассказа «Случаи», с. 334); «И он был глубоко прав» (финал миниатюры «Один толстый человек придумал способ похудеть…», с. 139); «Вот какова сила особого взгляда жабы!» (финал миниатюры «Аббат Руссо…», Дн.;1;469); «Таким образом начинался хороший летний день» (финал рассказа «Начало очень хорошего летнего дня», с. 366); «Эта профессорша 137 Именно поэтому мы условно причислили рассказы, где в центре «резонерство», к «водевилям», поскольку они хорошо встраиваются в схему канон – «сдвиг» («сдвиг» состоит в неадекватном внимании и отношении к банальности). 187 только жалкий пример того, как много в жизни несчастных, которые занимают в жизни не то место, которое им занимать следует» (финал «Судьбы жены профессора», с. 151); «Так и мы иногда, упадая с высот достигнутых, ударяемся об унылую клеть нашей будущности» (финал «Упадания (Вблизи и вдали)», с. 245); «Вот какие большие огурцы продают теперь в магазинах!» (финал «Что теперь продают в магазинах», с. 354); «Можно только отметить находчивость этой редакторши» (финал «У одной маленькой девочки…», с. 179). Финальная реплика «резонера» может произноситься не только рассказчиком, но и персонажем: «Однако, – сказал Золотогромов, – пышность и некоторая нечистоплотность именно и ценится в женщине!» («Но художник усадил натурщицу…», с. 147); «Да, мы, врачи, должны всесторонне исследывать явление смерти» («Всестороннее исследование», с. 185); «Так настигла коварная смерть старичка, незнавшего своего часа» («Смерть старичка», с. 170) и т. д. «Резонер», конечно, может заявлять о себе и в процессе повествования – как, например, тот, кто рассказывает «Анегдоты из жизни Пушкина»: «“У него – ростет, а у меня – не ростет”, – частенько говаривал Пушкин, показывая ногтями на Захарьина. И всегда был прав»; «Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто ужас!»; «Бывало, сплошная умора; сидят они за столом: на одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце – его сын. Просто хоть святых вон выноси!» (с. 363–365). Аналогичные появления «резонерских» реплик по ходу повествования можно отметить в «Кассирше»: «Появились дворники. Раздались свистки. Одним словом, настоящий скандал» (с. 155). А также в миниатюрах «Новый талантливый писатель» («Выходит, значит, что курица на башне шумит, принц, значит, матерно ругается, жена внизу на полу лежит, одним словом, настоящий содом», с. 217), «Неожиданная попойка» («…так что было вообще чёрт знает что», с. 121), «О ровновесии» («Метр-д’отель по столам скачет, иностранцы ковры 188 в трубочку закатывают и вообще чорт его знает! Кто во что горазд!», с. 91). «Мир» Хармса полон злобы. Это отражается и в интонации, и во фразах рассказчика: «Чего ещё? А боле ничего. Ничего и всё тут! И своё поганое рыло, куда не надо, не суй! Господи помилуй!» («Художник и Часы», с. 216). Характерна обыденность интонации, с которой рассказчик произносит чудовищные сентенции. Например: «…по счастию, тут со скамейки свалился какой то ребёнок и сломал себе обе челюсти. Это нас отвлекло от нашего спора. А потом мы разошлись по домам» («Сонет», с. 336); «И когда умерла мать, артист плакал, а когда девица вывалилась из окна и тоже умерла, артист не плакал и завел себе другую девицу» («Власть», с. 246–247). Страшно не столько «падение из окна», сколько его обыденность – интонация рассказчика при упоминании об этом событии нисколько не изменяется. Вновь приведем один из самых ярких примеров: «Антонина Алексеевна высказала желание принять участие в попойке, но обязательно в голом виде да ещё вдобавок сидя на столе, на котором предпологалось разложить закуску к водке. Мужчины сели на стулья, Антонина Алексеевна села на стол и попойка началась» («Неожиданная попойка», с. 121). Отметим степенность интонации. Вот он – настоящий хармсовский «мир». «И действительно, командир полка утонул. Народ начал расходится» («На набережной нашей реки…», с. 25) – в голосе рассказчика здесь ничего не дрогнуло, ничего особенного он не почувствовал, просто-напросто констатировал факт… Отдельно стоит отметить, как в хармсовских произведениях выдержаны социальные роли (доктор, лектор, милиция). Представитель той или иной социальной группы обязан совершить что-то положенное по статусу. Об осмысленности речь не идет, все будет доведено до абсурда (см. рассказы «Всестороннее исследование», «Рыцари», «Лекция», «Кассирша»). Именно так ведет себя и «санитарная комиссия» (в рассказе «Сон»), которая нашла Калугина «антисанитарным и никуда не годным и приказала жакту выкинуть Калугина вместе с сором» (с. 342). В рассказе «Кассирша» никого не 189 смущает, что покойница не в состоянии выполнять обязанности кассирши. Кассирша просто должна быть, это главное – остальное совершенно непринципиально. И все же, несмотря на все вышеотмеченные дискредитирующие элементы, не стоит полагать, что хармсовские персонажи – это не люди, а условные фигурки138. «маленькими», Нет, «тонкими» это люди, (то есть просто с такими ничтожными), душами: «серенькими», «злобными». Неверно утверждать, будто бы хармсовские персонажи не испытывают чувств. Испытывают. Просто это такие чувства. Скажем, Хармс часто отдельно подчеркивает болевые ощущения персонажей139: «Ох! Лицо болит!» («Григорьев (ударяя Семёнова по морде): Вот вам…», с. 146); «зубная боль не давала ему заснуть» («Василий Антонович вышел из дома…», с. 197); «Колков изловчился и пнул даму коленом под живот. Дама взвизгнула и <…> согнулась в три погибели от страшной боли» («У Колкова заболела рука…», с. 222); «Мой гость падает навзнич от страшной боли» («Когда я вижу человека…», с. 256); «Звякина выла, кричала и хрипела, обливаясь кровью» («Рыцари», с. 233) и т. д. Персонажи злятся: «Взбешённый Пётр Леонидович выскочил в корридор…» («Неожиданная попойка», с. 120), «Андрей Карлович, бледный от бешенства, кинулся на Алексея Алексеевича…» («История дерущихся», с. 341). Андрей Андреевич Мясов («Потери») после многочисленных «потерь» возвращается домой отнюдь не равнодушным, а «очень злым» (с. 349). Иногда у хармсовских персонажей даже встречаются и более сложные чувства: например, Василий Антонович «опечален» («Василий Антонович вышел из дома…»), они могут 138 Восприятие хармсовских персонажей как безжизненных и предельно схематичных широко распространено. См.: «…люди [у Хармса] – это всего лишь реликтовые формы деятельности языка, знаки покинувшего реальность смысла. То, что герои наделены телесностью, напоминающей об органической жизни, что им может быть больно, страшно, дурно, – выглядит у Хармса забавным парадоксом. Люди – всего лишь знаковые оболочки…» (67;90); «Персонажи его вообще лишены всякого проявления внутреннего мира <…> перед нами герои-знаки» (75;7); «Герой повествования в “Случаях” – человек. Но этот человек условен» (81;115); «Это не живые люди, лишь штрихи, призванные отобразить ужас и хаос жизни» (153;21); «…хармсовским героям обычно не свойственны какие-либо чувства» (154;39). 139 Тут мы не можем согласиться со многими исследователями: «У Хармса нет даже ни малейшего указания на то, что люди вообще способны чувствовать эту боль» (76;89); «Герои не чувствуют боли, как не чувствуют ее куклы» (154;42). 190 и удивиться: так, в миниатюре «Господин невысокого роста…» «смущенная толпа» остается «в полном недоумении» (с. 256). В рассказе «Отец и Дочь» «воскрешения» все-таки вызывают у персонажей некоторое удивление («Папа так растерялся…», «Наташа удивилась, но ничего не сказала и пошла к себе в комнату рости», с. 156). Пожалуй, одна из главных доминант в «мире» Хармса – страх. Можно привести множество примеров, где о страхе персонажа говорится впрямую. Так, напуган Козлов в «Охотниках». «Очень испугалась» «бедная Елизавета Платоновна» из рассказа «– Да, – сказал Козлов, притряхивая ногой…» (с. 253–254). Стрючков (из тех же «Охотников») на секунду решает вспомнить, что он человек (и сказать Окнову, что совершенное им – злодейство), но, испытывая сильнейший страх, мгновенно и безвольно возвращается в свое обычное жалкое состояние – подобно няньке из «Воспитания», вдруг заявившей, что «всякому человеку есть нужно», но тут же и «стихшей» («Нянька было на дыбы, но мотрос стегнул её палкой и нянька стихла», с. 218). Рассказ «Пакин и Ракукин» прекрасно иллюстрирует то, каковы в действительности души хармсовских персонажей. «Минут четырнадцать спустя из тела Ракукина вылезла маленькая душа и злобно посмотрела на то место, где недавно сидел Пакин». Злобная «маленькая душа» Ракукина даже после смерти, когда уж точно стоило бы позаботиться о другом, все еще полна ничтожной ненависти к Пакину – даже когда «из за шкапа» вышла «высокая фигура ангела смерти и, взяв за руку ракукинскую душу, повела ее куда-то, прямо сквозь дома и стены. Ракукинская душа бежала за ангелом смерти, поминутно злобно оглядываясь». И прохождение сквозь стены тоже ничуть не отвлекает Ракукина. Его дух как был злобным ничтожеством, так им и остался; «но вот ангел смерти поддал ходу, и ракукинская душа, подпрыгивая и спотыкаясь, исчезла вдали за поворотом» (с. 368). Даже его бесплотная душа спотыкается, не успевая за ангелом. Ракукин обречен, надежд на его спасение – немного. И, возможно, даже после смерти. Картина 191 весьма мрачная – тем более что, напомним, именно этим рассказом и завершается цикл «Случаи». Вопрос о том, насколько хармсовский «мир» похож на реальный мир, остается на усмотрение читателя. Обилие в произведениях реалистических деталей (к примеру, упоминание водосточного люка во фразе «Оторванная голова катится по мостовой и застревает в люке для водостока», «Суд Линча» – с. 351) и реплик указывает, на наш взгляд, на тесную связь реального и «хармсовского» миров140. Этих деталей настолько много, что привести здесь даже существенную часть не представляется возможным141. Перечислим лишь несколько – в том числе узнаваемые подробности текущей советской жизни: «У бакалейного магазина стояла длинная очередь за сахаром» («Начало очень хорошего летнего дня», с. 365); «В булочной, где Калугин всегда покупал пшеничный хлеб, его не узнали и подсунули ему полуржаной. А санитарная комиссия, ходя по квартирам и увидя Калугина, нашла его антисанитарным и никуда не годным и приказала жакту выкинуть Калугина вместе с сором» («Сон», с. 342); «По дороге Андрей Андреевич потерял фитиль и зашел в магазин купить полтораста грамм полтавской колбасы. Потом Андрей Андреевич зашел в молокосоюз и купил бутылку кефира, потом выпил в ларьке маленькую кружечку хлебного кваса и встал в очередь за газетой. Очередь была довольно длинная, и Андрей Андреевич простоял в очереди не мение двадцати минут, но когда он подходил к газетчику, то газеты перед самым его носом кончились» («Потери», с. 348); «Иван Яковлевич и в Ленинградодежде был, и в Универмаге, и в Пассаже, и в Гостинном дворе, и на Петроградской стороне обошёл все магазины, даже куда-то на Охту съездил, но нигде полосатых брюк не нашёл» («Иван Яковлевич Бобов…», с. 193–194); «курил он папиросы “Ракета”, 35 коп. 140 Сопоставим с отрывками из письма Хармса к К. В. Пугачевой: «Я творец мира, и это самое главное во мне», «Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир» (4;79–80). Это вполне соотносится с нашим утверждением, что Хармс «сотворил», «создал» собственный «мир». При этом Хармс, видимо, подчеркивает, что это «мир» именно создан, а не вымышлен. То есть, судя по всему, создан на основе наблюдений за реальным миром, его восприятия. 141 Ср. с замечанием Е. Е. Саблиной: «Можно изучать быт и историю 30-х годов по произведениям Хармса» (119;78). 192 коробка» («О ровновесии», с. 90), «я собирался купить полкило черного хлеба, но только формового, того, который дешевле» («Старуха», с. 272); «Прибежала Маша в кооператив» («Кассирша», с. 153); «упали с крыши пятиэтажного дома, новостройки» («Упадание…», с. 244). Полон советских деталей рассказ «История»: «мизерная пенсия в 36 руб», «кило хлеба стоило рубль десять копеек, а лук-парей стоил 48 копеек на рынке», «Наркомтяжпром» (с. 116–117). Управдом фигурирует в повести «Старуха» и рассказе «Отец и Дочь». Есть и зловещие детали: «Низшие чины встали около двери, а человек в чорном польто подошел к Ирине Мазер и сказал: – Ваша фамилия? – Мазер, – сказала Ирина…» («Помеха», с. 241). Много узнаваемых деталей, точно характеризующих советский мир 1930-х годов, и в «Неожиданной попойке». Отметим также абсолютно реалистичные реплики: «– Постой! Куда помчался? Лучше сядь, и я тебе покажу кое что» – говорит властвующий над Ракукиным Пакин («Пакин и Ракукин», с. 366). «У вас ещё не похолодели руки? <…> Нет. А что? <…> Так. Это моё предположение <…> Ничего, ничего. Успокойтесь. Это средство верное» («Всестороннее исследование», с. 184–185). «Куда вы уходите? – Я не ухожу, Виктория Тимофеевна, – сказал Алексеев, останавливаясь в дверях. – Это я в ванную шёл» («Так началось событие в соседней квартире…», с. 225). «Феноров – Да я вот и спрашиваю, кто тут последний… Субъект – Ну ты не очень то тут разговаривай! Феноров – Кто тут последний?...» («Американская улица…», с. 109). 2) Дискредитация «иного» Как мы уже убедились, хармсовский «мир» монохромен. Априори «хороших» сообществ и персонажей в нем нет. Никто не лучше других. В рассказе «О ровновесии» особо интересен образ «иностранцев», которые ничем не лучше прочих персонажей «мира»: сначала они «яблоки жрут», а потом, как только выпадает удачный момент, судя по всему, воруют ковры. 193 Не лучше других ни доктора142, ни писатели143, ни интеллигентны144, ни аристократы145, ни философы – вообще никто. Хармсовская манифестация тотальности «мира» – отмечавшаяся нами (при изучении соответствующей группы) дискредитация «иного», которое на самом деле оказывается псевдоиным. 3) Выразительность финала Финал, как правило, важен в любом произведении. В случае Хармса роль последней фразы еще существеннее. Его произведения коротки, и – главное – Хармс регулярно пользуется приемом выразительности финала (как мы видели, «резонер» чаще всего проявляет себя именно в последнем предложении). Видимо, такая важность одного предложения связана с желанием Хармса высказать мысль как можно более точно и выразительно. Повествование как бы подготавливает читателя, а затем следует предложение, в некотором роде отражающее весь смысл произведения146. Часто последнее предложение – это или финальная деталь, подтверждающая догадки и ощущения читателя, или итоговая ремарка, расширяющая происходившее в миниатюре до образа «мира» в целом. Неоднократно упоминавшийся нами финал «Сонета», напомним, указывает на внутренний смысл всего рассказа. Важно последнее предложение и в рассказе «Был один рыжий человек…»: с трудом полученное в результате всего повествования знание, что «рыжего человека» нет, не мешает рассказчику в конце сказать: «Уж лучше мы о нём не будем больше говорить» (с. 334). Ключевая роль у последнего предложения 142 «Всестороннее исследование», «Рыцари», «На кровате метался полупрозрачный юноша…», «Однажды Андрей Васильевич шёл по улице…», «Теперь я расскажу, как я родился…». 143 «Анегдоты из жизни Пушкина», «Пушкин и Гоголь», «Экспромт» и др. 144 «Григорьев (ударяя Семёнова по морде)…», «Швельпин: Уидивительная история!..», «Пашквиль», «Петя входит в ресторан…», «Оптический обман», «Федя Давидович», «Василий Антонович вышел из дома…», «Так началось событие в соседней квартире…», «Но художник усадил натурщицу…» и др. 145 «Что теперь продают в магазинах», «Евстигнеев смеётся. Водевиль о трёх головах» и др. 146 В «Старухе» это была следующая фраза: «А когда одна храбрая сиделка ударила покойника по спине табуреткой, то он укусил эту сиделку за ногу, и она вскоре умерла от заражения трупным ядом» (с. 283). «Табуретка» выступает в качестве альтернативы Богу на пути к спасению! Героическая сиделка пыталась справиться своими силами с мистическим символом ада, невзирая на то, сколь смешна, нелепа и безнадежна эта попытка. И вот в наказание за дерзость «храбрая сиделка» пополняет ряды покойниковбеспокойников («Не надо лягать мертвецов», с. 277). Если читатель когда-то знал, о чем написана «Старуха», и вдруг забыл, это предложение ему сразу все напомнит. 194 рассказа «Вываливающиеся старухи»: «Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль» (с. 335). Главным действующим лицом оказывается рассказчик, который абсолютно лишен рефлексии, он «созерцатель», отдавшийся «плавному течению жизни»: вот здесь он посмотрел на «вываливающихся старух», а теперь пришло время смотреть на «одного слепого». Это «мир» без иерархии. Последнее предложение «Суда Линча» тоже как бы подытоживает сказанное в рассказе – «толпе», в сущности, все равно, кому «оторвать голову». Важнейшая роль отдана последнему предложению в «Истории дерущихся», из которого мы узнаем о полном отсутствии в «мире» брезгливости, а также о невозможности остановиться, видимо, до тех пор, пока один «дерущийся» не убьет другого. Функционально важно последнее предложение «Встречи»: «Вот, собственно, и всё» (с. 351). Оно воспринимается даже с некоторым облегчением – потому как, что обычно происходит в «мире» при встрече двух «людей», хармсовский читатель уже знает («истории дерущихся» и т. д.). Последнее предложение «Столяра Кушакова» обнаруживает неадекватно равнодушное отношение Кушакова к отсутствию у него личности. Ремарка, завершающая сценку «Швельпин: Удивительная история!...», подтверждает, что в «мире» люди действительно кусают друг друга. Последнее предложение рассказа «Случай с моей женой» («– Вот и я, – сказала моя жена, широко улыбаясь и вынимая из ноздрей застрявшие там щепочки») дает понять: дело не в том, что у жены будто бы что-то не так с ногами – дело в ее сумасшествии (с. 223). Именно последнее предложение рассказа «Отец и Дочь» («Кажется, под автомобиль попали») отменяет фиктивность смерти, которая вроде как следовала из повествования (с. 157). В завершение напомним, что в нашей интерпретации чрезвычайно важно и последнее предложение в главном произведении Хармса – повести «Старуха» (см. вторую главу). 195 4) Дискредитация персонажа В качестве общего замечания отметим, что у Хармса практически нет описаний ради них самих (частичные исключения – рассказчики и персонажи в некоторых произведениях группы «Я»). Практически каждое слово в описаниях несет определенную смысловую нагрузку. Часто Хармс прибегает к приему тотальной дискредитации персонажа. В качестве примера приведем описание из «Старухи»: «На столе сидела низкорослая, грязная, курносая, кривая и белобрысая девка и, глядясь в ручное зеркальце, мазала себе помадой губы» (с. 280). Здесь показательно каждое слово: «сидела на столе», «мазала помадой губы» (травестируются обычные в других обстоятельствах действия: находиться за столом или у стола, красить отрицательные помадой губы). характеристики. «Грязная», Слово «кривая» «девка» носит – отчетливо традиционный пренебрежительный оттенок, усиленный в данном случае предшествующим однородным рядом. Определение «низкорослая» в данном контексте также приобретает оттенок пренебрежения; сходным образом в этом контексте воспринимаются слова «курносая» и «белобрысая», сами по себе вполне нейтральные. Даже невинное «глядясь в ручное зеркальце» уже воспринимается как нечто дискредитирующее. Аналогичное описание можно встретить и в рассказе «Лидочка сидела на корточках…»: «Рядом на скамейке сидела плечистая девка с пухлыми губами и толстыми икрами» (с. 121). «Пухлые губы» и «толстые икры», «плечистость» – это не эстетическая деталь, не описание ради описания, а некий сигнал, указывающий, как надо относиться к персонажу. Эта «плечистая девка» – Анюта – впоследствии будет дискредитирована чуть ли ни в каждом предложении, однако другой герой, дядя Мика, далее дискредитируется еще сильнее: «…в золотых очках, в белом картузе, засаленном клечатом пиджаке и коротких, до щиколотки, брюках, из-под которых виднелись грязные шёлковые носки ярко зелёного цвета»; «говорил старичок, шевеля серыми колючими усиками и маленькой бородкой, 196 похожей на воробьиной хвостик»; «От старичка пахло одеколоном и корытом, в котором моют грязное бельё» (с. 123). Хармс также прибегает к приему дискредитации одним штрихом, например – «Мышин, задумавшись над словами Фаола, упал со стула» («Власть», с. 246). То есть если Мышин вдруг задумается, то это без последствий не обойдется: он непременно упадет со стула. Или – другой пример: «Вот начальник военного округа подошёл к своей жене, поцеловал её в рот, погладил её рукой по шее и залез на лошадь» («Вот начальник военного округа…», с. 160). Хармс формирует образ «начальника военного округа» буквально с помощью двух предлогов: «поцеловал в рот», «погладил по шее». «Начальник военного округа» обращается с женой как с лошадью. Приведем еще несколько подобных примеров. «Она [Ида Марковна] стояла у окна в противоположном доме и сморкалась в стакан» («Упадание (Вблизи и вдали)», с. 244). Всего одного слова достаточно Хармсу для дискредитации доктора из рассказа «На кровате метался…» (хотя в целом дискредитирующих деталей здесь больше): «– Дайте лодку, – произнес юноша. Господин, стоя у окна, хихикнул» (с. 250). Другой пример дискредитирующей детали находим в рассказе «Сон»: «Калугин проснулся, подложил под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку, и опять заснул, и опять увидел сон…» (с. 342). Акцент в рассказе сделан не на этой детали, но тем не менее она очень показательна. Калугина поглощает сон, в этом доминанта рассказа, но что делает персонаж в те недолгие мгновения, когда он бодрствует? «Подкладывает под голову газету, чтобы не мочить слюнями подушку»… «Мир» – мерзок, персонажи – ужасны. Еще раз отметим, что часто дискредитация персонажей совершенно буквальна: «…говорил рослый мужик в коричневом пиджаке, ковыряя перед собой в воздухе кривыми пальцами с черными ногтями» («У Колкова заболела рука…», с. 222); «Он был так грязен, что однажды, рассматривая свои ноги, он нашёл между 197 пальцев засохшего клопа, которого, видно, носил на ноге уже несколько дней» (с. 230). Хармс использует и прием постепенной, градационной дискредитации, уже отмеченной нами в связи со «сборником» «Однажды я пришел в Госиздат…». Напомним: вначале рассказчик говорит нечто вполне приемлемое, создается впечатление, что он в целом нормален, но дальше суть и стилистика высказываний меняются настолько, что становятся очевидными глупость, грубость и, наконец, безумие рассказчика. А после вновь следует «нормальная» фраза – и все начинается заново. Постепенную дискредитацию мы также отмечали, когда анализировали рассказ «О Пушкине» (в первой главе). Изначально вроде как нормальный рассказчик становится все «хуже» и «хуже» – вплоть до реплики «Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь». Но следующее же предложение – выход на новый виток: «А потому, вместо того, что бы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе» (с. 159). Теперь рассказчик снова вроде как нормален, однако мы уже предчувствуем, что это впечатление будет развенчано в следующем же предложении (так и произойдет). 5) Недосказанность Хармсовская проза часто вызывает ощущение чего-то зловещего – страх перед страшным, что достигается в том числе с помощью приема зловещей недосказанности. Достаточно лишь обозначить нечто страшное – читательское воображение все довершит само. Таинственное усиливает ужас (в некотором роде это вполне кинематографический прием147), нагнетает 147 Другой «кинематографический» прием мы находим в «Старухе»: «Оставшись один, Сакердон Михайлович убрал со стола, закинул на шкап пустую водочную бутылку, надел опять на голову свою меховую с наушниками шапку и сел под окном на пол. Руки Сакердон Михайлович заложил за спину, и их не было видно. А из-под задравшегося халата торчали голые костлявые ноги, обутые в русские сапоги с отрезанными голенищами» (с. 279). Это зловещая картина, поскольку Сакердон Михайлович на глазах читателя превращается в старуху (ср. с «Руки подвернулись под туловище и их не было видно, а из-под задравшейся юбки торчали костлявые ноги в белых, грязных шерстяных чулках», с. 269). Сторонний взгляд на происходящее указывает на объективность этого кошмара (единственное место в повести, где первое лицо сменяется третьим). Герой не знает, что его коллега уже стал «живым мертвецом» – но зато это известно автору, а теперь и читателю. 198 тревогу. Например, в «Охотниках» так и не сказано, что именно Окнов сотворил с Козловым: «Окнов: Нет, пустите!.. Пустите!.. Пусти... – Вот что я хотел сделать! Стрючков и Мотыльков: Какой ужас! Окнов: Ха-ха-ха!» (с. 358). В «Начале очень хорошего летнего дня» можно только догадываться, что такое «тепель-тапель» («Комаров сделал этой бабе тепель-тапель»). Про «тепель-тапель» читателю известно лишь, что от этого «с воем убегают в подворотню» (с. 365). В рассказе «Федя Давидович» вокруг «хозяина комнаты» витает ужас, и поддерживается он в том числе с помощью той самой неопределенности: «На стене слева висела двойная полка, на которой лежало неопределенно что» (с. 362). 6) Эвфемистичность Излишней натуралистичности у Хармса практически нет (относительное исключение составляет «Реабилитация»). Напротив, последний у него сохранившийся можно найти рассказ – многочисленные эвфемизмы: «…лезет рукой за своим инструментом и вдруг оказывается, не может его найти» («Обезоруженный или Неудавшаяся любовь» – само название сценки – изящный эвфемизм; с. 102); «Тут в уборную вошёл Андрей Карлович и, не замечая Николая Николаевича, хотел сделать то, зачем он вошёл» («В семь часов Николай Николаевич встал…», с. 200); «Только собака подошла к Колкову, понюхала его и, подняв задняю лапу, прыснула Колкову в лицо собачей гадостью» («У Колкова заболела рука…», с. 222); «Золотогромов сознался, что девица сильно на него действует» («Но художник усадил натурщицу…», с. 147), «Во Владивостоке Федька стал портным; собственно говоря, он стал не совсем портным, потому что шил только дамское белье, преимущественно, панталоны и бюстхальтеры. Дамы не стеснялись Федьки, прямо при нём поднимали свои юбки, и Федька снимал с них мерку. Федька, что называется, насмотрелся видов» («Грязная личность», с. 190); «Ева: Ой посмотри, как смешно фазан на фазаниху верхом сел! М. Л.: Вот это и есть то самое. Ева: Что то самое? М. Л.: Любовь» («Грехопадение…», с. 96); «Тут у старичка из прорешки выскочил 199 длинненкий прутик и на самом конце этого прутика сидела тоненькая птичка» («Смерть старичка», с. 70) и т. д. Таким образом, несмотря на мерзость «мира», изменить собственному аристократизму, собственным представлениям о гармонии («трагической гармони» – термин Жаккара) для Хармса немыслимо (см. также об этом в следующем пункте). 7) Обращение к классическим жанрам У Хармса есть произведения, названия которых отсылают к поэтическим и музыкальным формам: «Сонет», «Начало очень хорошего летнего дня. Симфония», «Синфония № 2», «Пассакалия № 1». На первый взгляд, хармсовский «Сонет» к классическому жанру никакого отношения не имеет. Однако можно показать, что это не совсем так, и «Сонет» – в некотором роде действительно сонет148. В «Начале очень хорошего летнего дня» также можно выделить четыре части классической симфонии149, это же касается и «Синфонии № 2» (где, кстати, четыре абзаца). В «Пассакалии № 1» в качестве basso ostinato (неизменной басовой темы, многократно повторяющейся на протяжении произведения) звучит тема чуда. Кроме того, это действительно отчетливо музыкальный рассказ («Тихая вода покачивалась у моих ног. Я смотрел в темную воду и видел небо…» и т. д., с. 187)150. Символично, что эффект от безупречной поэтической формы сонета практически полностью нивелируется «прозаической» речью. Аналогичное происходит и с «симфониями». Внешне все плохо: «мир» по-прежнему уродлив, люди – «мерзки». Изменить это Хармс не в силах, но сообщить гармонию (пускай и тщательно скрытую) собственным произведениям – он может. Тем самым «низкому» противопоставив «высокое», а именно творчество. 148 См. обоснование А. А. Добрицына (53). См. статью Л. Л. Гервер (34). 150 См. ту же статью Л. Л. Гервер. 149 200 8) Квазиавтобиографичность Подробно этот прием рассматривался при анализе произведений группы «Я». Здесь же отметим важность следующего фрагмента из «Поздравительного шествия»: «Артомонов, сидя на полу, повернул ко мне своё глупое лицо…». Это действие персонаж совершил в ответ на реплику автора: «– Стоп! <…> Прекратите это безобразие! Сегодня Наталии Ивановне исполнилось семьдесят лет» (с. 212). О глупости персонажа говорит сам автор, который в данном случае практически тождественен Хармсу! То есть это хармсовская характеристика. Отметим также и «глупую рожу Матвея Соломанского» (из «Такие же длинные усы…», с. 188). Получается, что Хармс впрямую говорит, каковы его персонажи (и сам делает акцент на глупости). На эти произведения можно обратить особое внимание с точки зрения того, какие типичные характеристики выделил у своих персонажей сам Хармс: «Артомонов закрыл глаза, а Хрычов и Молотков стояли над Артомоновым и ждали. – Ну же! Ну же! – торопил Хрычов. А Молотков не утерпел и дёрнул стул, на котором сидел Артомонов, за задние ножки, и Артомонов свалился на пол» и т. д. (с. 211). В «Новом талантливом писателе», напомним, Хармс иронически описывает себя и попутно дает краткую и емкую зарисовку придуманного им «мира»: «Выходит, значит, что курица на башне шумит, принц, значит, матерно ругается, жена внизу на полу лежит, одним словом настоящий содом» (с. 217). Нельзя сказать, что «человеческая» (в традиционном смысле слова) интонация так же выделяет Хармса среди других писателей, как интонация «мудрого старика». По сути, она вполне обыкновенна – и, казалось бы, специально о ней не стоит упоминать; но если касаться исключительно хармсовских произведений, то в них «человеческая» интонация (что для других авторов норма) настолько выделена, что, на наш взгляд, ее стоит отметить отдельно. Приведем несколько примеров, как-то: «Звонил Володя. Татьяна Александровна сказала про меня, что она не может понять, что во мне от 201 Бога и что от дурака» («Утро», с. 44); «Я носил их шестнадцать лет. Вы понимаете, что это значит? Разбить часы, которые шестнадцать лет тикали у меня вот тут под сердцем? У вас есть часы?» («– Видите ли, – сказал он…», с. 135); «И вот теперь, когда мне дали пощёчину через окно, я ощутил знакомое мне чувство. Это было то же чувство, какое я испытал, когда вернул прекрасной даме её роскошную тетрадь» («Тетрадь», с. 215). В подобных рассказах появляется интонация самоиронии (что невозможно в прочих рассказах Хармса): «Вот какой рассказ выдумал Андрей Андреевич. Уже по этому рассказу можно судить, что Андрей Андреевич крупный талант. Андрей Андреевич очень умный человек, очень умный и очень хороший!» («Новый талантливый писатель», с. 217); см. также «Все люди любят деньги…». Иногда это самоирония, граничащая с жалостью к себе, – см., например, «– Видите ли, – сказал он…», «В одном большом городе…»; подобное сочетание можно отметить в рассказе «Гиммелькумов смотрел на девушку…». В том случае, когда перед нами рассказчик типа «Я» (и только тогда!), в повествовании может проявиться даже сочувствие (способны к сочувствию «милая дамочка» в «Старухе», сослуживцы Ивана Яковлевича из рассказа «Иван Яковлевич Бобов проснулся…» и т. д.). Интонация рассказчика типа «Я» примыкает к хармсовской интонации дневниковых записей, сливается с ней. Все это органично дополняет хармсовский образ, зафиксированный в воспоминаниях о нем. Эту интонацию характеризует ряд отличительных черт: интеллигентность, интеллектуальность, склонность к рефлексии, граничащая с болезненным самоанализом, деликатность, переходящая в ранимость, требовательность к себе, граничащая с самоуничижением, невероятно внимательное отношение к искусству, безупречный вкус, религиозность, юмор. Итак, мы выделили восемь характерных для Хармса приемов: монохромность описания, дискредитация «иного», «выразительность финала», дискредитация персонажа, недосказанность, эвфемистичность, обращение к классическим жанрам, 202 квазиавтобиографичность. И проследили, как использование этих приемов конструирует специфически хармсовский текст. § 3. Возможный инструментарий для различения художественного и биографического в записях Д. Хармса При изучении хармсовских текстов возникают некоторые специфические проблемы. Дело в том, что ни один текст «взрослой» прозы писателя не был опубликован151. Кроме того, глядя на конкретный хармсовский текст, бывает не так просто определить, что именно перед нами: дневниковая запись, заготовка, «взрослый» рассказ, «детский» рассказ. Как его воспринимать: как серьезное высказывание или издевательство, научный трактат или же его травестирование? При помощи выделенных в этой главе мотивов и приемов мы можем попытаться сформировать некий «инструментарий» для различения хармсовских записей и текстов. Например, если мы находим типичный хармсовский мотив или прием, то можем с некоторой уверенностью отнести данный фрагмент (или текст) к художественному. Рассмотрим данное утверждение на конкретных примерах. Запись из дневников: «Четыре дворника танцуют венгерку» (2;80). Неподготовленный читатель может подумать, что Хармс увидел четырех дворников, танцующих венгерку, и решил это записать. Однако нам известно, что «дворник» (или «сторож») – один из ключевых типов хармсовких персонажей, отвечающий за мотив «мерзости мира». Кроме того, в приведенной строке также вычленяется мотив безумия («мета безумия»). Поэтому мы склонны идентифицировать эту запись как «заготовку» к рассказу. Другая запись из дневников: «Один человек с малых лет до глубокой старости спал всегда на спине со скрещенными руками. В конце концов он и 151 То же относится к большинству его стихов (стихотворений, которые можно идентифицировать как «не-детские», было опубликовано всего два, и то лишь в середине 1920-х). 203 умер. Посему спи на боку» (Дн.;1;177). Без сомнения, это не своеобразные рассуждения автора дневника о жизни. Это – хармсовская миниатюра. Рассказчик здесь глуп (притом соответствует типу «мудрый старик»), он не может отделить «главное от второстепенного», последнее предложение представляет собой классическую реплику «резонера». Все это указывает на ничтожность персонажа (в данном случае – рассказчика). Интересно, что данная запись сделана в конце 1920-х годов, то есть в момент, когда этот мотив еще не сформировался; таким образом, перед нами предвосхищение того направления, в которое повернет хармсовское творчество в дальнейшем152. Со следующими записями ситуация другая. Никаких мотивов и приемов мы в них не находим и уже по одному этому признаку можем предположить, что они действительно являются дневниковыми: «Величина творца определяется не качеством его творений, а либо количеством (вещей, силы или различных элементов), либо чистотой. Достоевский, огромным количеством наблюдений, положений, нервной силы и чувств, достиг известной чистоты. А этим достиг и величины»153 (Дн.;1;447); «Надо сочинить закон или таблицу, по которой числа росли бы необъяснимыми непериодическими интервалами»154 (Дн.;1;459); «Надо ввести в русский язык опять усечённые прилагательные»155 (Дн.;1;464). Предложенную нами условную типологию рассказчиков (тип «Я» и тип «мудрого старика») можно использовать и для разделения «дневниковых 152 Сравним с миниатюрой «– Я не советую есть тебе много перца…» (1938). В ней персонаж не советует есть много перца, поскольку «один грек», который так делал, «целые ночи просиживал с туфлёй в руках» и «в конце концов, умер от бессоницы» (с. 207). Только сидел он с туфлей не потому, что ел много перца, а потому, что боялся крыс, которые были повсюду, чего персонаж-резонер не понял. Параллели очевидны. 153 Стоит заметить, что в данном случае перед нами не игровая или эпатажная, но подлинная оригинальная, глубокая мысль, действительно отражающая воззрение Хармса (где размышления о «чистоте» действительно занимали очень значительное место). 154 И это тоже Хармс пишет от своего имени. Ознакомившиеся с хармсовскими тетрадями знают, что Хармса время от времени интересовали некоторые вопросы, связанные с числами (правда, скорее магическая и философская их составляющая, нежели математическая; хотя конкретно эта цель – «сочинить закон», при котором «числа растут необъяснимыми интервалами», представляет и чисто математический интерес), у него действительно есть таблицы с довольно большими последовательностями чисел (см., например: Дн.;1;454–459, Дн.;2;18,177). О числах у Хармса см. также (56, 120). 155 Хармса как поэта и писателя вполне могло это интересовать. 204 записей» на те, в которых говорит собственно Хармс, – и на прочие. Например: «К искусству одеваться. Покрой одежды, как у мужчины, так и у женщины, должен быть всегда прост. Каждый лишний кусочек материи, служащий к украшению, должен быть строго продуман, и всё же лучше если его нет…» (Дн.;2;94). Далее повествование продолжается в том же духе. «Мудрый старик» нигде не проявится – следовательно, есть основание предполагать, что в этой записи Хармс совершенно серьезен. Чуть сложнее ситуация с записью «Наблюдаю в парикмахерской страшных баб. Рожи нелепые, кривляются, хихикают. Ужасные бабы!» (Дн.;2;201). На такую злость и отчасти лексику способен и «мудрый старик». Однако в целом это не его стиль, поскольку «мудрый старик» не обладает критичностью мышления (ввиду крайней умственной ограниченности). С другой стороны, эта запись гипотетически могла бы быть использована для рассказчика типа «Я» (например, стать репликой героя «Старухи»), однако вряд ли это «заготовка». Вполне верится в то, что Хармс действительно встретил этих «баб». По той же причине, видимо, серьезны и записи «Слушаю <…> Шехерезаду с Коутсом. Какая отвратительная вещь…» (Дн.;2;115), «Слушаю Шаляпина. Поёт Соловья Чайковского. Плохо поёт и вещь плохая. Но вещь подходит к певцу» (Дн.;1;94), а также статья «Концерт Эмиля Гиллельса в Клубе Писателей 19-го февраля 1939 года». Видимо, следует видеть в хармсовских комментариях о музыке «индивидуальное музыковедение», пусть и дилетантское, но оттого не менее яркое и оригинальное, а не издевательство над чем бы то ни было. Случай со следующей рассматриваемой нами записью: «Надо бросить курить, чтобы хвастаться своей силой воли…» – иной. Можно неосмотрительно приписать эту реплику самому Хармсу, тем более что на такую трактовку наивного читателя могут спровоцировать некоторые биографические подробности: «Приятно не покурив неделю и уверившись в себе, что сумеешь воздержаться от курения, притти в общество Липавского, 205 Олейникова и Заболоцкого, чтобы они сами обратили внимание на то, что ты целый вечер не куришь. И на вопрос их: почему ты не куришь? ответить, скрывая в себе страшное хваставство: я бросил курить! Великий человек не должен курить» (Дн.;2;60). Однако это не просто ироническое описание или хармсовская фантазия на тему «бросания курить»: поскольку перед нами «мудрый старик», мы имеем дело с вариацией темы «Однажды я пришел в Госиздат…» (также ср. с миниатюрой «Один толстый человек придумал способ похудеть…») – следовательно, именно в этом ключе следует понимать данную запись. Ср. с записью «Даю <…> малый обет: не курить до завтрашнего дня» (Дн.;2;37): «мудрый старик» не проявляется, поэтому есть основания идентифицировать эту запись как дневниковую. В то же время нельзя отрицать, что многие высказывания «мудрого старика» все же имеют некоторое отношение к воззрениям и предпочтениям самого Хармса (например, склонность к «полным женщинам»). Тут необходима особенная осторожность. Не следует путать исходный импульс, материал и конечное воплощение; это, разумеется, совершенно разные вещи. Однако нельзя не отметить, что порой «мудрый старик» очень тесно переплетается с рассказчиком типа «Я» (и, как следствие, с самим Хармсом). Например: «Я знаю много мужчин, которые предпочитают девокдемократок. Извините меня, но я их не люблю. А если бы я и любил их, то всё равно у меня с ними ничего бы не вышло. Я заметил как они всегда бегут от меня». Это не «мудрый старик». Собственной глупости говорящий не обнаруживает. Кроме того, тут есть отголосок ощущения собственной неудачливости, что является одной из самых главных примет рассказчика типа «Я». Далее: «Они всегда глупы, тупы, торопливы, застенчивы, где этого не нужно, циничны, мстительны и обидчивы. Умная девка-демократка, всегда в высшей степени вульгарна и нагла. Беги беги от девок-демократок!» (Дн.;1;461). Ясно, что это продолжает рассуждать Хармс. Но интересно, что последнее предложение по форме – реплика «резонера». Другая запись: «Ищу одинокую в своей прогулке, интеллигентную, молодую, здоровую, 206 свежую, красивую, милую и роскошную девушку» – это Хармс; «Я ищу такую же как я сам» (Дн.;1;462) – а вот это уже – «мудрый старик» («однажды пришедший в Госиздат»)… Как видно, переход от «Я» к «мудрому старику» может быть максимально коротким, причем это свойственно именно дневникам. В хармсовской прозе мы такого почти не наблюдаем, хотя есть и важные исключения. Так, в рассказе «У дурака из воротника его рубашки торчала шея…» рассказчик, близкий Хармсу, примеряет стилистику «мудрого старика»: «Дурак много о чём-то говорил. Его никто не слушал. Все думали: когда он замолчит и уйдёт? Но дурак, ничего не замечая, продолжал говорить и хохотать <…> Так бывает в жизни: Дурак дураком, а ещё чего-то хочет выразить. По морде таких. Да, по морде! Куда бы я не посмотрел, всюду эта дурацкая рожа орестанта. Хорошо-бы сапогом по этой морде» (с. 89). Аналогичную ситуацию обнаруживаем в рассказе «Когда я вижу человека, мне хочется ударить…»: «…Дескать, нечего шляться, когда не звали! А то еще так: я предлогаю гостю выпить чашечку чая. Гость соглашается, садится к столу, пьет чай и что то рассказывает. Я делаю вид, что слушаю его с большим интересом, киваю головой, ахаю, делаю удивленные глаза и смеюсь. Гость, польщенный моим вниманием, расходится всё больше и больше. Я спокойно наливаю полную чашку кипятка и плещу кипятком гостю в морду. Гость вскакивает и хватается за лицо. А я ему говорю: “Больше нет в душе моей добродетели. Убирайтесь вон!” И я выталкиваю гостя» (с. 256–257). Та близость, которая время от времени проступает между «Я» и «мудрым стариком», отсылает нас к неоднократно упоминаемому приему монохромности описания, подчеркивающему, что «мир» тотален и подчиняет себе даже рассказчика (или героя) типа «Я». Из «мира» не выделен никто: ни Пушкин, ни Гоголь, ни «чинари», ни, соответственно, сам Хармс. В этом мы усматриваем горькую самоиронию и – более того – автокомпрометацию, что можно трактовать как неявное, опосредованное 207 раскаяние (признаки же раскаяния явного можно в изобилии найти в тех же «записных книжках»). По сути, Хармс преднамеренно сращивал между собою тип «Я» и тип «мудрого старика», что обуславливает некоторые интерпретаторские и идентификационные трудности (поскольку требуется отделить самого Хармса от его «мира» и его персонажей). Однако эти трудности не отменяют того, что нельзя создавать хармсовский образ, не разделяя (принципиально!) различные дневниковые записи. В противном случае образ получится абсолютно превратным, поскольку к чертам и мыслям самого Хармса станет примешиваться выдуманный им «мудрый старик». Конечно, и неподготовленный читатель может уловить иронию в моменты, когда появляется этот «сторонний» рассказчик; но дело в том, что к «мудрому старику» следует относиться не с иронией, а совсем по-другому. Во-первых, следует понимать, что это литературный персонаж, своего рода «носитель приема», во-вторых – чувствовать, что к этому жуткому образу ирония подчас неприложима. Применим наш «инструментарий» к еще нескольким сложным для идентификации записям. «Искушение – величайшее благо человека. Не для того нужно искушение чтобы воздержанный человек развивал в себе волю, а воля человека для того, чтобы человек боролся с искушением. Борясь с искушением, человек идёт вперёд» (Дн.;1;243). Хармсовских мотивов и приемов мы не обнаруживаем, по-видимому, это серьезная запись. По той же причине нам кажутся совершенно серьезными, например, записи «О пошлятине», «О колекционерстве» (Дн.;2;151–152), «О СМЕХЕ», «О Производительности» (Дн.;2;179) – никакой глупости там нет. А также: «Вот рядом, на соседней скамейке сидит дура в коверкоте и читает “Историю литературы” демонстративно подчеркивая на страницах карандашом. Дура!» (Дн.;2;187); «Когда человек говорит: “мне скучно”, – в этом всегда скрывается половой вопрос» (Дн.;2;128). 208 Другая ситуация с записью «В грязном падении человеку остается только одно, не оглядываясь падать». Такое высказывание вполне могло бы принадлежать самому Хармсу. Однако дальнейшее меняет картину: «Важно только делать это с интересом и энергично. Я знал одного сторожа, который интересовался только пороками. Потом интерес его съузился, он стал интересоваться одним только пороком <…> в этом пороке он открыл свою специальность <…> Этот сторож стал гением» (Дн.;2;189–190). Появление художественного персонажа (сторожа) и рассказчика типа «мудрый старик» указывает, что и первую часть записи не следует считать дневниковой. Нет уверенности, как трактовать запись «Н. М. Олейников не умён». У Хармса с Олейниковым были сложные отношения, он вполне мог думать о нем не самым лучшим образом. Однако подозрительно, чтобы Хармс отказывал Олейникову в уме. И действительно, далее следует: «видать, что не умён». И далее: «сразу скажу, что не умён» (Дн.;2;69). Троекратное повторение заставляет заподозрить, что перед нами – «мудрый старик». Поэтому у нас есть основания и к этой записи относиться соответственно, ни в коем случае не принимая ее «за чистую монету»156. В серьезности же записи «Противно зависить от настроения зазнавшегося хама (олейникова)» (Дн.;2;122) сомневаться не приходится. На наш взгляд, «инструментарий» хорошо помогает в понимании записи «Смотрел картину “Частная жизнь Петра Виноградова”. Сначала ругался, говоря что это пошлятина. Но потом даже понравилось. Я люблю сюжет на тему: Человек напряжённым трудом добивается больших дел» (Дн.;2;184– 185). Есть соблазн воспринять эту запись как дневниковую, однако последнее предложение – отчетливая реплика «резонера»: и по форме, и по 156 Однако полной уверенности тут быть не может, слишком уж тесно Хармс иногда переплетал «Я» и «мудрого старика»: «Я не люблю сольную скрипку. Я люблю рояль. Ещё раз говорю я, я не люблю сольную скрипку, я люблю рояль. И ещё раз повторяю тоже самое» (Дн.;2;85). Конечно, по форме это «резонер». Однако он, по-видимому, действительно транслирует воззрения Хармса (ср. с, на наш взгляд, совершенно серьезной записью: «Я понял хорошо: я не люблю скрипку. Из сольных инструментов мне ближе всего рояль и орган. Рояль ближе. Но ближе всего – хор» – Дн.;2;80). 209 содержанию. Серьезным это высказывание быть практически не может (знакомство с данным фильмом только подтверждает этот вывод). Из вышесказанного следует, что необходимо совершенно по-разному относиться к текстам из «Голубой тетради». Так, номер 23 «Обладать только умом и талантом слишком мало. Надо иметь ещё энергию, реальный интерес, чистоту мысли и чувство долга» (с. 331) – отчетливо серьезное хармсовское высказывание. Которое следует отличать от, например, номера 9: «Всякая мудрость хороша, если её кто ни будь понял. Не понятая мудрость может запылиться» (с. 326). Здесь ощущается «резонерство» и рассказчик близок к типу «мудрый старик», поскольку не умен. Сформированный нами на основе хармсовских текстов «инструментарий» применим и к письмам писателя157. Так, в письме к А. Введенскому (<Ленинград. 1936–1940 г.>) «Дорогой Александр Иванович, я слышал, что ты копишь деньги…» встречается классический хармсовский прием дискредитация персонажа (в данном случае – это постепенная дискредитация автора письма). Все начинается с внешне разумного посыла: «Зачем копить деньги? Почему не поделиться тем, что ты имеешь, с теми, которые не имеют даже совершенно лишней пары брюк?» Далее начинают проявляться сомнительные моменты: «Ведь, что такое деньги? Я изучал этот вопрос». Как именно «изучался этот вопрос»? «У меня есть фотографии самых ходовых денежных знаков: в рубль, в три, в четыре и даже в пять рублей достоинством. Я слышал о денежных знаках, которые содержут в себе разом до 30-ти рублей!» Слово берет уже знакомый нам – своей глупостью – рассказчик (начинает звучать мотив ничтожности персонажа). И далее – вновь знакомое: «Я знаю, например, что так называемые “нумизматы”, это те, которые копят деньги, имеют суеверный обычай класть их, как бы ты думал куда? Не в стол, не в шкатулку а… на книжки!» То есть рассказчик (условно назовем так автора письма) вновь демонстрирует 157 «Едва ли не каждое письмо Хармса оказывалось очередным художественным произведением…»; «В этом жанре Хармсу, кажется, трудно найти подобие» (122;113). 210 непонимание происходящего. Он также не понимает смысл «сложного» слова (нумизматы). «Нет, Александр Иванович, ты почти такой же нетупой человек как и я <…> Посылаю тебе свой портрет, что бы ты мог хотя бы видеть перед собой умное, развитое, интеллегентное и прекрасное лицо» (4;51). Это уже практически в точности «пришедший в Госиздат» «мудрый старик»158. Попробуем применить наш «инструментарий» к письму к «Доктору» (<Ленинград. 1933–1934 г.>), чтобы разобраться, насколько серьезно следует к нему относиться. «Дорогой Доктор, я был очень, очень рад, получив Ваше письмо. Те несколько бесед, очень отрывочных и потому неверных, которые были у нас с Вами, я помню очень хорошо и это единственное приятное воспоминание из Курска». Это, несомненно, «Я» и соответствующая интонация. Завершается же письмо пассажем: «Русский дух поёт на клиросе хором, или гнусавый дъячок – русский дух. Это, всегда, или Божественно, или смешно. А германский Geist – орга́н. Вы можите сказать о природе: “Я люблю природу. Вот этот кедр, он так красив. Под этим деревом может стоять рыцарь, а по этой горе может гулять монах”. Такие ощущения закрыты для меня. Для меня что стол, что шкап, что дом, что луг, что роща, что бабочка, что кузнечик, – всё едино» (4;91). Видимо, к этому пассажу следует относиться серьезно (несмотря на, казалось бы, внешнюю ироничность), поскольку здесь нет дискредитирующих элементов, нет «мудрого старика». В письмах Хармса как нигде наблюдается теснейшее переплетение типов «Я» и «мудрого старика». Характерными примерами являются знаменитые письма к К. В. Пугачевой (4;73–86). При чтении хармсовских писем, как и при чтении «дневников», необходимо максимально внимательно и критично относиться к прочитываемому. Как минимум следует помнить про разделение типов «Я» – 158 У Хармса даже есть отдельный рассказ, который почти в точности повторяет стилистику и фабулу этого письма: «Все люди любят деньги. И гладят их…». 211 «мудрый старик», чтобы потом, делая какие бы то ни было выводы по поводу Хармса и формулируя собственное отношение к писателю, не совмещать изначально несовместимое. 212 Заключение Итак, согласно проведенным исследованиям и сделанным наблюдениям, практически в каждом хармсовском произведении зрелого периода вычленяется некая смысловая доминанта. При этом собственно произведений насчитывается намного больше, чем различных доминант. Это располагает к их условному разделению на группы. Всего мы сочли возможным выделить одиннадцать основных групп. 1) К группе «Водевили» отнесены произведения, построенные по следующей схеме: в повествовании вычленяется канон, впоследствии подвергающийся нарушению, «сдвигу», что приводит к дискредитации первого. Дискредитируются классические каноны: театральные, оперные, балетные и др. С помощью главного приема «водевилей» – «сдвига» в каноне – Хармс подчеркивает характеристики своего «мира» (в первую очередь фальшь, а кроме того пустоту, низость, безумие, опасность). Сам по себе канон являет образ общеизвестного и предсказуемого. Однако все разрушается из-за того, что в декорациях априори разумного канона действуют безумцы. Именно отсутствие у персонажей разума и разрушает канон, делая, тем самым, лживым любой «порядок». Таким образом, «Водевили» говорят, что все схемы лживы. 2) К группе «Мудрый старик» отнесены произведения, в центре которых стоит характерный персонаж, условно названный нами мудрым стариком. К таковым мы причисляем героев-рассказчиков, которым свойственны следующие черты: мнимое чувство собственного достоинства, самовосхваление, невероятная глупость, ничтожность, трусость, жестокость по отношению к тем немногим, кто слабее их (женщины, дети, животные). «Мудрые старики» – это типичные обитатели жуткого хармсовского «мира». В лучшем случае «мудрые старики» просто ничтожны, в худшем – порочны и жестоки. Традиционный мудрый старик – это сплав опыта и мудрости, в этом его сила. В «мире» же разрушается устоявшееся представление об этих качествах: хармсовский «мудрый старик», напротив, 213 невероятно труслив и глуп. Жалкий и трусливый «мудрый старик» – это воплощенный оксюморон. Дискредитируются жизненный опыт и накопленная «мудрость человечества» как таковая (которой в «мире» Хармса, оказывается, просто нет). От «мира» не спасает опыт. 3) К группе «Потери» отнесены произведения, построенные по следующей схеме: персонаж начинает терять предметы или испытывать некий ущерб (что также можно условно обозначить как потерю), «потери» следуют одна за другой. Эти «потери» могут принимать разнообразные формы, такие как утрата предметов, причинение ущерба телу, потеря памяти, потеря ориентации в пространстве, потеря возможности уснуть в сочетании с потерей бодрости, потеря рассказчиком повествования. У большинства персонажей произведений группы «Потери» отсутствует личность. Поэтому потеря предметов для них равносильна полному распаду, физической смерти. Абсурд в этом случае заключается не в обилии или характере неприятностей, а в неадекватности их последствий. В фатальности и неостановимости «потерь» видится указание на то, что обитатель «мира» не более чем совокупность предметов его земного бытия. А бытовое может быть лишь шаткой и временной «подпоркой», устраняемой «потерями». Все это в конечном итоге указывает на отсутствие смысла бытия описываемых персонажей. От «мира» не спасает житейское. 4) К группе «Порок» отнесены произведения, внимание в которых сосредоточено на порочности персонажей. «Порок» у Хармса имеет два истока, две смысловых доминанты, – пол и власть. В «мире» царит порок. Грех в нем неотвратимо тотален и обыден. Описывая категории «порока», Хармс делает акцент либо на половой аспект (порочное вожделение, пол), либо на изощренный садизм (в данном случае условно названный нами власть). Порок благополучно сосуществует с 214 представлением о традиционных ценностях, к которым порочные персонажи регулярно апеллируют. От «мира» не спасают ценности. 5) К группе соответственно, «Насилие» доминируют отнесены сцены произведения, насилия («истории в которых, дерущихся», издевательство садистов, членовредительство). Невероятная концентрация и неизбежность насилия обнаруживают априорную испорченность обитателей «мира». Особенностью насилия в «мире» является почти обязательно сопутствующий ему цинизм. Именно это в конечном итоге указывает на «неслучайность» насилия, на укорененность в нем хармсовских персонажей, на его обусловленность сутью человеческой природы. Именно насилие вносит основной вклад в создание картины мира как «мира адского». В «мире» Хармса за нарушением табу – вопреки положенному – не следует ни раскаяния, ни наказания. Драка в «мире» – это обыденное событие. Для «мира» это норма. От «мира» не спасает табу. 6) К группе «Иное» отнесены произведения, в которых представлена как будто бы иная реальность. Ее проявлениями могут выступать иные действующие лица (например, знаменитые писатели), иное место действия (например, Америка и даже рай) или иная историческая эпоха (например, эпоха легендарного сусанинского подвига). В хармсовском «мире» нет ни гениев, ни подвигов, ни каких-либо отвлеченных рассуждений или форм речи. Возвышенного в «мире» никогда не было. Более того, возвышенность и пафос принципиально неуместны и лживы, ибо человек плох всегда. Под личиной всякого нового окажется старое – мерзкое, как и все земное. Мерзость человека – причина всех «мерзостей мира». Поэтому даже в произведениях, где номинально должно быть представлено иное – по факту представлен типичный хармсовский «мир». От «мира» не спасает иное. 215 7) К группе «Философское» отнесены произведения, в которых есть явная отсылка к философским теориям (преимущественно Канта). Хармс дискредитирует саму манеру философствования. «Философское» в его прозе – еще одна форма дискредитации «иного», то есть очередная хармсовская манифестация невозможности возвышенного. От «мира» не спасает познание. 8) К группе «Сокрытое» отнесены произведения, в центре которых находится нечто тайное, потустороннее. «Сокрытое» «мир» не улучшает (и вообще вовсе не обязательно является благом). Реакции персонажей на явление «сокрытого» в очередной раз подтверждают их глупость. Персонажи могут увидеть «сокрытое», но в подавляющем большинстве случаев не способны хоть сколько-нибудь адекватно его оценить: к «сокрытому» они остаются безнадежно невосприимчивы. От «мира» не спасает сокрытое. 9) К группе «Картина мира» мы относим произведения, где происходящие в них частности обобщаются до образа «мира» в целом. Это миниатюры, где резкий сюжетный или тематический акцент отсутствует. Таким образом, эти миниатюры охватывают «мир» целиком, создавая его целостный образ. «Мир» этот пуст, безумен, низок, фальшив, мрачен, враждебен и опасен. Картина мира монолитна в своей катастрофичности. 10) К группе «Чинари» мы относим произведения, в которых Хармс в художественной форме изобразил «чинарей», а также произведения, построенные на «чинарских» идеях. «Чинарство» как система, способная хоть как-то возвысить, – дискредитировано. Часто облик «чинаря» совмещается с образом «мудрого старика». «Чинарь» – такой же обитатель «мира», «чинарство» – лишь маска, скрывающая привычный порок. От «мира» не спасает «чинарство». 216 11) К группе «Я» мы относим произведения, в которых в той или иной форме присутствует сам Хармс. Это может быть художественное изображение Хармсом самого себя или наличие особой лирической интонации, которая явно диссонирует с остальным «миром». В то же время «Я» оказывается частью этого жуткого «мира», от которого ничего хорошего ожидать нельзя. Группа «Я» дискредитирует самое главное – «хорошего человека». Ведь и этот человек – часть земного. Человек – падший и слабый. От «мира» не спастись собственными силами. Таким образом, проинтерпретировав хармсовскую картину мира и выявив ее смысловые доминанты, мы выяснили, что основной акцент сделан на ее беспросветность, монолитность и свойственное этому «миру» состояние дурной бесконечности. Анализ повести «Старуха» с финальной молитвой героя (противопоставленной отвлеченным разговорам о Боге в середине повести) показывает, что – по Хармсу – не только спастись, но и жить можно единственным способом: с помощью Бога. Композиция «Случаев», в которой выделяются вложенные друг в друга парные тексты, позволяет увидеть смысловую доминанту в середине сборника – в рассказе «Молодой человек, удививший сторожа». Спастись от беспросветного «мира» можно только «пройдя на небо». Последняя фраза повести «Старуха» позволяет сделать вывод о произошедшем материальном чуде – чудесном возникновении текста. В «Старухе» смыкается духовное («должно измениться что-то во мне») и материальное чудо («нарушение физической структуры мира»): герой молится – и возникает текст повести. Таким образом, чудо соединяется со спасением. Чудо – не принадлежит «миру», оно сильнее его («Старуха», «Молодой человек, удивший сторожа»). Это выявляет ошибочность восходящего к Я. С. Друскину современного приписывания Хармсу понимания чуда как «нетворения чудес». 217 Обращение воспоминаниям к биографии современников писателя, дневниковым недвусмысленно записям, свидетельствует о религиозности Хармса, поэтому совершенно неудивителен наш вывод, что главный пафос хармсовской прозы – не познавательный, а религиозный. Выделение основных мотивов (обыденности насилия, обыденности порока, невоспринятых ценностей, ничтожности персонажа, «мерзости быта», безумия, «детоненавистничества», дискредитации «чинарства», садизма, потери, сна) и приемов (монохромности описания, псевдоиного, «выразительности финала», дискредитации персонажа, недосказанности, эвфемистичности, обращения к классическим жанрам, квазиавтобиографичности) помогает не только уточнить хармсовскую картину мира, но и создать достаточно эффективный «инструментарий», позволяющий различать спорные записи, интерпретация которых весьма затруднительна. Суть метода заключается в том, что в случае обнаружения вышеперечисленных мотивов и приемов, тот или иной текст следует отнести к литературным заготовкам или «взрослым» рассказам. В противном случае запись представляется возможным отнести к дневниковым. Таким образом, мы получаем возможность достаточно надежно разграничивать художественное и биографическое в отношении любых записей дошедшего до нас хармсовского наследия. 218 Список использованной литературы 1. Сборище друзей, оставленных судьбою / А. Введенский, Л. Липавский, Я. Друскин, Д. Хармс, Н. Олейников: «чинари» в текстах, документах и исследованиях; сост. В. Н. Сажин; в 2-х томах. Т. 1. – М. : Ладомир, 2000. – 846 с. 2. Хармс, Д. Горло бредит бритвою / Даниил Хармс // Глагол. – 1991. – № 4. – 240 с. 3. Хармс, Д. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3 : Тигр на улице / Д. Хармс. – СПб. : Азбука, 2000. – 384 с. 4. Хармс, Даниил. Неизданный Хармс. Полное собрание сочинений. Трактаты и статьи. Письма. Дополнения: не вошедшее в т. 1–3 / Даниил Хармс; сост., примеч. В. Н. Сажина. – СПб. : Академический проект, 2001. – 320 с. 5. Хармс, Д. Цирк Шардам: собрание художественных произведений / Д. Хармс. – СПб. : ООО «Издательство “Кристалл”», 2001. – 1120 с. 6. Хармс, Даниил. Записные книжки. Дневник: В 2 кн. / Даниил Хармс; подг. текста Ж.-Ф. Жаккара и В. Н. Сажина, вступ. статья, примеч. В. Н. Сажина. – СПб. : Академический проект, 2002. – 2 т. 7. Хармс, Д. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 2 / Даниил Хармс. – М. : АСТ: Зебра Е, 2010. – 624 с. 8. Хармс, Д. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2 : Новая анатомия / Д. Хармс. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 448 с. 9. Абсурд и вокруг: Сборник статей / Отв. ред. О. Буренина. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 448 с. 10.Александров, А. Эврика обэриутов / А. Александров // Ванна Архимеда: Сборник. – Л. : Художественная литература, 1991. – С. 3–34. 11.Александров, А. А. О первых литературных опытах Даниила Хармса / А. А. Александров // Русская литература. – 1992. – № 3. – С. 155–158. 219 12.Александров, А. А. Об изданиях Даниила Хармса / А. Александров // Вопросы литературы. – 1992. – № 1. – С. 349–355. 13.Александров, А. А. «Я гляжу внутрь себя…» О психологизме повести Даниила Хармса «Старуха» / А. А. Александров // Петербургский текст. Из истории русской литературы 20–30-х годов XX века. Межвузовский сборник. – СПб. – 1996. – С. 172–184. 14.Барковская, Н. В. «Сказочки» Ф. Сологуба и «Случаи» Д. Хармса [Электронный ресурс] / Н. В. Барковская. – Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/skazochki-sologuba-i-sluchai-harmsa.html. 15.Бахтин, М. М. К методологии гуманитарных наук / М. М. Бахтин // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М. : Искусство, 1979. – С. 361–373. 16.Бахтин, М. М. Собрание сочинений в 6 т. Т. 1 : Философская эстетика 1920-х годов / М. М. Бахтин. – М. : Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. – 958 с. 17.Богомолов, Н. А. Заметки о русском модернизме / Н. А. Богомолов // Новое литературное обозрение. – 1997. – № 24. – С. 246–255. 18.Богомолов, Н. Из маргиналий к записным книжкам Хармса / Николай Богомолов // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 5–17. 19.Бологов, П. Даниил Хармс. Опыт патографического анализа [Электронный ресурс] / П. Бологов. – Режим доступа: http://www.dharms.ru/library/daniil-harms-opyt-patograficheskogo-analiza.html. 20.Борисов, С. Б. Эстетика «черного юмора» в российской традиции / С. Б. Борисов // Из истории русской эстетической мысли. – СПб. : Образование, 1993. – C. 139–153. 21.Бочаров, С. «Форма плана» (некоторые вопросы поэтики Пушкина) / С. Бочаров // Вопросы литературы. – 1967. – № 12. – С. 115–136. 220 22.Боярский, Л. Сверхэстетика Д. Хармса / Лев Боярский // КОН: Культура, общество, наука. – Тюмень, 1992. – № 1. – C. 14–27. 23.Валиева, Ю. Даниил Хармс: вопросы прагматики / Юлия Валиева // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 18–26. 24.Вахрушев, В. Логика абсурда, или Абсурд логики / В. Вахрушев // Новый Мир. – 1992. – № 7. – С. 235–237. 25.Воронин, В. С. Взаимодействие фантазии и абсурда в русской литературе первой трети XX века: символисты, Д. Хармс, М. Горький / В. С. Воронин. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2003. – 294 с. 26.Воропаев, В. А. Над чем смеялся Гоголь. (О духовном смысле комедии «Ревизор») / В. А. Воропаев // Христианство и русская литература; Сборник третий; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН; отв. ред. В. А. Котельников. – СПб. : Наука, 1999. – С. 213–220. 27.Герасимова, А. Он так и остался ребенком. О творчестве Д. Хармса / А. Г. Герасимова // Детская литература. – 1988. – № 4. – С. 32–35. 28.Герасимова, А. ОБЭРИУ (Проблема смешного) / А. Герасимова // Вопросы литературы. – 1988. – № 4. – С. 48–79. 29.Герасимова, А. Г. Проблема смешного в творчестве обэриутов : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Герасимова Анна Георгиевна. – М., 1988. – 26 с. 30.Герасимова, А. Хармс и «Голем»: Quasi una fantasia / А. Герасимова, А. Никитаев // Театр. – 1991. – № 11. – С. 36–50. 31.Герасимова, А. Страшный писатель: о Д. И. Хармсе / А. Г. Герасимова // Учительская газета. – 1992. – 4 авг. – С. 23. 32.Герасимова, А. Даниил Хармс как сочинитель (Проблема чуда) / А. Герасимова // Новое литературное обозрение. – 1995. – №16. – С. 129–139. 221 33.Герасимова, А. Г. Как сделан «Врун» Хармса / А. Г. Герасимова // Седьмые тыняновские чтения. Вып. 9. – Рига; М., 1996. – С. 200–208. 34.Гервер, Л. Вариации, Пассакалия и Симфония в исполнении Даниила Хармса [Электронный ресурс] / Л. Гервер. – Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/variatsii-passakaliya-i-simfoniya-vispolnenii-daniila-harmsa.html. 35.Гирба, Ю. Чистые игры нищих: Непоследовательная хроника обэриутских спектаклей / Ю. Гирба // Театр. – 1991. – № 11. – С. 180– 191. 36.Гладких, Н. В. Границы смешного: (О юморе Д. Хармса) / Н. В. Гладких // Проблемы лит. жанров: материалы IX междунар. науч. конф. 8–10 дек. 1998; ч. 2. – Томск : Изд-во Томского гос. ун-та. – 1999. – С. 174–176. 37.Гладких, Н. В. Катарсис смеха и плача / Н. В. Гладких // Вестн. Томского гос. пед. ун-та. Сер. Гуманитарные науки (Филология); вып. 6 (15). – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та. – 1999. – С. 88–91. 38.Гладких Н. В. Эстетика и поэтика прозы Д. И. Хармса : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Гладких Николай Владимирович. – Томск, 2000. – 204 с. 39.Глоцер, В. И. Хармс собирает книгу / В. И. Глоцер // Русская литература. – 1989. –№ 1. – С. 206–212. 40.Глоцер, В. И. Об одной букве у Даниила Хармса / В. И. Глоцер // Русская литература. – 1993. – № 1. – С. 240–241. 41.Глоцер, В. Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс / Владимир Глоцер. – М. : Б.С.Г.-Пресс, 2000. – 196 с. 42.Глоцер, В. Вот какой Хармс! Взгляд современников / Владимир Глоцер // Новый Мир. – 2006. – № 2. – С. 117–144. 43.Горбушин, С. А. Кафка и Хармс. Попытка сопоставления / С. А. Горбушин // XV Пуришевские чтения: Всемирная литература в 222 контексте культуры: Сборник статей и материалов. – М. : МГОУ, 2003. – С. 68–69. 44.Горбушин, С. А. «Елка у Ивановых» А. Введенского и произведения Д. Хармса / С. А. Горбушин // XV Пуришевские чтения: Всемирная литература в контексте культуры: Сборник статей и материалов. – М. : МГОУ, 2003. – С. 69–70. 45.Горбушин, С. «Старуха» Д. Хармса в свете последней фразы / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы. – 2010. – № 6. – С. 429–438. 46.Горбушин, С. Сусанин и Пушкин Даниила Хармса / С. Горбушин, Е. Обухов // Вестник гуманитарного научного образования. – 2010. – № 2. – C. 40–44. 47.Горбушин, С. Функции «детоненавистничества» в произведениях Д. Хармса / C. Горбушин, Е. Обухов // Литературная учеба. – 2011. – № 4. – С. 258–270. 48.Горбушин, С. Иное в произведениях Даниила Хармса/ С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы. – 2012. – № 2. – С. 443–455. 49.Горбушин, С. О композиции «Случаев» Даниила Хармса / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы. – 2013. – № 1. – С. 425–434. 50.Горбушин, С. «Водевили» Даниила Хармса / С. Горбушин, Е. Обухов // Вопросы литературы. – 2014. – № 1. – С. 360–368. 51.Горбушин, С. «Ёлка у Ивановых» А. Введенского и Хармс [Электронный ресурс] / С. Горбушин, Е. Обухов. – Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/elka-u-ivanovyh-vvedenskogo-i-harmsa.html. 52.Джакуинта, Р. О маргинальности. «Скромное предложение» пространственного взгляда на поэтику Даниила Хармса / Розанна Джакуинта // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 39–48. 223 53.Добрицын, A. A. «Сонет» в прозе: случай Хармса / А. А. Добрицын // Philologica. – 1997. – Т. 4. – №8/10. – С. 161–168. 54.Добрицын, A. A. Две заметки о Хармсе / А. А. Добрицын // Philologica. – 1998. – Т. 5. – №11/13. – С. 177–187. 55.Друскин, Я. С. Чинари / Я. С. Друскин // Аврора. – 1989. – № 6. – С. 103–115. 56.Жаккар, Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. / Ж.-Ф. Жаккар; пер. с франц. Ф. А. Перовской; научн. ред. В. Н. Сажин. – СПб. : Академический проект, 1995. – 471 с. 57.Жаккар, Ж.-Ф. Возвышенное в творчестве Даниила Хармса / Жан-Филипп Жаккар // Литература как таковая. От Набокова к Пушкину. Избранные работы о русской словесности / М. : Новое литературное обозрение. – 2011. – С. 198–216. 58.Жаккар, Ж.-Ф. Даниил Хармс: поэт в двадцатые годы, прозаик – в тридцатые (Причины смены жанра) / Жан-Филипп Жаккар // Литература как таковая. От Набокова к Пушкину. Избранные работы о русской словесности / М. : Новое литературное обозрение. – 2011. – С. 169–183. 59.Жаккар, Ж.-Ф. Наказание без преступления (Хармс и Достоевский) / Жан-Филипп Жаккар // Литература как таковая. От Набокова к Пушкину. Избранные работы о русской словесности / М. : Новое литературное обозрение. – 2011. – С. 233–250. 60.Жаккар, Ж.-Ф. «Оптический обман» в русском авангарде (О «расширенном смотрении») / Жан-Филипп Жаккар // Литература как таковая. От Набокова к Пушкину. Избранные работы о русской словесности / М. : Новое литературное обозрение. – 2011. – С. 157–168. 61.Жаккар, Ж.-Ф. «Cisfinitum» и смерть: «каталепсия времени» как источник абсурда / Жан-Филипп Жаккар // Литература как таковая. От Набокова к Пушкину. Избранные работы о русской словесности / М. : Новое литературное обозрение. – 2011. – С. 217–232. 224 62.Захаров, Е. В. Малая проза Даниила Хармса: авторские стратегии и параметры изображенного мира : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Захаров Евгений Валерьевич. – Екатеринбург, 2007. – 204 с. 63.Злобина, А. Случай Хармса, или Оптический обман / Алена Злобина // Новый Мир. – 1999. – № 2. – С. 183–191. 64.Золотоносов, М. Шизограмма 𝜒𝜐, или теория психического экскремента / Михаил Золотоносов // Хармсиздат представляет. Авангардное поведение. – СПб. : М. К.-Хармсиздат совместно с издательством «Арсис», 1995. – С. 77–82. 65.Зубец, О. П. Жизнь в своем нелепом проявлении / О. П. Зубец // Философия возвращенной литературы: [сб. ст] / М. : ИФАН, 1990. – С. 34–57. 66.Ичин, К. «Логико-философский трактат» по Хармсу / Корнелия Ичин // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 91–100. 67.Казарина, Т. Даниил Хармс: перипетии борьбы с языком / Татьяна Казарина // Интерпретация и авангард: межвузовский сборник научных трудов / Под ред. канд. филол. наук И. Е. Лощилова / Новосибирск : Изд. НГПУ. – 2008. – С. 87–93. 68.Кант, И. Критика чистого разума [пер. с нем. Н. Лосского] / И. Кант. – М. : Мысль, 1994. – 591 с. 69.Кацис, Л. Ф. Пролегомены к теологии ОБЭРИУ: Даниил Хармс и Александр Введенский в контексте Завета Святого Духа / Л. Ф. Кацис // Литературное обозрение. – 1994. – № 3/4. – С. 94–101. 70.Кацис, Л. Ф. Эротика 1910-х и эсхатология обэриутов / Л. Ф. Кацис // Литературное обозрение. – 1994. – № 9/10. – С 57–63. 71.Кобринский, A. A. Цикл Даниила Хармса «Случаи» как единое целое / А. А. Кобринский // Студент и научно-технический прогресс; 225 материалы XXVI Всесоюзной науч. студ. конференции. – Новосибирск. – 1988. – Филология. – С. 64–69. 72.Кобринский, А. А. Логика алогизма / А. А. Кобринский // Нева. – 1988. – № 6. – С. 204. 73.Кобринский, А. А. Психологизм, алогизм и абсурдизм в прозе Даниила Хармса (о перспективных направлениях изучения архивного фонда Я. С. Друскина) / А. А. Кобринский // Проблемы источниковедческого изучения истории русской и советской литературы. – Л., 1989. – С. 167–190. 74.Кобринский, А. Даниил Хармс: к проблеме обэриутского текста / А. Кобринский, М. Мейлах, В. Эрль // Вопросы литературы. – 1990. – № 6. – С. 251–258. 75.Кобринский, А. A. Проза Даниила Хармса : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Кобринский Александр Аркадьевич. – СПб., 1992. – 16 с. 76.Кобринский, A. A. Проза А. Платонова и Д. Хармса: К проблеме порождения алогического художественного мира / А. А. Кобринский // Филологические записки. – 1994. – № 3. – С. 82–94. 77.Кобринский, А. Похороны у Хармса / Александр Кобринский // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 101–106. 78.Кобринский, А. А. Поэтика ОБЭРИУ в контексте русского литературного авангарда XX века / А. А. Кобринский. – СПб. : Свое издательство, 2013. – 316 с. 79.Кондаков, И. В. «Пушкин» как текст русской культуры XX века [Электронный ресурс] / И. В. Кондаков. – Режим доступа: http://www.dharms.ru/library/pushkin-kak-tekst-russkoy-kultury-xx-veka.html. 226 80.Коновалова, А. Ю. Эстетика и поэтика обэриутов : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Коновалова Анна Юрьевна. – Уфа, 2005. – 27 с. 81.Коротаева, И. К вопросу интерпретации одного «случая» Даниила Хармса / Ирина Коротаева // Русская литература XX века: итоги столетия. Сборник трудов международной научной конференции молодых ученых / Под ред. А. А. Кобринского. – Спб. : Изд-во СПбГТУ, 2001. – С. 115–120. 82.Котельников, В. «Звезда бессмыслицы» взошла над Петербургом: (Творчество чинарей и конец «петербургского периода») / В. Котельников // Вопросы литературы. – 2004. – № 6. – С. 115–138. 83.Кувшинов, Ф. В. Художественный мир Д. И. Хармса: структурообразующие элементы логики и основные мотивы : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Кувшинов Феликс Владимирович. – Липецк, 2004. – 167 с. 84.Кувшинов, Ф. В. К вопросу о сюжете рассказа Д.И. Хармса «Теперь я расскажу, как я родился...» [Электронный ресурс] / Ф. В. Кувшинов. – Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/k-voprosu-o-suzhete- rasskaza-harmsa-teper-ya-rasskazhu-kak-ya-rodilsa.html. 85.Кувшинов, Ф. В. Сон и явь как ТО и ЭТО у Д. И. Хармса [Электронный ресурс] / Ф. В. Кувшинов, Е. Н. Остроухова. – Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/son-i-yav-kak-to-i-eto-u-harmsa.html. 86.Кувшинов, Ф. В. Социум художественного мира Д. И. Хармса [Электронный ресурс] / Ф. В. Кувшинов. – Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/socium-hudozhestvennogo-mira-harmsa.html. 87.Кувшинов, Ф. В. Тема голема в творчестве Д.И. Хармса (к анализу трех рассказов) [Электронный ресурс] / Ф. В. Кувшинов. – Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/tema-golema-v-tvorchestve-harmsa.html. 88.Кукулин, И. Рождение постмодернистского героя по дороге из СанктПетербурга через Ленинград и дальше (Проблемы сюжета и жанра в 227 повести Д. И. Хармса «Старуха») / И. Кукулин // Вопросы литературы. – 1997. – № 4. – С. 62–90. 89.Кукулин, И. В. Эволюция взаимодействия автора и текста в творчестве Д. И. Хармса : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.01.08 / Кукулин Илья Владимирович. – М., 1997. – 22 с. 90.Кукулин, И. В. Высокий дилетантизм в поисках ориентира: Хармс и Гете / И. В. Кукулин // Русская литература. – 2005. – № 4. – с. 66–83. 91.Лекманов, О. «Молодой человек (господин), удививший сторожа» (Заметки к теме «Хармс и Хлебников») / Олег Лекманов // Даугава. – 1997. – № 1. – С. 116–117. 92.Лекманов, О. Об одном источнике «Анекдотов из жизни Пушкина» Д. Хармса / О. Лекманов // Пушкинские чтения в Тарту 2. – Тарту, 2000. – C. 244–247. 93.Липовецкий, М. Аллегория письма: «Случаи» Хармса (1933-1939) / М. Липовецкий // Новое литературное обозрение. – 2003. – № 63. – С. 123–152. 94.Лихачев, Д. Внутренний мир художественного произведения / Д. Лихачев // Вопросы литературы. – 1968. – № 8. – С. 74–87. 95.Малыгина, И. Ю. «Бог» в мироощущении писателя и его героев (на примере поэзии Д. Хармса) / И. Ю. Малыгина // Творческая индивидуальность писателя: теоретические аспекты изучения : сб. материалов междунар. науч. конф. – Ставрополь : изд-во Ставропольского гос. ун-та, 2008. – С. 176–182. 96.Маршак, С. Я. Собр. соч. в 8 тт. Т. 8 : Избранные письма / С. Я. Маршак. – М. : Художественная литература, 1972. – 606 с. 97.Масленкова, Н. А. Поэтика Даниила Хармса (лирика и эпос) : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Масленкова Наталья Александровна. – Самара, 2000. – 196 с. 98.Мейлах, М. Б. Девять посмертных анекдотов Даниила Хармса / М. Б. Мейлах // Театр. – 1991. – № 11. – С. 76–79. 228 99.Мейлах, М. Б. Обэриуты и живопись (заметки к теме) / М. Б. Мейлах // Шестые тыняновские чтения: тез. докл. и материалы для обсуждения. – Рига; М., 1992. – С. 44–48. 100. Мейлах, М. Вокруг Хармса / Михаил Мейлах // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 132–145. 101. Мейлах, М. Введенский: сорок лет спустя / М. Мейлах // Поэт Александр Введенский. Сборник материалов. – Белград–Москва : Гилея, 2006. – С. 431–476. 102. Минц, К. Обэриуты / К. Минц; публ. А. Минц // Вопросы литературы. – 2001. – № 1. – С. 277–294. 103. Московская, Д. В поисках Слова: «странная» проза 20–30-х гг. / Д. Московская // Вопросы литературы. – 1999. – № 6. – С. 31–65. 104. Найман, А. Рассказы о Анне Ахматовой / Анатолий Найман. – М. : Зебра Е : АСТ, 2009. – 416 с. 105. Непомнящий В. С. Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России / В. С. Непомнящий // Новый Мир. – 1996. – № 5. – С. 162–190. 106. Непомнящий, В. С. Феномен Пушкина как научная проблема: К методологии историко-литературного изучения: дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / Непомнящий Валентин Семенович. – М., 1999. – 64 с. 107. Никитаев, А. Тайнопись Даниила Хармса / Александр Никитаев // Даугава. – 1989. – № 8. – С. 95–99. 108. Никитаев, А. «Пушкин и Гоголь»: Об источнике сюжета / А. Никитаев // Литературное обозрение. – 1994. – № 9/10. – С. 49–51. 109. Нордберг, В. В. Абсурд в творчестве А. Камю и Д. Хармса: сравнительный анализ [Электронный ресурс] / В. В. Нордберг. – Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/absurd-v-tvorchestve-kamu-i- harmsa-sravnitelniy-analiz.html. 229 110. Обухов, Е. Перечитывая Хармса / Е. Обухов, С. Горбушин. – М. : ИКАР, 2012. – 184 с. 111. Осокин, Ю. В. Картина мира / Ю. В. Осокин, К. Б. Соколов // Культурология. XX в.: Энциклопедия: В 2 т. Т. 1. – М. : РОССПЭН, 2007. – С. 904–908. 112. Пантелеев, Л. Верую…: Последние повести / Л. И Пантелеев. – Л. : Советский писатель, 1991. – 416 с. 113. Петров, В. Н. Даниил Хармс. Публикация, предисловие и комментарии Владимира Глоцера / В. Н. Петров // Панорама искусств. Вып. 13 (Сб. статей и публикаций). – М. : Советский художник, 1990. – С. 235–248. 114. Печерская, Т. Литературные старухи Даниила Хармса (повесть «Старуха») / Татьяна Печерская // Интерпретация и авангард: межвузовский сборник научных трудов / Под ред. канд. филол. наук И. Е. Лощилова / Новосибирск : НГПУ. – 2008. – С. 94–99. 115. Рог, Е. Проза Даниила Хармса в свете биокультурной теории смеха / Елена Рог // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 168–177. 116. Россомахин, А. REAL Хармса: попытка анализа / Андрей Россомахин // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 178–189. 117. Рымарь, А. Иероглифическая символизация в поэтике Д. Хармса и А. Введенского / Андрей Рымарь // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 190–206. 118. Рымарь, А. Н. Поэтика Д. Хармса и А. Введенского в контексте их философских исканий [Электронный ресурс] / А. Н. Рымарь. – 230 Режим доступа: http://www.d-harms.ru/library/poetika-harmsa-i- vvedenskogo-v-kontekste-ih-filosofskih-iskaniy.html. 119. Саблина, Е. Е. Поэтика Д. Хармса : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Саблина Елена Евгеньевна. – Москва, 2009. – 172 с. 120. Сабо, Б. Немного о числах у Д. Хармса / Бояна Сабо // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 207–214. 121. Сажин, В. Н. Литературные и фольклорные традиции в творчестве Д. И. Хармса / В. Н. Сажин // Литературный процесс и развитие русской культуры ХVIII–ХХ вв. – Таллин, 1985. – С. 57–61. 122. Сажин, В. Н. Читая Даниила Хармса / В. Н. Сажин // Даугава. – Рига, 1986. – №10. – С. 110–115. 123. Сажин, В. Н. «…Сборище друзей, оставленных судьбою» / В. Н. Сажин // Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения. – Рига, 1990. – С. 194–201. 124. Сажин, В. Н. Наказание Хармса / В. Н. Сажин // Новый Мир. – 1992. – № 7. – С. 233–235. 125. Сажин, В. Н. Тысяча мелочей / В. Н. Сажин // Новое литературное обозрение. – 1993. – №3. – С. 198–201. 126. Сажин, В. Н. Блок у Хармса / В. Н. Сажин // Новое литературное обозрение. – 1995. – № 16. – С. 140–146. 127. Сажин, В. Н. Мир Д. Хармса / В. Н. Сажин // Хармс Д. Малое собрание сочинений. – СПб. : Азбука. – 2010. – С. 5–12. 128. Симина, В. Хармс и Белый / В. Симина // Литературное обозрение. – 1994. – № 9/10. – С. 52–53. 129. Скафтымов, А. П. Поэтика художественного произведения / А. П. Скафтымов. – М. : Высшая школа, 2007. – 535 с. 130. Сперанская, А. Н. Анекдоты о Пушкине Д. Хармса и феномен обыденного сознания / А. Н. Сперанская // Национальный гений и пути 231 русской культуры: Пушкин, Платонов, Набоков в XX в. – Омск, 1999. – № 1. – С. 102–104. 131. Токарев, Д. В. Даниил Хармс: философия и творчество / Д. В. Токарев // Русская литература. – 1995. – № 4. – С. 68–93. 132. Токарев, Д. В. Апокалипсические мотивы в творчестве Д. Хармса (в контексте русской и европейской эсхатологии) / Д. В. Токарев // Россия, Запад, Восток. – СПб.: Наука, 1996. – С. 176–198. 133. Токарев, Д. В. Поэтика насилия: Даниил Хармс в мире женщин и детей / Д. В. Токарев // Национальный Эрос и культура. – М. : Ладомир, 2002. – Т. 1. – С. 345–403. 134. Токарев, Д. В. Курс на худшее: Абсурд как категория текста у Даниила Хармса и Сэмюэля Беккета / Д. В. Токарев. – М.: Новое литературное обозрение. – 2002. – 336 с. 135. Токарев, Д. В. «Старуха» Д. Хармса как объект «пристального чтения» / Д. В. Токарев // Русская литература. – 2004. – №2. – С. 259– 262. 136. Токарев, Д. В. Даниил Хармс и Густав Майринк / Д. В. Токарев // Русская литература. – 2005. – № 4. – С. 35–53. 137. Токарев, Д. В. Как пройти сквозь стену (Гийом Аполлинер, Юрий Владимиров, Даниил Хармс, Марсель Эме) / Д. В. Токарев // Новое литературное обозрение. – 2006. – № 4(80). – С. 145–169. 138. Токарев, Д. В. Философские и эстетические основы поэтики Даниила Хармса: автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.01.01 / Токарев Дмитрий Викторович. – СПб., 2006. – 51 с. 139. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 432 с. 140. Харитонов, М. Читая Хармса / М. Харитонов // Харитонов М. Способ существования. – М.: Новое литературное обозрение. – 1998. – С. 182–185. 232 141. Хейнонен, Ю. Это и то в повести «Старуха» Даниила Хармса / Ю. Хейнонен. – Helsinki : Helsinki University Press. – 2003. – 232 с. 142. Хейнонен, Ю. Случай «Старухи» / Юсси Хейнонен // Столетие Даниила Хармса. Материалы междунар. науч. конф., посв. 100-летию со дня рождения Д. Хармса; научн. ред. А. Кобринский. – СПб. : ИПЦ СПГУТД, 2005. – С. 231–237. 143. Чернорицкая, О. Л. Поэтика абсурда в аспекте литературно- художественной методологии : дис. … канд. филол. наук : 10.01.08 / Чернорицкая Ольга Леонидовна. – М., 2001. – 206 с. 144. Чудаков, А. Слово – вещь – мир. От Пушкина до Толстого / А. Чудаков. – М. : Современный писатель, 1992. – 320 с. 145. Чумаков, Ю. Н. Пушкин. Тютчев: Опыт имманентных рассмотрений / Ю. Н. Чумаков. – М. : Языки славянской культуры, 2008. – 416 с. 146. Шапир, М. И. Между грамматикой и поэтикой (О новом подходе к изданию Даниила Хармса) / М. И. Шапир // Вопросы литературы. – 1994. – № 3. – С. 328–332. 147. Шварц, Е. Живу беспокойно…: Из дневников / Е. Шварц. – Л. : Советский писатель. – 1990. – 752 с. 148. Шенкман, Я. Логика абсурда (Хармс: отечественный текст и мировой контекст) / Я. Шенкман // Вопросы литературы. – 1998. – № 4. – С. 54–80. 149. Щербинина, О. Старуха. Даниил Хармс в контексте классики / О. Щербинина // Нева. – № 4. – 2007. – С. 282–284. 150. Ширяева, О. В. Семантика повтора и разноуровневые средства его выражения в идиостиле Д. Хармса : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Ширяева Оксана Витальевна. – Ростов-на-Дону, 2009. – 20 с. 233 151. Шишман, С. С. Несколько веселых и грустных историй о Данииле Хармсе и его друзьях: Рассказы / Светозар Семенович Шишман. – Л. : Редактор. – 1991. – 176 с. 152. Шкловский, В. О теории прозы / В. Шкловский. – М. : Советский писатель, 1983. – 384 с. 153. Шмидт, М. М. «У абсурдного столько же оттенков и степеней, сколько у трагического…» Гоголь и Хармс / Мария Михайловна Шмидт // Литература в школе. – 2010. – № 11. – С. 19–22. 154. Шмидт, М. М. Проза Д. Хармса в контексте литературы абсурдизма : дис. … канд. филол. наук : 10.01.01 / Шмидт Мария Михайловна. – М., 2012. – 146 с. 155. Шувалов, А. В. Патографический очерк о Данииле Хармсе [Электронный ресурс] / А. В. Шувалов. – Режим доступа: http://www.dharms.ru/library/patograficheskiy-ocherk-o-daniile-harmse.html. 156. Шульпяков, Г. Хармс как страх / Г. Шульпяков // Новая Юность – 2013. – № 3 (114). – С. 57–63. 157. Эпштейн, М. Искусство авангарда и религиозное сознание / М. Эпштейн // Новый Мир. – 1989. – № 12. – С. 222–235. 158. Ямпольский, М. Б. Беспамятство как исток (Читая Хармса) / М. Б. Ямпольский. – М.: Новое литературное обозрение. – 1998. – 384 с. 159. Aizlewood, R. “Guilt Without Guilt” in Kharms’s Story “The Old Woman” / Robin Aizlewood // Scottish Slavonic Review. – 1990. – № 14. – P. 199–217. 160. Aizlewood, R. Towards an Interpretation on Kharms’s Sluchai / R. Aizlewood // Daniil Kharms and the Poetics of the Absurd. Essays and Materials; ed. by Neil Cornwell – London: Basingstoke, 1991. – P. 97–122. 161. Carrick, N. P. Daniil Kharms and a theology of the absurd / N. P. Carrick. – Northwestern University. – 1993. – 329 p. 234 162. Chances, E. Cexov and Xarms: Story/Anty-story / E. Chances // Russian Journal of Languages. – 1982. – Vol. 36. – № 123–124. – P. 181– 192. 163. Chances, E. Daniil Charms’ “Old Woman” climbs her family tree: “Starucha” and the Russian Literary Past / E. Chances // Russian literature. – 1985. – Vol. 17. – P. 353–366. 164. Giaquinta, R. Elements of the Fantastic in Daniil Kharms’s Starukha / R. Giaquinta // Daniil Kharms and the Poetics of the Absurd. Essays and Materials; ed. by Neil Cornwell – London: Basingstoke, 1991. – P. 132–148. 165. Klebanov, Michael. Изучая нарративы Хармса: от Ж.-Ф. Жаккара к М. Ямпольскому. Даниил Хармс: два взгляда извне [Электронный ресурс] / Michael Klebanov. – Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology (AJCN). – Spring 2005. – № 1. – Режим доступа: http://cf.hum.uva.nl/narratology/klebanov.htm. 166. Kobrinsky A. A. Some Features of the Poetics of Kharms’s Prose: the story Upadanie (“The Falling”) // Daniil Kharms and the Poetics of the Absurd. Essays and Materials; ed. by Neil Cornwell – London: Basingstoke, 1991. – P. 149–158. 167. Nakhimovsky, A. S. Laughter in the Void: An Introduction to the Writings of Daniil Kharms and Alexander Vvedenskij / A. S. Nakhimovsky. – Wiener Slawistischer Almanach Sonderband 5. – Wien, 1982. – 191 p. 168. Scotto, S. Xarms and Hamsun: Staruxa Solves a Mystery? / Susan D. Scotto. – Comparative Literature Studies. – 1986. – Vol 23. – № 4. – P. 282–296. 235 Приложение На следующем графике (Рисунок 1) изображена зависимость количества написанных Хармсом прозаических текстов от соответствующего года159: Количество текстов 40 Количество текстов 35 30 25 20 15 10 5 0 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 Годы Рисунок 1 159 Мы опираемся на датировки, данные В. Н. Сажиным. Текст, причисленный им к первой половине 1930-х, мы отнесли к 1933 году. Тексты, отнесенные Сажиным к середине 1930-х, мы равномерно распределили между 1934–1936 годами. Тексты же, которые он относит ко второй половине 1930-х, мы распределяем между 1937–1939 годами. Десять прозаических текстов, датировку которых Сажин не определил даже приблизительно, мы в данном случае не учитываем. Однако в случаях, когда на графиках или диаграммах годы не фигурируют, эти тексты (неизвестных годов) учтены. 236 На данной гистограмме (Рисунок 2) изображено, сколько текстов попадает в каждую выделенную нами группу: Количество текстов в группах 45 40 Количество текстов 35 30 25 20 15 10 5 0 Названия групп Рисунок 2 На гистограмме ниже (Рисунок 3) отражено, какой процент составляют тексты данной группы среди всех текстов (всего в нашем рассмотрении 266 текстов)160. Чтобы наглядно продемонстрировать, как группы соотносятся количественно, мы приводим диаграмму, разделенную на сектора, размеры которых пропорциональны количествам текстов в группах (Рисунок 4)161. На последующих диаграммах (Рисунки 5–8) учитываются не все тексты, а лишь некоторые (см. названия диаграмм). 160 Количество текстов данной группы делится на общее число текстов. Т. к. существуют тексты, которые мы отнесли сразу к нескольким группам, то, очевидно, при суммировании процентов всех групп получается число больше 100%. 161 Естественно, полученные доли (Рисунок 4) отличаются от соответствующих процентов (Рисунок 3). Однако данное отличие незначительно. Между данными гистограммы и диаграммы (Рисунки 3 и 4) нет принципиального отличия, а потому далее мы приводим только «долевые» диаграммы (Рисунки 5– 8). 237 Проценты групп Процент среди всех текстов 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Названия групп Рисунок 3 Распределение групп с учетом всех текстов Зарисовки 6/100 Чинари 6/100 Порок 5/100 Неопределенное 4/100 Иное 6/100 Философское 1/100 Я 14/100 Сокрытое 7/100 Насилие 7/100 Мудрый старик 8/100 Юмор 2/100 Водевили 13/100 Потери 8/100 Картина мира 13/100 Рисунок 4 238 Распределение групп с учетом только текстов из цикла "Случаи" Зарисовки 0 Неопределенное 0 Порок 0 Чинари 6/100 Юмор 0 Философское 3/100 Иное 8/100 Я 3/100 Водевили 11/100 Сокрытое 11/100 Картина мира 17/100 Насилие 22/100 Потери 14/100 Мудрый старик 6/100 Рисунок 5 Распределение групп с учетом только текстов периода 1929–1932 гг. Юмор 0 Философское 0 Неопределенное 26/100 Порок 3/100 Я 29/100 Иное 6/100 Чинари 16/100 Сокрытое 6/100 Зарисовки 3/100 Насилие 0 Картина мира 10/100 Водевили 0 Потери 0 Мудрый старик 0 Рисунок 6 239 Распределение групп с учетом только текстов периода 1933–1936 гг. Зарисовки 5/100 Неопределенное Юмор 3/100 1/100 Чинари 4/100 Иное 6/100 Порок 6/100 Я 8/100 Сокрытое 8/100 Насилие 6/100 Философское 1/100 Водевили 18/100 Мудрый старик 8/100 Потери 10/100 Картина мира 15/100 Рисунок 7 Распределение групп с учетом только текстов периода 1937-1941 гг. Чинари 6/100 Зарисовки 7/100 Иное 5/100 Порок 4/100 Сокрытое 4/100 Неопределенное 2/100 Юмор 2/100 Философское 1/100 Я 18/100 Насилие 9/100 Мудрый старик 10/100 Водевили 11/100 Потери 8/100 Картина мира 13/100 Рисунок 8 240 Далее мы приводим графики, демонстрирующие для каждой группы временную динамику написания текстов. Поскольку графики однотипные, мы не подписываем каждый раз оси. На осях абсцисс – года, на осях ординат графиков слева – количество текстов данной группы, написанных в соответствующий год; графиков справа – процент, который составляют тексты данной группы, написанные в соответствующий год, среди всех прозаических текстов, написанных в тот же год. Я 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10 8 6 4 2 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 0 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 12 Водевили 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10 8 6 4 2 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 0 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 12 241 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 10 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 0 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 Картина мира 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Потери 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Мудрый старик 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 242 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 0 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 10 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 12 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 Насилие 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Сокрытое 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Зарисовки 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 243 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 Чинари 12 10 8 6 4 2 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Иное 12 10 8 6 4 2 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Порок 12 100% 10 90% 80% 8 70% 60% 6 50% 4 40% 30% 2 20% 10% 0 0% 244 12 10 8 6 4 2 0 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 0 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 Неопределенное 12 100% 10 90% 80% 8 70% 60% 6 50% 4 40% 30% 2 20% 0 10% 0% Юмор 12 100% 10 90% 80% 8 70% 60% 6 50% 4 40% 30% 2 20% 10% 0% Философское 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 245