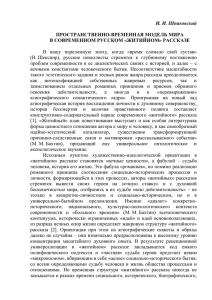традиции древнерусской книжности в русской литературе
реклама
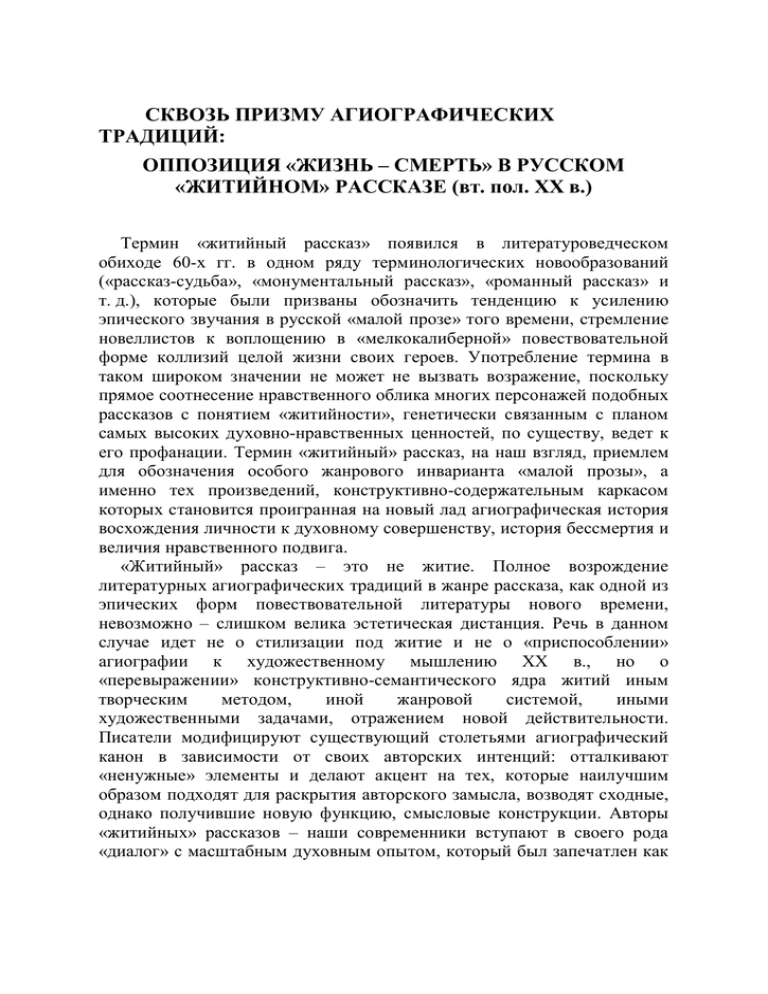
СКВОЗЬ ПРИЗМУ АГИОГРАФИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ: ОППОЗИЦИЯ «ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ» В РУССКОМ «ЖИТИЙНОМ» РАССКАЗЕ (вт. пол. ХХ в.) Термин «житийный рассказ» появился в литературоведческом обиходе 60-х гг. в одном ряду терминологических новообразований («рассказ-судьба», «монументальный рассказ», «романный рассказ» и т. д.), которые были призваны обозначить тенденцию к усилению эпического звучания в русской «малой прозе» того времени, стремление новеллистов к воплощению в «мелкокалиберной» повествовательной форме коллизий целой жизни своих героев. Употребление термина в таком широком значении не может не вызвать возражение, поскольку прямое соотнесение нравственного облика многих персонажей подобных рассказов с понятием «житийности», генетически связанным с планом самых высоких духовно-нравственных ценностей, по существу, ведет к его профанации. Термин «житийный» рассказ, на наш взгляд, приемлем для обозначения особого жанрового инварианта «малой прозы», а именно тех произведений, конструктивно-содержательным каркасом которых становится проигранная на новый лад агиографическая история восхождения личности к духовному совершенству, история бессмертия и величия нравственного подвига. «Житийный» рассказ – это не житие. Полное возрождение литературных агиографических традиций в жанре рассказа, как одной из эпических форм повествовательной литературы нового времени, невозможно – слишком велика эстетическая дистанция. Речь в данном случае идет не о стилизации под житие и не о «приспособлении» агиографии к художественному мышлению ХХ в., но о «перевыражении» конструктивно-семантического ядра житий иным творческим методом, иной жанровой системой, иными художественными задачами, отражением новой действительности. Писатели модифицируют существующий столетьями агиографический канон в зависимости от своих авторских интенций: отталкивают «ненужные» элементы и делают акцент на тех, которые наилучшим образом подходят для раскрытия авторского замысла, возводят сходные, однако получившие новую функцию, смысловые конструкции. Авторы «житийных» рассказов – наши современники вступают в своего рода «диалог» с масштабным духовным опытом, который был запечатлен как жанровое содержание житий1, нравственно-этическими представлениями, художественно осмысленными в традиционных агиографических структурах, аксиологической ориентацией житийных героев. «Житийный» план повествования в рассказах выступает и как особая литературная форма ценностного отношения автора к современному ему человеку, обществу, миру в целом, и как своеобразный идейно-эстетический катализатор, существенно трансформирующий причинно-следственные связи и мотивировки «рассказываемого события» (М.М. Бахтин), придающий ему универсальное онтологическое звучание.Ориентация на литературные житийные традиции, художественные решения агиографии в «житийном» рассказе проявляется как через легко узнаваемые моменты поэтики (набор периферийных жанровых признаков весьма подвижен), так и через глубинные сущностные элементы2. Имеется в виду определенная этическая заданность сюжетных ситуаций, введение в той или иной степени трансформированных житийных мотивов (обращение грешника, чудотворение, испытание духовной силы героя, бесоборчество, «в пустыню отхождение» и т. д.), исповедальнопроповеднический пафос повествования, насыщение повествовательного полотна знаками-сигналами, отсылающими читателя к агиографической ценностной системе, эпилогические метаповествования, в которых, как и в житиях, прямо и непосредственно провозглашаются самые высокие духовно-нравственные идеалы. И, наконец, если агиографические герои «во многом являются прямым отрицанием мира, то есть жизни народа, к которому они принадлежат»3, то и герои-«праведники» в «житийном» рассказе – люди высоких духовно-нравственных совершенств, носители желаемого, но не достигнутого народом, идеального этического сознания, – противостоят тем «нормам» народного бытия, тем 1 Как известно, жанровое содержание в процессе исторического развития со временем обретает функцию художественной формы, целенаправленной на раскрытие нового содержания, отражающего особенности иных исторических эпох, мировоззренческих позиций, творческих методов отдельных писателей. Зарождение русского рассказа во многом связано с развитием агиографии в направлении «оживления» характера, заключения его в конкретно-бытовую рамку, придания сюжету большего динамизма, занимательности и т. д. Поскольку путь развития жанров не однолинеен, а скорее спиралевиден, то и не удивительно, что в современный рассказ возвращаются структурно-жанровые признаки житий. 2 В агиографии как историческом комплексе разного рода мотивов четко выделяется «фокус», «ядро», та концептосфера, которая позволяет житию всегда быть обобщением. 3 Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 237. негативным социально-нравственным тенденциям времени, которые «оскорбляют» высшие жизненные ценности. Во многом поэтому ведущим сюжето- и структуроопределяющим фактором, главным принципом организации «целого» в «житийном» рассказе становится принцип динамического противопоставления, поэтика контраста4. В создаваемой на уровне сюжетно-композиционной структуры системе оппозиций («праведник – грешник», «вечное – преходящее», «эрос – филия – агапе» и т. д.), можно особо выделить оппозицию «жизнь – смерть». Во-первых, исследование ее «функционирования» в содержательном «целом», как будет показано ниже, позволяет обнаружить мощный резерв художественной содержательности там, где, казалось бы, нет ничего нового и неожиданного. Во-вторых, глубинные смыслы ею генерируемые, связаны с самыми репрезентативными «носителями жанра», важнейшими аспектами генетической и типологической связи между художественным мышлением средневековых агиографов и русских писателей нового времени. Втретьих, понятия «жизнь» и «смерть» во всей их феноменологической сложности, разносторонности и разноплановости смысловых взаимопересечений являются стержневым центром концептосферы «житийного» рассказа, поскольку этот жанровый извод «малой прозы» как раз отличает особое акцентирование гносеологических и онтологических вопросов: что есть жизнь и что есть смерть в их извечном взаимоединстве, каков человек на пороге смерти, что за этим порогом и т. д. В сущности, запечатленные в «житийном рассказе» конфликты – локальные и параболистические, социальные и внутриличностные, связанные как с осмыслением сложных глубинных процессов, происходящих в обществе, так и с философскими раздумьями о предназначении человека на земле – не сосуществуют, но с неизбежностью сходятся в единый фокус, синтезируются в цельную поликонфликтную форму, имеющую в своей основе именно вечную антиномию жизни и смерти. Антиномия жизни и смерти осмысляется 4 Отмеченный нами особый характер эстетического задания авторов «житийных» рассказов определяет выдвижение принципа динамического противопоставления и в качестве композиционно-стилистической доминанты повествования в ее различных проявлениях: на уровне образов – контраста, сверхфразового единства и фразы – парадокса и антитезы, предложения и синтагмы – оксюморона, отдельной пары слов – антиномии. Об этом см.: Шпаковский И.И. Композиционно-стилистическое своеобразие русского «житийного» рассказа // Художественная литература: проблемы исторического развития, функционирования и интерпретации текста. Сб. науч. трудов: В 2 т. Мн., 2001. Т.2. С. 124—133. авторами «житийных» рассказов сразу в двух, накладывающихся друг на друга, понятийных системах, двух культурных кодах. «Смерть» представлена в рассказах и в денотативной (биологической) семантике этого понятия – физическая смерть персонажа, и в семантике агиографической (христианской) – как духовная смерть5. В первом случае это естественный, хотя и прискорбный порядок вещей, во втором – зло, т. е. явление духовно-нравственного порядка; с первой точки зрения, трагедия жизни состоит в неизбежности ее прекращения, утраты способности мыслить, ощущать, действовать, со второй, физическая смерть есть лишь переход к иному аспекту жизни, замена одного способа существования на другой, один из моментов высочайшей тайны воссоединения тела с землей, души с духом, человеческого с Божественным в «обновленной жизни». Безнадежная необратимость времени резко повышает моральную ответственность личности перед людьми и Богом, именно у решающей черты жизни и смерти испытывается нравственная ценность и духовная состоятельность человека. В христианском понимании страх умирания, который сковывает мысли, лишает воли, бездна отчаянья и пессимизма, открывающаяся человеческому сознанию в связи с мыслью о неотвратимости смерти, пониманием неоспоримого факта бренности всего сущего, есть результат жизни бездуховной, эгоистической. С другой стороны, и человек, которому хотелось бы вовсе не знать, что такое смерть, не думать о ее тайне, уподобляется животным, которые, не осознавая, что такое смертность, не осознают, что они есть, что они принадлежат 5 В христианской философской идеосфере смерть – явление духовное: можно быть мертвым, еще живя на земле (жизнь без Бога, жизнь, исполненная самообманом, в рабстве греха и злобы), и быть непричастным смерти, лежа в могиле (смерть преодолевается воскресением к вечной жизни). Без веры человек безысходно блуждает в поисках иллюзорного биологического бессмертия и вместо подлинного оправдания жизни ведет безуспешное строительство своего «счастья», как правило, в направлении исключительного эгоизма, желания побольше урвать гедонистических радостей от кратковременного своего пребывания на земле. Духовная смерть, в основе которой антропоцентрическое своеволие, самовластье человеческой воли, противопоставляется в житиях Истинной Жизни, это отделенность от Нее, а значит от Бога, который Сама Жизнь. Смиренномудрый подвиг веры агиографических героев как раз и направлен на очищение душевных желаний, выход за круг своих несовершенных волеизъявлений. бытию6. А вот верующая душа агиографического героя, который всматривается в тайну небытия, твердо знает основную истину христианства: приняв Крещение, «ваша прежняя суть умерла, а ваша новая жизнь сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, в Ком жизнь наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3, 3—4)7. Именно в евангельском благовестии о воскресении, обещающем восстановление всей полноты человека, обнаруживающем связь личности с Абсолютом, христианская традиция видит решение «вечных» вопросов – вопроса о смысле жизни и о смысле смерти. Жертвенная смерть Христа и Его Воскресение сообщает героям житий волю и силы, чтобы, идя по жизни, нести свой крест и достойно приять смерть. Для них смерть лишена чуждости или враждебности, ужаса и трагедии: переход «туда» так же естественен, как приход из «ничто» в этот мир8. Заметим сразу, что и герои-«праведники» в «житийных» рассказах также не страшатся смерти, и для них она включена в естественный порядок вещей; даже в последние свои минуты они заботятся о других. 6 В наиболее «чистом» виде эта мысль развивается в экзистенциальной онтологии. По М. Хайдегеру, не «помыслив» смерти, не возможно осознать свое бытие, возвысится к «подлинному» существованию, жизни, достойной человека. См.: Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. Мн., 1999. С. 61-65. 7 Цитаты из Священного Писания приводятся по: Библия. Современный перевод. М., 1998. 8 Отсутствие страха смерти у святого подвижника и даже желание ее объясняется тем, что он «земной небожитель, гость на земле, который рвется скорее порвать все путы, еще как-то связывающие его с мирской суетой» (Еремин И.П. Литература Древней Руси: Этюды и характеристики. М., Л. 1966. С. 33.). Молитвы о прощении за грехи и даровании вечной жизни, «воспереживание» крестного пути Христа, растягивавшееся на сорок дней Великого Поста и завершающееся праздником Христова Воскресенья, представление человеческой жизни в недвижности и самодостаточности вечности через причащение к Богу как супербытию «организует» хаос сознания агиографических героев, в вере своей они находят удовлетворение естественной потребности человека в обретении не теряемого со смертью смысла жизни. Так, герой «Жития Феодосия Печерского», который провел жизнь земную в трудах и молитвах, в свой смертный час произносит: «Благословенъ Богъ, аще тако есть то: уже не боюся, нъ паче радуюся отхожю света сего» (ПЛДР. ХI – нач. ХII вв. М., 1978. С. 390). Так же как и «смерть», «жизнь» в «житийных» рассказах представлена и социально-биологической реальностью, и жизнью духовной, наполненной той особой качественной определенностью, которая придает ей высшую цель и истинный смысл. Духовная жизнь героев житий выражается в томлении души о Нем, «уяснении» образа Божия в себе; это то сущностное, стержневое в их личности, которое обуславливает творческую работу души. Духовная жизнь прекращается, когда неустранимое влечение к Богу начинает питаться суррогатами. То, что традиционное значение времени (всевластная сила, предопределяющая судьбу человека, ведущая его к смерти, к забвению) дополняется и корректируется агиографическим о нем представлением (все духовное не знает смерти и «по ту сторону» бытия, а бездуховное мертво и при жизни)9, выводит художественный космос «житийного» рассказа за границы любых крайних полюсов, а его художественное время за рамки времени социально-исторического или биографического, да и вообще за плоскость, создаваемую точками привычного триединства – прошлое, настоящее, будущее. Пространственновременной образ мира в «житийном» рассказе обращен в бесконечность, с обязательностью включает в себя надвременное – «точку зрения вечности»10. В свете вечности, надысторических безусловных ценностей испытывается на прочность смысл вещей, смысл помыслов и поступков людей. 9 В христианском понимании времени, по сути, отсутствует идея его поступательного движения: «Вся история в каком-то смысле завершена уже Воплощением и Вознесением Христовыми… В каком-то принципиальном, основном смысле все уже случилось. Конец не только впереди, но конец уже пришел Воплощением Христовым, одержаной Им победой… Конец нам не страшен, потому что он позади нас» (Митрополит Сурожский Антоний. Беседы о вере и Церкви. М., 1998. С. 66—67). 10 В этом смысле русский «житийный» рассказ можно считать своеобразным продолжением и развитием особой жанровой традиции литературного воплощения вечности в мировой художественной словесности – форм святочного и пасхального рассказов (в русской литературе отметим прежде всего творческий опыт Лескова), которые посвящены событиям, принадлежащим как каждому земному году, так и вечности – Рождеству Христову и Христову Воскресению. «Солнечное сплетение» двух ракурсов – от «жизни» и от «смерти», «диалог» конкретно-исторического и надвременного, ограниченных, преходящих «идей», явлений и идей, явлений основополагающих, из разряда вечных опор жизни, «просвечивание» остроактуальных, злободневных проблем современности незыблемыми константами духовного бытия человека становится идейно-стилевым центром жанровой структуры «житийного» рассказа. Многовековой опыт соотнесения конкретной земной жизни человека с жизнью абсолютной, духовной, опыт «переживания» человеком пугающей разницы между бесконечным бытием мира и конечностью собственного бытия, зафиксирован в агиографии. Смерть агиографических праведников – это не переход из пространства «жизни» в пространство «смерти» – полное небытие, ничего не значащий ноль, но переход в новое качество жизни: после смерти они становятся бессмертными жителями Иерусалима – истинного горнего дома, вечного царства, который противостоит земному Вавилону; смерть лишь ведет их к выходу за пределы своей прежней телесности11, воскрешению в другой реальности. Так же и смерть героев-«праведников» из «житийных» рассказов окружена мерцающим ореолом светлой мистики, отодвинута пафосом преодоления Времени, перемогания смерти. В какомто смысле, как и агиографическим героям, им уготована «жизнь после смерти»: смерть Матрены – это не смерть «потерянной старухи», но уход из мира праведницы, великой своим нравственным духом – «ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться»12 («Матренин двор» А. 11 В этом плане показателен опыт «юродствующих во Христе» как наиболее экстремальный вызов смерти и смертности. Презревший телесную жизнь, стремящийся к особому статусу – статусу прижизненной смерти, а потому существующий на минимуме материи (умершему уже не нужна одежда и тепло домашнего очага), юродивый как бы выпадает из детерминированного смертью материального мира. 12 Солженицын А.И. Мал. собр. соч.: В 9 т. М., 1991. Т. 3. С. 139. Солженицына); «свята и нетленна душа современного Дон Кихота»13 героини В. Астафьева («Мною рожденный»); герой рассказа О. Пащенко «Колька Медный, его благородие» «помнит», откуда люди приходят на землю и куда уходят, умирая: он был там «пульсом и маленькой пушистой горошинкой, а вокруг космическая музыка»14 и там же он после смерти ожидает очереди вновь озарить мир светом своей доброты, самопожертвенной любви; уходит дорогой, начало которой теряется во временах «окаянного князя и первых русских святых»15, героиня рассказа «Убогая» Б. Агеева; бесконечно движение к «небу», полет «куда-то над землей»16 героя рассказа Э. Сафонова «Лестница в небо»; «эмалевого голубка великой любви Сони огонь не берет»17 («Соня» Т. Толстой); героя «Голгофы Мандельштама» Ю. Нагибина «кухонная злоба человеческого нищедушия, обывательская неприязнь духовности преследовала и после смерти»18, но «та звезда, что зажглась век назад, не погасла»19 и т. д. Внутренне противоречивый характер концовок «житийных» рассказов, когда внешней завершенности событийного ряда (как правило, смерть героя или, по меньшей мере, подведение итогов его жизни) противостоит обобщающе проблемная открытость сюжета, «распахнутость» его в материальную и духовную бесконечность мира, как раз и объясняется сложным сопряжением в повествовательном полотне фабульного плана, отображающего бытие отдельного человека с неоспоримой конечностью его жизни, и плана «мифологического», моделирующего весь универсум, позволяющего заглянуть за край идеологического, экономического, культурного 13 Астафьев В.П. Собр. соч.: В 6 т. М., 1991. Т.2. С. 469. Пащенко О. Колька Медный, его благородие // Рассказы и повести последних лет. М., 1990. С. 436. 15 Агеев Б. Убогая // Категория жизни. М., 1989. С. 24. 16 Сафонов Э.И. Избранное. М., 1991. С. 479. 17 Толстая Т. Ночь. М., 2001. С. 17. 18 Нагибин Ю. Рассказ синего лягушонка. М., 1991. С. 303. 19 Там же, с. 336. 14 пространства и времени, проникнуть в заповедные тайники и человеческой души, и мирового бытия. Естественно, что создаваемый «мифологический» план не имеет полного соответствия тому, который представлен в агиографии: даже при самом ярком проявлении в «житийном» рассказе агиографических жанровых параметров речь не может идти о полной их репродукции. В конце концов, авторы «житийных» рассказов не мистики и, переводя вещественно-биографическое, конкретно-историческое в план универсальных духовнонравственных величин, они не стремятся раздвоить мир в глобальном контексте, как правило, не рассматривают христианские истины в их отвлеченно-теологической сущности. И в этой связи закономерным становится вопрос о приемлемости ввода понятия «праведник», предполагающего связь с религиозным началом, по отношению к герою «житийного» рассказа. С одной стороны, действительно, многое в его образе отвечает сложившемуся типу агиографического героя: он является художественной объективизацией идеального морального начала; он, пусть открыто и не декларируя, «овеществляет» основные постулаты евангельского учения в практической жизни; он, противостоя «падшей» современности, пожитийному обращен к высшим вопросам человеческого бытия. Данная ему привилегия приобщения к ценностному уровню «вечных идеалов» делает его, как и героев житий, фигурой особого измерения – герой«праведник» «житийных» рассказов не боится самых высоких сопоставлений. Однако, с другой стороны, даже если в его «праведничестве» явственно ощущается теплота религиозного чувства, оно далеко выходит за пределы традиционно-религиозного, агиографического толкования: литературный «праведник», как правило, не стремится к христианской аскетике – средству борьбы со страстями, с тяжестью плоти и мирскими соблазнами. Пафос даже тех его деяний, которые выглядят сюжетными цитатами из житий, утверждает ценность скорее не загробной жизни, но земного бытия; он избегает оперировать изначальными понятиями христианских истин, и даже может напрямую не обращаться к Богу20. Сам по себе наделен герой-«праведник» 20 Неупоминание имени Христова во многих по духу глубоко христианских текстах «житийных» рассказов, отсутствие в них прямого религиозно-мистического обоснования морального чувства героев-«праведников» (мораль – «функция» побуждением и способностью к любви-агапе, некий внутренний категорический императив не позволяет ему сбиться с «тесного пути» нравственного самостояния, не капитулировать перед злом, не дрогнув, восходить на плаху. «Праведник» носитель, так сказать, «гуманной» духовности, «практической этики» и потому неслучайно, что «материализованные» в его образе «житийные ценности» могут корректироваться и дополняться системами ценностей, связанными с теми «сверхтипами» (Ю.М. Лотман), которые воплощают моральнонравственные достоинства всей человеческой культуры. И все же то, что Вера, Надежда, Любовь в «житийных» рассказах выступают не в абстрактно-теологическом понимании, но как этические категории, не делает понятие «праведник» по отношению к герою «житийного» рассказа синонимом общей положительности характера. У образа «праведника» особый масштаб и перспектива, особое духовное содержание, которое определяется соотнесением вещественнобиографического, конкретно-исторического, социальнопсихологического с планом универсальных нравственных величин. Отсюда принципиальная незамкнутость его в повседневности, приподнятость над жизнью. Речь идет не об идеализации, нарочитом акцентировании в его образе возвышенного (напротив, литературный «праведник» чаще всего «заземлен»), но о неизбежном производном от нравственной и духовной масштабности воплощаемых в его образе идей: «праведник» не исключен из бытовой суеты, но его отличает способность к метафизическому преодолению границ эмпирического, к уходу в надбытовую сферу, сохранению своего «мира горнего» в болотной трясине обыденности; он способен к тем глубоким чувствам, которые подобны чувствам, исходящим из мистических запросов сердца святых подвижников. Даже в самые прозаические моменты фигура божественной изначальной сущности, надэмпирическая Божественная данность, Богооткровенность) мы склонны объяснять стремлением авторов доказать, что «праведничество» не привносится извне, формируется не под влиянием аскетных представлений о нравственности, но как бы извлекается из самой существующей действительности, что «праведники» реальны, «вечные ценности» – в природе бытия, в порядке вещей. С другой стороны, моральное знание «праведников» не выводится и из эмпирически фиксируемой социокультурной реальности, существующих обычаев и порядков (напротив, герои противостоят им). Их внутренний моральный кодекс изначален, беспредпосылочен, интуитивен, безусловен и самоочевиден – это «первичные моральные задатки» (И. Кант), то, что написано в сердцах людей (Римл. 2:15), хранящееся неосознанно и неосознанно же проявляющееся, когда это востребует время. героя-«праведника» освещена высокой духовностью, великодушием, всем тем, что наполняет жизнь высшим смыслом и красотою. Сообщает особый статус его фигуре и иное. С одной стороны, судьба «праведника» в «житийных» рассказах «вплетена» в жизнь его современности, движение истории, она неотрывна от насущных, злободневных социальных проблем бурной и сложной эпохи, выпавшей ему на долю, с другой, у него особенно обострена автономность личного, и, не подчиняясь требованиям и духу «века сего», века девальвации духовности, он живет как бы вопреки своему времени, как и герои житий, становится «иным» этому миру. Воспринимать это следует не как отрыв его от реальности, нарушение им естественных человеческих связей с современностью, но в плане эстетическом, как регламентируемый жанром способ ориентации героя в жизненном пространстве: самоизоляция, «демонтирование» себя из жестко регламентируемой общественной системы – это единственный путь сохранения «душу живу», одна из форм духовного самопроявления, демонстрации нравственной прочности. «Идеальное» начало в героях «житийного» рассказа становится реальностью, наполняется совершенно конкретным социально-нравственным смыслом именно в поступке этического неповиновения условиям общественно-исторического бытия, внутреннего сопротивления террору косной среды. В этом заключается внеисторическая правота героев-«праведников», но, одновременно, и историческая обреченность: являясь носителями тех нравственных норм и духовных начал, которые опасны для несправедливого миропорядка, они приводят в движение враждебные силы, губящие их. В житиях многие святые мученики, кроткие, как «агнцы Божия», во имя торжества истин своего вероучения добровольно идут на муки и принимают смерть. Мученичество и смерть героев «житийных» рассказов так же носит «добровольный» характер в том смысле, что свойственный им светлый нравственный максимализм обрекает их то и дело попадать в жизненные ситуации, обладающие трагической альтернативностью. По эстетическому пафосу их фигуры хоть и просветленные, но изначально трагические, лишенные отсвета агиографического оптимизма: выжить в мире, идя поперек его течения, невозможно и, выказывая духовное неповиновение законам этого априорно негармоничного, несправедливого мира, герои одиноки, жизнь их исполнена страданиями, они обречены на гибель. Полное право они имеют воскликнуть вслед за Аввакумом: «Плакать мне подобает о себе!». Мученический жизненный путь и смерть «праведников» в «житийных» рассказах всегда социально расшифрованы, объясняются не капризами и кознями судьбы, не борьбой воль и страстей, но фатально действующими надличными закономерностями, злом исторически конкретным. При всей «случайности» смерти героев, очевидна художественная «целесообразность» именно трагического разворота темы – это знак невостребованности «вечных ценностей», изначальной обреченности их носителей в мире, в котором утверждение универсальных нравственных идей, торжество заповеди о любви выглядит неосуществимой абстракцией. Судьба «праведников», таким образом, с одной стороны, призвана, как и в житиях, утвердить величие нравственного подвига, с другой, является суровым «обвинительным заключением» миру, находящемуся в состоянии духовной смерти. Концентрированным, гиперболическим выражением этой духовной смерти, выражением тех нравственных вывихов, социальных аномалий эпохи, которые привели к разрушению жизнесозидающих основ народного бытия, становится в «житийном» рассказе фигура «грешника». Если «праведник» – свободно мыслящая личность, никогда не «тип», но всегда «исключение», то его антипод всегда «несамостоятелен», «внеличностен». Он социальный феномен: его формирует, определяя особую прочность безнравственного, духовные и этические болезни общества, аморальность господствующих идеолого=мировоззренческих установок. «Внеличностность» «грешника», то, что он находятся в состоянии духовной смерти, подчеркивается в рассказах гипертрофией нутряного, утробного начала в его натуре; в отличие от агиографических злодеев, он фигура отнюдь не демоническая – руководят им жалкие страсти, мелкие вожделения. Итак, жанровую структуру «житийного» рассказа определяет поэтика контраста, принцип динамического противопоставления, причем логика «дискуссионного» сосуществования именно «жизни» и «смерти» в самом широком смысле этих понятий прежде всего обусловливает причинные связи, мотивировку событий и характеров, задает основную энергию подводного течения сюжета, образует драматическую внутреннюю атмосферу повествования. * * * Ярким проявлением параболистического возвращения агиографических жанровых традиций в современную русскую литературу является рассказ А. Солженицына «Матренин двор». Уже само по себе авторское название рассказа («Не стоит село без праведника»), появление в финале слова «праведник», которое выступает в тексте не столько носителем словарного значения, сколько знаком определенной культурно-исторической традиции, своеобразной формулой жанровой заданности произведения, провоцирует поиск именно житийной подосновы образа главной героини, отражения в авторской концепции мира и человека именно агиографических традиций21. С одной стороны, несомненна близость образа Матрены к тем многочисленным образам русских женщин – простых крестьянок, которые в русской классической литературе воплощали все светлые грани души народной (достаточно вспомнить хотя бы о двух «некрасовских» эпизодах в рассказе А. Солженицына). Но все же литературная родословная героини гораздо богаче: легко обнаруживается сходство Матрены с тургеневской Лукерьей из рассказа «Живые мощи», с героиней повести-жития Б.Зайцева «Аграфена», с лесковскими «героями великодушия», которые «любят добро просто для самого добра и не ожидают наград за него где бы то ни было»22, т. е. со всеми теми героями, художественная объективизация идеального морального начала в образах которых тесно связана с эстетическими принципами и литературными традициями агиографии. Словом, героиня рассказа А. Солженицына является личностью особого измерения – она «праведница», т. е. находится на «очной ставке» не только с историей, но и с духовной бесконечностью мира, в судьбе ее, как и в судьбах героев житий, отображается «вся действительность», как в конкретноличностном, социально-историческом, так и в универсально-бытийном преломлении. Тему противопоставления жизни и смерти в плане духовнонравственном, «земли» и «неба» как «дольнего» и «горнего», сиюминутного и вечного, тленного и бесконечно величавого, в рассказе А. Солженицына задают два начальных природоописания. Красота природы Высокого Поля для Игнатича не царствует сама по себе – это красота, освещенная особым сокровенным смыслом, заключающая в 21 Проведение аналогий между героиней «Матрениного двора» А. Солженицына и героинями «Жития Марфы и Марии», «Жития Юлиании Лазоревской» могут прояснить ряд принципиальных для понимания идейно-эстетической позиции писателя моментов. Однако в данном случае, как, впрочем, и в отношении большинства «житийных» рассказов, для нас очевиден факт апелляции писателя не к конкретным источникам, а к общим моральным схемам, «ценнтральному» содержанию житий. 22 Лесков Н.С. Собр. соч.: В 6 т. М., 1974. Т. 5. С. 171. себе значения гармонии жизни и свободы, причем, подчеркнем, свободы не только внешней, физической, но прежде всего духовной (не просто поле, но Поле Высокое); это та красота, которая может помочь личности ощутить относительность временных и пространственных координат, присущих обыденному сознанию, помочь соотнести земной островок с затерянным на нем человеком, с космосом, а мгновение его жизни – с вечностью. Здесь Игнатичу «хотелось бы жить и умереть»23. С пронизанного горечью и сарказмом описания индустриального пейзажа станции Торфопродукт начинает свое развитие в рассказе тема искажения экзистенциальной сущности человеческого «я». Эта жизненная среда отмечена запустением, обезличенностью и бесприютностью, всеми признаками вырождения: тут все временное, но уже состарившееся, «беспорядочно разбросанное», «однообразное», «худое». Нездоровье душевного и духовного состава обитателей этого мира проявляется в этической обессмысленности их жизни: «Вечером над дверьми клуба будет надрываться радиола, а по улицам пображивать пьяные да подпыривать друг друга ножами»/114/. Само название станции намекает на социально-этическое их «местоположение»: они живут в Торфопродукте, т.е., в разложившихся остатках когда-то живой материи24. Однако, с другой стороны, ведь и «космос» Матрениного двора при всем его величии отмечен знаками ущербности, всеми приметами заката жизни: сама хозяйка больна, дом изгнивающий, земля огорода истощена, кошка колченога, и даже коза – грязно-белая. Утверждение, что «все ж к той зиме жизнь Матрены наладилась как никогда»/125/, раз за разом «оспаривается» как будто незначительными оговорками и событиями, каждое из которых, накладываясь на след другого, нагнетает атмосферу напряженной предгрозовой обстановки, неотвратимо надвигающейся беды: Матрене стали наконец платить пенсию, но ведь «государство – оно минутное. Сегодня, вишь, дало, а завтра отымет»/125/; сшила она пальто, «какого за шесть десятков лет не нашивала», но оказывается у него и другое, красноречиво намекающее назначение – «зашила Матрена в подкладку этого пальто двесте рублей – себе на похороны» 23 Солженицын А.И. Мал. собр. соч.: В 9 т. М., 1991. Т. 3. С. 113. Далее страницы приводятся в тексте по данному изданию. 24 Отметим традиционность маркировки бинарного пространства в рассказе. Так и в народной культуре низины, овраги, расщелины, болота (в определенном смысле – «торфопродукты»), словом, понижение рельефа местности помечено господством злых сил, а «поля высокие», просторы бескрайние предполагают преобладание сил добра. /125/; стали приходить в гости к Матрене сестры, но ведь захаживать они стали в рассуждении на скорое наследство. Повествователь сам намекает на возможность перевода с языка реальности на язык мистического значения двух случаев – с котелком и с «сошедшей со двора» кошкой. На Матрену ложится тень трагической обреченности, «одно к одному»/134/ «предзнаменования» выносят на поверхность мысль: дом Матрены будет разрушен, а разрушение дома повлечет смерть хозяйки. Это чувствует и она сама («А для Матрены это было – конец ее жизни всей»/133/), и те, кто этот дом разрушает: «...Все показывало, что ломатели – не строители и не предполагают, чтобы Матрене еще долго пришлось здесь жить»/133/. «Переезд» дома Матрены неизбежно должен был закончиться на переезде – изначально обозначенной Игнатичем границе «нутряной России» и мира «паразитов несочувственных». Образ паровоза (а появляется этот образ в рассказе три раза) вырастает до символа особой социально-нравственной насыщенности – это слепая, чудовищная сила враждебных «кондовой России» социально-исторических катаклизмов, сметающая все живое на своем пути, изменившая судьбы миллионов людей и миллионы людей погубившая: «Это не Матрена, а вся русская деревня под паровоз попала – и вдребезги» (А.Ахматова)25. В своем смертельно-стремительном беге (как не вспомнить другой паровоз, который «вперед летит» и который ведут те, у кого в руках винтовка) он подминает все на своем пути, затрагивает всех – и тех, кто стоит на дороге, и тех, кто пытается затаиться в стороне. «Под паровоз попала – и вдребезги» вся «кондовая Россия», которую так стремился найти Игнатич, и которую, как ему показалось, нашел в Тальново. Но ведь, с другой стороны, беду Матрене несет прежде всего безблагодатное корыстолюбие, душевная скудость ее родных и близких; разрушать дом начал Фаддей, когда-то его строивший, причем разрушать «яро», «с ожесточением», «как безумный». Смерть Матрены оказывается лишь промежуточной концовкой, несущей провоцирующие функции: тальновцы испытываются кровью – крайней формой испытания на человечность. На фоне экстремальной ситуации с наибольшей резкостью выявляются их искривленные «практическим» взглядом на мир представления о должном, открывается потенциал их «отрицательных возможностей». Смерть героини потребовала суда самого строгого, отвергающего всякую относительность. И рассуждения Игнатича постепенно утрачивают свой полувопросительный характер (в покоробившем нравственное чувство героя случае с «вязаночкой», он еще сомневается: «Наверное. так надо было»/135/), приобретают все большую категоричность. Результатом резкого «остранения» (В.Б. Шкловский) Игнатича («И только тут – из этих неодобрительных отзывов золовки – выплыл передо мной образ Матрены, какой я не понимал ее, даже живя с ней бок о бок. И в самом деле!..»/139/) является его открытие: Матрена живет одной жизнью с тальновцами, но она не одна из них. Детализация психологических характеристик при этом берет на себя анализ действительности уже не только на уровне социальной психологии, но и универсальных противоречий человеческого бытия. Перевод бытописи на уровень философского обобщения, переход от чувственной конкретности (типизация) к понятийной (типологизация) разлагает сложную противоречивость реального бытия на наиболее устойчивые, изначальные понятия, «симплифицирует» образы: Матрена «опредмечивает» этический абсолют («праведник» – человек, жизнь которого прошла по законам доброты и совестливости), тальновцы – «греховное» начало («уроды и злодеи»/145/ – те, кто исключен из сферы духовного бытия). Плач – «своего рода политика»/140/ в борьбе за нехитрое Матренино наследство и поминки, холодная продуманность которых столь контрастна предельной искренности «исповеди» Матрены, дают 25 Цит. по: Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой // Нева. 1996. № 8. С. 9. Игнатичу богатый материал для размышлений, позволяют ему преодолеть первоначальную фетишизацию внешних примет своей «кондовой России», а в конце концов, и вовсе открывают внутреннюю тождественность этической косности тальновцев и идеологоповеденческих принципов «паразитов несочувственных». В этих сценах со всей наглядностью проступают душевная черствость тальновцев, степень их «раздушевления», не просто забвение родственно-отеческих духовных традиций, исконных национальных моральных и нравственных норм бытия русского человека, но их извращение. О вечном «среди бабьей суетни» пытается напомнить «старуха древняя», которая «сказала строго: "Две загадки в мире есть: как родился не помню, как умру не знаю"»/141/26. И тальновцы «вспомнили» о вечном. Правда, значение этого понятия в их устах оборачивается в свою противоположность: «Перед киселем встали все и пели «Вечную память» (так и объяснили мне, что поют ее перед киселем обязательно). Опять пили.» /143/. Подчеркнутая обрамленность упоминания о вечном контрастно «низкой» темой еды, графическая выделенность, интонационная акцентированность придаточного предложения предельно сгущает уже наброшенную в сцене плача«политики» насмешливо-саркастическую тень на духовную выхолощенность «сегодняшней» обрядовости «кондовой России». Если истинный облик Матрены трудноуловим, то облик тальновцев обманчив. Та самая женщина, чья певучая речь «обещала кондовую Россию»/114/ Игнатичу, та, которая казалась ему «единственной, кто искренне любил Матрену в этой деревне»/139/, в ночь смерти «полувековой подруги» озабочена тем, чтобы завещанное ей Матреной не попало к родственникам, которые «утром налетят, потом не получить»/139/. Так же и Фаддей, который представлялся Игнатичу деревенским мудрецом, хранителем нравственных начал («Во всем облике его показалась мне многознание и достойность»/128/), оказался «ненасытным стариком», за внешним благообразием его – внутреннее «безобразие», бездушное корыстолюбие. Каждый из участников произошедшей в молодости героини драмы делает свой «страшный выбор»/130/, но если Матрена осталась верной этическому кодексу человечности, то Фаддей не выдержал испытания: глубокая любовь к Матрене обратилась в его душе в не менее глубокое чувство – ненависть, 26 Отметим неслучайность использования писателем такой народной загадки без разгадки: сама «загадочная» форма подчеркивает особое положение смерти по отношению к возможности познать ее – она узнаваема, но не познаваема. выжегшую все человеческое. Даже в самый трагический момент совесть Фаддея не предъявляет свои права: величественного старца отягощают «тяжелые думы» об утратах, но не о том, что «дочь его трогалась разумом, над зятем висел суд, в собственном доме лежал убитый им сын, на той же улице – убитая им женщина, которую он любил когдато»/142/, а об оставленных на переезде бревнах. А ведь регресс, распад личности начинается именно с ослабления действенности нравственного сознания человека, когда совесть его молчит там, где она должна себя отчетливо выявить. Молчание ее означает духовную смерть – атрофию тех человеческих чувств, отсутствие тех видов эмоциональных «отношений» и переживаний, которые собственно и являются фондом духовной жизни личности. Игнатич вынужден признаться себе, что Фаддей «был в деревне такой не один»/142/, он неожиданно открывает в своей «кондовой России» бездуховный потребительский мир холодного эгоизма, лицемерия и своекорыстия, мир, в котором естественные человеческие связи и отношения разорваны или извращены. Но откуда пошло нравственное разложение, превращение народа в равнодушных и жадных обывателей? И шире: если история народа не творится без участия самого народа, так почему тот самый народ, которого в ХIХ веке объявили богоносцем, нравственной крепостью мира, своими руками крушил святыни? Писатель смотрит жестокой правде в глаза, отвечает прямо и мудро, указывая на причины и последствия разрушения жизнесозидающих основ народного бытия. Конечно, без учета сложившихся социально-исторических условий невозможно понять и поведение отдельного человека, и формирование общественного типа. Писатель как раз показывает результаты «переделки» «кондовой России» – этого единого целостного организма, самоорганизующегося «космоса» соразвивающихся в гармонии, по своей внутренней логике человека, природы, социума, – по заранее сконструированному, механически рассудочному проекту, в соответствии с требованиями абстрактного идеала. Действительно, корни безнравственности тальновцев в безнравственности общественной ситуации: законы, согласно которым разрушается крестьянское общежитие, семья, рвутся связи человека с человеком, с социумом, с природой, которые ставят его в приниженное положение, нельзя назвать нравственными; да, можно сказать, что поведение тальновцев обусловлено общественным бытием, и ограниченность, жестокость, косность, паразитизм власть имущих, словом, мир социальных образцов Торфопродукта задает основные траектории их поведения, вынуждая строить жизнь в обход нравственных законов. Но что завело тальновцев в духовный тупик, что обусловило столь скорое нравственное банкротство? Их собственные взгляды на мир, в основе которых лежат понятия «прок», «выгода», «польза», непомерно разросшийся, гипертрофированный «здравый смысл», свойственный «реальности» крестьянской натуры. Превыше всего на свете они ставят «пользу дела», материальный эффект, перед которым оказываются ничтожно невелики, а, следовательно, и несущественны нравственные преграды, естественные моральные нормы. Холодный, плоский прагматизм – сила разрушительная. Растление материальным души человека проявляется прежде всего в углубляющемся процессе отчуждения. Одиночество и непонятость героини окружающими ее людьми, родными и близкими обусловлено не особенностями натуры (напротив, Матрена «общительный нрав не потеряла»/145/), является не случайностью, но знаком острого дефицита духовных отношений между людьми, вытекает из самого нравственного состояния современного писателю крестьянского «мира». Игнатич горько размышляет о странной спутанности народной жизни, задумываясь о двух значениях – этическом и имущественном – слова «добро»/142/. Ведь, прежде всего отношение к «добру» разводит Матрену и других тальновцев на противоположные полюса в системе ценностных координат. Матрена «не гналась за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашающей уродов и злодеев»/145/. Но, с другой стороны, она вовсе не стремится, подобно агиографическим аскетам, к добровольному отказу от земных благ, ведь зло не в самом имуществе, но в порабощении им сердца. «Чудачества» Матрены в «имущественном» плане есть не отрицание материального, житейского (предпочтение высшей ценности не отменяет ценность низшую), но свидетельство внутренней независимости от тленных вещей, «небытие» вещного в ее доме оборачиваются максимальным бытием духа. «Не скопившая имущества к смерти»/145/, Матрена является обладательницей иного капитала – бесспорного опыта нравственного бытия нации и человечества. Алчность, погоня за материальными благами делает человека ущербным, поскольку оборотной своей стороной имеет забвение нетленных сокровищ духа, забвение, которое несет возмездие в форме духовной смерти. Тальновцы, низведя смысл жизни к гонке за «обзаводом», достигли той степени корыстолюбия, которая незаметно ставит человека по ту сторону добра и зла, лишает его права называться человеком: если «каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он заботится» (Марк Аврелий), то в Тальново «поросенок-то в каждой избе»/145/ и тальновцы готовы «жить для него – а потом зарезать и иметь сало… Купить вещи, а потом беречь их больше своей жизни»/145/. Эти «носители жизни», утрачивая ее важнейшие признаки – истинный смысл и высшую цель, целиком находятся в пространстве духовной смерти. Итак, в рассказе отразилось критическое умонастроение писателя не только по отношению к господствующим социально-политическим силам, но и к народной среде, в которой «вещное» решительно преобладает над духовным. Конфликт материального и духовного – вневременная нравственная проблема, конфликт, который кроется в самой природе человека. («Христос, когда пришел к нам, думал, что человек хочет любить, а он хочет иметь», – заметил по этому поводу Ф.М. Достоевский.) В христианском понимании духовное безусловно важнее материального, всю русскую классическую литературу пронизывает приоритет духовных вопросов над материальными. В раскрытии темы гибельности для человеческого «я» морока материального обольщения, в изображении той отрицательной стороны русской действительности, которая является одной из наиболее устойчивых, сложившейся в прошлом и перешедшей в настоящее, А. Солженицын продолжает традиции Толстого («Власть тьмы») и Чехова («В овраге»). Беспощадно трезвый взгляд писателя на нравственнобытовую и духовную косность народной жизни следует понимать не как выпад против собственного народа, не как отрицание жизнеспособности национальных сил (национальная самокритика, которая выстрадана болью, еще не есть утрата веры), но как страстный призыв к возрождению, что без откровенного разговора о пороках народного бытия невозможно. К тому же в рассказе А. Солженицына дан пример духовного величия русского человека. Да, влияние «исторических свершений» на сознание, характер, быт народа, искажающее «природное» моральное начало, нравственно-традиционное, несомненно, но все же не абсолютно: при резко высвечивает истинное лицо тальновцев именно тот свет, который излучает Матрена – чистая, отзывчивая, доверчивая душа. Над Матреной довлеет дух времени, судьба ее отражает судьбу народную и вместе с тем не просто комментарий «биографии» эпохи; характер Матрены – характер народный, но одновременно не равен ему, нельзя сказать, что она живет с народной массой одними чувствами, мыслями, переживаниями: Матрена «тот самый праведник» – человек, сохранивший верность «правде» и в атмосфере общей нравственной деградации, расчеловечивающего духа времени, при всех социальных аномалиях, перекосах в общественной психологии; это вершина, глядя с которой на этот мир, где так смешалось добро и зло, все становится на свои места. Этот образ воплощает в себе нравственную азбуку, выработанную многовековым укладом национальной жизни, корневые нравственно-психологические черты народной духовности, те, что сформированы сложным и разнообразным историческим опытом русского этноса, но, одновременно, он и «самостоятельная», завершенная целостность, в основе которой те нравственно-этические ценности, которые должны восприниматься как абсолютные и универсальные. Эти две стороны образа героини так же соотносятся, как соотносятся в самом рассказе два его структуро- и сюжетообразующие начала – национально-историческое и агиографическое. Таким образом, фигура «праведницы» не просто контрастно отчерчивает этическую обессмысленность бытия «уродов и злодеев», но переводит рассмотрение социальной действительности в сферу духа, в контекст «вечных» вопросов о Добре и Зле, Жизни и Смерти. Матрена – лицо страдательное. Неспособность Матрены отказать «как бы военной председательше»/122/, родным, разоряющим ее дом, соседям, бессовестно использующим ее бесплатный труд, просто попенять на людей, на время, на власть, как будто вынуждает придти к выводу: она эталон евангельского терпеливого смирения («С терпением и упорством последуем предназначенным нам путем» (Евр. 12:1)), кроткая мученица, занимающая пассивную, выжидательную позицию, по сути, пасующая перед активно проявляющимся злом. И, действительно, жизнь Матрены не пронизана декларативно бунтарским, вызывающе мироотрицающим пафосом, весь пафос ее жизни в ином – в деятельной любви к ближнему, во всегдашней готовности придти на помощь. Матрена борется с окружающим злом не в открытом с ним противостоянии, она просто не допускает в себя зло, превознемогает его своей волей к добру, и при этом не замыкается в себе, остается открытой миру. Стойкость в противодействии косной среде и обстоятельствам, ставящих человека перед соблазном нравственной и духовной капитуляции, способность жить по высшим моральным нормам во враждебных личности социально-исторические условиях, прощая и сострадая, испытывая стыд и чувство вины за черные дыры людской бездуховности, верность своему внутреннему нравственному кодексу, равнозначны героическому подвижничеству героев житий. Это и составляет суть «праведности» героини. Бессребреничество и «простота сердца», смиренномудрие и трудовое подвижничество, доброта, сострадание, всегдашняя готовность помочь, обостренная совестливость (совесть – это «глас Божий» в человеке, проводник Его особого действия в нас, «наместница Бога в душе», по словам Гете) Матрены наполняют ее жизнь высшим смыслом и красотою. Поведение ее, «смешной, по-глупому работающей на других бесплатно»/145/, алогично в глазах тех, кто думает и поступает, сообразуясь с «веком сим», но логично по отношению к Вечности. Да, нравственный и духовный пафос рассказа источником своим имеет не радость, но боль, однако трагическое оплодотворяется мыслью о бессмертии праведников, о том, что и господство «уродов и злодеев» не беспредельно, и Карфаген мира «паразитов несочувственных» падет. Мысль эта актуализируется введением усилительной частицы «ни» в пословичную форму, завершающую рассказ, а графически оформленный акцентно-ритмический раздел подчеркивает ее концептуальную значимость в пределах всего повествования: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша»/145/. Апелляция к обобщенным величинам универсальных нравственных идей, которые связаны с понятием «праведник», требует от читателя возвращения-возвышения, возвращения-переосмысления всего поведанного, превращает конкретный случай в притчу, судьбу – в метафору. История частной жизни включается во вневременной континуум, подлинные ценности «наличного» бытия Матрены ставятся в один ряд с ценностями «вечными», ее «философия сердца» и незыблемые константы общечеловеческого духовно-нравственного сознания синхронизируются. Стираются все временные барьеры, исторические дистанции, и Матрена предстает не столько нашим современником, сколько современником всех прославленных праведников «земли нашей»; жизнь ее представляется не длящейся, но пребывающей, она стягивает «было», «сейчас» и «через века». Матрена причастна вечности, светится ею, свидетельствует о ней, но при этом она не становится иконой, а жизнь ее – схематической иллюстрацией «праведного жития». Открывающийся в рассказе мир Вечности – не замкнутое в себе самом царство, оторванное от реальных земных человеческих судеб, эта Вечность не отменяет значительность живой, еще не «канонизированной» действительности, она как раз и «реализуется» во временном, в наличном, через единичное. С одной стороны, смерть Матрены не похожа на торжественно величавый уход из жизни героев житий. Безвыходность ее положения, нагнетаемая атмосфера обреченности, сцены духовно выхолощенных обрядов плача и поминок, возни претендентов на «добро», отсутствие каких-либо проблесков светлого образа будущей гармонии как будто не позволяет говорить о присущей агиографии обнадеживающеумиротворяющем финале. Но, с другой стороны, введение интроспективного момента в трансформированной пословичной форме – это ясное провозглашение обязательности торжества универсальных сил справедливого миропорядка. Без этого открытия Игнатича повествование обрывалось бы на зловеще звучащей ноте, концепция мира и человека в рассказе осталась бы проникнутой безграничным пессимизмом, картина жизни предстала бы неполной и неоправданно безнадежной. Да, писатель отнюдь не воспевает поэзию современного ему русского быта и бытия, но в образе героини, «овеществившей» высшие нравственные и духовные начала, прозреваются черты светлого будущего России, она воплощает в себе другую реальность, противостоящую разрушительной для личности реальности данной с ее бездуховностью и меркантильностью, смешением понятий добра и «добра». Вера в просветленную судьбу своего народа, в жизнеспособность его духовно-нравственных ценностей, на наш взгляд, является важнейшим пунктом этической позиции писателя. Такая же вера в возможности национального характера, а, в конечном счете, и в нравственный потенциал человеческой натуры вообще, в перевес в ней добра над злом, определяет пафос рассказа В. Астафьева «Мною рожденный». В нем, как и в «Матренином дворе» А. Солженицына показано дерзновение человека, сохранившего моральную оппозицию злу в эпоху нравственного омертвления и духовной несвободы. Как и А. Солженицын, В. Астафьев говорит народным языком, ясно, красиво, мудро и вместе с тем злободневно, глубоко, проблемно; в нем так же нет отстраненности холодного аналитика, мыслителя, он ведет разговор с читателем на пределе искренности, открыто публицистичен в провозглашении тех моральных норм и этических идеалов, которые утверждают истинное предназначение человека на земле; он так же бесстрашен в нелицеприятном обличении социально-нравственных пороков современности и, вместе с тем, обладает удивительным даром дать вдохновляющее понятие о русском характере. Схожи эти писатели и в особенностях художественного мышления: оба склонны к поучению, совмещению реалистических способов отображения жизни с символикой, наполнению живой биографической конкретики бытийно-притчевым звучанием; оба они стремятся составлять главный конфликт своих произведений из столкновений мировоззрений, извечного противоборства Добра и Зла, «жизни» и «смерти» в духовно-нравственной семантике этих понятий. Словом, неудивительно, что жанровая форма «житийного» рассказа оказалась наиболее припособленой к воплощению творческих заданий и эстетических принципов этих писателей, когда они, ведя «расследование», вершат свой суд над социальными пороками, и, обращаясь к эмоционально напряженной трактовке духовнонравственных основ жизни личности и общества, поэтизируют самопожертвенное служение Добру и Истине. Перенос идеальных духовно-нравственных качеств на вещественнобиографическое в «Мною рожденном» В. Астафьева идет вплоть до отождествления: стержневое в героине то, что у нее «душа современного Дон Кихота, всевечного чудака и бессмертного героя человечества»27. По этому имматериальному путеводителю выстраивается ее судьба, он «закругляет» весь смысл ее жизни, уравновешивает частное и масштабность универсальных координат человеческого бытия28. Перед 27 Астафьев В.П. Собр. соч.: В 6 т. М., 1991. Т. 2. С. 469. Далее при цитировании рассказов В. Астафьева «Мною рожденный» и «Людочка» в тексте указываются страницы по этому изданию. 28 Отметим, что в каком-то смысле введение подобного аллюзивного образасимвола эквивалентно одному из основополагающих принципов агиографического искусства, а именно сопровождению изложения деяний святого аналогиями из Священного Писания, сравнения его с библейскими персонажами, с наиболее незыблемыми религиозными авторитетами, теми, кто «ангельскы пожиша». Если в агиографии утверждение в жизненном поведении героев нравственного идеала «по отчьскому обычаю и преданию» преследует цель «усугубления» их святости, то в «житийных» рассказах «эмблемизация» образов, как бы накладывание на них отпечатка того или иного «сверхтипа» (Ю.М. Лотман) имеет особое сюжето- и структурообразующее значение: в оригинальный авторский текст «встраивается» уже некая готовая, наполненная определенным содержанием структура, описывающая «вечные» модели личного и общественного поведения, сущностные законы социального и природного космоса; аллюзивные символы, связанные со «сверхтипами», подвергаясь гиперсемантизации, создают скрытый план ориентаций нами «целый» образ, завершенный по идее, но при этом образ отнюдь не замкнутый в рамках символической условности, созданный на основе «самодвижения», «саморазвития», «самовыражающегося сознания», а потому образ, обладающий силой и реальностью живого ощущения29. Главным идеалом для героев донкихотского склада И.С. Тургенев считал самопожертвование во имя торжества добра, любви к ближнему, он видел в Дон Кихоте натуру героическую30. Так же и духовнонравственный облик героини В. Астафьева определяется героической действенностью в самопожертвенной любви. Елена Денисовна как бы принимает эстафету великодушия, благородства, служения добру и высшей справедливости: если ей выстоять «один хороший человек на вершинные проявления человеческого духа, становятся ассоциативной доминантой универсальных нравственных обобщений. 29 То, что материальные детали и факты, которыми оперирует писатель приобретают знаковый «эмблематичный» характер вовсе не означает, что его рассказ автоматически попадает в жанровый разряд притчи с ее «дематериализацией» персонажей и образной аскетичностью, вневременностью и внепространственностью координат, отсутствием детализации фона и т. д. Речь скорее идет о параболистическом «выгибе» сюжета. Символизация образа героини «непреднамерена», вырастает в результате все более ясного проявления, акцентирования духовно-нравственного «фундамента» характера. При этом, писатель, как, заметим, и другие авторы «житийных» рассказов, стремится всячески убедить читателя в отсутствии заданного «чертежа», «запрограмированности», в том, что он описывает то, что было, а не то, что ему хотелось видеть. Отсюда «самоустранение» автора, как центра авторитарной оценки, из повествования: он сразу предупреждает, что является лишь простым ретранслятором реальных историй, лишь публикует письмо Елены Денисовны и магнитофонную запись рассказа о своей жизни Валентина Кропалева. В эпилоге, однако, автор «выныривает» из сюжетного метапространства, становится персонифицированным повествователем. Причем, как и Игнатич в «Матренином дворе» А. Солженицына, он до предела сближается с реальным автором, находится на границе художественного и реального миров – свой в любом из них. Этим как бы удостоверяется подлинность рассказанных историй, создается своеобразный эстетический эффект: «исповеди» героев приобретают значение документа. 30 «Дон Кихот проникнут весь преданностью идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям. жертвовать жизнью… Он весь живет для других» (Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1979. Т. 12. С. 195.). Достоевский называл Дон Кихота «фантастическим человеком» в том смысле, что это, возможно, единственный в мировой литературе образ человека идеального – фантастически нелепого с точки зрения «здравого смысла», но поэтически истинного с точки зрения правды о природе человека – его неизбывного стремления к добру, гармонии, красоте. (См.: Багно В.Е. Достоевский о «Дон Кихоте» Сервантеса // Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1978. Т. 3. С. 126—135.). помогал – старый, старый дяденька – Дон Кихот Ламанческий»/456/, то и она, встретив в сталинских лагерях человека, который «был еще несчастнее.., его выходила» /455/, посвящает ему всю свою жизнь. С другой стороны, героиня ведь поступает в полном соответствии с евангельским «Пусть никто не ищет только своего блага, но печется о пользе других» (1 Кор. 10:24), с теми доминантными постулатами в этическом кодексе Священного Писания, которые связаны с представлениями о любви к ближнему, с категорией героического самоотречения (1 Кор. 9:19, Фил. 2:4, Деяния 20:24–25 и др.). Но при этом самоотречение Елены Денисовны лишено ярко выраженной религиозной, абстрактно-догматической подсветки: она не говорит о евангельских заповедях, но обращает их в кодекс личного поведения, не декларирует христианский этический идеал, но «материализует» его в конкретных жизненных ситуациях31. Как и солженицыновская Матрена, это щедрый сердцем человек, который не «идеен» в том смысле, что он не «теоретизирует», поведение которого проистекает не от сознательного следования нравственной идее, а от чувства ее в своей душе. Нравственное чувство героини просто и ясно, тяготеет к высоким образцам евангельской простоты, неизменной «простоты сердца» агиографических героев. Елена Денисовна «бесхитростно» (вот еще один «мерцающий» смысл у первоначального названия этого рассказа В.Астафьева – «О хитроумном Идальго») и твердо идет по предначертанному внутренним нравственным кодексом пути, и, следуя непосредственным велениям сердца, решает свою жизнь под знаком высших ценностей, в особых – житийных – измерениях, а потому становится, как и агиографический герой, «универсальным» человеком. Стать «универсальным», но «универсальным» другого порядка, «всем», но только другим «всем» (было же обещано – «кто был никем, 31 «Сверхтипы», подобные Дон Кихоту, как и многие знаменитые агиографические герои, являются такими «единицами» мировоззренческого порядка, которые, пройдя проверку эпох, занимают особое место в структуре культурной памяти человечества, в общечеловеческой школе духовности. Поэтому и не удивительно. что в русском «житийном» рассказе смысл понятия «агапе» может расширяться от значения, «отвердевшего» в семантической конструкции житий, до значения сущности, отражающей духовно-этические достоинства гуманистической культуры. Как и «модифицированные» в зависимости от авторских интенций агиографические жанровые атрибуты, «сверхтип» в «житийном» рассказе выступает своеобразным идейно-эстетическим катализатором, повышающим уровень семантической концентрации и аксиологического драматизма сюжетно-образного материала, придающим особую полноту и целостность концептуальному пространству. тот станет всем»), стать одномоментно, стать, не прилагая особых усилий, стремятся и члены семьи Горошкиных («Мы тожа добрыя»/454/, – уверяет Нюсечка, когда узнает, что герой Сервантеса «самый добрый человек»/454/). Горошкины – порождение «классового» уровня сознания, представители той «народной» власти, которая является, по сути, паразитирующим слоем населения (как не вспомнить поразительное по точности определение солженицыновской Матрены – «паразиты несочувственные»): идеи, которым они якобы служат, лишь средство эгоистического самоутверждения, смыслом их жизни становится стремление к всеобщей и окончательной победе справедливости в мире только для себя. Впрочем, Васечка Горошкин «усердно отрабатывал жилье и имущество. Выяснилось, что на Лубянке редко кому удавалось превзойти его в жестокости»/464/. История жизни Горошкиных, а это история полной нравственной деградации личности, не только и не столько биография частная, но прежде всего социальное явление, «антижитие», отражающее горькие приметы эпохи в наиболее ярком, сублимированном виде. Излагается она в «исповедях» Елены Денисовны и Сергея Кропалева отдельными «драматизированными» сценами-примерами, поэтому и типологизация их образов идет в основном через изобразительную сферу повествования, «сценические» приемы, «саморазоблачение» (показ события, а не «рассказывание» о нем, раскрытие характера не через его описание, а через поступки, «жесты», речь героев и т. д.). Так, писатель подробно выписывает сцену освоения молодой четой Горошкиных завоеванного у «врагов народа» жизненного пространства. Как для мародеров на вражеской територрии для них тут очень много непонятно и чудно, они «удивленно умиляются»: «А бильбаотека-то! Бильбаотекато! Неужто они все книги прочитали, Васечка?»/453/. Властолюбие и корыстолюбие, накопление благ – главные импульсы жизнедеятельности Горошкиных, но тем более поразительно, что сама их внешность, форма поведения, обороты речи проявляют черты типично положительных героев – выходцев из народной среды, от которых привычно ожидаешь, несмотря на всю необразованность, могучей нравственной силы. Ведь стало уже привычным – если есть здоровое физическое начало, природная «писаная красота», характерный говорок, диалектное словцо – жди народной мудрой лукавинки, а то и окончательного припечатывающего приговора. Приговор действительно выносится, Горошкины расставляют все точки над «і»: «– А ты чо тут делаешь, девочка?… Ты послушай! Вот умора! Она ждет. когда мы уйдем! Во, глупая! Во, дурная... – Васечка больно ткнул в мою грудь коротеньким пальцем и нравоучительно проокал: – Запомни дорогая мы здесь навсегда селимся. Мы отсудова никогда и никуда не уйдем»/454/. Они «собирались жить вечно»/461/, не понимая, не задумываясь, («Такие громады… природой созданы не для того, чтобы думать, нет у них такого инструмента, которым думают»/464/), что торжество их не долго. Напрастно генерал, когда отобрали у него часть награбленного и уволили за ненадобностью, «сперва дома орал, потом по телефону "Мало мы их, мерзавцев, стреляли!"»/465/. В квартире Горошкиных «запах тления сшибает с ног» /460/, смерть как бы таится внутри этого форпоста уходящего мира, от нее не могут спасти многочисленные замки: «генеральшу съела любимая кошка»/467/, карьера ее мужа-палача тоже находит свой логический итог – сумасшедший дом. В агиографических традициях проклятие падает и на «колена» грешников: детонатор подлости, заложенный прошлым четы Горошкиных, срабатывает в судьбе их дочери. Все Горошкины разоблачаются до конца, не удостаиваются писателем того сочувствия, которое обычно называется драматизмом или трагизмом судьбы – бездушные потребители, грабители и палачи, они достойны своей участи. Неминуемое возмездие за нарушение законов морального миропорядка приходит не только в форме физического страдания, но и в форме нравственной опустошенности, духовной смерти личности. Так, муж Елены Денисовны личность творческая, правда, особого рода – он «писатель-соцреалист»/459/, который «пришелся впору и к месту … Его даже на Сталинскую премию выдвигали»/457/. Он вступает в «диалог»соглашение с неправедной силой, представленной государственной идеологией с ее антигуманной моралью, казалось бы, не чреватое никакими опасными последствиями для души (в данном случае понятиясинонима полноценности человека), но неминуемо заканчивающееся крахом личности: включиться в мир порочных социальных отношений и сохранить при этом духовную независимость невозможно, в условиях тоталитарной системы, давящей все живое, даже самый малый из компромиссов может оказаться началом пути морального падения. В линии судьбы Олега Сергеевича, по сути, демонстрируется «механизм» превращения интеллигенции в продажную асоциальную прослойку: «писатель-соцреалист» один из тех, кто, подчиняясь силе, приняли новые правила игры и, спасая себя, думая лишь о себе, не думают уже о добре, истине, справедливости и становятся сознательными адептами преступной идеологии. Олег Сергеевич притворяется личностью значительной и необычной, но он, как бы старательно не стремился это опровергнуть, ни сколько не выше жалкого мещанского мира, плоть от плоти принадлежит ему. Преобладает в нем та расчетливость обывателя, тот «здравый смысл», который налагает путы на ум и душу: Олег Сергеевич уже не способен причаститься духовно-нравственным, возвышенно-философским взглядом на жизнь, сфера его жизнедеятельности – сфера суетных мыслей, забот, дел, романы он пишет, потому что они «давали возможность сладко кушать и мягко спать» /459/. Это имитатор, ряженый; он подобен фольклорной безымени – нечисти без собственного облика и голоса, которая ходит в личинах и постоянно меняет маски. Самозванство «инженера человеческих душ» сродни фарисейству тех агиографических героев, которые любили не Бога, но себя возле Бога; он находится во власти своего рода психологического солипсизма – сострадание его обращено не на вернувшую его к жизни жену, которая умирает от страшной болезни, но на себя, собственную «чувствующую» личность. Нравственный релятивизм (а, по сути, аморализм) преуспевающего «писателя-соцреалиста» доводит до предельной вульгарности жизненную позицию Елены Денисовны, однако бессмертие героини истинное, она не посрамлена опошлением ее жизни. Резкий контраст мужества самопожертвенной любви Елены Денисовны с пустым фразерством Олега Сергеевича лишь подчеркивает высоту ее нравственного идеала. Сам жертва слепой, неумолимой силы враждебных личности «великих свершений», вакханалии всеобщего страха и бесправия, «писатель-соцреалист» становится одним из тех, кто помогает проводить чудовищный эксперимент по замене традиционного народного религиозного чувства, исконных нравственных основ бытия человека псевдоморалью, квазидуховностью. Результат же этого эксперимента, концептуальную этическую картину мира, где веру в Христа высмеяли, любовь к ближнему подменили классовой ненавистью, рабами стали не Божьими, а диктатуры пролетариата, В. Астафьев рисует в рассказе «Людочка». Неслучайно, что вся фантасмагория жизни поселка Вэпэвэрзэ, которой руководит местная власть, отличавшаяся «повышенной бдительностью, классовым чутьем» /418/, проходит под «трехметровыми буквами лозунга "Наша цель – коммунизм"»/418/ – это не просто уточняющая подробность жизненного пространства героев рассказа, но метафорический образ-знак узурпации истины: господствующая идеология объявляет себя единственным ее носителем. «Вечные» ценности не просто отвергаются как узкие и ограниченные на данном историческом этапе, они подменяются. Мотив ряжености, имитации, фиктивности самопровозглашенного статуса (Гавриловна притворяется, что заботится о Людочке, местная власть, что руководствуется «гражданской принципиальностью» /418/, чины МВД, что заинтересованы в поисках виновных, врач, что лечит больного, обрекая его на смерть, и т. д.), обращает к евангельскому пророчеству («Многие придут от Моего имени и скажут "Я – Мессия", и многих обманут» (Мф. 24:5)), к образу Антихриста в его агиографической трактовке как «космического узурпатора и самозванца, кровавого гонителя всех свидетелей истины, утверждающего свою ложь насилием»32. Жители поселка недвусмысленно мечены его знаком «зверя» («…люди вели себя по-звериному»/420/), выбитые из круга духовного бытия, они несут в себе стихию бессмысленного разрушения («Парк выглядел как после бомбежки»/417/). В этом плане история жизни героини предстает продолжением давних агиографических традиций изображения духовного отпора подвижника обществу, пораженному эпидемией греха и бесовского самозванства. Противостояние общечеловеческих ценностей и «материалистической идеологии», которая, низведя историческое миропонимание до схемы «борьбы классов», универсальным основанием морали объявила элементарную коллизию «мы – враги», соотносится в рассказе с универсальными противоречиями бытия – антиномией добра и зла, жизни и смерти. Лжемессии, претендующие на духовное предводительство, ведут не к спасению, но к кризису «внутреннего человека», а затем и его гибели. Ведь «все прогрессы регрессивны, когда рушится человек» (А. Вознесенский): прогресс, основанный на механически рассудочных моделях «осчастливования» всех, таком ускоренном преобразовании социальных отношений, которое коренным образом нарушает естественное течение жизни, есть 32 Мифы народов мира: В2 т. М., 1980. Т. 1. С. 85. движение не вперед, но назад, движение, которое, в конечном счете, ведет к саморазрушению, к смерти. В рассказе В. Астафьева как раз и показывается, что «творцы» нового занимаются «сотворением хаоса». Мир коллапсирует: кладбища запахиваются («чего среди вольного колхозного раздолья укором маячить, уныние на живых людей навевать»/444/)33, а поля превращаются в пустыри, жизненное пространство сужается (люди оказываются в «загоне-зверинце», в «тюрьме-одиночке»/429/), а время поворачивает вспять – длительный эволюционный путь вочеловечивания парадоксальным образом завершается короткой дорогой назад: жители поселка Вэпэвэрзэ превращаются в «блудливых скотов… с хилыми извилинками в голове, колупающих от жизненного древа липучую жвачку»/447/. Причем, оказывается, что смертельная болезнь уродливого преломления в психологии людей пороков социального жизнеустройства с его вне-, а по логической завершенности, и антихристианскими принципами, вовлекла в порочный круг зла не один какой-то слой общества, но совратила, затронула народ в лице самых разных его представителей. Духовный состав народа перестает быть собственно духовным, выхолащивается, превращается в мертвую сущность; трудовое население становится аморальным «охлосом». «Где они ныне, декабристки-то? В очередях за вином»/439/, – с язвительной грустью замечает писатель. Он оставляет в стороне политическую механику государственного произвола в отношении личности и народа, представляет прежде всего тот результат, который дала эпоха культивирования лжи, жестокости и злобы, последствия дегуманизации общества. Показывая закономерности и логику вещей, он открывает главное – нравственную незаконность законной власти, которая пагубно, растлевающе влияет на человеческую душу, выстраивает мир без веры, 33 Утрата памяти равносильна духовной смерти. Если герои-«праведники» в «житийных» рассказах всегда ощущают кровную связь со стариной (солженицыновскую Матрену, например, «привлекало изобразить себя в старине»/134/), обостренно внимательны к своему прошлому (отсюда ярко выраженный исповедальный пафос повествования), то окружающие их люди, как правило, обнаруживают неумение душевно обогащаться родовой памятью, невосприимчивы к духовному опыту прошлого. Как раз такие «бездомные» люди, лишенные исторической памяти, предрасположены к тем идеологическим и политическим маниям, в которых нет сердечно-человеческого начала. без сердца, без совести, без света духовности и, заметим, без надежды – этот мир обречен на саморазложение, «нацелен» на убиение. Именно убиение становится вершиной антитворения творцов «нового». Они и «революционно» переделанные ими люди причастны миру смерти. Ее печатью Стрекач, например, как и «злые от природы» агиографические злодеи, с рождения отмечен: «Порочный, с раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем, таскался с ножом» /423/. Но все же его злодейства, как и злодейства всех «нечистых» поселка Вэпэвэрзэ, не «реализация» врожденных наклонностей натуры, но социальная болезнь века, следствие коренной переделки традиционных основ народного бытия, которая затронула не только социально-политическую, мировоззренческую, культурную, бытовую и иные сферы существования человека, но и самого человека в сторону подавления и подмены свободного самоосуществления личности. Люди оказываются несвободными настолько, что, сообразуясь с «веком сим», вынуждающим переступать «нравственный закон внутри нас», неспособны осознать творимое, безнравственное свое поведение они воспринимают как самое естественное. (Заметим, что даже агиографические злодеи осознают, что творят. «Приумножу и это зло к своим злодеяниям», – провозглашает Святополк Окаянный). Писатель показывает, что происходит с человеком, когда он лишается открытых, простых, честных форм гражданской жизни, когда попираются законы добра, справедливости, гуманизма, когда в фундаменте общественного устройства не остается места Богу и основывается оно на культе узаконенного и не узаконенного насилия (насилие провозглашается бабкой-повитухой истории), лицемерии, цинизме: оставшись без духовной поддержки, человек покоряется соблазну самоутверждения себя в разрушении окружающего мира, в нем начинают властвовать темные стороны его натуры – демоны корыстолюбия, властолюбия, жестокости, и в итоге появляется «человек-зверь», «человекоподобный», «нечистый», который свободой от душевных тревог и мучений совести. похваляется «Нечистые» – люди никакие, они – метонимическое выражение массовой жизни, «массового человека»34.Это уже и не совсем автономные, и не совсем самоосознающие биологические единицы, которые стремятся слиться в массу, в то самое «стадо, издевающееся над тем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них» /420/, которое отрицает истинно духовную трансцендентную природу человеческого «я». Оказавшись во власти стадных инстинктов, люди превращаются в «человекоподобных пленных, которым некуда больше бежать»/420/. И ведь действительно некуда – полная нравственная деградация, разрыв духовных связей с окружающим миром на данном уровне развития цивилизации обрекают человека на самоуничтожение: если Игнатич без ошибки может предположить, что в поселке Торфопродукт «будут пображивать пьяные и подпыривать друг друга ножами»/114/ («Матренин двор» А. Солженицына), то и в рассказе В. Астафьева «нечистые» парка Вэпэвэрзэ «в бесовстве и неистовстве бросались на огорожу, как на 34 Заметим, что авторы «житийных» рассказов, явственно склоняясь к метафорической («группа метафоры» включает сюжетную метафору, метафорический эпитет и перифраз, олицетворение, аллегорию), эмоционально напряженной трактовке нравственных основ жизни личности и общества, однако используют и «выразительный» потенциал сюжетной метонимии, синекдохи, антономасии (основа – дискретность изображения), позволяющих обрисовать мир через несколько деталей, «идентифицировать» «целое» через характерную частность, воспроизвести «атмосферу» характера через его силуэт. Так, по принципу аналогии «вещные» реалии метонимически обнажают тип духовной модели современного человека: через отождествление материального «окружения» героя со скудостью его духовного мира, убожеством внутренних запросов и потребностей рисуется портрет деиндивидуализированной личности, воссоздается история даже не жизни отдельного, пусть и самого заурядного индивидуума, но прозябающей толпы, массы. Однако «механизмы» синхронного взаимодействия, функциональной взаимодополняемости всех группировок выразительных средств, выступающих в качестве композиционно-стилистических доминант в «житийном» рассказе, является темой специального исследования, на которую здесь можно только намекнуть. амбразуру в военное время»/420/, «дрались тут и резались, иногда насмерть» /419/. В рассказах и Солженицына, и Астафьева не просто с печальной закономерностью рисуются выморочные представители народа, но анализируется состояние мутировавшего национального архетипа, в котором негативное саморазрушительное начало настолько доминирует, что обнажает чуть ли не суицидальную свою природу. Изоморфная образность в рассказе В. Астафьева («звериные» черты, «скотское» поведение «нечистых»), которая, можно предположить, восходит к устойчивой агиографической формуле сравнения злодеев и бесов со зверями, «поглотити хотяще праведьнаго», к назидательной прямолинейности древнерусской метафоры «страсти – звери», не только акцентирует внимание на господство «животных» отношений между людьми (инстинктивные, эгоистические, потребительские), но и имеет особый смысл: социальное устройство, наизнанку вывернувшее все нормы духовного бытия человека, ставит на грань вырождения саму его природу. Речь идет уже не просто о кризисе, но о крахе человека. Неслучайно, что в главном антагонисте героини подчеркивается особая степень расчеловечивания – уподобляется Стрекач даже не животному, не дикому зверю, но насекомому35, образ которого особенно отвратителен, враждебен человеку: «Лицом он действительно смахивал на черного узкоглазого жука, летающего по древесной рухляди и что-то там и кого-то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишнего стрекача в Вэпэвэрзэшном поселке урожденого Стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец-усов у этого под носом была какяе-то грязная нашлепка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающая порченные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные» /422—423/. Вот апофеоз отделившейся от Бога личности. Как раз в отсутствии прививки христианской духовностью писатель видит первопричину нравственной нестойкости, скудости души, урезанных, плоских жизненных представлений своих современников. Если в описании «веры» «бабья, в суеверие впавшего» /429/, слышна его ирония и скепсис по 35 Прозвище героя говорит о многом: «стрекать» – значит убегать, «стрекательный» – обладающий особыми клетками, которые колют и жгут при соприкосновении с ними. отношению к современному религиозному сознанию народа, не исключающие, однако, известную долю сочувствия и понимания, то поведение Гавриловны, которая Людочке, душой стремившейся за поддержкой к Богу, «напрямки бухнула: мол, достойным веры в бога надо быть...»/441/, представляет уже такую конфигурацию религиозного жеста, при которой он утрачивает свою духовную интенцию, амбивалентность сакрального/профанного доводится «наставником» Людочки до ситуации «подмены»36. В отношении к «народной религиозности» стрекачей повествователь откровенно саркастичен: «Эти парни во главе с атаманом-мылом ведали, что под цепочкой с крестиком, ниже вольного крыла орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучее, внушающее трепет, изречение: "Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера Наливайко". Парни таращились на такого редкостного человека» /424/. Целостная авторская концепция действительности в рассказе В.Астафьева реализуется не только на сюжетно-композиционном уровне, но и через чередование по определенной системе разных форм и типов речи, разных стилевых пластов, а именно открыто личностного выражения этической позиции автора, его эпического мироощущения, возвышенно-философских обобщений в литературно нормированной речи повествователя и сказовых интонаций. Право «голоса» с четко выраженными речевыми особенностями получают и представители старшего поколения (Гавриловна, мать Людочки, старухи из деревни и т. д.), и «нечистые» парка Вэпэвэрзэ (напр.: «Имали они тут девок и однажды чуть было не поймали вольнодумную ленинградскую учителку – убегла, физкультурница»/419/), и даже местная власть, которую «всегда отличала повышенная бдительность, классовое чутье» /418/, и которая с народом «общается» посредством лозунгов: «Было "Дело Ленина-Сталина живет и побеждает" – стало: "Ленинизм живет и побеждает"… Результат местной идейной мысли тоже был: 36 Действительно, для агиографических грешников до определенного момента невозможно прямое обращение к Богу – запрет на молитвы существует вплоть до полного искупления греха в мученических подвигах, до явления чудесных свидетельств прощения. Однако Гавриловна не права ни формально, ни, тем более, по существу: Людочка жертва, но не грешница. "Трудящиеся Советского Союза! Ваше будущее в ваших руках"»/418/. Все эти «голоса» сливаются в один мощный «голос» того мира, которому вынуждена противостоять Людочка. Если по отношению к выморочным «нечистым» комментарии автора прямы и закончены – они последовательно и целеустремленно отчуждаются от мира людей, то за «голосами» старшего поколения – сформировавшееся к тому времени нормативное коллективное сознание37. Однако в рассказе В. Астафьева функциональная заданность ввода сказовой стихии отнюдь не традиционна (суд над современностью с позиции идеальных народных представлений, норм народного миросозерцания), как и в случае с «народным» говорком четы Горошкиных в «Мною рожденном», ее ценностная значимость предельно снижается, привычные положительные знаки меняются на противоположные, разрушая и разоблачая тот величественный, хрестоматийный образ народа, за которым безоговорочно признавались черты нравственного здоровья, духовной силы, чувства собственного достоинства. Так, «природные» и евангельские универсальные нравственные идеи в деревне Людочки оборачиваются в устах местного «праведника» в примитивно-мистические представления о конце света, в проповедь огульного неприятия этого мира, в утверждение, что «все мы – грязные твари, веры в Него недостойны»/428/, народная мудрость трансформируется в лицемерные сентенции Гавриловны, а проникновенное, сердечно-материнское начало «напевной» речи деревенских жителей – в холодную, резко отчуждающую речь матери Людочки. Речевые характеристики двух последних персонажей прежде всего выражают то определяющее поселково-деревенскую жизнь начало, которое заключает в себе сугубо материалистическую, антидуховную сущность. Традиционное для агиографии и фольклора единство этического и эстетического разрушается, повествование наполняется тем, что так, заметим, избегали средневековые книжники, – словами «худыми», «грубыми», «зазорными», «неухищренными», которые создают общий фон безрадостной, внутренне однозначной социальнопсихологической повседневности, образ духовного тупика, в который оказался загнан народ. 37 Заметим, что средневековая житийная литература так же «стремилась выразить коллективные чувства, коллективное отношение к изображаемому» (Лихачев Д.С. Избр. раб.: В 3 т. Л., 1987. Т. 3. С. 332.). Причем, для русской агиографии характерен мотив народопочитания, согласия и любви. Герой «Жития Сергия Радонежского» Епифания Премудрого, например, кланяется простому земледельцу, который наделяется ореолом «богоносца». Соотнесение разнообразных речевых «масок» автора с различными нравственно-семантическими наполнителями, контраст снижено сказовых интонаций с возвышенно философскими «выходами» героини в ее внутреннем монологе (эпизод с безымянным лесорубом), публицистически обличительно-проповедническим накалом речи литературного повествователя подпитывает «энергией отрицания» силовое поле «мерцающего» в повествовательном потоке плана универсальных нравственных идей. Доминирующий в рассказе В.Астафьева мотив саморазрушения бытия, наступающего апокалипсиса, аккумулирует весь спектр отрицательных значений деятельности адептов идеалогии, которая, будучи возведенной в статус государственных законов, грубо и бесцеремонно пресекла линию самобытного духовного развития русского народа. Но не менее важное место в лейтмотивной системе рассказа занимает мотив «удручающей обыденности, обезоруживающей простоты»/412/ терзательств и погубления героини. Писатель сразу предупреждает: «Это нехитрая и оттого совсем жуткая история»/412/. И действительно, в «нехитрости», «обыкновенности», «заурядности» произошедшей трагедии – ее глобальность: пребывающее зло становится обыденным, в мире подмененной морали, нравственных аномалий, тотальной деформации духовного в общественном сознании, все могло произойти только так, а не иначе. Да и сама Людочка обыкновенна, она из евангельских «малых сих» – «простенькая, в простенькой, обыкновенной плоти ютившаяся душа»/443/. Но неожиданно «обыкновенная» героиня ведет себя как те герои житий, которым была присуща принципиальная алогичность поступков и речей, которые нарушали в глазах окружающих обязательные для рядового человека нормы поведения38. Объясняется это просто: «обыкновенность» героини не в том, что она как все, а в обратном – выглядит она фигурой «необыкновенной», поскольку не подчиняется «ситуативной этике» окружающих, идет поперек потока жизни тех «нечистых», которые составляют «норму» этого уродливого мира. Лукавит повествователь, замечая: «Почему-то втемяшилось в голову – звали ее Людочкой» /412/ (Людмилой – «людям милой»), ведь 38 Нельзя не обратить внимания, что Людочка, подобно героям житий, с детства отличается от сверстниц, она «была пришиблена нездоровой плотью отца…, росла как вялая, примороженная трава, мало играла, редко пела и улыбалась»/413/. К Людочке окружающие относятся как к ущербной, «неполноценной» («Господи, помоги хоть эту детю полноценну родить и сохранить»/449/, – молится мать Людочки о втором своем ребенке), в определенном смысле юродивой. имя это лишь резче подчеркивает – людям она, такая, какими должны быть все нормальные, обыкновенные люди, оказалась немилой. И хотя путь к смерти Людочки воплощен в бытовой форме, но ясно, что путь этот обусловлен властью надличных сил, есть следствие неуместности ее, сохранившей «обыкновенную» природную нравственность, в мире ложных, непоколебимых в своей ложности, ценностей. Нормальные, обыкновенные люди, попадая в противоественную ситуацию, когда все духовное, нравственно здоровое превращается в посмешище, а уроды и злодеи имеют власть над жизнями людей, становятся изгоями. Такое общество не прощает «особенности», пусть даже и не ярко выраженной индивидуальности, оно мстит одиночеством и смертью. С другой стороны, ведь не только Людочке «предстояло до конца испить чашу одиночества»: и «нечистые» находятся в «беде и одиночестве»/440/, и в деревне живут «одиноко состарившиеся бабы»/428/, и Гавриловна одинока, и «в своей недолгой жизни был бесконечно одинок и беден»/437/ безымянный лесоруб. Писатель показывает, что разгром традиционных христианских и гуманистических ценностей путем простой перемены знака привел к тому, что одна из самых высоких идей человечества – идея Братства людей – оборачивается издевательски противоположным – отчуждением. «Лукавое людское сочувствие»/439/, «заброшенность», «отверженность» людей становится главным пульсирующим нервом повествования: «да кому она нужна»/443/, Людочка, и мысль о том, что «никому до меня нет дела» /442/ становится последней в ее жизни, чужие друг другу дочь и мать (Людочке, ишущей поддержки, мать уделяет «что-то даже похожее на ласку»/431/), полна корыстных расчетов приютившая Людочку Гавриловна, предает ее Артемка, и лесоруба «предают живые! Не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорей кончились его муки, для того, чтоб самим не мучиться»/449/. Причиной таких «небратских» отношений, такого всеобщего неблагополучия людей является доминирование в их психологии голого практицизма, холодной рассудочности, бессердечности, истощение в их душах сострадания как соучастия в другой жизни: когда жизнь человека начинает отсекаться от жизни другого, у каждого оказывается свой одинокий и поэтому неотвратимо трагический путь. Мотивы отчуждения и одиночества людей, «обыкновенности» случившейся трагедии сопровождает, «собирая» в цельный повествовательный рисунок, мотив вырождения – бессильного доживания всего живого в русской деревне и суицидального буйства стихийной силы в поселке Вэпэвэрзэ. В «свернутом» виде мотив вырождения задается одним из начальных пейзажей, своего рода поэтической мораль-метафорой: «Вся деревня, задохнувшаяся в дикоросте, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами домов, с угасающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями. А старые, те еще, деревенские березы чахли. Яблонька на всполье что кость сделалась… ободралась, облезла как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего только сил набиралась?.. И однажды ночью живая ветка, не выдержав тяжести плодов, обломалась. Голый, плоский ствол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревне. Еще одной. “Эдак вот, – пророчила Вычуганиха, – одинова средь России кол вобьют, и помянуть ее, нечистой силой изведенную, некому будет…”» /427—428/. Содержание этой тягостной картины связано не только с темой принижения и омертвления русской деревни, ухода в небытие целого мира, целой эпохи, но и соотнесено с судьбой героини: как весенняя пробуждающая природа пытается воспротивиться насильственному разрушению сокровенного порядка мироздания, так и «обыкновенная» Людочка противостоит «нечистым» парка Вэпэвэрзе; гибель яблоньки как бы предвосхищает восхождение героини на свою Голгофу. И в том, и в другом случае смерть представляется с апокалиптическиэсхатологической напряженностью, без какого-либо намека на горацианскую ноту. Рисуя образ-карикатуру уродливого мира, созданного по логике извращенной идеи, писатель показывает, что она приводит не только к искажению нравственных основ жизни народа, но и к уничтожению духовных начал природного бытия: «Текла горячая речка, кружа радужно ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования… Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. С годами приползло и разрослось дурнолесье и дурнотравье. Кое-где дурнину непролазную эту пробивало кривоствольными черемухами, дветри вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла… Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дольше младенческого возраста у них не шло – елки срубались к новому году догадливыми жителями поселка Вэпэвэрзэ, сосенки ощипывались козами, просто так, от скуки, обламывались мимо гулявшими рукосуями… Парк, захлестнутый всходами черных тополей, выглядел словно бы после нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут стояла вонь, потому что бросали щенят, котят, дохлых поросят, все, что обременяло дом и жизнь человеческую» /416—417/. «Но человеку без природы существовать невозможно и коли ближней природой был парк Вэпэвэрзэ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали»/417/, однако ясно, что такой искалеченный природный мир, конечно, уже не может дать человеку то, что он всегда в нем искал и видел – сокровенную гармонию земного и духовного, источник душевной цельности и нравственного здоровья39. Страшные и мрачные образы «окультуренной» человеком природы «комментируют» нравственное содержание эпохи, «аккомпанируют» мотиву духовной бесприютности людей, их грязного, унылого существования: «В таком роскошном месте как парк Вэпэвэрзэ само собой “нечистые” велись, да все здешнего рода и производства, пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались»/418/. Таким образом, нарушение 39 Заметим, что если пейзажам в житиях – прекрасному и непорочному иконному «миру Божьему» – часто отводилась роль нравоучительного образца, нравственного руководителя, указывающего человеку естественный и простой путь поведения, то для «житийного» рассказа более характерно как раз отсутствие пейзажей светлых, умиротворяющих, отмеченных глубокой одухотворенностью. «Нарочитый пессимизм» в природоописаниях, нагнетание в них зловещих примет эсхатологической аномальности исходит от трагического мироощущения («апокалипсического видения»), которое возникает у авторов «житийных» рассказов, когда они поверяют современность новозаветным духовно-нравственным опытом, «вечными ценностями». естественного течения жизни, поругание сокровенных начал природного бытия очерствляет души людей, ведет к утрате гармонии в отношениях между ними, а, в конечном счете, несет смерть, поскольку само существование человека оказывается природонецелесообразным. Как и агиографическому искусству, для «житийных» рассказов характерно тяготение пейзажей к «инобытию». Это могут быть и откровенные «приращения» к конкретно-реалистическому плану природоописаний притчево-иносказательных и мифо-символических смыслов40, и неявные, «мерцающие» обобщенно-метафорические «сгустки». В раскрытии нашей темы антиномии «жизни» и «смерти» в рассказе В. Астафьева особый смысл приобретают те из них, что связаны с древнейшим мифологическим41 и религиозным символом – водой. В христианской культуре вода – среда Божьего присутствия, при Крещении освобождающая человека от власти демонических сил и греховной материи, символ животворящей силы, возрождения, обновления42. И в рассказе именно с водой связывается возрождение к жизни отчима Людочки, через судьбу которого прошел излом эпохи, именно она возвращает ему отнятое: «Отчим, будто детсадовец, булькался на отмели, молотил узластыми бледными ногами по воде… Хлопал себя по животу, вдруг забегал вприпрыжку по отмели, и хриплый 40 Оговоримся: в «житийных» рассказах природа все же выступает самосущим и самоценным земным естеством, а в житиях она несет в себе знаки особого содержания: «Величие природы есть только исполинская тень в пространстве и времени от бесконечно возвышенного над всяким пространством и временем бытия» (Надеждин Н.И. Лекции по теории изящных искусств // Русские эстетические трактаты первой трети Х1Х века: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 494.). Символизирующая мысль составителя житий стремилась увидеть во всех явлениях тварного мира написанные перстом Божиим письмена, которые необходимо прочесть, он рисовал мир вечных реальностей: то, что не одухотворено божественной благодатью, представлялось далеким фоном, а то, в чем виделся прообраз жизни вечной, отсветы горнего, подавалось с предельной ясностью. Авторы же «житийных» рассказов стремятся выйти к концептуальному через чувственно воспринимаемую сторону природных явлений, и при том, что их пейзажи предполагают домысливание, дешифровку, они, как правило, отличаются реалистичностью пространственной прорисовки, спецификацией описания, его точностью и естественностью. 41 В мифологической культуре дно (земля под водой) – это мир смерти, а то, что находится над водой – мир жизни, света; вода в пространстве между двумя этими мирами может быть «живой» и «мертвой». В традиционной русской культуре вода часто так же связана с присутствием инфернальной силы, с «инишним» миром. 42 Вода в христианском богословии еще и первичная космическая стихия (в начале творения «…Дух Божий носился над водой» (Быт. 1:2), а, допустим, в «космологии» Тютчева к тому же и стихия последняя («Последний катаклизм»). рев радости исторгался из сгоревшего или перержавевшего нутра… Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, детство, настигло иль настигало его, вернулось к нему лишь теперь…» /433/. Вода в рассказе выступает и в качестве характерного для агиографии средства «всегубительства демонов»: купелью не жизни, но смерти становится для насильника Стрекача канава его любимого парка. В «Людочке» В.Астафьева при желании можно найти жанровые приметы «бытового реализма» (отображение сферы обыденной жизни, социально-психологической повседневности), криминальной истории (преступление и наказание), даже мелодрамы (героиня гибнет, она оплакана и отомщена), и, уж конечно, «памфлетный» ракурс (сатирическое изображение социальных язв, наполнение чуть ли не каждого эпизода публицистическим пафосом), но сюжетное ударение в рассказе все же выпадает на ракурс нравственно-философский (обнажение корня зла, причин и последствий «разрушения» человека, спасительности «вечных ценностей»); с одной стороны, история жизни и смерти героини предстает как точный художественный индикатор нравственной состоятельности социальных процессов, ставит «диагноз», дает морально-этическую оценку реалиям нашей жизни, с другой, художественный анализ сосредоточен и на уровне родового миропонимания, общих проблем человеческого бытия. Власть над личностью враждебных ей «злых сил» социальных обстоятельств, порождающих острый дефицит морально и этически нормированных отношений между людьми, вырисовывается в рассказе как антиканон христианства, отрицающий духовную концепцию человека. Что может противопоставить безжалостности, этому фундаменту подмененной морали, Людочка, эта «простенькая душа»? Основу основ христианского учения, то, что, пожалуй, является главным в духовности – любовь самоотверженную к ближнему, сострадание. Сострадание, которое предполагает в истинном своем смысле самую деятельную помощь одного человека другому, вплоть до «душу свою положить за други своя», не просто способность отзываться на чужую боль, но переживание чужого страдания как своего собственного, прямо проецируется на христианскую антропологию, на евангельский образ Христа, на агиографические традиции; «сострадание – это все христианство»43. Центральное место в художественной структуре 43 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1975. Т. 9. С. 270. «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», – рассказа и формально, и по существу, занимает именно фрагмент, понуждающий воспринимать судьбу главной героини сквозь призму евангельского сюжета. Случайно встреченный Людочкой в больнице умирающий лесоруб «жертвы от нее хотел, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо: вдвоем они сделались бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершем, выявился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на пути к воскресению»/439/. И Людочка чувствует, что «если и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку как в старину (выделено нами – И.Ш.), может, и в самом деле, появились бы в нем неведомые силы. Ну, даже и не свершись чуда, не воскресни умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя, до последнего вздоха, сделало бы, прежде всего, ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам»/440/. Этот момент чувствования и переживания героиней Бога, опыт ее общения с трансцендентальным является ключевым для понимания философской, не ограниченной определенными социальноисторическими рамками, проблематики рассказа44. Окружением истории жизни и смерти Людочки системой подобных аллюзивных деталей-намеков, метафорических рядов, агиографических реминисценций собственно и создается «житийный» план повествования как смысло-ценностное «энергетическое поле», без которого целостный художественный организм рассказа распался бы. Да, никто не научил Людочку даже молитве, не обратил к Богу («Боже милостивый, Боже милосердный… Люди добрые. простите. И ты, Господи, прости меня, хоть я и не достойна, я даже не знаю, есть ли Ты?»/442/, – взывает она перед смертью), и эта «простенькая душа» погибает с мелкой, ненужной мыслью о потерянном комсомольском значке. И все же воинствующий атеизм государственной идеологии, установивший жесткие запреты на любые, даже самые незначительные говорит князь Мышкин, герой, в котором, как известно, писатель хотел показать идеального человека. (Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 8. С. 192). 44 Можно отметить и еще один подобный момент чувствования Людочкой трансцендентального, глубинные корни которого таинственны и сверхрациональны: она «почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены – мать не слушала и не слышала ее. И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали… Ей казалось, что память ее, душа ли продолжаются там, в нарядном заречье, и слышат ее там…»/432/. попытки воссоздания духовной альтернативы, загнавший в «подполье» сознательное христианство, оказался бессильным перед христианством непроизвольным, «врожденным», имманентным, перед тем духовным достоянием человечества, которое было создано и укоренено христианской традицией. Речь здесь идет о неистребимости императивов религиозного движения в душе человека, которые даже при сугубо секуляризованном сознании и культуре эпохи сами по себе могут вернуть его к Высшим Началам. Как и герои житий, которые при виде слабости ближнего не выносили ему приговор, но сострадали, помятуя о собственной греховной природе, боролись не столько с врагами, сколько с мстительным чувствами в себе, героиня «Людочки» проницательно видит в своих палачах тоже жертв: «А те, городские, на танцплощадке? Разве они не столкнуты со скамейки под ноги, на грязный пол? И зачем она с Гавриловной осуждала их? Чем она то их лучше? Чем они хуже ее? В беде и одиночестве люди все одинаковы»/440/. Сострадание героини к своим мучителям не означает примирительного отношения к этому миру, не заглушает высокое звучание, драматический накал конфликтных ситуаций и горьких переживаний. Ее неосуждение есть естественное проявление натуры человека, выстрадавшего себе прозрение и смиренномудрие, это путь преодоления зла внутренним подвигом, путь очищения и покаяния, прощения и милосердия45. По иному пути идет отчим Людочки – носитель темной, дремучей, не осознающей себя силы. Это путь суда, возмездия физического, путь ветхозаветной справедливости пропорционального наказания, а, по сути, путь возвращения не к добру и истине, но к законам страшных языческих кодексов, к 45 Если в языческих кодексах кара была часто более тяжкой, чем само преступление, а Ветхий Завет, как и другие религии с моралью талиона (кровная месть), декларирует закон справедливого возмездия («око за око»), то евангельская этическая доктрина отделяет уголовное право от высшей этики, высшей справедливости. Яркой чертой христианского жизнеотношения является этос прощения с близкими ему идеалами милосердия и неосуждения. Проявлением подлинной высоты духа, нравственным подвигом становится желание врагам добра: «Любите врагов своих и молитесь за тех, кто преследует вас» (Мф. 5:44). первобытно-звериному началу в человеке: «Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, по-звериному упругой походкой… Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, но за пределами его, в том месте, где, от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клокотало всесокрушающее, жалости не знающее бешенство. У-у-уы-ы-ых! У-у-у-уы-ы-ых! – доносилось из утробы, из-под набрякших неандертальских бугров лба, из-под сдавленных бровей…»/447/. В первом стратегическом направлении к торжеству справедливости природное и духовное слиты воедино (путь Людочки), во втором (путь отчима Людочки) – противопоставляются. Писатель показывает, что человек, замкнутый в границах не освещенного духовностью природного существования, не способен выйти из дурной бесконечности творящегося в мире зла. Характер Людочки отличает поистине агиографические кротость и смирение, она «терпела все: и насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую бесприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны»/416/. Кажется, только трагический разворот темы не превращает рассказ В.Астафьева в гимн смирению, терпению, кротости. Однако эта кротость Людочки, это ее терпение и смирение не имеют ничего общего со слабохарактерностью, у них свои пределы. «Ну да пожила бы Людочка дальше на этом свете, стерпелась бы, и сподобилась бы»/447/ окружающим ее, замечает писатель. Но, служа своему внутреннему Храму, она не желает опускаться до нечистоты мира, порабощенного демонами раздоров, ненависти, похоти, стяжания, не желает принимать его таким как он есть. Поединок Людочки с этим миром длится до последней минуты: добровольная ее смерть – это последний аргумент «обыкновенного» человека в споре с «необыкновенным» по своему цинизму миром, последний акт верности себе, своему самостоянию, своему праву на это самостояние. Подчеркнем, самоубийство Людочки – не следствие отчаянья измученного слабого человека46, но единственно возможная форма сопротивления личности, которой нельзя было соблюсти себя, отстоять свое внутреннее достоинство даже самоотчуждением. Это дерзкий вызов таким земным установлениям, бунт, протест, манифестация своего нежелания идти по кругу этой жизни, поступок правого человека, который правоту свою может утвердить только так. Да, это правота одинокого человека, но пронзительное одиночество Людочки, хоть и приводит к самоубийству, но не отменяет ее правоты – большинство не может превратить ложь в истину лишь только в силу своего большинства. Суть поступка Людочки определяется убежденностью в том, что жизнь в мире, где «стрекач на стрекаче, и все с усами» /442/, где не только надругались над ее телом, но и пытаются растоптать душу, становится пошлой, утрачивает смысл. При этом нельзя сказать, что поступок Людочки – это не «идеалогическое самоубийство» (сократовская модель), рассматривать его надо в экзистенциально-личностном аспекте. Людочка, «простенькая душа», не толкует о проблемах безусловных ценностей человеческого бытия, но решает их самой своей жизнью и – своей смертью, как опытом самого решительного отрицания и неприятия навязываемых извне безнравственных, неэтичных, искажающих естественное «русло» существования человека правил жизнестроительства. По сути, она, вышедшая из общего «биографического» течения жизни и подведенная к крайним полюсам нравственного бытия человека, вступает в житийный круг сознания, со всей остротой и обнаженностью ставит «вековечные» вопросы. Но не кажется ли, что жертва Людочки на алтаре личной свободы бесполезна, что цена за право остаться верной своему внутреннему нравственному кодексу, человеческому достоинству чрезмерна высока? Действительно, гнев, боль и скорбь, генерируемые поэтической атмосферой повествования, вроде бы не оставляют место надежде, создают впечатление, что остановить победную поступь зла невозможно. Писатель как будто нарочно отыскивает самые мрачные и безысходные проявления жизни47 и его «приговор» современности на первый взгляд кажется окончательным – такому обществу отказывается в историческом 46 Отметим, что именно так – актом отчаянья измученного человека, проявлением слабости – выглядит самоубийство лесковского «праведника» Фермонта из рассказа «Инженеры-бессребренники». 47 Именно эта точка зрения, на наш взгляд, определяет общий пафос откликов читателей на появление рассказа В. Астафьева «Людочка». Свелся он, по сути, к обвинению в «чернухе». См.: Волга. 1990. № 7. будущем, оно вырисовывается еще более зловещим и страшным, чем настоящее. И все же пафос рассказа В.Астафьева не сводим к эсхатологическому катастрофизму, чувству безысходности, ощущению бессилия борьбы со злом. Да, в борьбе добра и зла вверх берет зло, но это не есть его полное торжество: в непримиримости Людочки по отношению к этой жестокой действительности, в готовности ее умереть, но не «сподобиться» окружающим, не идти на компромисс с «нечистыми», заключено поражение зла. «Злые силы» не могут устранить жизнесозидающих начал самоотверженной любви человека к ближнему, его потребности и способности жить заботами других, они бессильны перед теми самыми устойчивыми, неизменными, константными характеристиками духовной жизни, уже не разложимыми ее формами, которые, сохраняясь сами, сохраняют собой основания национального и общечеловеческого бытия. На этой почве как раз и вырастает в рассказе В. Астафьева подспудная высокая патетика жизнеутверждения, в этом можно увидеть веру писателя в незыблемость основных констант общечеловеческой школы духовности, а значит и в будущее торжество справедливого миропорядка, в конечную победу добра над злом, жизни над смертью. Все авторы «житийных» рассказов показывают, что, так или иначе, но сохранить «душу живу» в условиях всеобщего падения человеческой качественности в человеке невозможно без страдания и духовного героизма, без смертельных последствий. Смерть героев-«праведников» приобретает смысл искупительного мученичества, жертвы как инструментария добра, как подвига любви, причем жертвенность их лишь на первый взгляд не нужна и бесполезна: человек, не подчинившийся деформирующему влиянию пороков эпохи, сохранивший в себе лучшие черты национального характера, а значит, тот, кто помогает нации пронести их через все испытания, – это человекнадежда, человек, который несет в себе высокие залоги и обещания. Таков герой «Голгофы Мандельштама» Ю.Нагибина, который «ради нас всех принес свою жертву, ради нас вышел на крестный путь и прошел до конца»48. Само название рассказа Ю. Нагибина достаточно репрезинтативно, предопределяет основные идейно-тематические ходы повествования, задает принципиальную соотнесенность житейского и житийного, бытового и сакрального. Судьбу своего героя писатель сознательно и целеустремленно представляет как судьбу героя агиографического, жизнь его, как и жизнь прославленных героев житий, 48 Нагибин Ю. Рассказ синего лягушонка. М., 1991. С. 336. прошла под знаком подражания Его подвигу: «как и Христос, Мандельштам обладал правом выбора и выбрал путь ведущий на Голгофу»49. Он, «хищно преследуемый поэт, а потом узник, ссыльный, живущий подаянием…»50, «в дни рабьего молчания, наклона и угодливости»51 обличает, и ему уготована мученическая смерть: «Слухи об исходе великого поэта России ужасны»52. Смерть героя – не мрачная неизбежность, «не слепой рок», но осознанный выбор, «свободное исполнение человеком Божьего замысла»53: «согласившись принести ту искупительную жертву, которой оплачивается возведение нового Дома Господня, Мандельштам не обмолвился, но всей звучной гортанью сказал Иисусово: "От меня будет миру светло"»54. От тех, кто «просто берет, берет, не задумываясь над тем, хорошо или плохо тому, у кого взяли, и что вообще с тем, у кого взяли, какой он вообще»55, герой рассказа Э.Сафонова «Лестница в небо» пытается отгородиться тесным семейным кругом: «Лестница связывала их с озабоченной землей, и, поднимая ее, они отрывали себя от земли, от всех других, кто ходил там, внизу… Она давала им возможность надежного уединения. Подняли – и взлетели»56. Но умирает жена героя, уходит дочь, и даже внука, воспитанию которого он посвящает жизнь, «у него отняли, не совладать ему с т е м и (разрядка автора – И.Ш.) силами, не вернуть внука. Сил не хватит. Слаб. Судьба? Она, она…»57. И все же герой не просто терпеливо несет свой крест, неприятие им «тех сил» – людской жестокости, эгоизма, равнодушия – не ограничивается и эмоциональным «бунтом»: когда в его духовном настрое происходит перелом, он, «искушаемый желанием проклясть, не поддается искусу», но вершит конкретные дела любви, не просто признает свою личную вину, но искупает ее смертью58, восходит по истиной «лестнице в небо». 49 Там же, с. 306. Там же, с. 303. 51 Там же, с. 299. 52 Там же, с. 305. 53 Там же, с. 330. 54 Там же, с. 305. 55 Сафонов Э. Указ. соч. С. 476. 56 Там же, с. 466. 57 Там же. с. 475 58 Отметим, что и в житиях с мотивом прозрения-обновления героя тесно связан мотив его самопожертвования, желания «приять» страдания, а если надо, то и смерть – борьба за небесный дар не мыслилась без жертвенного оттенка. Описания мук страдальцев за веру должны были повлиять на этику и нравственность верующих. В отличие от агиографов, авторы «житийных» рассказов, реализуя свое эстетическое 50 Перед смертью герой, делая свой выбор, остается как бы один на один с извечными силами добра и зла; социально-историческая конкретика той ситуации, в которую он попал, «вписывается» в универсум природного и даже космического бытия: «Как жутко он воет, этот зимний ветер, как трясет он землю, ударяясь о стволы деревьев. Это деревья трясут землю… Лестница увлекая за собой Здислава, на какие-то доли секунды зависла торчком в воздухе и тут же, вращаясь вместе с землей, полетела куда-то над ней… Он не ощутил боли – лишь успел осознать как от страшного взрыва на черные и красные осколки разлетелся земной шар»59. Это, а так же мотивы евангельских страстей в сцене смерти героя («Аспидные ветви деревьев были как обугленные руки распятых мученников на мглистой плоскости занемевшего неба…»60 и т. д.) поднимают изображаемые события над уровнем обычной бытовой драмы, сообщают масштабность нравственной идее, подчеркивают «идеальное» в герое: мученической смертью он искупает грехи нетерпимости, злобы, ненависти к ближнему, которыми одержимы люди, восходит на свою Голгофу во имя высокой к ним любви. Именно с законами любви-агапе тесно связана самопожертвенность как и героев житий, так и героев «житийных» рассказов. Мотив самопожертвенной любви-жалости, любви-сострадания – один из самых распространенных мотивов русской литературы ее классического периода – в русском «житийном» рассказе второй половины ХХ в. становится ключевым. И это неудивительно: именно такую «классово чуждую» любовь можно было противопоставить дегуманизирующим и «расчеловечивающим» силам господствующей идеологии и морали, безжалостности того строя, на счету которого миллионы убиенных и духовно-нравственная ущербность нескольких поколений. Такая любовь являлась не просто диссонансом, но вызовом официальному идеологическому дискурсу61. Так, например, образ Елены Денисовны из задание, переносят смысловой и эмоциональный акцент с самого страдания на личность героя, утверждая его активную позицию 59 Сафонов Э. Указ. соч. С. 479—480. 60 Там же, с. 479. 61 В данном случае любовь рассматривается нами не как сугубо биологический, но социально-нравственный феномен – сама потребность и способность любить зависит от характера господствующих общественных отношений. Современными философами признается, что и рыночные отношения в капиталистическом обществе, и обезличивающий коллективизм в обществе социалистическом разрушительны для человеческой способности любить, поскольку в том и в другом случае нивелируется рассказа «Мною рожденный» В. Астафьева, которая «пронесла ту книжку («Дон Кихот» Сервантеса – И.Ш.) с собою через все спецвоспитательные предприятия и организации, через все беды и расстояния»/456/, вбирает в себя весь духовно-этический смысл образа «бессмертного героя человечества»/469/, а потому неслучайно, что сама она, подобно Дон Кихоту, как «тип человеческий был непонятен и чужд тем благодетелям, что вели политико-воспитательную работу среди провинившегося народа» /457/. Идея христианской любви – самая высокая религиозная идея62. Дар любви-агапе, которая «терпелива, добра, не ревнива, не хвастлива, не раздувается от гордости, не ведет себя неподобающе, не себялюбива, не раздражительна, не считает свои обиды, не радуется недоброму, а вместе с другими радуется правде, всегда защищает, всегда надеется, всегда верит» (1 Кор. 13:4–7), герои житий несут по-христиански, т. е. верою своей. Герои же «житийных» рассказов скорее верят в земного человека, в идеалы самостоятельного достоинства человеческой личности, но и они способны на такую любовь, которая является высшим проявлением духа, а значит сродни вере и часто ее заменяет – любовь «неизбирательную», корни которой не в заслугах того, кого любят, но в характере того, кто любит; любовь «несмотря на», а не «потому что»; любовь, отделенную от страсти и обладания, исключающую гнев и зло, не просто чувство симпатии, но духовного родства; любовь, исполнившись которой, человек скорее причинит боль себе, чтобы не причинить боль другому. Словом, это такой же тип любви, «радости сердца», «веселья духа», воплощение которого мы находим в житиях. Так, например, Елена Денисовна («Мною рожденный» В. Астафьева) даже зная о низком предательстве своего мужа, понимая, что ее «он высосал до дна и не заметил этого»/459/, перед смертью своей печется самоценность человеческого «я». См.: Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. Мн., 1999. С. 167—168. 62 Если античность представляла любовь как безличную и самосущую космическую силу, а приверженцы психоанализа считают ее порождением подсознательных «первичных позывов» (либидо), возникающих вне и помимо сознания человека, в христианском понимании любовь является сущностью Бога, главной ценностью среди христианских добродетелей и наибольшей из заповедей. Новый Завет объявил любовь, а не поклонение (античность) и не страх (иудаизм), главным законом во взаимотношениях человека и Бога. Необходимым условием любви к Богу, ступенью на пути к Нему является любовь к ближнему, о чем говорил на прощальной беседе с учениками Иисус (Ин 13, 34-35). Любовь к ближнему, по мысли одного из первых христианских философов Августина Аврелия, есть безмолвная песня Богу. лишь о том, чтобы это «дите… не пропало без матки», осталось «на надежных руках»/459/. Такая абсолютная полнота любви, составляющая истинную ценность и смысл человеческой жизни, достигается только в результате духовного самосовершенствования личности, на самом высоком уровне нравственного самосознания. Любовь может проявиться только через действие, которое она подсказывает, и, воплощая евангельскую заповедь Христа «любите друг друга, как я возлюбил вас» (Ин. 13:34), исполнившись Духом Святым, агиографические подвижники оказывают помощь телесно и духовно страждущим, творят чудеса воскрешения, исцеления, благословения. Как и чудотворчество святых, совершаемые героями «житийных» рассказов «чудеса» воскрешения и исцеления в своей основе имеют самопожертвенную любовь к ближнему, сострадание, как субстанцию добра. Но «чудеса» эти всецело бытийны, посюсторонни – герои «житийных» рассказов не медиумы Божественной Силы, не передающие дар, а сами творцы, от которых этот дар и исходит. «Чудеса» их оплачиваются собственным страданием, а часто и жизнью: «готовая испепелить себя ради любимого», совершает «чудо воскрешения» Соня («Соня» Т. Толстой), дополнительной мерой мук и унижений лагерной жизни платит за «чудо исцеления» человека, «который несчастнее ее самой», Елена Денисовна В. Астафьева («Мною рожденный»), жертвуя жизнью, спасает детей герой О. Пащенко («Колька Медный, его благородие»). Чаще всего подобные «чудеса» предстают своеобразной формой индивидуально-личностного «диалога» героев со сверхличностными ценностями, они так же, как и героям житий, дают им право на безусловный духовный авторитет, открывают перспективу Вечной жизни. Поясним последнее. Авторами «житийных» рассказов широко используется архетипическая полярность любви и смерти, но не столько в ее мощной мифообразующей продуктивности (Эрос и Танатос), сколько в плане утвердившейся в христианской религии мысли о том, что смерть не последняя истина, не последняя инстанция, намного дальше нее простирается любовь – и любовь высшая, которая не отождествляется ни с каким частным интересом, с личными пристрастиями, привязаностями или естественными склонностями, и обычная любовь одного человека к другому, если она освящена любовью к Богу. Даже такая земная любовь человека позволяет преодолеть несопоставимость индивидуальной ограниченности человеческой жизни и всеобщности, бесконечности бытия, позволяет преодолеть смерть: бессмертен только Бог, а «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8), – любящий человек причастен Богу, а значит и бессмертию. Человек, забывший в своей любви о Творце того, кого он любит, ограничивший, сковавший себя только этой любовью, неминуемо испытает горечь утраты, поскольку все земное смертно. Человек, которому все дороги в Том, Кого нельзя потерять, ничего не теряет, так как то, что любимо, не подвластно смерти.Любить и быть любимым – имманентное свойство, насущная потребность человека, заложенная в самой его природе. Однако любить можно по разному63 и в основе любви может быть не даяние, но служение себе, самоудовлетворение. Такая любовь не только не может спасать, исцелять, воскрешать, вести человека к духовному обогащению, но ведет к разрушению личности, к смерти. Любит даже Нюсечка Горошкина из рассказа «Мною рожденный» В. Астафьева, и то, что «кошку она любила больше всех людей на свете» /466/ отражает сущность образа – воплощение косного человеческого естества, 63 Среди «избирательных» форм любви философско-этическая традиция начиная с античности выделяет любовь-сторге (семейная любовь-дружба, теплые взаимоотношения между родственниками) и любовь-филию, подразумевающую привязанность в душевной сфере, отражающую то, что радует и очаровывает нас в другом человеке. Такая любовь способна приобщить человека к великой гармонии жизни, избавляет его от эгоизма и самолюбования, но она никогда не сможет достичь уровня любви-агапе, истинное значение которой было показано Христом. О различении видов любви см.: Философия любви: В 2 ч. М., 1990. С любовью-сторге связан распространенный агиографический мотив увещевания юного подвижника близкими, их сопротивления его желанию «датися Богу». Порой у святого любовь родных становится главным земным испытанием. Драматического противостояния людей, воплощавших, с одной стороны, деспотичную любовьсторге, а с другой, любовь-агапе, нет в «житийных» рассказах. Отражаемые в них семейные конфликты, конфликты между поколениями (герои стремятся обрести семью, но при этом неизменно несчастливы в родителях, супружестве, детях) выражают иное – это еще одна примета общего распада в обществе: утрата людьми духовно-нравственных ориентиров неумолимо разрушает и «малую церковь». Так, пройдя сквозь сталинские лагеря Елена Денисовна «детей иметь не могла», и спасенный ею человек становится ее «дитем», но, одновременно, и главным антагонистом («Мною рожденный» В.Астафьева). Герои противостоят своим близким, которые «заражены» косностью обывательского существования («Убогая» Б. Агеева), безблагодатного эгоизма («Колька Медный, его благородие» О. Пащенко), прагматических представлений («Остров прокаженных» Г. Петрова), корыстолюбия («Матренин двор» А.Солженицына), ожесточения и злобы («Лестница в небо» Э.Сафонова) и т. д. На первый взгляд по стечению житейских обстоятельств, но на самом деле по жестокой логике обстоятельств социально-исторических, всем «праведникам», как героине «Людочки» В. Астафьева, уготовано «до конца испить чашу одиночества». воинствующей бездуховности. Жизнь Нюсечки прошла по законам животного мира, и потому ждет ее агиографически красноречивая смерть: «Возле двери обнаружило ее косточки родное дите, когда вернулось домой. Генеральшу съела любимая кошка. Дотла съела» /467/. Приводит к смерти и другой вид любви – любовь-эрос, в основании которой вожделение, стремление насладиться. Недаром, в репертуаре «ролей» врага человеческого, представленном в агиографии, явственно выделяются две основные – провоцирование вражды и прельщение на блуд. Именно любовь-эрос часто «открывала» праведникам инфернальный мир, с которым они и вступали в борьбу. В «житийных» рассказах так же показывается, что эта низшая форма любви, лишенная искры духовности, связанная только с биологической стороной человеческой природы, обезображивает, придает звериный облик. Так, в «Людочке» В. Астафьева, все, что связано с понятием «эрос» отмечено знаком «зверя», нечистой силы, влекущей к гибели. В ужасе бежит Людочка с танцплощадки-«зверинца», из «клокочущего, воющего, пылящего, перегарную вонь изрыгающего загона», где «бесилось (акцентировка моя – И.Ш.), неистовствовало стадо»/420/, но бесовское, воплощенное в скотской похоти Стрекача и других «нечистых» парка Вэпэвэрзе, настигает ее, отмечая начало мученического пути. Противостояние горнего и грубо телесного в любви становится основным сюжето- и структурообразующим фактором в рассказе «Соня» Т.Толстой. Контрапунктное развитие тем реализуется в системе словесных комплексов64, в которых один из элементов связан с «низкой» темой еды, житейски приземленным началом, а второй с началом одухотворенным, эфемерно красивым. Первое звено в цепочке словесных комплексов (основа: «бабочка – бульонное озерцо»), казалось бы, однозначно закрепляют за Адой – «блестящей женщиной», окруженной плотной толпой поклонников, – тему нетелесно возвышенного, а за Соней, которая, по мнению окружающих «романтическое существо», «дура», тему вульгарного, комического. 64 Имеются в виду случаи, когда при отсутствии прямой семантической связи между соседствующими частями текста, между ними возникают связи ассоциативного характера, которые выявляют смыслы, не сводимые к контекстуальным значениям каждой из частей. Рассредоточенным повтором их отдельных элементов – деталей и подробностей – создается система словесных комплексов, которая несет как сюжетную функцию – подготавливать, давать импульс развитию действия, так и структурно-композиционную – устанавливать систему эмоционально-эстетических связей между частями произведения, а в целом выражает все неявное его содержание. Второй словесный комплекс (основа: «эмалевый голубок – телячья требуха»), элементы которого еще более раздвинуты в семантическом и эстетическом планах, только усиливает смысловую направленность начальной «сюжетной формулы». Соню «уморительно» разыгрывает Ада, придумывая ей «загадочного воздыхателя, безумно влюбленного, но по каким-то причинам никак не могущего с ней встретиться лично»65. И происходит «чудо» одушевления фантома: любовь нисходит на героиню, словно Божья Благодать, она даже и не стремится увидеть любимого66, для нее он не столько земное существо, сколько вся красота мира, ниспосланная ей в утешение. Соня готова за возлюбленного «отдать свою жизнь или пойти за ним, если надо, на край света» /13/ и в знак этого посылает ему эмалевого голубка – брошку, с которой никогда не расставалась. Аду пугает вызванная ею сила любви, произошедшее недоступно ее пониманию: она «все собиралась умертвить обременяющего Николая, но, получив голубка, слегка содрогнулась и отложила убийство до лучших времен»/13/. С новым, уже возвышенно-символическим осмыслением детали-намека «эмалевый голубок» элементы следующего словесного комплекса («эмалевый голубок – баночка томатного сока») сопрягаются уже не по контрасту, но по подобию смысловых планов: если в блокадном Ленинграде «Аде было не до любви», то для Сони как раз и наступает время «испепелить себя ради спасения своего единственного. Она побрела в квартиру умирающего Николая с соком, которого было ровно на одну жизнь»/15/. С переменой знаков в сопряжении элементов последнего словесного комплекса начинает действовать система обратной связи: читатель вынуждено обращается к уже пройденным этапам сюжета, представляя их в ином эстетическом освещении. Оставшаяся в живых «блестящая женщина» Ада лишь «притворялась живой (выделено нами – И.Ш.) и любимой»/4/, потому что любовь земная была для нее вся любовь целиком, а голубка Сони ни время, ни «огонь не берет»/17/, поскольку 65 Толстая Т. Ночь. М., 2001. С. 10. Далее страницы указываются в тексте по этому изданию. 66 Уклоняясь от женитьбы или сохраняя девство в браке, святые стремились полностью освободить любовь от чувственного начала, пытались своей «жизнью по ангельски» воскресить Божественную природу человека. Описываемая в рассказе Т. Толстой ситуация отличается от житийной вполне житейской обусловленностью, но тем не менее и для Сони мысль о физической любви святотатство, величайшее счастье для нее смотреть на звезду, зная, что и возлюбленный смотрит туда же в этот момент; вдохновение, с каким она пишет ему письма, сродни молитвенному экстазу; любовь ее подобна высокому мигу единения с таинством Неба. жизнь ее прошла под знаком такой любви, рядом с которой все мыслечувствования других героев кажутся ограниченными, пресными, элементарными. Казалось бы внутренняя полемика двух точек зрения («Был человек – и нет его. Только имя осталось» – «…напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками»/3/) в рассказе завершена, но цепочка словесных комплексов не обрывается. В завершающем ее звене (основа: «стрекозиные крылышки Сониных писем» – «темные, тяжелые буфеты со съестным») тема еды, возвращаясь к «сниженному» своему значению, уже связана с характеристикой Ады. Окончательно закрепляет нравственнопсихологические доминанты персонажей антиномия символических значений голубка любви Сони (и в христианской символике голубь – вечная жизнь, символ священной любви) и любимой камеи Ады, на которой «кто-то кого-то убивает»/16/. Таким образом, восходящее к агиографическим традициям противопоставление в любви духовного и плотского начал в «житийном» рассказе предстает уже не только формой выражения абстрактных понятий «добра» и «зла», но основополагающим критерием нравственной оценки героя, связывается с антиномией жизни и смерти: если любовь, над которой тяготеет дух вожделения, не только не способствует гармонизации внутреннего мира человека, не только не снимает изначально заложенного в нем конфликта между горним и дольним, но несет в себе некое разрушительное для духовной и душевной цельности личности начало, может привести к ее краху, то любовь-агапе направлена на эволюцию, жизнеутверждающее созидание; это любовь формирующая, образующая того, кто любит, утверждающая его высокую бытийность. В своей земной любви герои «житийных» рассказов достигают не меньшей духовной высоты, чем герои житий, их любви тоже ведома тайна бессмертия. В агиографии представлены два магистральных направления движения человека к любви-агапе, как воплощению жизни духовной, два пути сопричастности к Богу: испытанный, священный, но доступный только немногим путь подвижничества, и неровный путь мятущейся личности, мучительно ищущей в себе Его образ. Истории «обращения грешников», мытарств и метаний падшего человека, не знающего Бога, образуют особый в жанровом и сюжетном отношении тип житий – жития «кризисные» (термин М.М. Бахтина). Тема пробуждения души, возрождения человека, стала, пожалуй, одной из центральных тем русской классической литературы: схема «преступление – смерть – воскресение» «будет многократно повторяться в сюжете русского романа ХIХ в. Раскольников, Митя Карамазов, Нехлюдов… будут совершать преступления или осознавать всю преступность “нормальной” жизни, которая станет осознаваться как смерть души. Затем будет следовать Сибирь (= смерть, ад) и последующее воскресение»67. Стабильность жанровой структуры «воскресения» человека, как перехода от плотского существования к духовному (в историях раскаявшихся «блудных сыновей», злодеев, разбойников, блудниц, любодеиц Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова она отличается лишь деталями), самих принципов сюжетной организации драмы нравственного выпрямления героев можно объяснить одним – обращенностью к традициям агиографии, в которой художественно закодированы общие закономерности восхождения человека от духовного рабства к свободе духа, традициям, которые в свою очередь восходят к христианской идее «спасения падших», провозглашаемой в Новом Завете. Включаясь через литературную интерпретацию в духовное сознание эпохи, традиционные агиографические мотивы и образы, в том числе сюжет о «восставшем из греха в праведность», обретали особую качественную многозначность, воспринимались в «эмблематичном» аспекте. Примеры такой рецепционной универсализации, обогащающей семантику сюжетов и образов, позволяющей провести особого рода онтологическую и ценностную проверку реалий современной действительности, мы находим и в русской новеллистике новейшего времени. «Животная» жизнь (жизнь для себя, без выхода за сферу материального, плотского) представлялась в житиях как нелепость, очень часто как зло, а жизнь «духовная» как жизнь подлинная, непризрачная. Движение агиографических героев от «животной» жизни, которая отрицается смертью, к жизни 67 Лотман Ю.М. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1993. Т. 3. С. 101—102. «духовной», которая вечна, к восстановлению личности идет от ощущения собственной вины, что порождает потребность в искуплении и добродеянии. Переход от эгоистической безмятежности к мужественной зрячести представляется в житиях радикальным кризисом подобным смерти (чтобы воскреснуть недостаточно постепенного, частичного совершенствования, воскресение – это одоление смерти, без смерти воскресения не бывает), из которого человек возрождается для новой жизни. Само возрождение – это «тесный путь» к духовной радости. Тот же психологический механизм действует у «выпрямляющегося» героя «житийного» рассказа и при всех различиях в вариантах развития мотива духовного обновления личности, в основе их лежит типологически сходный сюжет, восходящий к агиографической традиции. Правда, агиографическая мифологема «прозрения» и «воскресения», как правило, приобретает в рассказах чисто этический смысл, обычно трактуется изолированно от религиозности – как духовно-нравственный переворот. Если характеры «праведников» и «грешников» в «житийном» рассказе внутренне цельны и закончены по воплощаемой идее68, то 68 Некий психологический «аскетизм» в обрисовке «праведников» и «грешников» в «житийном» рассказе плодотворно работает на формирование генерального сюжетообразующего конфликта, обеспечивая черно-белую контрастность столкновению полярных, враждующих нравственно-этических установок. Одновременно, подчеркнем, при всей однозначности внутреннего облика эти герои «житийных» рассказов не являются голой «функцией мысли», обобщенной до некой человечности. Носители определенной философии и идеологии, они «существуют» в повествовании с полной самоочевидностью, «живой» художественно-реалистической самодостаточностью. Необходимо в этой связи отметить и другое. Индивидуальность агиографических героев не теряется в их устремленности к универсальному, спасение, которое они ищут, – это приобщение к божественной жизни, а не растворение в ней, разрушение не личности, но разрушение в ней зла; если обретение Бога человеком есть обретение им истинного самого себя, то утрата Бога, нигилизм ведет к опустошению личности. Как и герои житий, литературные «праведники», «осуществляя» в своем личном бытии универсальные ценности, не перестают от этого быть личностью, индивидуальностью, их отличает монолитность внутренних содержательных элементов и множественность производных, такая цельность натуры, которая не отрицает способности к духовному росту и развитию. герой, переживающий духовное прозрение, интересен именно неоднозначностью своей психологической жизни, противоречиями внутреннего бытия, драматизмом душевной работы. Поэтому, если основной формой «реализации» героев-антогонистов, «опредмечивающих» идеальные моральные начала и начала греховные, в «житийном» рассказе становится поступок и художественному анализу подвергается их поведенческие реакции, то в обрисовке героя, проходящего путь нравственного «выпрямления», наибольшее внимание уделяется исследованию структуры психики, тайников и поддонов сознания. Идеологическим и смысловым «ядром» сюжета «воскресения», нравственного обновления героя в «житийном» рассказе становится испытытание его на верность высокому предназначению человека на земле, проблема выбора: судьбоопределяющим становится вопрос – проснется ли в нем потребность к поискам высшей правды, чья возьмет – устойчивость на совесть или давление внешних обстоятельств. В ситуации подобного нравственного выбора наиболее полно раскрывается подлинная сущность, неповторимая индивидуальность личности, строй ее представлений, суждений, чувствований, т. е. все то, что принято называть внутренним миром. Но и не только. В обрисовке психологического облика «выпрямляющегося» героя важное значение приобретают не только сами перипетии его движения к духовным завоеваниям, но и социально значимые внутренние «реакции», фиксация которых ориентирована на художественное постижение сложности общественного бытия личности. Цепочка «личность – обстоятельства – выбор» в «житийном» рассказе сложна и многомерна, в ней тесно переплетено социальное и индивидуальное, сущностное и локальное, конкретно-историческое и надвременное, воплощена со всей очевидностью антиномия жизни и смерти как взаимоструктурирующих принципов бытия. «Сюжет» жизни «известного киноартиста» Валентина Ивановича Кропалева («Мною рожденный» В. Астафьева) определяет болезненный и нескорый процесс духовного прозрения, преодоления соблазнов, освобождения от груза своей душевной и моральной инертности. Он втянут в сферу диалогического оспаривания сохранительного и разрушительного начал, которые воплощают «праведница» (Елена Денисовна) и «грешники» (чета Горошкиных): если представить, что разнозаряженные «миры» последних вращаются вокруг оси – нравственного абсолюта – соответственно с центростремительным (стремление во всей полноте его «овеществить») и центробежным (все большее дистанцирование) движением, то Кропалев, восстанавливая утраченное нравственное чувство, движется как бы поперек захвативших его потоков. Таким образом, в рассказе В. Астафьева представляются три разные драмы на одну и ту же тему – борьба добра и зла в мире и в человеке: Елена Денисовна находится в «царстве свободы» (С.Н. Булгаков)69, сохраняет верность внутреннему нравственному кодексу при любых перипетиях социально-исторического бытия, а значит утверждает жизнестойкость Добра и его силы; Горошкины целиком погружены в «царство необходимости», характеры их в силу социальных обстоятельств определяет особая прочность безнравственного; цепная реакция посеянного Горошкиными зла захватывает в свою сферу Валентина Кропалева, судьба которого становится выражением сопряженности, реактивной взаимоопределяемости «царств»70. Он попадает не в житейскую, но нравственную ситуацию, которая предполагает лишь единственный достойный выход – очищение от скверны «века сего», преодоление душевной дисгармонии, состояния духовной смерти. Первым поступком агиографического грешника, который стремится избавиться от греха, является правдивое признание его в себе. Каясь, он сам добровольно приходит на тот Страшный Суд, который каждый человек несет в себе от рождения, пока еще есть возможность склонить решение Судьи в свою пользу. Обнаружив обманчивость земных благ (любые земные блага теряются со смертью, а потому не являются подлинными ценностями), он уже не хочет обманывать себя, и, как правило, через «унижение» собственной плоти, добивается 69 По мысли русского религиозного мыслителя С.Н. Булгакова «человек призван одновременно жить в двух мирах: в царстве необходимости и в царстве свободы, неся в душе постоянную загадку, противоречие, антиномию, обуславливающую постоянную борьбу» (Булгаков С.Н. Христианский социализм. Новосибирск, 1991. С. 82.). 70 В определенном смысле герои рассказа могут быть поделены и по категориям, на которые делил всех людей Апостол Павел: духовные люди (Елена Сергеевна), плотские (Горошкины, «писатель-соцреалист»), невозрожденные (Кропалев). просветленного состояния души. Так же и в «житийных» рассказах духовное пробуждение, очищение героев идет через признание ими своей вины и покаяние. (Заметим лишь, что агиографический принцип «суперлятивности» – изображение предельного падения, крайних злодейств – в рассказах либо не работает, либо переносится из реальности в сферу покаянного сознания героев.) Их откровенное, мужественное, самокритичное «исповедальное» слово – это начальный этап преодоления внутренней инерции, оно всегда продуктивно. Так, Кропалев «стал задумываться… Раздумья были результативны. Я оглянулся окрест, и сердце мое содрогнулось: в какой же я свинарник по пьянке залез!» /463/. Герой вынужден признаться себе, что жил в чужом доме, служил выдуманным богам, что «разменял свой талант», стал «прихлебателем» и «шестеркой». С одной стороны, как и в житиях, в рассказе В. Астафьева показывается, что жизнь в сфере «стяжания земных сокровищ» перекрывает человеку путь к духовному бытию, оставляет его в безвоздушном пространстве быта, однако, с другой, причины духовной смерти героя осмысляются вне агиографических традиций. В житиях духовная смерть противопоставляется не бессмертию, но Истинной Жизни, это отделенность от Нее, т. е. от Бога, который Сама Жизнь. Грешник становится таковым, попадая в постыдное рабство плоти, утрачивая способность к проявлению запечатлевшегося в нем образа Создателя. Его стремление к удалению из души всех мирских желаний, помыслов и представлений имеет целью обретение высоты духа и благодатного дарования, т. е. подлинного, по мысли агиографа, расцвета личности человека. Кропалев в своей «исповеди» говорит как будто бы о том же – о необходимости выйти за пределы потребительского существования71, но главное, что поработило его дух все же несколько в ином: он утрачивает истинно духовную, трансцендентную природу своего «я», подчиняясь власти обстоятельств, растворяясь в субъекте коллективного «мы», становясь хорошо пригнанной деталью отлаженного механизма, а если в терминах живого – бездумной особью в стаде. 71 Отметим еще одно немаловажное жанрово-культурное схождение: покаяльная исповедь и агиографических героев, и героев «житийного» рассказа в полном соответствии с христианской традицией включает не только раскаяние в допущенных ошибках, но и поиск причин, которыми они были вызваны. Правда, акценты в исповедях различны: в житиях доминирует мольба кающегося грешника о прощении, а в «житийных» рассказах – стремление «выпрямляющегося» героя «приобщить» читателя к своему опыту духовно-нравственного «выпрямления». А между тем, Кропалев актер, т. е. личность творческая. Способность творить приближает к Нему, поскольку в этом даре человек уподобляется Творцу (в буквальном переводе никейский символ веры звучит как «Верую в Бога Отца, Вседержителя, Поэта неба и земли»), однако цепь мелких, едва ощутимых в момент их свершения внутренних компромиссов, привычка не мыслить, не искать, но подтверждать, приводит к тому, что духовный состав героя, из которого выпали право и достоинство творца-личности, перестает быть собственно духовным. Но все же подспудно томит его тоска по утраченному, по недоступным теперь порывам к высшему. В кризисном моменте прозрения он, наконец, осознает прожитую им жизнь с ее страстями, погоней за материальными благами и гедонистическими радостями как «ложную». Особый драматизм ситуации заключается в осознании героем невозможности вернуться к прежнему состоянию души: «не свободен мой дух, совесть моя отяжелена воспоминаниями и на всю жизнь отравлена генеральским сдобным харчем» /468/72. «Исповедь» свою он называет «Возмездие», записывает ее «в назидание потомкам»/462/. Признание агиографическим грешником самой позорной, сокровенной тайны о себе, своей уязвленности и немощности в борьбе с соблазнами следствием имело «нуждание в Боге», в той силе, которая вдохнула бы жизнь в его омертвевшую душу73: кающийся грешник может в своем разуме и совести дойти до признания своей греховности, но отданный самому себе он не в состоянии преодолеть свою природу и грех. Ситуация, в которой находится «мятущийся» герой «житийного» рассказа, по сути, аналогична: отнюдь не отрицая исконную нравственность человека, авторы признают, что в современном мире совести, как основной охранительной системы, может оказаться недостаточно, чтобы противостоять «соблазнам века сего». Так, 72 Отметим, что «симптом видимой или невидимой близости бесов – тошнота; названия бесов в русском фольклоре – "тошная сила"» (Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. С. 170.). 73 Покаянная исповедь грешника в христианском понимании есть врачевание души, но этим не платят своих долгов: преступник, исцеленный от болезней, все – преступник. Исповедь греха (гр. homologeo), раскаяние грешника преследует не просьбу о прощении (Христос уже простил всех людей раз и навсегда (Евр. 10)) – оно необходимо как выражение веры и проявление понимания обетований Божьих и послушания Ему. Кающийся агиографический грешник твердо знает, что никакие средства и попытки очистить свою душу не могут уничтожить изъяны свойственные человеку от природы, очищение не зависит от его воли, дается внеприродной волевой доминантой, только мощью Духа Святого, Того, кто выше и лучше мира. талантливый юноша Кропалев «из крестьянской землеройной семьи» /466/ попадает в Москву, «к великим педагогам – Герасимову и Макаровой»/467/. Соблазны столичной жизни, первые успехи вскружили голову: «Общежитие. Недоеды. Недосыпы. Гулянки. Веселье… Премьеры! Аплодисменты! Творческие встречи! Автографы! Восторженные поклонницы! На поклоннице я и спекся… Я и оглянуться не успел, как оказался в постели, а потом – в генеральской квартире… Я сначала ничего не помнил, только ел и гулял, гулял и ел. А меня хвалили и показывали знатным гостям, как знаменитость среднего достоинства, вместе с тявкающей Булькой – болонкой, умеющей ходить на задних лапах»/462—463/. И в итоге признание героя: «Я незаметно испоганился, обрюзг душой и телом, во мне все истрепалось, будто в рано выложенном жеребенке…»/467/. В агиографическом мотиве обращения грешника после истории Богооставленности начинается история нового обретения Бога – превращения человека «внешнего» во «внутреннего», т. е. освобождения из потемок телесного, мучительного борения со своей греховной природой во имя просветления Божественного смысла в себе. Общение с «голосом души» и плач в ожидании возмездия вознаграждается радостью неожиданного прощения. Но если получить Божественное оправдание агиографический грешник мог только «душой и телом присвоясь Господу» (Григорий Палама), только пребывая в духовном послушании, в отвержении своей воли74, то «выпрямляющийся» герой в 74 В житиях утверждалось, что человек, который полагается только на собственные силы, и интересы которого не выходят за рамки земных, плотских интересов, духовно мертв, а человек, который черпает силу из бездонных источников Божьей любви, понимает и принимает Слово Божие, чьи интересы и желания определяются Его волей, духовно жив. С точки зрения христианской антропологии, с одной стороны, личность развивается не «из самой себя», но из «творческих» связей с миром сверхэмпирических ценностей, с той таинственной глубиной высших смыслов, которые не находятся в распоряжении личности, с другой, человек – бессмертная душа, оплотненная тленным футляром земного существования, – является не частицей, не «излиянием», но творением Божиим, и у него есть свобода выбора: он может или противиться Ему, восставать против своего Создателя, или идти к Нему. Так же и авторы «житийных» рассказов утверждают самоценность каждого отдельного человеческого мира, но вместе с тем и необходимость соответствия свободе человека одухотворения его целей и интенций. Их представление о свободе исключает категории борьбы и насилия, т. е. во многом выходит за пределы концептосферы когда-то считавшейся классической формулы соответствия свободы социальной и индивидуальной как познанной необходимости, общественной взаимообусловленности прав и обязанностей. «житийных» рассказах, напротив, прежде всего, стремится обрести свое «я», выделить его из плотного тела социума, исповедь его направлена на объективизацию самого себя, на проявление в себе универсальной полноты своего человеческого качества. Он стремится найти в себе некое нравственное обоснование, тот краеугольный камень духовного бытия личности, который не даст окончательно возобладать власти безблагодатного материального обольщения. «Спасение» такой герой «житийного» рассказа находит в акте собственной воли и сознания, в свободной, личностной само-деятельности по само-сложению себя в поступке и слове. Итогом этот путь имеет духовное само-стояние, т. е. преодоление столь соблазнительной и казалось бы спасительной ориентации «быть как все», которая неукоснительно не оставляет место для неповторимого «я», подчиняет личность «ситуативной этике». Понятно, что и тенденции изменчивости/устойчивости в целостном единстве литературного характера в «житийных» рассказах и житиях также не равнозначны: если в агиографии подготовленная учительным радением победа над косностью тленного и падшего человеческого естества происходит по чудесному одномоментно, то нравственный переворот у героев рассказов представляется процессом нескорым, сложным, мучительным.75 Немало пройдет времени, немало будет проделано душевной работы, прежде чем Кропалев, в поисках славы стремившийся сыграть в кино великого поэта, согласится с советом Елены Денисовны «…Не трогайте Есенина. Нужно жизнь его выпеть и выстрадать…»/461/, и, в конце концов, решит так искупить свою вину: 75 Как исключение выглядит финальный аккорд в рассказе «Остров прокаженных» Г. Петрова. Превращение «острова прокаженных» в «Остров Светлого Преображения Духа», избавление от греха «грешников», воплощающих не просто зло, но зло неразрешимо двуплановое, «страдающее», происходит в агиографических традициях: «Вдруг явление в трапезной – неизвестная фигура, вся в белом. Облако над ним светлое. И голос: «Нет греха на Острове! Все прощены!» (Петров Г. Остров прокаженных // Знамя, 1996, № 12. С. 140.). Дело в том, что рассказчик «Острова прокаженных» откровенно стилизован под житийного повествователя, а его герой Зосима Савватьевич – под житийного героя (само имя намекает на прототипы образа – основателей монастыря на Соловецких островах); не «перевыражаясь» вводятся в рассказ агиографические мотивы чудес, явлений, «в пустыню отхождения» и жертвенности героя, приводятся примеры из жизни прославленных праведников и великих грешников, утверждается издавно зафиксированное в житиях представление о природе двух разных сил, действующих в человеке (все доброе в нем является отголоском невинного состояния и благодати, все злое – следствием греха и отпадения); язык древнерусских речений врывается в словесную ткань повествования. «Склею фильм про семейство генерала Горошкина и сыграю в нем самого себя. Думаю, что вы согласитесь: хотя бы эта-то роль выстрадана мною и заслужена»/468/. Агиографы стремились прежде всего показать общение человека с высшей реальностью, а не с реальностью этого мира. Герои житий живут с чувством постоянного присутствия Божия, мысли их устремлены ввысь, за пределы земных предметов. В «житийных» рассказах нет такой агиографической рассеянности в изображении внешнего мира, кризисный момент прозрения «выпрямляющихся» героев включает не только недовольство собой, но и миром, и их «исповедальное» слово затрагивает разнообразные точки пересечения социальной и индивидуальной, интимной жизни человека, раскрывает сложный характер взаимосвязи личности и общества. Так, стремление Кропалева вырваться из удушающей атмосферы «царства необходимости» растет по ходу обнаружения и эмоционального освоения им не только своей «отравленности», но и драматических противоречий окружающей действительности, восприятия ее как зловещей и страшной. С другой стороны, как и в житиях с их устойчиво-конфликтной реальностью (торжество гармонии возможно не в этом мире – неправедном, греховном, манящем соблазнами, но лишь в сознании героя, прошедшего путь духовного прозрения), в «житийных» рассказах изменения претерпевает не сама связанная с героем реальная действительность, но его отношение к ней. В духе экзистенцфилософии писатели, изображая ситуацию выбора, не делают акцент на общественной сути человека, его участия/неучастия в историческом процессе, в жизни страны и т. д., их «выпрямляющийся» герой стремится изменить не общественное устройство, но самого себя. Главным ориентиром в ситуации выбора для него становится «иррефлективное» потаенное сознание, «голос», который человек должен в себе услышать, а услышав, ему следовать. Причем «голос» этот явно «перекрывает» гражданский долг, сферу социальных обязанностей. Поэтому, как и составители житий, которые были предельно чутки к выражению пластики движения своих героев в духовном пространстве «Божиих словес и заповедей», авторы «житийных» рассказов в описании истории жизни «прозревающего» героя уделяют особое внимание его психологическим реакциям, эволюции душевных движений, всей «многоступенчатости» диалектики души76. Отсюда ввод в совокупность сцен, очерчивающих условия решающего сдвига во внутреннем мире героя, отступлений в прошлое – как недавнее, так и уводящее к далекой предыстории. Обращаясь к своему прошлому, Кропалев говорит прежде всего о пиковых жизненных ситуациях, тех, что, обладая особой этической продуктивностью и драматической интенсивностью, во многом аналогичны «торжественным» моментам жизни агиографических подвижников; как и исповедальные плачи-монологи героев житий, «исповедь» героя заключает в себе не просто конспективный перечень фактов биографии, но этапы «истории души», становления и нравственного испытания личности. Понятно, что предметно-бытовая конкретика биографических подробностей при этом приобретает знаковый, «эмблематичный» характер, и «исповедь» героя, оставаясь дневником единственной на свете уникальной души, глубоко личным, в высшей мере интимным таинством (а покаяние как ее фермент – во много раз более), начинает приобретать значение слова для всех, слова, призванного преподать наглядный урок-опыт просветляющейся души, духовно-нравственного созревания личности. (Обобщающий язык духовного опыта всегда язык символический. Напомним, что и «исповедь» Елены Денисовны формируется как структура, совмещающая условное и конкретно-чувственное видение жизни, излагаемые ею биографические факты тяготеют к притчеобразию, представлению не быта, но бытия.) «Мысление» агиографического грешника о своей жизни (не изменение ее, но «оплакивание»), мольба дать «зрети своя прегрешения» лишь начальный этап нового обретения Бога. Интенсивное переживание им все новых этапов обращения, а значит постепенное сгущение духовных качеств, дает импульс к этическому действованию: после исповеди преодоление греховности переводится в иную экзистенциальную сферу – сферу поступка, дел веры и любви. Так же и «прозрение», возвращение к свободе воли героя «житийного» рассказа – 76 С другой стороны, если в центре внимания агиографов были «официальные успехи» святого на ниве подвижничества и создавали они с помощью этикетной шаблонности содержания и обобщенно-схематической манеры изложения не «живой» портрет, но образ-икону, то в «житийных» рассказах действует авторская установка на раскрытие особенностей внутреннего бытия героя, его индивидуальнонеповторимого психологического «я». Отсюда неизвестная житиям усложненность стиля в «исповедях» героев, причудливый рисунок ассоциаций, семантическая многовариантность ретроспективных отсылок. это не развязка, в нем проступают контуры нового сюжета, в основе которого некий поступок, творческий акт, воплощающий победу духовного начала в человеке. Чаще всего это сюжет «ухода», исполненного атмосферой драматической просветленности духа77. Просветление при этом не бывает локальным, замкнутым, оно всегда проявляется в «точках отталкивания», соотносящих тот или иной момент внутренней жизни героя с проявлениями воинствующей бездуховности, предельной безнравственности окружающих его людей («человеком эту падлу я не могу назвать»/465/, – отзывается о генерале Горошкине Кропалев). «Точки отталкивания» постепенно подготавливают его «уход». Таким образом, в ситуации «ухода» важно не куда, а от чего, откуда уходит герой. Уходом из квартиры Горошкиных, наполненной вещами убитых, замученных, ограбленных, где «по новой моде хрусталь в комнату, Пушкина и Толстого – в коридор, к двери, вместе с обувью»/460/, уходом от пошлости и порочности ставшего просто невыносимым прежнего жизненного уклада, начинается «выпрямление» Кропалева. Но и «уход» – необходимый, но отнюдь не последний шаг на пути «выпрямления»: это не столько утверждение новых жизненных ценностей и нравственных координат, сколько бескомпромиссное отрицание старых. За «уходом» должно последовать изменение жизни в соответствии со своим внутренним самоопределением, а не с тем, что считалось правильным и должным в его прежнем окружении. Очень важно, что стремление героя «сохранить душу живу» не замкнуто на отрицании, это активное духовное начало, тот «глас любви», который ведет к жизнеутверждающим действиям. После того, как Кропалев сам себе признался, что «великого русского поэта сыграть недостоин»/468/, он стремится, чтобы эту его заветную мечту осуществил сын: «Он будет расти и жить в другие времена, с другим народом, и, может, удостоится роли великого поэта или сделает что-то путное на ином поприще. Во всяком разе я постараюсь воспитать его так, чтоб он прожил жизнь не так, как я…»/468/. На этом заканчивается «исповедь» Кропалева. Как видим, в отличие от житий, в финале герой рассказа, прошедший через испытания острейших по драматизму внутренних коллизий, духовно 77 «Нравственный переворот» в «житийных» рассказов, как и «обращение грешника» в житиях, есть не взлет духа, но его просветление. Взлет духа проявляется, скорее, в нравственной стойкости «праведников» в кризисные моменты их жизни, в тех их поступках, которые воспринимаются как героические деяния. сориентирован, нравственно обогащен, однако видимые результаты произошедших в нем перемен явственно не персонифицируются в новой личности, а как бы проецируются в будущее. Время в «житийном» рассказе, как и в житиях, обычно движется по принципу хронологической последовательности, естественной поступательности, но фигура «выпрямляющегося» героя вводит в хронотопическую структуру повествования чуждые для агиографии интроспективные моменты: Кропалев уже с позиций приобретенного духовного опыта задумывается над будущим, планирует «искупление». В житиях обращение грешника происходит чаще всего под влиянием примера или убеждения тех, кто уже обладает истиной: Бог не покидает заблудших и падших, через уста праведников дает он им духовную поддержку. В «житийных» рассказах представлен, по сути, тот же тип сюжетных отношений: тяготение героя мятущегося, ищущего внутренней гармонии к герою, достигшему ее. «Уход» Кропалева подготовлен не только упоминавшимися уже «точками отталкивания», но и «точками притяжения»: именно встреча с Еленой Денисовной создает то особое «силовое поле», которое ориентирует становление его самосознания, предопределяет выработку новых мерок и требований к себе и другим, симпатий и антипатий. Однако, если в житиях помощь праведников тем, кто находится в начале пути, осуществляется или прямой проповедью, или притчей, или примером, то в «житийных» рассказах герой-обладатель истины несет прежде всего провоцирующую функцию. Так, постулаты личной нравственности Елена Денисовна вовсе не стремится навязывать другим, она не проповедует, «оперирует» не отвлеченными понятиями, но «материальными образами», биографическими фактами; своим безыскусным «исповедальным словом» она зарождает в сознании Кропалева сомнения, помогает осознать ложность прежних жизненных установок. (Заметим, что и героиня «Матрениного двора» А. Солженицына никого и ничему не учит, однако именно она открывает Игнатичу истинную сущность «кондовой России».) Точка пересечения жизненных дорог Елены Денисовны и ее «нечаянного квартиранта»/468/ Валентина Кропалева «случайна», знакомство «необязательно», но тем более очевидна художественная целесообразность последовательного изложения их «исповедей» – «взаимопроецируясь», жизненные драмы героев обобщают колоссальный духовный опыт. И здесь необходимо попутно отметить важное, на наш взгляд, обстоятельство: герои «житийных» рассказов, подобные Елене Денисовне и Валентину Кропалеву, как правило, чужды пафосу и аффектации, это люди сокровенных духовных переживаний, избегающие манифестации своей внутренней жизни и, тем не менее, как и герои житий, они испытывают острую потребность в исповеди78, в нравственном самосуде. Это само по себе несет в себе оценку – стремление и способность к объективизации личных переживаний подтверждает незаурядность, совестливость, искренность их натуры. Однако то, что «житийный» рассказ, как и житие, находится под большим влиянием силового поля жанра исповеди, может быть объяснено и вне рамок прямых жанрово-культурных схождений, непосредственных «заимствований» из той или иной составляющей «фонда памяти» житийной литературы. Авторы «житийных» рассказов часто просто «вынуждены» переводить русло повествования в область самосознания и самооценки своих героев. Дело в том, что актуализация жанрово-композиционной семантики житий, стремление наиболее полно выразить концептуальную значимость «диалога» конкретноисторического и надвременного, таит в себе опасность «голой» дидактики, тенденциозности, резонерства, может провоцировать подчинение «диалектики» характера движению авторской мысли, сведение судьбы героя к притчеобразному конструированию идеи, к схеме «тезис — пример». В результате повышения идейного пафоса за счет пластики образов появляются «вымученные», поднятые на ходули герои, становится очевидной искусственность привнесения элементов интимного в «житийный» аспект их судьбы, и это при том, что духовнонравственные заповеди, как известно, в отличие от научных знаний «действительны» только тогда, когда воплощаются в личности. Гораздо 78 Потребность в исповеди тесно связана с религиозным переживанием, христианским сознанием. В.В. Бибихин, выстраивая смысловые ряды слова religio, приходит к выводу, что в их основе лежит «способность человека отойти от суеты, совестливо и тщательно вдуматься в то, что по-настоящему серьезно… еще и еще раз вглядываться, перечитывать, снова обсуждать» (Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993. С. 273.). Агиография – литература глубокого исповедального пафоса; покаянные исповеди, молитвы, плачи, порой отличающиеся откровенной «неформальностью» душеизлияния, являются основными формами средневекового психологизма, основным средством раскрытия духовного мира личности, ее нравственных ресурсов. См. об этом: Адрианова-Перетц В.П. Задачи изучения агиографического стиля Древней Руси. // ТОДРЛ, М; Л., 1964. Т. 20. С. 43; Лихачев Д.С. Избр. соч.: В 3 т. М., 1993. Т. 1. С. 377. более «приспособлено» к обоснованию логики личного поведения в связи с «житийным» бытием героя его «исповедальное» слово о себе. Образ приобретает конкретность и убедительность, поскольку мы «изнутри» соприкасаемся с психологией, духовным обликом, родовыми чертами личности, «непосредственно» ощущаем драматизм существования «праведника» или «выпрямляющегося» героя в современном мире. Если «исповедь» Елены Денисовны вызвана стремлением оглянуться и осмыслить жизнь как целое, подвести итоги, и ее воспоминания объясняют состояние мира (как вывод ее «исповедального слова» звучат слова: «дурен, отравлен этот свет, напугана, сжата, болезнью пропитана душа российского человека»/461/), то воспоминания Кропалева – его внутреннее состояние (каждый ретроспективный элемент в его исповеди «обтекаем» эмоционально-психологическим слоем «сегодняшних» переживаний, «несвободен мой дух» приходит к выводу герой); если Елена Денисовна рассказывает о своем сопротивлении чудовищному прессу социальных обстоятельств, т. е. злу, которое находится вовне, и пафос ее рассказа «утвердителен», то Кропалев – о своей борьбе с тем злом, что захватывает само сердце человека и, естественно, что он, находящийся на пути восстановления разрушенного тонкого душевного механизма, задает больше вопросов, нежели дает ответов. Но обе «исповеди» смыкаются в одном: и Елена Денисовна, и Валентин Кропалев, говоря о себе, о своем прошлом, ставят на кон всеобщие универсальные идеи, поверяют свою жизнь принципами и нормами поведения общечеловеческого значения. Их «исповеди» – это не просто акт личной душевной гигиены, лирическое переживание прожитого: герой-носитель «вечных истин», так же как и герой, взыскующий их, предельно обостренно чувствуют нравственную состоятельность социально-исторических процессов, уровень духовного состояния общества, поскольку, собственно, именно этот уровень предопределяет все драматические обстоятельства их судьбы и, подспудно апеллируя к надвременной ценностной системе, они подвергают окружающую действительность и социально оценочному анализу, и моральному суду. В повествовательном пространстве их «исповедей», казалось бы, замкнутом на личном, индивидуальном, камерном раскрывается общезначимое, характерное, создается концептуальная эпическая мирокартина. Исповедальный же пафос рассказов героев побуждает к открытому диалогу, к разговору о проблемах, глобальных противоречиях эпохи на пределе искренности. Итак, в развитии темы преодоления духовной смерти в «житийном» рассказе сохраняется трехчастная структура традиционного агиографического мотива «обращения грешника» (грех – покаяние – мученическое искупление): «сюжет» нравственного переворота от своей завязки (переоценка героем прошлого с ретроспективным изображением перипетий его жизни), переходит к кульминации («прозрение», духовный перелом, «уход»), а затем и развязке (добродеяние как искупление, как итог трудного пути к духовным завоеваниям). Однако если для агиографа была важна ее последняя часть, то в «житийных» рассказах сюжетное ударение выпадает на часть вторую, причем «закругленность» повествовательного пространства «исповеди» героя сугубо интимной сферой не приводит к идейно-тематической ограниченности: субъективно-психологическое время его «исповедального» слова всегда с необходимостью отражает в себе время социально-историческое, «фоновое», насыщено знаками, отшифровка которых обнаруживает причинно-следственные связи между общественной средой и «я» личности. Детализация психологических характеристик и моральных мотивировок, связанная и с интуитивным постижением общих закономерностей внешнего мира, и с проникновением в трансцендентальную сферу бытия, приобретает глубокую внутреннюю содержательность. «Поток сознания» героя, по сути, выступает как форма «романного мышления», которая способна сводить общее и особенное в органическое единство, предоопределенное самой жизнью. Как и в житиях, представлены в «житийных» рассказах примеры наставничества не только истинного, но и ложного: возле героя-искателя «вечных ценностей» может оказаться не «духовное зеркало» – геройноситель истины, чье слово, поступок, пример, дает первоначальный толчок к нравственному перевороту, но носители мнимых духовных ценностей, учителя, приводящие вместо спасения к гибели. Таковыми являются, например, выдвинутые мутным потоком «великих переломов» на авансцену истории Горошкины («Мною рожденный» В.Астафьева). Васечка Горошкин «нравоучительно окая» выгоняет девочку из собственной квартиры после ареста ее родителей, поучает с полной верой в свое на это право, а Нюсечка Горошкина попутно дает оценку книге Сервантеса: «Срамотишша-то какая!»/454/. Однако гораздо опаснее для духовного сознания окружающих «писатели-соцреалисты». Муж Елены Денисовны – мрачная карикатура на тех учителей жизни, которые возводят внешнюю благопристойность в высшую степень, прикрывая ею подлость и низость, нравственный распад и духовную опустошенность – этот себялюбец свободен от морали («Пока я моталась по больницам, Олег Сергеевич завел себе Аллочку из детской библиотеки» /459/), но отнюдь не от условностей: «Роскошно было убранство могилы. На памятнике, сделанном в виде развернутой книги, на одной странице из синевато-серого мрамора было крупно выбито: «Незабвенной Елене Денисовне – Дон Кишоту наших дней» На другой странице золотая лавровая веточка. Ниже – красивым, витым почерком написана эпитафия, старательно подобранная самим безутешным вдовцом: «Я видел взгляд, исполненный огня. Уж он давно закрылся для меня. Но, как к тебе, к нему еще лечу: и хоть нельзя смотреть его хочу» М.Ю. Лермонтов. По бокам каменной книги стояли тяжелые мраморные амфоры, покрытые серебряной пылью – под древность»/469/. «Под древность», под благородную старину рядится и Олег Сергеевич – называет он Дон Кихота «по старинному, по благородному Дон Кишотом» /469/. Но недаром Елена Денисовна признается: «Одиночество доконало и меня, бабу общительную, бурную характером» /451/, она знает, что «любить то он не умеет… ненавидеть – тем более, но блудить, как и все творчески забывчивые личности, в свободное от работы время горазд» /459/. Роскошь убранства могилы, как и горе «безутешного вдовца», который «не устанет каждый день носить цветы на печальную могилку и плакать по святой, нетленной душе современного Дон Кишота»/469/ – бутафория, обман и лукавство. Этот законченный эгоист не способен к самопожертвованию, как Елена Денисовна, за шелухой его высокопарных слов проглядывает пыжащаяся самовлюбленность, торжествующий цинизм. Такую же мимикрию бездуховного под духовное, имитацию возвышенного показывает А. Солженицын в «Матренином дворе», описывая плач-«политику» тальновцев у гроба Матрены. «Наставничество» Гавриловны («Людочка» В. Астафьева), которая плоть от плоти из народа, так же внешне благопристойно, пуская к себе в дом Людочку, она ставит условия, напоминающие монастырский устав: «помогать по дому, дольше одиннадцати не гулять, парнев в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как родную мать»/414/. И действительно, в доме Гавриловны Людочка как бы отгорожена от мира, где «вот чего деется – содом, разврат»/422/, искренне считает она, что «иметь такого наставника и старшего друга не всем доводится, не всем выпадает такая удача»/422/. Всегда Людочка «была согласна с Гавриловной целиком и полностью — человеком умным, опыт жизни имеющим»/422/, но случилась беда, и Гавриловна не пускает ее в церковь, дает «совет»: «Пусть, мол, мохом грех ейный хоть маленько обрастет, в памяти поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам его страдальческим будут они, богохулки»/441/. «Старший друг» исполнена корыстных расчетов, «наставничество» ее пропитано эгоизмом. Характерно к чему апеллирует она, плача по погибшей душе: «За дочку, за дочку держала…. Замуж собиралась выдать, дом переписать…»/444/. Не дом был нужен Людочке, а сострадание и понимание, то утешение, та помощь, которую так хотела оказать она сама когда-то незнакомому лесорубу, пытаясь вырвать его у смерти. Но не нашлось возле Людочки никого, к кому можно было «прислониться, выплакаться в острой тоске»/434/, не оказалось рядом «сильного духом, способного разделить страдание»/440/. Путь к смерти «праведников» в «житийных» рассказах всегда задевает самый нерв общественного бытия. Их заведомая обреченность, катастрофизм разрыва между должным («овеществление» в жизни «вечных ценностей») и сущим (миропорядок, где терпит достойный и вознаграждается порок) порождает трагическую интонацию, неведомую агиографии. Если ее жанровые каноны не допускали нарушения баланса сил зла и добра в мире, программировали обязательность восстановления справедливости, торжество нравственно упорядующего начала (праведникам – воздаяние, грешникам – возмездие, раскаявшимся – милосердие), то в «житийных» рассказах отсутствует такой «агиографический оптимизм». Да, настигает возмездие насильника Стрекача в «Людочке» В.Астафьева79, но факт этот носит «случайностный» характер и лишь разоблачает иллюзорность права, бутафорский характер 79 Нельзя не обратить внимание на схожесть «бесчестности» смерти Стрекача и одного из «канонических» агиографических злодеев Святополка Окаянного. К тому же, если от могилы последнего «исходить смрадъ зълым на показание человекомъ» («Сказание о Борисе и Глебе»), то и после того, как «в белую машину закатали комком что-то замытое, мятое — текла по белому грязная жижа»/448/, многие из «нечистых» парка Вэпэвэрзэ одумались, Артемка-мыло возвращается на путь правильной, этически нормированной жизни. деятельности государственных институтов, призванных защищать человека. Людочка, которая не оставила «после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей», была записана «в регистрационном журнале увэдэ по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря – сдуру, наложивших на себя руки»/450/, и «отчет о ее смерти… затерялся где-то в общей статистике»/450/. Да и сама расправа отчима Людочки над Стрекачем хоть и имеет пафос справедливого отмщения, но обладает разрушительной для души самого мстителя силой, он сам страшен в своем суде Линча. Да, агиографически поучительна смерть нечистивицы Горошкиной из рассказа «Мною рожденный», однако же «последнее слово» над могилой Елены Денисовны кощунственно произносит ее духовный антипод – «писатель-соцреалист». Это его слово, фабульно завершая повествование, тем ни менее оставляет его сюжетно открытым: бессмертны Дон Кихоты, но ведь и жива, процветает подлость и низость, а значит продолжается их противостояние. Финальное многоточие выводит частный случай на эпический простор осмысления универсальных противоречий бытия. И все же, то, что духовно-нравственные идеалы, носителями которых выступают «праведники» в «житийных» рассказах, являются явным диссонансом по отношению к реальной действительности, отнюдь не отменяет их жизнеспособности. Да, авторы «житийных» рассказов изменяют издавна сложившейся традиции в поисках абсолютного ценностного ориентира, точки отсчета в системе духовных координат обращаться к нормам народного бытия. Напротив, они показывают неоправданность надежд на народный характер, их рассказы пронизывает пафос беспощадного обнажения духовной недееспособности народа, душа которого обезоружена, развращена квазидуховностью и псевдоморалью, выстроенных на основе прагматического материализма и воинствующего атеизма. Однако писатели отнюдь не стремятся переплавить «материю жизни» в художественный текст полный апокалипсических пророчеств. Размышляя над линией судьбы народной, они не отрицают историческое будущее народа, речь идет скорее об исторических предостережениях, воплощенных в форму возвышенно-проповеднического реквиема. Не боясь ошибиться, можно утверждать, что их сверхзадачей является творческая реализация своего рода «девиза» – увидеть, что бы победить, показать, что бы дать шанс, словом, предсказывать не смерть, но жизнь. В «житийных» рассказах напрочь отсутствует та особая, в духе Б. Зайцева, поэтизация благости, мягкости, смиренности русского человека, умеющего безропотно переносить все невзгоды жизни, в них есть иное – примеры несломленности духа, перспективы противостояния света и тьмы, жизни и смерти, а значит и надежда на воскресение нравственных сил народа, на выход общества из смертельного пике в духовной сфере. Фигуры «праведников» утверждают самые высокие нравственные идеалы, веру в благородные качества человеческой натуры, их образы воплощают, «опредмечивают» те духовные ценности, которые, будучи высшей философской и этической мерой Человека, являются животворными корнями национального и общечеловеческого бытия. Со сменой эпох, сменой поколений в общечеловеческой школе духовности что-то меняется, что-то забывается, но никогда не забывается навсегда. «Вечные» ценности потому и вечны, что не уходят из мира людей бесследно, те носители их, образы которых предстают в «житийных» рассказах, определяют духовно-нравственные ориентиры, составляют силу охранительную, стабилизирующую нравственные отношения в обществе при всех перекосах социально-исторического бытия, силу, не позволяющую окончательно восторжествовать узколобому практицизму, квазидуховности, псевдоморали. Отсюда этический смысл и трагический катарсис «житийных» рассказов: страдания и смерть героев-«праведников» должны восприниматься в агиографическом ключе – искупительной жертвой греховных болезней этого мира и залогом торжества не смерти, но жизни, залогом пробуждения и развития созидательных сил в самом народе, залогом грядущего возрождения, ибо «делающий по-Божьи побеждает одним своим деланием, строит Россию одним своим хотя бы и одиноким, и мученическим стоянием»80. Исходный смысл агиографического подхода к антиномии жизни/смерти разворачивается в пространствах многих текстов «житийных» рассказов в разнообразных вариантах, которые внешне могут быть друг на друга и не похожи, но неизменно сохраняют энергию и идею первоначального семантико- и структурообразующего посыла. Агиографическая концепция жизни и смерти сохраняет свое социальноаксеологическое значение не только в историко-литературном аспекте, 80 Ильин А.И. Наши задачи. М., 1992. С. 64. но, получая новое эстетическое воплощение в «житийных» рассказах, и в живом восприятии современного читателя. Трактовка русскими новеллистами оппозиции «жизнь – смерть» в «житийном» плане позволяет им выйти к глобальному аксиологическому обоснованию человеческого бытия и, не мешая конкретности художественного исследования нравственно-этической проблематики эпохи, на глубинном ценностном уровне отыскать и освоить нравственные основы бытия личности в эпоху у «шарнира времени», с новых позиций показать место человека в обществе, природе, мире, истории. Авторы «житийных» рассказов утверждают, что необходимым условием возрождения народа, духовного обновления личности является не только и не столько борьба за материальный достаток, за необходимые бытовые условия существования, но прежде всего возвращение человека к человеческому, в ходе «великих свершений» утраченному или извращенному, укоренение в контекст повседневной жизни духовно-нравственных идеалов и ценностей, которые хоть и могут показаться на современном этапе социально-исторического бытия архаическими и даже иллюзорными, но без которых невозможно преодоление духовной смерти, без которых немыслима жизнь.