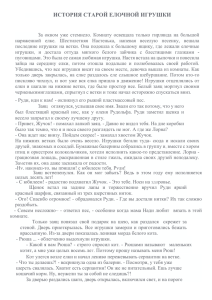Перевод Сергей Ильин Колум Маккэнн ТАНЦОВЩИК
реклама
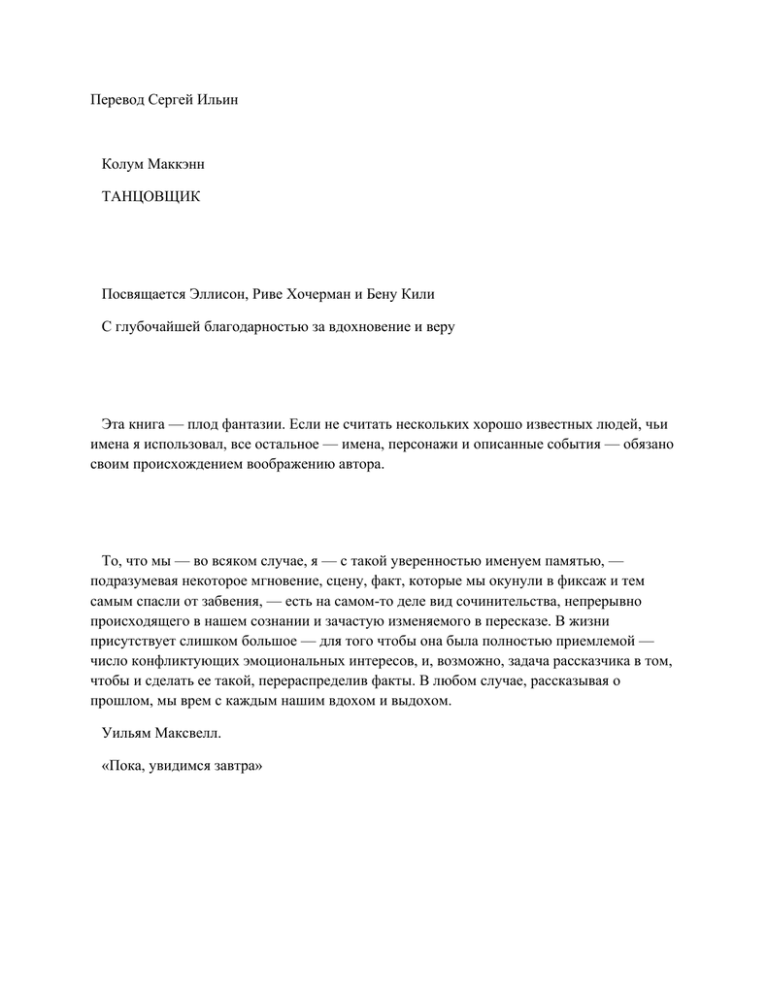
Перевод Сергей Ильин Колум Маккэнн ТАНЦОВЩИК Посвящается Эллисон, Риве Хочерман и Бену Кили С глубочайшей благодарностью за вдохновение и веру Эта книга — плод фантазии. Если не считать нескольких хорошо известных людей, чьи имена я использовал, все остальное — имена, персонажи и описанные события — обязано своим происхождением воображению автора. То, что мы — во всяком случае, я — с такой уверенностью именуем памятью, — подразумевая некоторое мгновение, сцену, факт, которые мы окунули в фиксаж и тем самым спасли от забвения, — есть на самом-то деле вид сочинительства, непрерывно происходящего в нашем сознании и зачастую изменяемого в пересказе. В жизни присутствует слишком большое — для того чтобы она была полностью приемлемой — число конфликтующих эмоциональных интересов, и, возможно, задача рассказчика в том, чтобы и сделать ее такой, перераспределив факты. В любом случае, рассказывая о прошлом, мы врем с каждым нашим вдохом и выдохом. Уильям Максвелл. «Пока, увидимся завтра» Париж, 1961 Вот что летело из зала на сцену в первый его парижский сезон: десять перетянутых круглой резинкой бумажек по сто франков каждая; пачка русского чая; манифест движения алжирских националистов Фронта национального освобождения с протестом против комендантского часа для мусульман, введенного в Париже после взрывов подложенных в автомобили бомб; желтые нарциссы, которые рвали в садах Лувра, отчего тамошним садовникам пришлось, спасая клумбы от грабежей, сверхурочно работать от пяти до семи вечера; белые лилии с приклеенными к стеблям скотчем сантимами, без которых они не долетели бы до сцены; такое множество других цветов, что рабочему сцены Анри Лонгу, сметавшему с нее лепестки после спектакля, пришла в голову мысль высушить их и составить ароматическую смесь, которую он впоследствии продавал поклонникам артиста у служебного входа в театр; норковое манто, которое спланировало над залом в вечер двенадцатого представления, заставив завсегдатаев первых рядов поверить на миг, что над ними порхает некое летающее существо; восемнадцать женских трусиков — явление в театре до той поры невиданное, — по большей части скромно перевязанных ленточками, однако самое малое пара их была содрана с себя впавшими в неистовство женщинами: одни он подобрал, когда занавес опустили в последний раз, и, к большому удовольствию служителей сцены, демонстративно понюхал; фотография космонавта Юрия Гагарина со сделанной внизу от руки надписью «Пари. Руди, пари!»; изрядное число начиненных перцем хлопушек; ценная дореволюционная монета, брошенная эмигрантом, который завернул ее в записку, уверявшую, что если он сохранит ясную голову, то будет так же хорош, как Нижинский, а то и лучше; десятки эротических фотографий с нацарапанными на обороте именами и телефонами женщин; записки, гласившие: «Vous êtes un traitre de La Révolution<a l:href="#n_1" type="note">[1]</a>»; бутылки и стаканы, ими забросали сцену протестующие коммунисты, и представление пришлось на двадцать минут прервать, чтобы вымести осколки, и это вызвало такую бурю гнева, что парижская партийная организация собрала экстренное заседание для обсуждения отрицательной реакции публики; угрожающие записки; гостиничные ключи; любовные письма, а в пятнадцатое выступление — одинокая позолоченная роза на длинном стебле. Книга первая 1 Советский Союз, 1941-1956 Четыре зимы. Когда свирепствовали метели, солдаты прокладывали дороги, загоняя лошадей в снег, и те дохли, а солдаты горевали и ели конину. Санитарки выходили в заснеженные поля, привязывая пузырьки с морфием под мышки, чтобы он не замерзал, — война шла, и санитаркам все труднее становилось отыскивать вены солдат, тощавших, умиравших задолго до их настоящей смерти. В окопах бойцы завязывали шнурки ушанок под подбородком, норовили спереть где-нибудь добавочную шинель, спали, чтобы согреться, вповалку, устраивая раненых в середке кучи-малы. Они носили стеганые штаны и по нескольку кальсон под ними и иногда шутили, что вот хорошо бы разжиться блудливой бабой да намотать ее на шею вместо шарфа. Чем реже ты разуваешься, быстро поняли они, тем лучше. Каждому из них доводилось видеть, как у бойца отламываются от ступней отмороженные пальцы, и каждому вскоре начинало казаться, что он способен угадать будущее человека по его походке. Для маскировки они скрепляли ботиночными шнурками две белые крестьянские рубахи и натягивали их поверх шинелей и туго обтягивали головы капюшонами и могли часами лежать, оставаясь незаметными, в снегу. В откатных механизмах орудий замерзала смазка. В пулеметах трескались, точно стеклянные, пружины бойков. Касаясь голыми ладонями металла, бойцы оставляли на нем куски мяса. Они разводили костры, жгли уголь, бросали в огонь камни, а потом собирали их, чтобы согреть ладони. Они обнаружили: если тебе приходит охота посрать, что, впрочем, случается не часто, лучше делать это, не снимая штанов. Пусть оно лежит там, пока не замерзнет, а после, найдя укрытие, можно выковырять все и выбросить, и ничто, даже рукавицы, пахнуть не будет, во всяком случае, до наступления оттепели. А если хочешь поссать, засунь в штаны, между ног, клеенчатый мешочек, тогда не придется конец наружу вытаскивать, опять же мешочек и нога согреет так, что, глядишь, бабы полезут в голову, но потом, конечно, остынет, и снова вокруг — одно заметенное снегом поле да нефтезавод вдали догорает. Осматривая из окопов степь, они видели тела замерзших однополчан, торчавшую в воздухе руку, задранное колено, белые от инея бороды, — они научились снимать с убитых одежду, пока те не закоченели, научились шептать: «Прости, товарищ, спасибо за табачок». Поговаривали, что враг использует трупы для прокладки дорог, потому как деревьев уже не осталось, солдаты старались не вслушиваться в долетавший по ледяной равнине хруст костей под колесами. Впрочем, о тишине все давно забыли, воздух полнился звуками самыми разными: шелестом лыж, на которых ходили разведчики, шипением электрических проводов, свистом снарядов, криком товарища, потерявшего ногу, палец, винтовку, мать ее. По утрам они заряжали пушки снарядами малой силы, чтобы первый залп не разорвал стволы, не побил орудийный расчет. Они обертывали ручки зениток кусками кожи, укрывали пазы пулеметов старыми рубашками, чтобы туда не набился снег. Солдаты-лыжники научились приседать на ходу и метать гранаты вбок, так они могли и продвигаться вперед, и одновременно увечить врага. Они находили остатки Т-34 или санитарных машин, а то и вражьих танков и процеживали антифриз сквозь угольные фильтры противогазов и пили его. Иногда выпивали слишком много и через пару дней слепли. Они смазывали орудия подсолнечным маслом — немного на бойки, сколько надо на пружины, а остальное на сапоги, чтобы кожа не трескалась, не подпускала к ногам мороз. Разглядывали ящики с боеприпасами: не нарисовала ли на них фабричная девчонка из Киева, или Уфы, или Владивостока сердце, пронзенное стрелой, но, если и нет, вскрывали ящики и заряжали «катюши», «максимы» и «дегтяревы». Отступая и наступая, они поливали огнем окопы врага, чтобы сберечь свои жизни, если, конечно, их жизни казались им стоящими сбережения. Делились самокрутками, а когда табачок заканчивался, курили опилки, чай, сушеные листья, а уж если ничего другого не оставалось, то и конский навоз, хотя лошади оголодали настолько, что и навоз стал редкостью. В землянках слушали по радио Жукова, Еременко, Василевского, Хрущева; бывало, и Сталина, чей голос отдавал черным хлебом и сладким чаем. Рупора висели над траншеями, а самые большие стояли на передовой, лицом на запад, и мешали немчуре спать громкими танго и другими танцами, беседами о социализме. Радио говорило о предателях, дезертирах, трусах, которых надлежало расстреливать. Они снимали с убитых наградные планки и прикалывали их к изнанкам своих гимнастерок. По ночам залепляли маскировочной лентой фары грузовиков, танков, машин медсанбата, а иной раз и собственные руки и ноги, портянки, кое-кто ею даже уши обматывал, но, когда подмораживало, лента драла кожу и они выли от боли, а некоторые подносили к вискам пистолеты и говорили: прощайте. Они писали домой — Галинам, Еленам, Надям, Верам, Таням, Натальям, Дашам, Павлинам, Ольгам, Валям — осторожные письма, которые складывались в опрятные треугольники. И не ждали в ответ многого — быть может, придет один листочек с ароматом духов, большая часть которого осталась на пальцах цензора. Письма были пронумерованы, и, если в череде номеров обнаруживался пропуск, они понимали, что почтальона где-то разорвало на куски. Бойцы сидели в окопах, глядя перед собой и сочиняя в уме письма к самим себе, а потом снова шли в бой. Шрапнель била их в скулы. Пули прошивали навылет икры. Осколки снарядов впивались в шеи. Мины ломали хребты. Фосфорные бомбы сжигали их. Убитых бросали на телеги, а после сваливали в братские могилы, выбитые в земле динамитом. Бабы из ближних деревень приходили в теплых платках к этим ямам, чтобы оплакать погибших и помолиться, тайком. Могильщики, попавшие на фронт из исправительных лагерей, стояли в сторонке, не мешая им выполнять обряды. Но на трупы ложились новые трупы, и промерзшие кости хрустели, ломаясь, и тела уродливо изгибались. В конце концов могильщики засыпали ямы землей, а временами кто-то из них, впав в окончательное отчаяние, сам бросался туда, и его засыпали тоже и рассказывали потом, как долго еще шевелилась земля. По ночам из лесов приходили волки, трусили по снегу на длинных лапах. Раненых грузили в санитарные машины, или на сани, или на спины лошадей. В полевых госпиталях они осваивали совершенно новый язык: дизентерия тиф обморожение траншейная стопа ишемия пневмония цианоз тромбоз боль в сердце, — и, если им удавалось пережить эти напасти, их снова бросали в бой. Солдаты отыскивали в полях недавно сожженные деревни, там легче было рыть землю. Снег, покрывавший ее, рассказывал им свои истории: вот прослойка крови, вот лошадиная кость, вот остов бомбардировщика У-2, а вот останки сапера, которого они знали когда-то по Спасской улице. Они укрывались в развалинах Харькова и за грудами его обломков, маскировались под кирпичные кучи Смоленска. Они видели плывшие по Волге льдины и поджигали пятна нефти на льду, и казалось, что горит вся река. В рыбачьих деревушках Азовского моря сети вытягивали из воды трупы летчиков, чьи самолеты врезались в лед и, проскользив по нему триста метров, уходили на дно. По окраинам городов стояли разграбленные дома с собственными покойниками и лужами крови. Бойцы находили товарищей висевшими на фонарных столбах — гротескные украшения с вывалившимися, почерневшими, обледеневшими языками. Они снимали повешенных со столбов, фонари постанывали и качались, и круги света метались по снегу. Они норовили взять фрица живым и сдать его в НКВД, где ему сверлили дырки в зубах, или привязывали его к столбу на снегу, или просто морили голодом в лагере, как он морил наших. Иногда они оставляли пленного себе, выдавали ему саперную лопатку, чтобы он сам вырыл свою могилу в промерзлой земле, а когда он не справлялся с этим, убивали его выстрелом в затылок и оставляли валяться где был. Они отыскивали в сгоревших домах раненых бойцов врага, выбрасывали их из окон в снег по шею глубиной и говорили им вслед Auf Wiedersehen Fritzie<a l:href="#n_2" type="note">[2]</a>, но, бывало, проникались жалостью и к врагу — той разновидностью жалости, какая известна только солдатам, — когда выясняли, порывшись в его бумажнике, что у покойника были отец, жена, мать, а может, и малыши. Они пели песни о своих покинутых детях, но минуту спустя совали в рот мальчишкисолдата дуло винтовки, а погодя еще немного пели другие песни: черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной? Они назубок знали все маневры летчиков: полубочки, боевые развороты, мертвые петли, парашютирование — промельк свастики, проблеск красной звезды — и кричали ура, когда их летуньи поднимались в воздух, чтобы затравить самолет люфтваффе, и смотрели, как девушки взлетают и падают, сгорая. Они обучали собак носить мины и пронзительным свистом заставляли их заползать под танки врага. То, что оставалось на поле боя, патрулировали вороны, жирея на мертвечине, а потом и самих ворон подстреливали и съедали. Природа вывернулась наизнанку — утра были темны от поднятой бомбами пыли, по ночам пожары освещали землю на километры вокруг. Дни лишились названий, впрочем, по воскресеньям до солдат иногда долетали над мерзлыми равнинами хвалы, которые фрицы возносили своему богу. И им тоже, впервые за десятилетия, дозволили иметь собственных богов, — они шли в бой, беря с собой крестики, четки, талиты. Годились любые иконки — от Бога до Павлика и Ленина. Солдаты с удивлением смотрели, как православные попы и даже раввины благословляют танки, но и благословения не удерживали их от сдачи позиций. Отступая, они взрывали, чтобы ничего не досталось врагу, мосты, построенные их братьями, не оставляли камня на камне от сыромятен своих отцов, резали ацетиленовыми горелками опоры электрических линий, гнали к обрывам скот, сносили доильни, лили бензин сквозь настилы силосных ям, рубили телеграфные столбы, отравляли колодцы, разбивали в щепу заборы и раздирали на доски амбары. А когда наступали — на третью зиму, так распорядилась война, — то шли вперед и поражались тому, что нашелся же гад, учинивший такое с их родиной. Живые уходили на запад, изувеченными набивали вагоны для скота, и паровозы медленно тянули их на восток по промерзшим степям. Они жались друг к другу, вглядываясь в любой свет, какой пробивался сквозь щели дощатых стен. В середке каждого вагона стояло железное ведро, а в нем горел костерок. Раненые шарили под мышками или в паху и, набрав пригоршню вшей, бросали их в огонь. Они прижимали к ранам ломти хлеба, чтобы остановить кровь. На стоянках кого-то из них вытаскивали из вагона, укладывали в телеги и везли в госпитали, школы, клиники. Жители деревень шли, чтобы встретить их, приносили подарки. Оставшиеся в поезде слышали, как их товарищи отъезжают, хлебнув водки и пожелав всем победы. И все же никакой логики в этом путешествии не было — порою поезда громыхали, не останавливаясь, через родные города раненых, и те, у кого сохранились ноги, пытались выбить доски из стен вагонов, и охрана расстреливала их за нарушение приказа и оставляла замерзать на путях, а после, ночью, родные убитого, прослышав, что их сын и брат принял смерть всего в нескольких километрах от дома, брели, проваливаясь в снег, несли свечи. Вагоны раскачивались вправо-влево, раненые лежали без сна на пропитанных кровью шинелях. Делились последними папиросами и ждали, когда на остановке какая-нибудь женщина или ребенок просунет сквозь щель в стене новую пачку, а может, и доброе слово прошепчет. Раненых кормили, поили, но еда продиралась сквозь их кишки с великим трудом, только хуже становилось. Ходили слухи: на востоке и на юге строят новые лагеря, и солдаты говорили себе, что их бог так долго был милостив к ним, на большее его не хватит, и украдкой просовывали иконки и талисманы сквозь щели в полу и бросали на шпалы — пусть дожидаются дня, когда их кто-нибудь подберет. Они укрывались по бороды одеялами и снова швыряли вшей в огонь. А паровоз попыхивал и тащил поезд через леса, по мостам, за горы. Куда они едут, никто не знал, и, если паровоз ломался, все просто ждали, когда придет другой и примется толкать состав сзади, катя его к Перми, Булгаково. Челябинску — к городам и селам, откуда их будут манить к себе далекие Уральские горы. Вот так под конец зимы тысяча девятьсот сорок четвертого года поезд, прорезав за несколько дней просторы Башкирии, вышел из густого леса к реке Белой, пересек ее ледяной простор и въехал в Уфу. Въезжая на мост, поезда замедляли ход и проделывали эту четверть километра под перестук и гудение стали, словно наперед оплакивавшей свою неизбежную участь. А достигнув дальнего берега замерзшей реки, катили мимо деревянных хибарок, жилых многоэтажек, заводов, мечетей, немощеных улиц, складов, бетонных бомбоубежищ, пока не приближались к вокзалу, и начальник его дул в свисток, а музыканты городского духового оркестра — в свои помятые трубы. Материмусульманки стояли на перроне, сжимая в пальцах фотографии. Татарские старики привставали на цыпочки, чтобы высмотреть сыновей. Старушки протягивали к вагонам стаканчики с семечками. Продавщицы прибирались в пустых ларьках. Суровые санитарки в коричневой форме готовились к перевозке раненых. Усталые милиционеры стояли, прислонясь к столбам, под красными жестяными транспарантами, колыхавшимися на ветру, восхвалявшими электрификацию деревень («Наш Великий Вождь дал нам электричество!»), и смрад пота и гнили наполнял, опережая солдат, воздух, и каждый зимний вечер шестилетний мальчишка, голодный, тощий, нетерпеливый, сидел на речном обрыве, глядя на поезда и гадая, когда же его отец вернется домой и будет ли он таким же калекой, как те, кого выносят внизу из вагонов под пар, под пение труб. *** Сначала мы очистили огромную оранжерею. Нурия передавала помидорные кусты деревенскому парнишке, который вечно околачивался у госпиталя. Катя, Марфуга, Ольга и я выбрасывали лопатами землю наружу. Я была старшей, поэтому с лопатой управлялась легко. Вскоре оранжерея опустела, стала просторной, как два дома. Мы заволокли в нее восемь дровяных плит, поставили у стеклянной стены, растопили. И спустя недолгое время помидорами в ней даже и не пахло. Настал черед больших железных полотнищ. Двоюродная сестра Нурии, Миляуша, работала сварщицей на нефтезаводе. Ей выдали там пятнадцать листов. Она позаимствовала трактор, прицепила к нему листы и доволокла до ворот госпиталя, а от них по узкой дорожке к оранжерее. Листы были тяжелые, слишком большие, в дверь не пролезали, поэтому нам пришлось пропихивать их в оранжерею, сняв задние окна. Деревенский парнишка помогал поднимать железо. Он все больше в землю смотрел — смущался, наверное, что женщины вынуждены делать такую тяжелую работу, но нам это было все равно, мы выполняли наш долг. Сварщицей Миляуша была великолепной. Выучилась перед самой войной. Работала она в особых очках, большие стекла которых отражали синее пламя горелки. И через два дня огромная ванна была готова. Вот только как в ней воду греть, мы пока не придумали. Мы попробовали кипятить ее на дровяных плитах, но, хоть солнце и прогревало оранжерею, вода быстро остывала. Слишком большой была ванна. Мы стояли вокруг нее и молчали, злые, пока Нурии не пришла в голову новая мысль. Она спросила у двоюродной сестры, не сможет ли та достать еще с десяток листов. И на следующее утро привезли пяток. Нурия рассказала нам, что задумала. Все было просто. Миляуша сразу взялась за работу, начала приваривать крест-накрест железные перегородки, пока ванна не обратилась в подобие железной шахматной доски. Потом просверлила в каждом маленьком отделении по дырке для стока воды, а Нурия позаимствовала у своего деверя старый автомобильный мотор и соорудила из него насос, воду качать. Работал он просто отлично. Всего получилось шестнадцать отдельных ванн, небольших, значит, вода в них должна была оставаться теплой. Мы положили поверх доски, это были мостки, а после повесили на внутренней стороне оранжерейной двери портрет нашего Великого Вождя. Мы растопили плиты, согрели воду, наполнили ванны. Вода осталась теплой, все разулыбались, а после разделись и посидели немного в ваннах, попивая чай. «Красота», — сказала Нурия. Вечером мы пришли в госпиталь и сообщили сестрам, что завтра все будет готово. Вид у них был измотанный, черные мешки под глазами. Из палат доносились стоны раненых. Их там, наверное, не одна сотня была. Нурия отвела меня в сторонку и предложила: «Давай начнем сегодня». В первый вечер мы искупали всего восьмерых, но на следующий день справились с шестьюдесятью, а к концу недели они начали поступать к нам прямо с вокзала — в окровавленном тряпье, в бинтах. Раненых было так много, что им приходилось ждать своей очереди у оранжереи, сидя на длинных брезентовых полотнищах. Когда брезент становился липким от крови, мы поливали его водой из шланга, но они были очень терпеливы, эти люди. Тех, кто сидел снаружи, Катя закутывала в одеяла. Одних это радовало, другие вскрикивали, конечно, но многие просто сидели, глядя перед собой. Вши кишели на них, раны начинали гноиться. Хуже всего были их глаза. Входившим внутрь Нурия первым делом брила головы. Она ловко орудовала ножницами, состригая большую часть волос за несколько секунд. После стрижки солдаты изменялись — одни становились похожими на мальчишек, другие на уголовников. Остатки волос Нурия сбривала опасной бритвой. А упавшие на пол волосы быстро сметала, потому что в клоках ползали вши. Потом волосы перекидывали лопатой в ведра, которые мы составляли у двери оранжереи, и деревенский мальчишка утаскивал их. Раненые стеснялись раздеваться перед нами. Молоденьких девушек среди нас не было — всем лет по тридцать, а то и больше. Мне так и вовсе сорок семь. Нурия говорила им: не волнуйтесь, мы бабы замужние, — это была правда, только ко мне она не относилась, я замуж так и не вышла, не знаю, правду сказать, почему. Но они все равно не раздевались, пока Нурия не рявкала: «Ну хватит! Все, что у вас есть, мы уже видели!» В конце концов форму они поснимали — все, кроме тех, кто лежал на носилках. С ними пришлось повозиться, снова воспользовавшись ножницами Нурии. Им не нравилось, что мы разрезали их гимнастерки и нательные рубахи, — а может, они боялись, что мы ненароком горло им перережем. Солдаты стояли перед нами, прикрывая руками срам. Какие же они были тощие, бедняги, рядом с ними даже Катя казалась толстушкой. Истлевшую форму мы сжигали, снимая с гимнастерок медали и складывая их кучками. Конечно, у всех солдат лежали в карманах фотографии, письма, но попадались и вещи довольно странные — носик от чайника, локоны, обломки золотых коронок. У одного обнаружился в кармане мизинец, скрюченный, сморщившийся. У некоторых — похабные картинки, на которые нам и смотреть-то не хотелось. Впрочем, Нурия сказала, что им пришлось многое испытать, защищая наш великий народ, и не нам их судить. Пока солдаты ждали в очереди на купание, Ольга опрыскивала их химическим раствором, концентрат которого нам привозили ящиками из самого Киева. Мы разводили его водой в баках для удобрений — раствор пах тухлым яйцом. Нам приходилось защищать рты и глаза солдат, а вот раны прикрыть удавалось не всегда, и временами раствор попадал в них. Я очень жалела их, они так кричали. А после припадали к нам и плакали, плакали, плакали. Мы, как могли, омывали их раны губками. А они впивались пальцами в наши плечи, стискивали кулаки. Руки у них были худые, черные от грязи. После промывки ран наступало время самого купания. Безногих мы поднимали вчетвером и опускали в воду, осторожно, чтобы они не захлебнулись. Безруких прислоняли к металлическим перегородкам и придерживали. Пугать их нам не хотелось, поэтому начинали мы всегда с чуть теплой воды, а после доливали из кастрюль кипяток, стараясь не плескать им на солдат. Они вскрикивали «оох!», «аах!» и хохотали — так заразительно; сколько раз ни смеялись мы за день, каждому новому купальщику все равно удавалось развеселить нас. Оранжерея была гулкая. Не то чтобы по ней эхо гуляло, но смех, казалось, отражался от стекол и летел к другим, а от них возвращался к нам, склонявшимся над ваннами. Мы с Ольгой орудовали губками. Это удовольствие приберегалось под самый конец купания. Я оттирала лица солдат — господи, какие же у них были глаза! — тщательно прочищала их, сначала подбородок, потом брови, лоб, кожу за ушами. А затем с силой терла спину, всегда грязную. У всех ребра наружу и позвоночники тоже. Следом промывала ягодицы, но подолгу на них не задерживалась, чтобы не смущать солдат. Коекто из них называл меня мамой или сестрой, и я наклонялась к ним и повторяла: «Ничего, ничего». Впрочем, большую часть времени они просто смотрели перед собой и молчали. Я снова бралась за их шеи, но на этот раз терла полегче, чувствуя, как солдаты перестают напрягаться. Вот мыть их спереди — это было труднее. С грудью у многих дела обстояли плохо из-за шрапнельных ранении. Временами, когда я касалась их животов, солдаты резко пригибались, боясь, что я спущусь еще ниже, но я старалась предоставлять им омываться там самостоятельно. Я же не дура. Конечно, если раненому было совсем плохо или не хватало сил, я мыла его и там. В большинстве своем они закрывали глаза, стесняясь, но один-другой, бывало, и возбуждался, и мне приходилось оставлять его минут на пять в покое. Ольга, та этого не делала. Брала из подола фартука губку и, даже если у солдата вставало торчком, мыла ему это дело, да и все тут. Мы только посмеивались. По непонятной причине хуже всего у них было с ногами, — может быть, потому, что из сапог они почти не вылезали. Ступни были покрыты язвочками и струпьями. Им и ходитьто, не пошатываясь, было трудно. И все они жаловались на ноги и рассказывали, как играли раньше в футбол и хоккей, как здорово бегали на дальние дистанции. Если солдатик был совсем юным, я позволяла ему прижиматься лицом к моей груди, чтобы никто не видел его слез. А больших и злобных старалась мыть побыстрее. Такой мог и обругать меня за то, что у меня руки подрагивают, а я в наказание оставляла его без мыла. Под конец мы мыли им головы, а иногда — тем, кто нам особенно понравился, — еще раз отскабливали плечи. Помывка занимала не больше пяти минут. Нам приходилось каждый раз сливать воду и дезинфицировать ванну. Наполнялась она быстро — спасибо насосу, сделанному из автомобильного двигателя, и шлангу. В летнее время там, где стекала вода, пересыхала трава, зимой снег бурел от крови. В конце концов мы заворачивали раненых в одела, натягивали на них новую одежду — больничные рубахи, пижамы, даже шапки. Зеркал у нас не было, но порою я видела, как солдаты протирают запотевшие окна оранжереи и пытаются разглядеть свои отражения. Потом их увозили на телеге в госпиталь. Те, что ждали снаружи, смотрели, как увозят помытых. Какие у них были лица! Иногда приходили дети, они прятались в кронах тополей и тоже наблюдали за происходившим, временами все смахивало на карнавал. К ночи я возвращалась домой, на Аксаковскую, едва своя от усталости. Съедала немного хлеба, гасила горевшую на тумбочке у кровати керосиновую лампу и ложилась спать. За стенкой жили соседи, пожилая пара из Ленинграда. Она прежде была балериной, он происходил из семьи богачей, а теперь оба стали ссыльными, я старалась их избегать. Но как-то под вечер она постучалась в мою дверь и сказала: добровольцы делают честь нашей стране, неудивительно, что мы побеждаем в войне. А потом спросила, не может ли и она чем-то помочь? Я ответила: спасибо, добровольцев у нас более чем достаточно. Это было неправдой, она смутилась, но что я могла сделать? В конце концов она же была чуждым элементом. Она ушла. А на следующее утро я обнаружила под своей дверью четыре буханки: «Пожалуйста, передайте это солдатам». Я скормила хлеб птицам в парке Ленина<a l:href="#n_3" type="note">[3]</a>. Не хотела, чтобы знакомство с этими людьми запятнало меня. К началу ноября, ко дню Революции, мыть нам приходилось ежедневно всего около двадцати солдат, новых раненых с фронта поступало все меньше. И после полудня я начала помогать в госпитале. Палаты были переполнены. Койки крепились одна над другой, по пять штук, их прибивали к стенам, точно полки. Сами стены были грязны, забрызганы кровью. Только и было там хорошего, что дети, которые время от времени устраивали представления для раненых, да музыка — одна медсестра протянула в палаты провода, подсоединив репродукторы к патефону, который стоял в главной конторе. Музыка звучала по всему госпиталю, много-много замечательных песен о победе. Раненые, даже когда их не трогали, стонали, выкрикивали имена родных и любимых. Некоторые радовались, увидев меня, но большинство узнавало не сразу. Когда же я напоминала им о ванне, они улыбались, а один-другой, те, что понахальнее, даже посылали мне воздушные поцелуи. Из солдат мне больше всего запомнился один мальчик. Нурмухаммед, родом он был из Челябинска, на фронте мина оторвала ему ногу. Самый обычный татарский юноша — черноволосый, скуластый, с широко расставленными глазами. Он ковылял на костылях, сколоченных из веток какого-то дерева. Мы опрыскали его нашим раствором, я разбинтовала повязку на культе. Завшивлен он был страшно, нам с Нурией пришлось потрудиться над ним. Она очищала тампоном рану, пока я наливала воду. Я проверила запястьем температуру, мы втроем подвели его к ванне. Он все время молчал. И только когда я вымыла его, сказал: «Спасибо». Уже помытый, одетый в госпитальную пижаму, он как-то странно посмотрел на меня и вдруг принялся рассказывать об огороде своей матери как она рассыпала там куриный помет, чтобы лучше росла морковь, какие изумительные у нее получались морковки, лучше просто не бывает, как он по ним соскучился — сильнее, чем по чему-либо еще. У меня осталось от обеда немного марцовки<a l:href="#n_4" type="note">[4]</a>. Нурмухаммед склонился над ней, улыбнулся мне, да так и продолжал улыбаться, пока ел, и все поднимал голову от тарелки, словно хотел убедиться, что я еще рядом. Я решила проводить его до госпиталя. Мы забрались в телегу, лошади тронулись в путь. Чего там только не происходило в тот день — праздник же! В госпитальные кухни привезли особое угощение, из окон вывесили красные флаги, приехали два политрука с медалями для награжденных раненых, на крыльце госпиталя сидел солдат с балалайкой, а вокруг расхаживали, собираясь танцевать для раненых, дети в бурятских народных костюмах. В рупорах зазвучала «Песня о Родине», все замерли, кто где был, да так и стояли, подпевая. Я стиснула руку Нурмухаммеда и сказала: «Вот видишь, все будет хорошо». «Да», — ответил он. Обычно раненых возили по госпиталю в тачках, но в тот день Нурмухаммед получил, к нашему приятному удивлению, инвалидную коляску. Я помогла ему с оформлением документов и покатила коляску по коридору, к его палате. Там было шумно, раненые перекрикивали друг друга, стоя под большим облаком табачного дыма. Несколько солдат держали на весу здоровенный бак с техническим спиртом, другие черпали из него кружками и передавали их лежачим. Все были перебинтованы, некоторые с головы до ног, а на стенах у коек было понаписано всякое: имена подруг, названия любимых футбольных команд и даже стихи. Я привезла Нурмухаммеда к койке Д368, второй снизу, в середине палаты. Он поставил ногу на нижнюю, я подтолкнула его вверх, но подняться на вторую сил ему не хватило. Подошли солдаты, подперли его плечами. Он плюхнулся на постель, не расстелив ее, полежал немного, улыбаясь мне сверху. Тут-то в палату и вошли дети. Человек двадцать, все в зеленых с красным костюмах, в тюбетейках. Самому маленькому было, наверное, года четыре-пять. И уж такие они были милые, такие чистенькие. Женщина, которая привела детей, потребовала тишины. На миг мне показалось, что она — моя соседка, но, по счастью, я ошиблась, эта была повыше, построже, без седины в волосах. Она еще раз потребовала тишины, однако солдаты все равно продолжали шуметь и смеяться. Женщина дважды хлопнула в ладоши, и дети пустились в пляс. Через несколько минут палата затихла — безмолвие прокатилось по ней медленной волной, как будто кто-то шепотом сообщил раненым хорошую новость. Дети показывали в проходе между койками татарский народный танец. Кружились, раскачивались, исполняли ручеек. Падали на коленки и вскакивали, покрикивая и хлопая в ладоши, и снова падали на колени. Крошечная девочка скрестила на груди руки и прошлась в гопаке. Рыжий мальчик страшно расстроился: у него развязались шнурки. Дети улыбались во весь рот, глаза их сияли; можно было подумать, что у каждого нынче день рождения — такие они были красивые. А когда все решили, что выступление закончилось, вперед вышел светловолосый мальчик. Он расставил ноги пошире, подбоченился. Потом чуть наклонился вперед и начал танец. Лежачие раненые приподнялись на койках. Те, что стояли у окон, прикрыли, чтобы лучше видеть, козырьками ладоней глаза. Мальчик пустился вприсядку. Мы стояли, молча наблюдая за ним. Он улыбнулся. Кое-кто из солдат стал отбивать хлопками ритм, но танец уже подходил к концу, да к тому же мальчик едва не полетел на пол. Но удержался, сильно ударив в него ладонями. На миг нам показалось, что он заплачет, но нет — вскочил на ноги, и только светлые волосы упали ему на глаза. Вся палата зааплодировала. Кто-то протянул мальчику кусок сахара. Он покраснел, спрятал подарок в чулок, постоял, засунув руки в карманы и поводя плечами. Строгая женщина щелкнула пальцами, детская труппа направилась к соседней палате. Солдаты засвистели, закричали и, когда дети почти уже вышли в коридор, закурили и снова опустили кружки в бак со спиртом. Светловолосый мальчик оглянулся с порога через плечо. Тут я услышала, как скрипнула койка. Я и забыла о Нурмухаммеде. Он смотрел на свою осиротевшую ногу. Губы его шевелились, как будто он что-то жевал, наконец бедняга глубоко вздохнул, дважды, и, протянув руки к культе, повел ладонями вверх и вниз там, где прежде была берцовая кость. Потом поймал мой взгляд, улыбнулся. И я улыбнулась в ответ. Сказать ему мне было нечего. Что я могла сказать? Я отвернулась к двери. Двое солдат попрощались со мной кивками. И, уже выходя в коридор, услышала плач несчастного Нурмухаммеда. Я возвратилась к купальне. Солнце садилось, холодало, в небе зажглась пара ранних звезд. Ветер хлестал по деревьям. От госпиталя долетали звуки балалайки. Я закрыла двери оранжереи, погасила свет. На полу лежала груда форменной солдатской одежды, кое-какая растопка. Я запихала все в плиту, подожгла, наполнила ведро водой и стала ждать. Вода закипит не скоро. Я сидела в оранжерее и думала, что нет на свете ничего лучше, чем горячая ванна — в одиночестве, в темноте. *** Утром он просыпается рядом с матерью, голова лежит у нее под мышкой. Сестра уже встала, чтобы принести из колодца воду и приготовить завтрак. Мать недавно выменяла на две рамки от картин кусок мыла. Поначалу запах мыла казался ему странным, но теперь Рудик каждое утро, поднявшись, вытаскивает его из кармана маминого банного халата, стараясь не принюхиваться. В госпитале, где он танцует, мыла, заметил Рудик, не водится. От солдат исходит грубый запах, они пахнут усталостью, и он гадает, так же ли будет пахнуть отец, когда вернется с войны. Мать причесывает его, снимает с плиты подогретую одежду. Одевает сына. Часть одежды досталась ему от сестры<a l:href="#n_5" type="note">[5]</a>. Рубашку мать перешила из блузки — нарастила манжеты, укрепила полоской старой картонки воротничок, — но все равно она кажется мальчику неудобной, и он поеживается, пока мать застегивает пуговицы. Перед завтраком ему разрешается посидеть за столом, пока сестра протирает клеенку тряпкой. Он сгибается над чашкой молока и оставшейся от ужина картофелиной. Чувствует, как сжимается желудок, когда молоко омывает горло. Съедает в три приема половину картофелины, сует другую в карман. Многие ученики приносят в школу коробки с едой. Воина закончилась, почти все отцы вернулись домой, но не его, а еще он слышал разговор о том, что большая часть отцовской зарплаты потрачена на военный заем. Все должны чем-то жертвовать, говорит мать. Однако временами Рудику хочется, чтобы и он мог, сидя за партой, открывать коробку а в ней — хлеб, мясо, овощи. Мать говорит, что от голода он станет сильным, но для него голод — это острое ощущение пустоты, такое же он испытывает, когда поезда выходят из леса и стук их колес прокатывается по льду Белой. Во время уроков он представляет, как катается на коньках по реке. А по дороге к дому выискивает глазами самые высокие в городе сугробы, на которые можно было бы залезть, чтобы оказаться поближе к новым телеграфным проводам и услышать, как они потрескивают над головой. По вечерам мать, послушав радио, читает ему сказки про плотников и волков, про леса, и пилы, и звезды, прибитые гвоздями к небу. В одной сказке великан-плотник дотягивается до неба, одну за другой снимает звезды и раздает их детям рабочих. — Сколько же в нем росту было, мама? — Миллион километров. — А сколько звезд помещалось в каждом кармане? — По одной для каждого, — отвечает она. — А для меня две? — По одной для каждого, — повторяет она. Фарида смотрит, как Рудик кружится на каблуках посреди земляного пола их лачуги. Из-под каблуков летит грязь. Ну и ладно, пусть кружится, раз ему это в радость. Когда- нибудь она накопит денег и купит у торгующего на базаре старого турка ковер. Ковры его висят на веревке, ветер покачивает их. Она часто думает о том, каково это — иметь столько денег, чтобы повесить ковер и на стену, сберечь тепло, украсить жилье, привести его в божеский вид. Только сначала нужно будет купить новые платья дочери и хорошую обувь сыну — совсем другая начнется жизнь. Мать часто показывает Рудику письма с границы Германии, где все еще стоит часть, в которой служит политруком отец. Короткие, четкие письма: «Все хорошо. Фарида, не волнуйся. Сталин могуч». Эти слова звучат в голове Рудика, под дождем идущего с матерью к госпиталю, — у ворот она отпускает его руку, хлопает сына по попке и говорит: «Не опаздывай, солнышко». Осень на носу, и, чтобы он не замерзал, мать натирает ему грудь гусиным жиром. Раненые втаскивают его в палату через окно, уже аплодируя. Еженедельные выступления Рудика стали традицией. Он улыбается, пока его передают из рук в руки, а после водят из палаты в палату, чтобы он исполнил недавно разученные им народные танцы. Иногда собираются, чтобы посмотреть на него, медицинские сестры. Карманов у танцевального костюма Рудика нет, поэтому, когда он заканчивает, чулки его раздуваются от затиснутых в них кусочков сахара, и раненые смеются, уверяя, что у него больные ноги. Еще он получает припасенные для него солдатами огрызки овощей и корки хлеба и складывает их в бумажный кулек. В самом дальнем крыле здания находится отделение для душевнобольных — единственное в госпитале место, где выступать он не будет. Он слышал, что там лечат электричеством сумасшедших. К окнам этого отделения всегда прижимаются и изнутри лица — высунутые языки, неподвижные глаза, Рудик к нему не подходит, хоть и видит иногда женщину, тяжело бредущую туда от оранжерей. Она останавливается под окном одной из палат и разговаривает с солдатом в свободно свисающей с плеч пижамной куртке. Как-то под вечер Рудик замечает его ковыляющим на костылях, одна штанина завязана узлом в нескольких сантиметрах ниже колена, он целенаправленно перебирается от дерева к дереву. Солдат кричит ему какие-то слова — что-то о танце, — но Рудик уже улепетывает, испугавшись, оглядывается через плечо, вылетает в ворота и бежит по немощеной, изрытой колеями улице. И на бегу представляет себе, как срывает с неба звезды, выдергивает их, точно гвозди. Домой он возвращается, скача в темноте на одной ноге. — Где ты был? — спрашивает мать, поерзывая на кровати рядом с сестрой Рудика. Он показывает ей ладонь, на которой лежат куски сахара. — Растают, — говорит она. — Нет, не растают. — Положи их куда-нибудь и лезь в постель. Рудик засовывает кусочек за щеку, а остальные ссыпает в стоящее на кухонном столе блюдце. Смотрит через комнатку на мать, та подтягивает одеяло повыше и поворачивается лицом к стене. Он стоит без движения, пока не уверяется, что мать заснула, а потом склоняется к радиоприемнику, крутит ручку настройки, передвигая по желтой панели тонкую риску: Варшава, Люксембург, Москва, Прага, Киев. Вильнюс, Дрезден, Минск, Кишинев, Новосибирск, Брюссель, Ленинград, Рим, Варшава. Стокгольм. Киев, Таллин, Тбилиси, Белград, Прага, Ташкент, София, Рига. Хельсинки, Будапешт. Он уже знает, что, если не ложиться подольше, можно будет настроиться на Москву и после того, как пробьет полночь, послушать Чайковского. *** — Так-так-так! Отец стоит в двери, стряхивая с погон снег. Черные усы. Крепкий подбородок. Неровный от папирос голос. На голове пилотка с опущенными полями, сразу и не поймешь, то ли он сию минуту пришел, то ли вот-вот уйдет. Два ордена на груди. На вороте гимнастерки заколка с портретом Маркса. Мать бежит к двери, Рудик остается сидеть, нахохлившись, в углу у огня. Смотреть на отца все равно что смотреть в самый первый раз на картину: он видит, что картина существует, видит краски и неровности холста, раму в которую она вставлена, но ничего о ней не знает. Четыре года на войне и еще полтора на территории Германии. Старшая сестра Рудика, Тамара, давно уже сплела в подарок отцу кружевные салфетки, запасла банки с ягодным соком. Она бросается ему на грудь, прижимается к нему, целует. А Рудику дать отцу нечего. И все же отец переходит комнату, сшибая по пути стул с высокой спинкой, поднимает Рудика, держит его на весу, дважды подбрасывает, закручивая, — широкие щеки, желтые зубы. — Какой мальчишка вырос! Посмотри на себя! Посмотри! Тебе сейчас сколько? Семь? Семь! Почти восемь! Ну и ну! Посмотри на себя! Рудик видит лужи, оставленные на полу сапогами отца, мокрые, идущие от порога следы. — Сыночек! Запахов у отца много, странная смесь — поезд, трамвай и тот, какой слышишь, когда сотрешь локтем мел со школьной доски. Под вечер семья гуляет по улице, вдоль вереницы развалюх и деревянных домов. С фонарных столбов свисают сосульки. Мерзлая земля хрустит под ногами. На Рудике сестрино пальто. Отец, приглядевшись, замечает: не дело мальчишке ходить в девчачьих обносках, и велит матери переставить пуговицы на другую сторону. Мать, побледнев, кивает, говорит: конечно, непременно. Ветер выдувает картонки и мешковину из оконных рам. В брошенной на улице машине мужики пьют водку. Отец, взглянув на них, недовольно покачивает головой, берет мать Рудика за руку. Они перешептываются: похоже, за годы разлуки у них накопились секреты, которыми им не терпится поделиться. По верху кривого забора гуляет отощалая кошка. Рудик запускает в нее камнем, подбирает другой, но при втором замахе отец ловит его руку, смеется, нахлобучивает Рудику на голову пилотку, и они начинают гоняться один за другим по улице, извергая клубы пара. После обеда — капуста, картошка, праздничный кусок мяса, которого Рудик никогда еще не видел, — он так крепко прижимается к груди отца, что сминает головой пачку папирос в кармане его гимнастерки. Они рассыпают папиросы по столу, выпрямляют их, пересыпая крошки табака в гильзы из тонкой бумаги. Отец говорит, что об этом и мечтает каждый мужчина — распрямлять согнувшееся. — Верно? — Да, отец. — Называй меня папой. — Да, папа. Он вслушивается в странные возвышения и спады отцовского голоса, временами прерывающегося, как передача по радио, когда крутишь ручку настройки. Приемник, единственная вещь, какую они не продали, чтобы купить еду, стоит над очагом, темный, из красного дерева. Отец настраивает его на Берлин и говорит: «Нет, вы послушайте! Послушайте! Музыка, это их музыка!» Длинные, тонкие пальцы матери постукивают по сиденью стула, отбивая ритм. Спать Рудику не хочется, поэтому он устроился у нее на коленях. И наблюдает за отцом, за незнакомцем. Щеки у него впалые, глаза больше, чем на фотографиях. Он заходится густым мужским кашлем, сплевывает в огонь. Несколько угольков вываливаются на пол, отец нагибается и гасит их голыми пальцами. Рудик пробует повторить это и мигом получает по волдырю на каждом пальце, а отец говорит: — Молодец, сынок. Рудик, выпрямляясь, ударяется головой о плечо матери, старается сдержать слезы. — Молодец, сынок, — повторяет отец и уходит за дверь, но через пару минут возвращается и говорит: — Если кто думает, что нет на свете зла, пусть навестит в такую погоду наш хлебаный сортир! Мать поднимает на него взгляд, произносит: — Хамет. — Что? — спрашивает отец. — Он наверняка уже слышал такие слова. Она сглатывает, улыбается, молчит. — Мой боец такие слова уже слышал, верно? Рудик кивает. Ночью все четверо спят в одной постели, голова Рудика покоится под мышкой отца. Позже он перебирается к матери, к ее запаху — кефир и молодая картошка. В разгар ночи возникает какое-то движение, кровать неторопливо подрагивает, отец что-то шепчет. Рудик резко поворачивается, утыкается ступнями в тепло матери. Покачивание прерывается, пальцы мамы ложатся ему на лоб. Перед рассветом он снова просыпается, но не шевелится, и, когда родители засыпают, а отец начинает даже похрапывать, Рудик видит, как свет принимается ощупывать щелку между занавесками. И тихо встает. Горстка капусты из железной кастрюли. Остатки молока, стынущего на подоконнике. Серая школьная тужурка со стоячим воротом висит на стене. Одеваясь, он передвигается по комнате на цыпочках. Коньки свисают с внутренней ручки двери. Рудик сделал их сам — нашел на нефтезаводе железные полосы, отшлифовал, прикрепил к тонким деревяшкам, приладил два кожаных ремешка, вырезанных из обрывков кожи, которые подобрал за складами, у рельсовых путей. Он тихо берет коньки, выходит, закрывает дверь и бежит к городскому пруду, коньки свисают на ремешках с шеи, ладони в варежках прижаты к щекам, чтобы лезвия не порезали лицо. На льду пруда уже темным-темно от людей. Солнце тлеет в холодной дымке. Мужчины в шинелях катят на работу, сгорбившись, куря на ходу, литые фигуры на фоне древесных скелетов. Женщины с кошелками катаются иначе, выпрямившись, словно став выше ростом. Рудик сходит на лед, едет против общего движения, навстречу потоку, и люди смеются, отвиливают в сторону, бранятся: «Эй, пацан! Ну ты! Лох!» Он наклоняется, согнув колени, укорачивает замахи рук, убыстряет шаг. Полозья коньков немного разболтались в деревяшках, однако он, уже научившийся сохранять равновесие, тряхнув ступней, возвращает сталь на место. Вдали виднеется крыша бани, в которую он, мать и сестра ходят по четвергам. В бане мать парит его березовым веником. Ему нравится лежать на деревянной скамье под хлесткими ударами березовых прутьев. Кусочки листьев липнут к телу, словно покрывая его узором. Мать сказала, что баня защитит его от болезней, и он научился переносить обжигающий пар дольше, чем другие дети его лет. Он подпрыгивает, разворачивается, опускается на лед, чувствуя, как коньки снова сцепляются с ним. Лед сильно изрезан, Рудик угадывает по следам, какие из них оставлены хорошими конькобежцами, какие плохими. Если долго вращаться на месте, чужие следы стираются и он становится единственным, кто когда-либо выходил на каток. Какой-то сор попадает под конек, и Рудик, приподняв ногу, раскручивается на другой, давя его. Из-под конька летят крошки льда. Он слышит, как кто-то выкрикивает вдали его имя, ветер доносит голос с берега пруда. «Рудик! Рудик!» Однако он не смотрит туда, но отталкивается правой ногой, и тело его разворачивается в сторону от крика. Он знает, что сильно раскручиваться не стоит, толчок не должен быть слишком резким, иначе можно упасть. И снова летит навстречу ветру, остатки сора еще липнут к ножу конька. «Рудик! Рудик!» Он наклоняется пониже, все его тело словно подбирается к плечам. За прудом видны едущие по улице грузовики, мотоциклы, даже велосипеды с толстыми, чтобы не скользить по льду, шинами. Он с удовольствием ухватился бы за задний бампер машины, пусть бы она потянула его за собой, как других мальчишек, постарше, придерживающих шарфы, чтобы те не обмотались вокруг колес, следящих за тормозными огнями, чтобы успеть вовремя отцепиться и полететь по дороге быстрее всех. «Рудик! Рудик!» Он мчится к улице, но сторож катка свистит и машет рукой, отгоняя его. Рудик разворачивается на одном коньке, описывает, приподняв другую ногу, широкую дугу и поневоле оказывается перед отцом, раскрасневшимся, задыхающимся, снующим по берегу — коньков у него нет. Ветер бушует над льдом, докрасна раздувая кончик отцовской папиросы. Каким он кажется маленьким, струйка дыма отлетает от его рта. — Ну ты и носишься, Рудик. — Я тебя не слышал. — Чего не слышал, Рудик? — Как ты звал меня: Рудик. Отец приоткрывает рот, собираясь что-то сказать, но передумывает и произносит лишь: — Я хотел в школу тебя проводить, надо было подождать меня. — Да. — В следующий раз подожди. — Да. Рудик вешает коньки на шею, отец берет его за руку, они уходят от пруда. Улица, ведущая к школе, огибает дугу старых домов. На крыше школы закреплена железная арка с названием, на арке сидят четыре вороны. Отец и сын держат пари — какая снимется первой, однако вороны как сидели, так и сидят. Оба молча смотрят на птиц, пока не раздается звонок, и тогда Рудик отнимает у отца свою руку. — Образование, — вдруг произносит отец, — это основа основ. Понимаешь? Рудик кивает. Второй звонок, дети, игравшие во дворе, бегут к крыльцу школы. — Ну ладно, — говорит отец. — Пока. — Пока. Рудик отступает на шаг, привстает на цыпочки, чтобы поцеловать отца в щеку. Хамет немного поворачивает голову, и губы Рудика утыкаются в краешек его мокрых от инея усов. Рудик снимает варежки, бежит к классу. Брысый. Французик. Какая-то девочка. Он — из самых маленьких в классе, его часто поколачивают. Мальчишки толкают его к стене, хватают за яйца, сдавливают — «кастрируют», так это у них называется. Отпускают его, только когда в коридоре появляется учитель. Стены класса — флаги, плакаты, портреты. Парты с откидными крышками. Учитель, Гоянов, одутловатый, спокойный, поднимается на возвышение. Утренняя кричалка: «Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня». Шелест — мальчики и девочки усаживаются, — скрип мела по доске, арифметика, его вызывают, пятью четырнадцать, ты, да, ты, пятью четырнадцать, ты, ты, сонная тетеря! Ответ Рудика неверен, Гоянов резко пристукивает указкой по столу. Еще три неверных ответа — и Рудик получает удар по левой ладони. А затем, прежде, чем его ударяют по правой, на полу появляется лужица. Дети, увидев, что он описался, гогочут или хихикают, прикрывая ладонями рты, ставят ему подножки, когда он идет по проходу. От уборной до верхней площадки шумной лестницы, до окна, в раме которого мреют мечеть и синее небо, семнадцать шагов. Он неподвижно стоит у окна, потрагивая мокрый передок штанов. За мечетью видны мосты, фабричные и печные трубы Уфы. Небо обрывается резкими очертаниями горизонта. Гоянов подходит к нему сзади, берет за локоть, отводит в класс, и, входя, он писается еще раз, — но ученики уже притихли, склонились над чернильницами, роняя в тетрадки кляксы. Во время перемены с ее дневной кричалкой — «Наш Вождь могуч. Паш Вождь велик» — Рудик остается сидеть за партой, живот у него сведен и словно узлом завязался, а когда штаны высыхают совсем, снова идет в уборную с размозженным на тысячу кусочков зеркалом, с вонью мочи, но здесь хотя бы тихо, и он вглядывается в свое отражение, в изрезанное трещинами лицо. Рядом со школой ждет, прислонившись к стене, отец, воротник его шинели поднят. У ноги стоит миткалевый мешок. В руке отец держит другой — судя по очертаниям, с фонарем внутри. Хамет машет рукой, подзывая Рудика, обнимает его за плечи, оба молча идут к трамваю. Когда они добираются до предгорий, небо уже темнеет. Вдоль обледенелой дороги стоят армейским строем березы. Последние красные отсветы пробиваются сквозь переплетение веток. Отец с сыном переходят оползень, испещренный следами диких зверей, заваленный рыхлыми комьями опавшего с деревьев снега. Холодный ветер заставляет их жаться друг к другу. Достав из мешка телогрейку, отец набрасывает ее на плечи Рудика. По узкому буераку они спускаются к замерзшей горной речке, и Рудик видит на льду лунки, удильщиков, костры. — Форель, — говорит отец и хлопает Рудика по спине. — Иди-ка дров натаскай. Рудик смотрит, как отец выбирает оставленную кем-то лунку, как пробивает корку льда, укладывает рядом с ней две узкие деревяшки, накрывает их одеялом — получаются самодельные «стулья». Потом Хамет ставит между деревяшками фонарь, достает из мешка складное удилище, со щелчком собирает его, пропускает через ушки леску, наживляет крючок, втыкает удилище в снег и стоит над лункой, похлопывая ладонью о ладонь. Рудик ждет под деревьями — два больших сука под мышкой одной руки, несколько хворостин в другой. Отец оборачивается к нему: — Маловато дровишек, еще тащи! Рудик, ковыляя по снегу вдоль опушки леса, скрывается из виду, а там сметает с большого камня порошу садится и ждет дальнейшего. На рыбалке он никогда еще не бывал. Откуда возьмется форель в промерзшей реке? Рыба же не может проплыть сквозь лед. Он выдыхает в варежки теплый воздух. Одинокая звезда всползает на небо. Луны нет. Рудик думает о доме, о теплой постели, о том, как мать укутывает его до подбородка в серое одеяло, прижимает к себе. В лесу за рекой наверняка затаились всякие звери — барсуки, медведи, а то и волки. Ему рассказывали, как волки крадут детей. Новые звезды поднимаются в небо, словно их лебедками тянут. Задрожав, он бросает собранные дрова и бегом возвращается к замерзшей реке. — Я домой хочу. — Что? — Мне здесь не нравится. Отец хмыкает в воротник, тянется к Рудику, берет его за руку в варежке. Они вместе идут в лес и набирают столько дров, что на всю ночь хватит. Отец раскладывает по льду растопку и говорит, что разжигать один большой костер — неправильно, так только дураки поступают. Они сооружают два маленьких, домиком, отец показывает Рудику, как надо, когда замерзаешь, присаживаться у костра на корточки, чтобы тепло овевало тело, расползалось по нему. — Хамет научился этому на войне. На реке негромко переговариваются другие рыбаки. — Я домой хочу, — снова говорит Рудик. Отец не отвечает. Достает три не съеденные вчера вечером картофелины, печет их на углях, переворачивая, чтобы не подгорела кожица. Первой поклевки приходится ждать целый час. Вытащив рыбу из-подо льда, отец снимает рукавицы, и через пару секунд живая форель обращается в потрошеную. Он вспарывает ножом ее живот, мигом сует в разрез указательный палец и одним движением вытаскивает внутренности. От них поднимается легкий парок, а отец уже насаживает рыбу на прутик и держит ее над огнем. Они съедают на холоде рыбу и картофелины, отец спрашивает, вкусно ли. Рудик кивает, и отец задает новый вопрос: — А гуси тебе нравятся? — Конечно. — Как-нибудь мы с тобой пойдем гусей стрелять. Ты стрелять любишь? — Наверное. — Сало, жир, мясо. В гусях все есть, — говорит отец. — Мама мне грудь их жиром мажет. — Это я ее научил. Давно уже. — А, — произносит Рудик. — Хорошее дело, верно? — Да. — Я, когда уезжал, — говорит отец и на миг примолкает, — очень скучал по тебе. — Да, папа. — Нам о многом надо поговорить. — Я замерз. — На, надень китель. Отцовский китель, накрывший плечи Рудика, кажется ему огромным, он думает, что теперь на нем три одежки, а на отце всего одна, но все равно прячет ладони в рукава и сидит, слегка покачиваясь. — Мать говорит, ты хорошо себя вел. — Да. — Говорит, много чего делал. — Я в госпитале танцевал. — Слышал об этом. — Для солдат. — А что еще? — Ходил в школу. — Да? — И еще мама водила меня в большой дворец, в Оперный театр. — Правда? — Да. — Понятно. — У мамы был только один билет, но мы прошли, там у двери такая толпа собралась, что дверь упала внутрь, и мы тоже чуть не упали, но ничего! Сели подальше от сцены, где нас не искали! Мы думали, нас искать будут! — Не тараторь так, — говорит отец. — Мы на лестнице сидели, на ступеньках, и там были большие лампы, а потом стало темно и все началось! Лампы выключили, поднялся занавес, заиграла громкая музыка, и все замолчали. — Тебе понравилось? — Там было про пастуха, и плохого человека, и девушку. — Так понравилось тебе? — Мне понравилось, как юноша спас девушку, которую забрал тот человек. — А еще? — А еще большой красный занавес. — Ну что же, это хорошо, — говорит отец, одергивая гимнастерку и проверяя лесу в лунке не поймалась ли новая рыбка, — лицо у него румяное, губы красны так, точно он сам только что на крючок попался. — А когда все ушли, — говорит Рудик, — мама разрешила мне посидеть на стульях. Сказала, что они бархатные. — Это хорошо, — повторяет отец. Выудив еще одну мелкую форель, он достает нож, вытирает лезвие о штаны, оставляя на них полоску крови, протягивает рыбешку Рудику и говорит: — Теперь ты, сынок. Пальцы Рудика сами собой поджимаются в рукавах кителя. — Попробуй. — Нет, папа, спасибо. — Попробуй! — Нет, спасибо. — Попробуй, тебе говорят! Сейчас же! *** В пакгаузе на Свердловской бригада из шести женщин, лучших белошвеек Уфы, шьет под присмотром товарища из Министерства культуры Башкирии новый занавес Оперного театра. Руки женщин ноют от того, что им приходится поднимать и перекладывать рулоны красного бархата — сорок пять метров в длину и восемь в ширину каждый. Волосы швей забраны в сетки, есть, пить чай или курить вблизи от ткани им не разрешено. Они работают по десять часов в день, переползая вместе со стульями вдоль красного моря бархата. Каждый их шов изучается начальником, линия, по которой сходятся половинки занавеса, переделывается семнадцать раз, пока начальник не решает, что все положенные нюансы учтены. После чего отправляет заказ на ткань, тоже бархатную, для ходовой части занавеса. Ламбрекены аккуратно оторачивают белыми кружевами. В середине занавеса вышивают государственный герб — так, чтобы две половинки его смыкались в начале и в конце каждого спектакля. По окончании работы приезжают, чтобы принять ее, трое министерских чиновников. Осмотр занавеса продолжается больше часа, чиновники прощупывают швы, измеряют линейками высоту ламбрекенов, проверяют согласованность цветов. Герб порождает некоторые разногласия — чиновники поочередно разглядывают в лупу рукоять серпа. В конце концов они открывают бутылочку водки и принимают по стопочке. Белошвейки, наблюдавшие за ними сквозь жалюзи конторы, жмут друг дружке локти и облегченно вздыхают. Их просят покинуть контору, товарищи из министерства строят женщин в ряд и хриплыми голосами произносят несколько фраз о гармонии коллективного труда. Занавес аккуратно складывают и отправляют на грузовике в Оперный театр. Двое тамошних плотников сооружают из жердей и блоков конструкцию, способную выдержать его вес. Блоки основательно смазывают, протягивают через них крепкую веревку. На сцене возводят, чтобы повесить занавес, леса, и больше он ее никогда не касается. В первый вечер сезона, перед самым спектаклем, один из рабочих сцены — Альберт Тихонов, родившийся в семье проставленных ходоков на ходулях, — встает на них и прохаживается, точно гигантское насекомое, вдоль занавеса, стуча деревянными пятками ходуль по доскам сцены, пытаясь найти в занавесе какой-нибудь изъян. Не находит ни одного. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. Родина-мать щедра. Родина-мать сильна. Родина-мать защитит меня. *** Дополнительные задания, которыми его осыпает учитель, он от отца скрывает, а то, как ползает по бумаге его перо, понемногу начинает нравиться Рудику. Буквы он сцепляет так, точно каждое слово — это обрывок веревки, строки никогда не выравнивает, предпочитая их беспорядок, они наползают одна на другую, и это ему по душе. Учитель же требует совсем другого и время от времени наказывает Рудика, заставляя переписывать все по два, а то и три раза подряд. Покончив с домашним заданием, он бежит к пруду, посмотреть на расставленные по берегу флаги. Если они наполовину приспущены, значит, умер какой-то выдающийся деятель, и это его радует, поскольку под вечер по радио снова зазвучит — и без перерывов — Чайковский, и мать будет слушать музыку вместе с ним. Они переехали в новую коммунальную квартиру на улице Зенцова — одна комната с дубовыми полами, четырнадцать квадратных метров. Стену украшает купленный на базаре ковер. Приемник мать поставила у другой стены, чтобы его могли слушать, если пожелают, соседи-молодожены. Рудик включает его, крутит ручку настройки, четыре раза ударяет по стене, давая соседям знать, что можно слушать. Приемник прогревается не сразу — в эти минуты Рудик представляет себе, как ноты плывут по воздуху, словно репетирующему музыку. Он старается отыскать в комнате место, с которого ее будет слышно лучше всего. Первые ноты кажутся ему слишком высокими, чужими, скрипучими, но затем все налаживается. Тем временем мать подходит к сыну, бесшумно ступая обутыми в шлепанцы ногами, и садится — серьезная, внимательная. Она пытается удержать Рудика от танца — вдруг отец придет, — однако почти всегда уступает, только просит его не очень шуметь и отворачивается, словно не может смотреть на это. Теперь от нее пахнет простоквашей, она нашла новую работу, на молокозаводе. Сразу после десятого дня рождения Рудика в газете напечатали ее фотографию — мать получила благодарность за то, что способствовала двойному повышению производительности пруда; под фотографией значилось: «Труд — как цель жизни. Мускина Еникеева, Фарида Нуриева и Елена Волкова на кефироразливочном заводе». Вырезку из газеты поставили на подоконник рядом с наградами отца. Через два месяца бумага пожелтела, и мать принесла с завода кусочек фольги, из которой делают крышки для бутылок, приклеила к ней вырежу и соорудила козыречек, защитивший бумагу от прямых солнечных лучей. Старшая сестра Рудика, Тамара, вырезает из той же фольги фигурки артистов балета, копируя напечатанные в книгах фотографии: Чабукиани, Ермолаев, Тихомиров, Сергеев. Рудик разглядывает их, запоминая повороты головы, постановку ног. Он выходит с сестрой во двор, и Тамара подговаривает его принять какую-нибудь балетную позу. И смеется, когда он пытается замереть, стоя на одной ноге. Читательского билета у него пока нет, зато Тамаре, комсомолке со стажем, библиотека разрешает брать книги на дом, и она приносит их брату. «Танец и реализм», «Вдали от буржуазии», «Формы танца в Советском Союзе», «Хореография нового общества» — Рудику приходится, читая их, заглядывать в словарь. Он выписывает незнакомые слова в тетрадку, которую носит в школьном ранце. Среди них много французских, отчего он иногда чувствует себя иностранцем. В школе он рисует карты, изображая на них поезда, идущие по горам и равнинам. Обложки его тетрадей покрыты рисунками ног балетных танцовщиков, и, когда учителя ловят его на чтении одной из библиотечных книг, он пожимает плечами и говорит: «А что в этом плохого?» Он начинает приобретать в школе определенную репутацию — порой выскакивает в гневе из класса, громко хлопая дверью. А после учителя застают его в пустом коридоре пытающимся произвести пируэт, однако у него нет настоящей выучки, он только народные танцы и знает. И нередко его отправляют домой с запиской от директора школы. Отец читает их, комкает и выбрасывает. Новая работа научила его тому, что молчание — золото. Ранними утрами он и еще двенадцать мужчин, все — бывшие фронтовики, поднимаются на самоходку и отплывают по Дёме. Дым уфимских заводов стелется над ними, густой запах металла напоминает Хамету о крови. Он и другие баграми подтягивают к борту одиночные бревна, плывущие по реке на север из фабричных городов и поселков — Стерлитамака, Алкино, Чишем. Багры рассекают воздух, точно серпы, впиваются в древесину. Хамет и его товарищи вручную затаскивают бревна на корму и связывают цепями, перескакивая от одного катающегося под их ногами бревна к другому, — головы мужчин накрыты шапочками, рубашки расстегнуты, вода плещет на их сапоги. Рудик спросил как-то, нельзя ли ему войти в реку, прокатиться на бревне, но Хамет ответил, что это слишком опасно, — и действительно, за два года бригадирства он потерял пятерых рабочих. Начальство велело указывать их в рапортах как утонувших; порой они снятся ему по ночам, напоминая о солдатах, трупами которых выкладывали вместо бревен дороги. Зимой, когда городской пруд замерзает, а бревна больше не приплывают по реке, он ездит по заводам, читает рабочим лекции о текущей политике, чем не один год занимался и в армии. Хамет никогда не интересовался, для чего это нужно — улавливать бревна, улавливать души. Как-то вечером он прихватывает Рудика за ухо и говорит: — Ничего плохого, сынок, в танцах нет. — Я знаю. — Танцы нравятся даже нашим великим вождям. — Да, знаю. — Но человеком тебя делает то, чем ты занимаешься в жизни, понимаешь? — Наверное. — Твое общественное бытие определяет сознание, сынок. Запомнил? — Да. — Все очень просто. Ты создан для чего-то большего, чем танцы. — Да. — Ты станешь великим врачом, инженером. — Да. Рудик бросает взгляд на мать, сидящую в дряхлом кресле в другом конце комнаты. Она худа, впалые щеки ее кажутся сизоватыми. Взгляд неподвижен. — Ведь так, Фарида? — спрашивает отец. — Так, — отвечает мать. Назавтра, возвращаясь с завода по грязной, ухабистой улице, Фарида вдруг замирает у одного из домов. Дом маленький, выкрашенный в яркую желтую краску, потемневшие лохмотья краски отстают от стен, крыша накренилась от дождей и снега, дверь перекошена. Ветер похлопывает резными деревянными ставнями. Одинокий китайский колокольчик тренькает на одной ноте. Остановилась Фарида потому, что заметила на крыльце ботинки. Старые, черные, нечищеные, знакомые. Она проводит языком по губам, трогает им уже неделю шатающийся коренной зуб, хватается, чтобы устоять на ногах, за калитку. Она слышала о стариках, муже и жене, которые живут здесь вместе с тремя или четырьмя другими семьями. Голова ее кружится, как перед обмороком. Зуб покачивается во рту взад-вперед. Думает она о том, что прожила жизнь, словно в вечном буране, — шла вперед, согнувшись, стиснув зубы, помышляя только о следующем шаге, и до сих пор ей редко удавалось заставить себя остановиться, оглядеться, попытаться понять, что происходит кругом. Язык нажимает на расшатавшийся зуб. Она стискивает калитку, собираясь открыть ее, но не решается и уходит, чувствуя, как в десне стреляет боль. Позже, когда Рудик возвращается домой с еще румяными от танца щеками, она садится рядом с ним на кровать и говорит: — Я знаю, что ты делал. — Что? — спрашивает он. — Не надо меня дурачить. — Что? — Стара я для этого. — Что? — Я видела твои ботинки на крыльце того дома. — Какие ботинки? — Я знаю, кто эти люди, Рудик. Он поднимает на нее взгляд и просит: — Только папе не говори. Она, поколебавшись, прикусывает губу, потом раскрывает ладонь и говорит: — Смотри. На ладони лежит зуб. Фарида опускает его в карман халата, кладет ладонь на загривок Рудика, притягивает его к себе. — Будь осторожен, Рудик, — просит она. Он кивает, отступает от нее и кружит на месте, показывая, чему научился, и смущается, обнаружив, что мать не смотрит на него, что она не сводит глаз со стены. *** Мальчик ушел, Анна надела прохудившуюся на локтях ночную рубашку, опустилась на краешек кровати. Я сидел за моим столом, читал. Она шепотом пожелала мне спокойной ночи, но потом кашлянула и сказала, что получила, кажется ей, благословение свыше, что в этой жизни человеку довольно и такого возникающего время от времени ощущения: он благословлен. И добавила, что даже по первому уроку поняла — это необыкновенный мальчик. Затем она встала, пересекла, шаркая, комнату, положила ладони мне на плечи. Сняла с меня очки для чтения, опустила их на раскрытую книгу и повернула мое лицо к себе. Произнесла мое имя, и это удивительным образом пробило броню моей усталости. Когда она наклонилась, легко порхнув по моему лицу волосами, я заметил, что пахнут они так же, как во времена ее службы в Мариинке. Она развернула меня на стуле, и я увидел, как играют на ее лице отблески свечи. — Почитай мне, муж, — попросила она. Я взял книгу, но она сказала: — Нет, не так, давай ляжем. Это был переживший все годы наших мытарств томик Пастернака, открытый на стихотворении о звездной стуже. Я всегда любил Пастернака — и не только по причинам вполне очевидным, но и потому, что он представлялся мне занявшим место скорее в тыльном охранении, чем в головном отряде, научившимся любить уцелевшее, не оплакивая то, что погибло. Томик распух, слишком часто я перелистывал его. Ну и моя ненавистная Анне привычка загибать уголки любимых страниц наделила его добавочной пухлостью. Я взял свечу, книгу, очки, подошел к кровати, откинул одеяло, лег. Анна с тихим вздохом опустила на блюдечко деревянные вставные челюсти, поправила волосы и устроилась рядом со мной. Ступни ее были, как и всегда, холодны. У старых балерин это дело обычное — они столько лет истязают свои ноги, что кровь отказывается заглядывать туда. Я читал ей цикл стихов о природе, пока она не заснула, и тогда положил руку на ее талию, не видя никакого потворства себе в том, чтобы позаимствовать толику ее счастья, — старики обкрадывают друг друга, как и люди молодые, но, пожалуй, нам такое воровство необходимее, чем им. Мы с Анной страх как обкрадывали друг дружку, а после жили в похищенных мгновениях, пока не приходило время делиться ими. Она сказала мне как-то, что, когда я был в неволе, ей нередко случалось откидывать для меня одеяло и даже переползать на мою половину постели, чтобы примять подушку — так, точно я лежал с ней рядом. Она спала, я читал Пастернака, а когда свеча догорела совсем, стал читать дальше, по памяти. Дыхание Анны становилось несвежим, и я наполовину прикрыл ее лицо одеялом; в распахнутое окно задувал ветерок, вороша и передвигая пряди упавших ей на глаза волос. Конечно, сентиментальность глупа. Не знаю, смог ли я уснуть в ту ночь, но помню одну мою совсем простую мысль: прошло столько лет, а я все еще люблю ее, и в те мгновения любовь к ней — и нынешняя, и будущая — вовсе не казалась мне глупостью, несмотря на все наши утраты. В шесть утра завыл фабричный гудок. Анна перевернула подушку прохладной стороной кверху и сама повернулась ко мне спиной. Когда между занавесками стал пробиваться свет, я приготовил на скорую руку завтрак: чай, вчерашняя каша, еще не прокисшая, — малое, но все-таки чудо. Мы сидели за кухонным столом. Анна поставила на патефон пластинку Моцарта, включила его — негромко, чтобы не побеспокоить жившую за стеной старую прачку. Мы разговаривали о мальчике, а после завтрака она оделась, уложила в хозяйственную сумку балетную пачку и туфельки. И, выпрямившись, взглянула на меня так, точно вернулись прежние дни. Давным-давно, танцуя в кордебалете санкт-петербургского театра, она получила — из рук самого Дягилева — особую сумочку для этих туфель, но мы потеряли ее во время наших скитаний. В коридор уже высыпали соседи. Анна помахала мне ладонью и закрыла дверь — в одно движение, похожее на тайный танец. В тот вечер она привела к нам мальчика во второй раз. Сначала он аккуратно поедал картошку, словно незнакомое пальто расстегивал. О назначении масла он никакого понятия не имел и вопросительно уставился на Анну, надеясь получить от нее необходимые указания. Мы и наша комната давно привыкли друг к другу, однако с появлением в ней мальчика она стала казаться мне чужой, как будто мы и не прожили в ней семнадцать лет. Анна рискнула поставить на патефон Стравинского, еще больше убавив звук, и мальчик почувствовал себя свободнее, теперь он, подумалось мне, поглощает заодно с картошкой и музыку. Он попросил еще одну чашку молока, но больше до конца обеда ни слова не произнес. Глядя через стол на Анну, я представлялся себе вороной, зовущей другую ворону, придерживая лапкой голову убитого воробья. Мальчик был бледен, узкоплеч, с лицом сразу и дерзким, и ангельским. Синеватозеленые глаза его рыскали по комнате, ни на чем не задерживаясь подолгу, он словно критически оценивал ее. Ел с жадностью, но на стуле сидел прямо. Анна уже успела вдолбить ему в голову мысль о значении осанки. Мне она сказала, что он почти мгновенно освоил пять позиций, продемонстрировал врожденную выправку, но все же оставался пока немного напряженным и скованным. «Верно?» — спросила она. Мальчик задержал вилку у рта, улыбнулся. Анна сказала, что он должен каждый день, кроме воскресений, приходить в школьный гимнастический зал, и пусть объяснит родителям, что ему необходимы две, самое малое, пары туфель и пара трико. Он побледнел и попросил налить ему еще молока. Услышав, как копошится у соседней двери наша прачка, Анна еще убавила звук патефона, мы, все трое, подошли к кушетке. Мальчик не сел между нами, но принялся прохаживаться вдоль книжных шкапов, трогая корешки книг, изумляясь тому, что они стоят на полках в четыре плотных ряда. В семь часов он вытер ладонью текущий нос, попрощался. Когда мы открыли окно, чтобы посмотреть на него, он уже бежал по улице, перепрыгивая через рытвины. — Одиннадцать лет, — сказала Анна, — вообрази. Мы посвятили Пастернаку еще одну серую ночь. Анна заснула, не расстелив постели, дышала она через нос, и дыхание ее было печальным. Я побрился — давняя лагерная привычка, которая давала мне по утрам, перед тем как выйти на холод, несколько спокойных минут, — а затем отволок мою бессонницу к окну, ведь звезды бесконечно интереснее потолка. Но за окном шел дождь, вода лила с крыш, переполняя водосточные трубы, изменяя акустику города. Тяжелое дыхание Анны пело в моих ушах, время от времени она поджималась так, точно ей снилась боль, однако проснулась веселой и сразу переоделась в домашнее платье. Воскресенья посвящались у нас уборке. Несколько недель назад мы обнаружили в фотоальбоме чешуйниц, ползавших по нашим неуверенно, неопределенно улыбавшимся лицам. Мы давно уже уничтожили мои фотографии времен войны, но пару других, свадебных, сохранили, и на них эти насекомые погрызли нам ноги. На одной Анна стояла перед Мариинским театром, на другой мы оба стояли рядом с уборочным комбайном — в Грузии, не где-нибудь. Привилегию давить чешуйниц пальцами Анна предоставила мне. За долгие годы они разъелись, кормясь нами, снимавшимися главным образом в Санкт-Петербурге и, по какой-то странной причине, главным образом в солнечные дни. На обороте снимков мы кое-что записывали для памяти, на всякий случай именуя наш город «Ленинградом». Были в альбоме и снимки недавние, сделанные в Уфе, но их чешуйницы из присущей им мелочной горькой ироничности пощадили. После полудня меня посетил милосердный сон, а проснувшись, я увидел жену зашедшей, чтобы переодеться, за ширму у изножья кровати, — Анна стояла на цыпочках, в наряде, который был на ней, когда она в последний раз вышла на сцену, тридцать три года назад. Длинная светлая юбка — Анна походила в ней на сноску к описанию ее прошлого. Она смутилась, пустила слезу и сбросила с себя эту одежку. Маленькие груди ее свисали на ребра. Когда-то мы наполняли друг друга желанием, а не воспоминаниями. Она оделась, сняла с вешалки мою шляпу, такой у нее был сигнал: пора идти. Я прохромал, опираясь на трость, по коридору и вышел под свет дня. Яркое солнце стояло высоко в небе, но улицы были еще влажны. Ветерок раскачивал тополя, жизнь представлялась приятной, хоть в воздухе и висела густая пыль от нефтезавода. Спустившись с холма, мы остановились у пекарни, однако электричество, по неведомой нам причине, днем отключали, и впервые за несколько недель запах хлеба не поприветствовал нас. Мы постояли у вентиляционной отдушины, стараясь уловить хотя бы остатки его, но не было и остатков, и мы пошли дальше. В конце Зенцовской не оказалось даже сумасшедшего фронтовика, отчего день стал казаться нам нежилым. По берегам пруда сидели семейства, закусывая и выпивая. Пьяницы беседовали со своими бутылками. Продавщица суетилась в квасном киоске. На эстраде играл кто в лес кто по дрова ансамбль народных инструментов. Ничто в этом мире и близко к совершенству не подходило — за вычетом, быть может, хорошей сигары, однако и ее я не видал уже многие годы. От мысли о ней я тоскливо поежился. Анна, которую беспокоила моя хрипота, начала настаивать, чтобы мы посидели на скамейке, но ведь вряд ли найдется на свете зрелище более грустное и нелепое, чем сидящие на скамье ссыльные старики, и потому мы отправились дальше, по улице, вошли в арочные ворота парка Ленина и побрели по нему в сторону Оперного театра. И разумеется, он, отвечая условностям некой божественной комедии, стоял там, на поднимавшихся к театру ступенях. В рубашке явно с чужого плеча, в перепачканных на седалище, как у любого мальчишки, штанах. Швы на задниках его ботинок разошлись, и угол, под которым располагались ступни мальчика — третья позиция, — лишь подчеркивал эти прорехи. Он выдерживал позицию все то время, что мы простояли внизу, а когда наконец поднялись, чтобы поздороваться с ним, повел себя так, точно встреча наша была совершенно естественной. Мальчик поклонился Анне, кивнул мне. — Знакомство с вами — честь для меня, — сказал он. Я увидел синяк над его левой бровью, но спрашивать ничего не стал, поскольку был слишком привычен и к побоям, и к молчанию, с которым мы их переносим. Анна взяла его за локоть, повела вверх. Порылась в сумочке, достала пропуск, переминавшийся в дверях охранник хмуро кивнул ей. Только тут она вспомнила про меня и сбежала по ступеням, чтобы помочь мне подняться. — Будь мне одиннадцать, я бы приревновал, — сказал я. — Да ну тебя. В театре плотники собирали декорации для «Красного мака», переименованного ныне в «Красный цветок». «Почему бы, — подумал я, — не переименовать все на свете, наделив мир присущей нам алогичностью?» Леса были уже сколочены, мой старый друг Альберт Тихонов — редкостного спокойствия человек — стоял, как обычно, на высоких ходулях, размалевывая задник. С головы до пят его покрывали потеки краски всевозможных оттенков. Он поприветствовал меня с высоты, и я в ответ помахал ему рукой. Прямо под ним молодая женщина в синей спецовке приваривала ножку к сломанному железному стулу. Сцена сверкала искрами, летевшими от сварочной горелки. Я сидел в четвертом от задней стены зала ряду, наблюдая за представлением много более интересным, уверен, чем любой «Красный цветок», роза, мак или астра. Анна отвела Рудика за сцену, а когда они спустя час вернулись, мальчик нес в руках две пары балетных туфель, трусики танцовщика и целых четыре трико. Настроение у него было восторженное, он упрашивал Анну позволить ему просто постоять на сцене, однако там было стишком многолюдно, и она предложила поупражняться в позициях посреди прохода. Мальчик обулся в новые туфли, и тут выяснилось, что они ему великоваты. Анна сняла с волос резинку, достала еще одну из сумочки и закрепила ими туфли. После чего с полчаса провозилась с ним в проходе. С лица мальчика не сходила улыбка, — похоже, он воображал, что уже выступает на сцене. Честно сказать, я не видел в нем ничего необычного, движения его казались мне слишком резкими, рваными, он был чересчур возбужден, хотя, конечно, некое опасное обаяние в нем присутствовало, очень татарское. Насколько я мог судить, телом своим он почти не владел, однако Анна похвалила его, и даже Альберт Тихонов ненадолго оторвался от работы, прислонился, чтобы понадежнее утвердиться на ходулях, к стене и коротко поаплодировал. Ну и я, дабы чем-то оправдать мое ничегонеделанье, присоединился к нему. По лицу Анны я понял — она уже рассказала мальчику, что танцевала когда-то в СанктПетербурге, и эти воспоминания дались ей нелегко. Какой это все-таки ужас, наше прошлое, особенно прекрасное прошлое. Однако Анна успела поделиться с мальчиком своей тайной и теперь с грустью размышляла о том, насколько еще придется ей углубиться в недра памяти, чтобы подкрепить сказанное. И все-таки я видел: мальчик действует на нее благотворно — щеки Анны разрумянились, в голосе проступили высокие нотки, которых я не слышал многие годы. Она различила в нем что-то, какой-то свет, вторгшийся в темноту, чтобы наделить смыслом мрак, в котором мы жили так долго. Они опробовали несколько па, и наконец Анна сказала: «Ну хватит!» Мы вышли из Оперного театра, мальчик повесил туфли на плечо и направился к дому, слегка — и, конечно, намеренно — выворачивая ноги от бедра. Уже смеркалось, однако нас с Анной одолела усталость, и мы посидели на парковой скамейке возле пруда. Она положила голову мне на плечо, сказала, что не настолько глупа, чтобы верить, будто Рудик сможет когда-нибудь стать для нее кем-то большим, нежели просто танцовщик. Анне всегда, даже в поздние наши годы, хотелось родить сына. Наша дочь. Юля, жила в Санкт-Петербурге, в тысячах километрах от нас, возможность научить ее танцевать Анне так и не представилась. Мы понимали, что история плохо распорядилась одаренностью девочки, но поделать ничего не могли. Той ночью я Анне не читал. Довольно было и того, что она пересекла комнату и поцеловала меня. Я удивился, когда в штанах моих что-то зашевелилось, а следом удивился еще пуще, сообразив, что в последний раз такое шевеление было отмечено мною лет пять назад. Жить в наших телах — дело довольно противное. Не сомневаюсь: боги слепили нас столь халтурно для того, чтобы мы нуждались в них, — или хотя бы вспоминали о них ночами. Пару недель спустя жизнь одарила нас короткой благосклонной улыбкой — из СанктПетербурга пришла посылка. Умница Юля отправила ее через университет. Фунт турецкого кофе и фруктовый кекс. К бумажной обертке кекса дочка прилепила изнутри письмо, содержания, впрочем, самого безобидного. Она перечисляла в нем изменения, происшедшие в городе, и коротко сообщала о новостях своей жизни. Мужа Юли, сотрудника физического факультета, повысили в должности, и дочь намеком давала понять, что сможет в ближайшие месяцы прислать нам немного денег. Сидя в наших креслах, мы перечитали письмо дюжину раз, вникая в его иносказания, в тонкие нюансы. Рудик, появившись у нас, вмиг проглотил ломтик кекса и попросил дать ему еще один, для сестры. Позже я увидел, как он, уходя по улице, достал кекс из пакетика и отправил его в рот. Присланный Юлей кофе мы заваривали и перезаваривали, пока не выжали досуха, до побеления, пошутила Анна, — перед революцией мы нередко приканчивали фунт кофе всего за неделю, но, разумеется, когда выбирать не из чего, человек к чему только не привыкает. Послеполуденные прогулки, медленные и опасливые из-за моей ноги, стали приводить меня к гимнастическому залу второй школы. За происходившим там я наблюдал через стекло маленького окошка. Всего у Анны было сорок учеников и учениц, но после обычных занятий она задерживала только двоих, Рудика и еще одного мальчика. Второй был темноволосым, гибким и, на мой взгляд, куда более интеллигентным, лишенным хулиганских замашек. Если бы можно было их сплавить, получилось бы чудо как хорошо. Но сердце Анны принадлежало Рудику, — по ее словам, он родился танцовщиком и, ничего не зная о танце, чувствует его всем нутром, для мальчика это язык, усвоенный в младенчестве, не заученный. Я видел, как загорались ее глаза, когда она бранила его за дурно выполненное плие, — Рудик мгновенно разворачивался и проделывал его идеально, а после стоял, ухмыляясь, ожидая новых охулок, каковые, конечно же, и получал. Анна обзавелась новым балетным платьем, она хоть и оборонялась от холода теплыми гамашами и длинным свитером, но все равно оставалась стройной и изящной. Она вставала с Рудиком к станку, учила его разминаться, растягиваться. Заставляла повторять до головокружения па, кричала на него: выпрямись, ты не мартышка. Она даже отбивала для него ритм, стуча по клавишам пианино, хоть ее владение этим инструментом оставляло желать много, много лучшего. Они начали работать над прыжками; Анна объяснила мальчику, что прежде всего он должен слушаться своих ног, что главное — не прыгать выше всех, но подольше оставаться в воздухе. — Оставаться в воздухе! — хмыкнул он. — Да, — сказала она, — вцепиться Богу в бороду и висеть. — В бороду? — И не плюхаться на пол, точно корова. — Разве коровы прыгают? — спросил он. — Не дерзи. Вообще открывай рот пореже, ты не мухоглот какой-нибудь. — Я циркач! — крикнул он и заскакал по залу, разинув рот. Анна разработала ради него целую систему. Родители Рудика, по происхождению мусульмане, работой по дому его, единственного их сына, не обременяли. Обязанность у Рудика была лишь одна — покупка хлеба, и довольно скоро Анна стала исполнять ее сама, чтобы у мальчика оставалось больше времени для занятий. Очередей она занимала сразу две, у разных пекарен — на Красина и на проспекте Октября. Нередко и я составлял ей компанию. Мы старались, если получится, вставать поближе к вентиляционным отдушинам — запах, которым из них тянуло, был большим утешением для всех, кто маялся в этих очередях. Купив хлеб, я нес его домой, тем временем Анна переминалась с хлебными карточками, семьи Рудика в другой очереди. Процесс нередко занимал все утро, однако для Анны это было неважно. Под конец урока Рудик целовал ее в щеку, укладывал хлеб в хозяйственную сумку и бежал домой. Одним летним вечером мы взяли его с собой на пикник: соленые огурцы, немного черного хлеба, баночка ягодного сока. В парке на берегу Белой Анна расстелила по земле одеяло. Солнце поднялось высоко, тени в полях лежали короткие. Ниже по течению мальчишки ныряли в воду с большой скалы. Один-двое ткнули пальцем в нашу сторону, потом позвали Рудика. Анна что-то пошептала ему на ухо. Он неохотно натянул купальные трусы и ушел по берегу. Потоптался немного у скалы, хмурясь. Выделить Рудика в толпе труда не составляло: он был и худее, и белее всех. Мальчишки прыгали со скалы, прижимая в воздухе колени к груди, и, когда они плюхались в воду, из нее словно фонтаны били. Рудик, присев и уткнувшись подбородком в колени, наблюдал за их ужимками, пока один из мальчишек, постарше, не подошел к нему и не толкнул, грубо. Рудик отпихнул его, громко обругал по-матерному. Анна вскочила, но я потянул ее за руку к одеялу. Налил ей стакан соку и сказал: — Пусть он сам сражается в своих битвах. Она отпила из стакана, кивнула — пусть. Прошло минуты две. Внезапно лицо Анны исказил ужас. Рудик и тот мальчишка залезли на самую верхушку скалы. Другие дети, все как один, смотрели на них. Некоторые начали хлопать в ладоши — медленно, ритмично. Я встал и, как мог быстро, потащил заменявшую мне тело старую ломовую лошадь к воде. Рудик неподвижно стоял наверху. Я закричал, зовя его. Пять метров высоты, широкое основание скалы сильно выступало вперед, делая прыжок с нее почти невозможным. Он развел руки, глубоко вдохнул. Анна взвизгнула. Я споткнулся. А Рудик, еще сильнее раскинув руки, спорхнул со скалы. Он казался повисшим в воздухе, неистовым, белым, но затем с огромным всплеском вошел в воду. Голова его лишь чуть-чуть промахнулась мимо камня. Анна снова взвизгнула. Я ждал, когда он всплывет. Под водой Рудик оставался долгое время, но в конце концов появился на поверхности, и я увидел прилипший к его шее обрывок водоросли. Смахнув его. Рудик тряхнул головой, улыбнулся от уха до уха и помахал рукой мальчишке, так и стоявшему на верхушке скаты, окоченев от страха. — Прыгай, — крикнул Рудик. — Прыгай, жопа! Но мальчишка не прыгнул, а просто слез на берег. Рудик поплавал, потом вернулся к нам, невозмутимо опустился на одеяло. Достал из банки огурец, однако тело мальчика подрагивало, а глаза еще наполнял заметил я, страх. Анна принялась выговаривать ему, но Рудик просто жевал огурец, и кончилось тем, что она пожала плечами. Мальчик взглянул на нее из-под упавшей на лоб пряди, дожевал огурец и положил голову ей на плечо. — Странный ты ребенок, — сказала она. Он что ни день приходил в нашу комнату, иногда по два-три раза. Некоторые сохраненные нами фотографии подпадали под запрет. Мы прятали их в двойной задней стенке деревянного книжного шкапа, одной из немногих моих столярных затей и впрямь себя оправдавших, поскольку она пережила визиты людей из Министерства. Рудик научился извлекать из конвертов снимки, держа их за края, чтобы пальцы его не оставляли пятен. Как научился и тщательно очищать от пыли иглу патефона. Пара сухих щелчков — и вступают скрипки; эти звуки действовали на него как целительное средство. Он прохаживался по комнате, закрыв глаза. Особенно полюбился ему Скрябин, музыку которого Рудик слушал, застыв на месте, словно желая, чтобы она повторялась тысячу раз, пока сам композитор не встанет с ним рядом, подкармливая огонь звуками флейт. Рудик имел неприятнейшую привычку слушать музыку с открытым ртом, не стоило, однако ж, хлопать его по плечу, да и вообще отрывать от этого занятия. Анна однажды коснулась его подбородка — он отпрянул. Я понимал: дело тут в отце. Временами на лице Рудика появлялись ссадины, не такие уж и страшные, но все равно ясно было, что его снова побили. Мальчик рассказал нам, что отец работает на реке, вылавливает бревна. Я полагал, что его поразило давнее проклятие всех отцов — желание, чтобы сын воспользовался себе во благо всем, за что он, отец, боролся: стал врачом, или командиром, или политработником, или инженером. А танцы представлялись ему верной дорогой в богадельню. В школе Рудик успевал плохо, учителя говорили, что на уроках он вертится, постоянно что-то напевает, а время от времени разглядывает книги по искусству, которые берет для него в библиотеке сестра. Он проникся любовью к Микеланджело, оставлял в школьных тетрадях рисунки — подростковые, конечно, но неплохие. Только Дом пионеров и хвалил его — там Рудик занимался по вторникам народными танцами. А в те вечера, когда в Оперном давали балет — «Эсмеральду», «Коппелию», «Дон Кихота», «Лебединое озеро», — он старался улизнуть из дома, проскользнуть служебным входом в театр, а там мой друг Альберт Тихонов усаживал его где-нибудь. Как раз когда он возвращался домой и отец дознавался — откуда, Рудику и доставалось на орехи. На побои он не жаловался и отвечал на вопросы о синяках пустым взглядом, как многие знакомые мне мальчики, да и мужчины тоже. Его били за танцы, а он продолжал танцевать, стало быть, одно уравновешивалось другим. Да и били-то под горячую руку, ничего не обдумывая заранее, что произошло и после тринадцатого дня его рождения, когда Рудику досталось особенно сильно. Я не сомневался, Рудик такого обращения заслуживал — он бывал иногда на редкость вздорным, и все же понимал: избивая его, отказывая сыну в праве на танец, отец тем самым развязывает мальчику руки. Анна недолгое время поговаривала о том, чтобы пойти к его матери, но затем решила: не стоит. Умный человек если и вступает во тьму, то лишь одной ногой. К памяти я всегда относился как к самодовольной врунье, однако Анна пристрастилась рассказывать Рудику под потрескивание патефонной пластинки всякую всячину из прошлого. Пересказав приукрашенную версию своей юности, она поспешила перейти к годам, проведенным ею в кордебалете. И уж тут дала себе волю! Костюмы, художники, заграничные гастроли! Санкт-Петербург, струи дождя в свете уличных фонарей! Покатая сцена Кировского! Ария тенора из последнего акта «Тоски»! Недолгое время спустя остановить ее было уже невозможно. Повторялась история про голландского мальчика и плотину с той только разницей, что на свободу вырывалась не одна лишь вода канала, но все сразу: дамбы, берега и трава на них. Я радовался тому, что она не лжет мальчику, не изображает себя великой балериной, которой история отказала в славе. Нет. Слова ее отличались прелестной правдивостью. Она рассказывала, как стояла за кулисами великих театров, мечтая танцевать на их сценах. Ее воспоминания о Павловой расцвечивались красками не столь яркими, как у других, — может быть, потому, что и сама Павлова была для нее лишь носительницей стихийной силы танца. И мои мысли тоже уплывали куда-то без руля и ветрил — назад в Мариинку, в первый ее ряд, где я со страстным волнением ждал выхода Анны в кордебалете. Когда после «Лебединого озера» начинались вызовы на поклоны, поднимался крик: «Анна! Анна! Анна!» Я воображал, что публика требует мою Анну, и кричал вместе со всеми. А после дожидался ее, и мы шли, взявшись за руки, по улице Росси, и из окна в четвертом этаже ее дома выглядывала мать Анны. Я подводил мою спутницу поближе к стене и целовал ее, потом она касалась моего лица и со смешком убегала наверх. Как давно это было, как странно, но порою все наши мертвые друзья оживали в ее рассказах. Рудик слушал их со своего рода упоенным неверием. Я не сразу сообразил, что неверие это порождалось милосердным невежеством. В конце концов ему было тогда тринадцать лет, а думать его учили совсем не так, как думали мы. И все же мне казалось замечательным, что он и недели спустя помнил услышанное от Анны и иногда цитировал ее слово в слово. Он впивал все услышанное, подрастал, становился нескладен, обзавелся ехидной ухмылкой, способной кому угодно заткнуть рот, но плохо пока понимал и тело свое, и его силу. Можно даже сказать, что был он застенчив и пуглив. Анна твердила ему, что в танце должно участвовать все тело, целиком, не только руки и ноги. Ущипнув Рудика за ухо, она говорила: вот даже мочка его должна поверить в движение. Выпрями ноги. Будь точнее при поворотах! Думай о контуре тела. Впитывай танец, как промокашка. И он прилежно выполнял ее указания, не прерывая усилий, пока не совершенствовал па окончательно, даже если это было чревато новыми побоями. По воскресеньям Анна отводила его сначала в музей, а оттуда на репетиции в Оперном, они встречались каждый день. И по пути домой Рудик вспоминал увиденные ими движения — мужчин или женщин, неважно, — и воспроизводил их по памяти. Он пролегал между нами, как долгий, насыщенный событиями вечер. Понемногу Рудик начал обзаводиться новым для него словарем, не то чтобы подходящим ему, мальчику не хватало для этого культурной начинки. Однако услышать от неотесанного провинциального отрока какое-нибудь port de bras — в этом присутствовало нечто чарующее, он начинал казаться мне только что вышедшим из озаренной свечами залы. А между тем, сидя за нашим столом, Рудик совершенно поварварски пожирал козий сыр. Он в жизни своей не слыхал слов «мойте руки перед едой». Он мог ковыряться пальцем в ноздре и обладал ужасной привычкой почесывать пах. Смотри не отскреби там что-нибудь, однажды сказал я, и он уставился на меня со страхом, какой внушают людям смерть или ограбление. Лежа поздней ночью в постели, мы с Анной разговаривали, пока она не засыпала. Мы поражались тому, что Рудик стал для нас новым дыханием жизни, и знали, что дыхание это останется с нами лишь на недолгий срок, что рано или поздно он нас покинет. Это наполнило нас огромной печалью и, однако ж, сулило возможность свободно дышать вне царства печалей, уже накопленных нами. Я даже вновь принялся за наш огородик — вдруг мне удастся его воскресить. Многие годы назад мы получили участок земли в восьми остановках трамвая от нашего дома. Ктото из министерских, запамятовав наше прошлое, прислал нам милостивое извещение о том, что мы можем получить этот участок — величиной в два квадратных метра — в полное наше распоряжение. Земля оказалась скудной, серой, сухой. Мы растили на ней овощи — огурцы, редис, капусту, виноградичный лук, — но Анна жаждала лилий и каждый год выменивала на две продовольственные карточки пакетик их луковиц. Мы зарывали луковицы поглубже, вдоль краев участка, время от времени удобряли землю ослиным навозом, ждали. И большую часть лет ничего, кроме горького разочарования, не получали, однако жизнь посылает нам порою странные, хоть и скудные радости, и тем именно летом, впервые, участок наш покрыла тусклая белизна. В послеполуденные часы, когда Анна занималась с учениками в гимнастическом зале, я влезал в вагон трамвая, проезжал восемь остановок, сходил, поднимался, хромая, в гору и сидел там на складном стульчике. Нередко по выходным я видел, как на участке, расположенном метрах в десяти от моего, работает, стоя на коленях, невысокий темноволосый мужчина. Время от времени взгляды наши встречались, однако мы ни разу не обменялись ни словом. Лицо у него было замкнутое, настороженное, как у человека, которому всю жизнь приходилось избегать ловушек. Работал он с истовой расторопностью, выращивая по преимуществу картошку с капустой. Когда наступало время урожая, он приходил с тачкой и нагружал ее доверху. В одно воскресное утро он появился на тропке с шедшим за ним по пятам Рудиком. Я удивился — не только тому, что мужчина оказался его отцом, но и тому, что мальчик не на занятиях у Анны, ведь за полтора последних года он не пропустил ни одного. Я выронил совок, громко кашлянул, однако Рудик упорно смотрел в землю, словно ожидая, что из-под любого растения может вдруг выскочить нечто страшное. Я встал, собираясь сказать что-нибудь, он отвернулся. Тогда-то я и поразился одаренности Рудика, позволявшей его телу сообщать то, чего он никак иначе выразить не мог. Просто-напросто плечи мальчика, поникая, то одно, то другое, — да и сам наклон его головы — ясно давали понять, хоть и стоял он спиной ко мне, что любое обращенное к нему слово не только станет для него ударом, но и причинит ему сильную боль. Он вечно сторонился отца — теперь же напрочь отстранился и от меня. Я заметил, что лоб его рассечен, но заметил и большой синяк на правой скуле отца. И мне стало ясно: отец старается как-то загладить то, что произошло между ними, однако до примирения еще далеко. Отец копался в земле, пересыпал ее с места на место, что-то говорил сыну. Рудик время от времени односложно отвечал ему, но по большей части молчал. И я понял — побоев больше не будет. Решив, что их лучше не трогать, я надел шляпу, вернулся домой и рассказал обо всем Анне. — Ох, — выдохнула она и присела за стол, сжимая и разжимая пальцы. — В скором времени я передам мальчика Елене Константиновне, — сказала Анна. — Я уже научила его всему, что знаю. Так будет правильно. Я подошел к буфету, достал многие годы простоявшую там бутылочку самогонки. Анна протерла чистым полотенцем два стакана, и мы сели за стол, чтобы выпить. Я поднял стакан, произнес тост. Она вытерла рукавом платья глаза. Самогона в бутылке хватило только на то, чтобы внушить нам желание выпить еще. Впрочем, мы удовольствовались патефоном, снова и снова проигрывая Прокофьева. Анна сказала, что готова передать Рудика другой преподавательнице — и уж тем паче Елене. Елена Константиновна Войтович была когда-то первой танцовщицей санктпетербургского кордебалета, а теперь заправляла в уфимском Оперном. Они с Анной дружили, обменивались воспоминаниями и услугами. — Анна сказала, что, возможно, через несколько лет Рудик сможет участвовать в массовых сценах, а то и получит однодва соло. Не исключено, добавила она, что ему и в Мариинское училище поступить удастся. А еще она сказала, что хочет написать Юле, попробовать договориться с ней о помощи Рудику. Я понимал, что Анна вспоминает себя — молодую, услужливую, полную надежд, — и потому только кивал, не перебивая ее. Наши возможности не безграничны, сказала она, а преподавание — вещь упругая, растягивать его до бесконечности нельзя, потому что оно может в ответ по нам же когда-нибудь и ударить. И объявила, что на следующей неделе отведет Рудика в балетное училище на улице Карла Маркса. Но до того устроит ему на удивление настоящий праздник. Моя ладонь скользнула по столу к ее ладони. Она сказала, чтобы я почитал немного, а там, может быть, наши согретые самогоном тела даруют нам крепкий ночной сон. Этого не случилось. Всю ту неделю она занималась с Рудиком Я наблюдал за ними через стекло в двери гимнастического зала. Что же, былую шероховатую резкость его движений Анна безусловно пообтесала. Плие у него так и осталось далеким от идеального, в ногах было больше силы, чем грации, однако пируэт он выполнял хорошо, а в прыжке научился на миг зависать в воздухе, приводя Анну в полный восторг. Она аплодировала ему. И Рудик в ответ прыгал снова, пересекая зал по диагонали медленными grands jetés с широкими дуговыми движениями рук, а после возвращаясь чередой плоховато исполненных sissonnes к дальней стене и опускаясь там на колено. Потом отступал и замирал, венцом сцепив над головой руки, словно с гребя к себе воздух и присвоив его, — и уж этому Анна определенно его не учила. Ноздри его раздувались, и мне на миг почудилось, что сейчас он начнет бить ногами в землю, как конь. Разумеется, в нем было больше интуиции, чем интеллекта, больше задора, чем знания, но казалось, будто он уже побывал здесь прежде в ином обличье, необузданном, яром. Новость Анна сообщила ему в пятницу. Я опять наблюдал за ними снаружи, из коридора. Я ожидал молчания, быть может, слез, озадаченной грусти, но Рудик лишь посмотрел на нее, обнял, прижал к себе, отступил на шаг и принял будущее резким и сильным кивком. — А теперь, — сказала Анна, — станцуй в последний раз, и я хочу, чтобы ты высыпал к моим ногам целый ворох жемчугов. Он отошел к скамье, снял с нее лейку, прошелся, исполняя chaînés, вперед и назад по залу, опрыскал пол. И в следующие двадцать минут — пока я не ушел домой — соединял все, чему она его научила, в один танец, перемещаясь в уже потертом, растянутом трико из конца в конец зала. Анна взглянула на меня сквозь окно, и в это мгновение оба мы поняли: что бы ни сулило нам будущее, это, по крайней мере, навсегда останется с нами. *** В зале на улице Карла Маркса Рудик — один из семидесяти юных танцовщиков. К четырнадцати годам он осваивает совершенно новый для него язык: royales, tours jetés, brisés, tours en l'air, fouettés. Исполняя entrechat quatre, он смыкает ноги, щелкая ими, как парикмахер ножницами. Елена Войтович — поджатые губы, волосы, собранные на затылке в тугой узел, — наблюдает за ним. Раз-другой она улыбается, но по большей части лицо ее никаких эмоций не выдает. Он пытается вывести ее из себя посредством brisé volé, но она лишь усмехается и отворачивается, сказав, что в Кировском или в Большом, да даже в театре Станиславского такому, как он, это с рук не сошло бы. О балетных театрах она говорит с налетом сожаления и иногда рассказывает ему о Ленинграде, о Москве, о том, как тяжко трудятся тамошние балерины, в кровь стирающие к концу занятия ноги, говорит, что раковины театральных умывальников окрашены кровью великих танцовщиц. И он возвращается домой и упражняется, думая о крови, пропитывающей его балетные туфли. Его сестра. Тамара, уехала в Москву, чтобы учиться в педагогическом, и теперь у него своя комната с большой кроватью. К стене рядом с ней прилеплены изолентой написанные его небрежным почерком памятки: «Поработать над полуповоротами, избавиться от дурноты. Найти место в массовке. Подыскать для станка крепкую дубовую палку. Занимайся только тем, что у тебя не получается. В шестнадцать лет Бетховен написал вторую часть концерта № 2!». На стену, где висят эти бумажки, солнце не заглядывает, но он все равно соорудил над ними из фольга козырек вроде материнского. Отец, прохаживаясь по дому, делает вид, что памяток не замечает. Одним мартовским утром Рудика будит голос Юрия Левитана, главного радиодиктора страны, читающий, вперемешку с траурной музыкой, правительственное сообщение: перестало биться сердце товарища Сталина, вдохновенного продолжателя дела Ленина, отца и учителя, товарища по оружию, корифея науки и техники, мудрого вождя Коммунистической партии Советского Союза. Объявляются три минуты молчания. Отец Рудика выходит на улицу, стоит под деревом, единственный звук там — щебет скворцов. Мать остается дома, у окна, спустя какое-то время она поворачивается к Рудику, берет его лицо в ладони, ни он ни она не произносят ни слова. Вечером того дня Рудик слышит по радио, что в тот же день скончался и Прокофьев. Он залезает через окно в запертый зал на улице Карла Маркса, заходит в умывалку, до крови раздирает ступни о железный кран. Потом возвращается в зал и танцует — ни для кого. Туфли в крови, капли пота летят с волос. *** Это как раз перед майскими было. Мы уж года четыре не виделись. Он постучал в дверь электроремонтной мастерской на улице Карла Маркса, я там подмастерьем работал. Выглядел он иначе — подрос, волосы длинные. В школе он был мелюзгой, мы его поколачивали, а тут — стоит в двери, здоровенный такой, совсем как я. Я слышал, что он танцует в Оперном, на сцену несколько раз выходил, в массовках, да мне-то какое дело? Я спросил, чего ему нужно. Он ответил, что у меня, по слухам, переносной патефон есть, так он хочет взять его взаймы. Я хотел захлопнуть дверь, да он подставил ногу, и дверь меня же и стукнула. Я его за грудки, — не, такого не сдвинешь. Он опять за свое, говорит, патефон ему нужен для выступления на нефтезаводе, в тамошнем подвальном буфете. А я говорю: иди, мол, прыгни в пруд да вдуй там паре рыбешек. Но тут он начинает канючить, как ребенок, а под конец обещает мне денег дать. Я говорю: ладно — тридцать рублей с каждой сотни, какую ты там заработаешь. Он отвечает: идет, но тогда ты мне и пластинки дай. Ну, мой двоюродный брат — большая комсомольская шишка, у него пластинок навалом, все больше военные песни, но и всякие там Бахи. Дворжаки и прочие. Опять же, тридцать рублей на земле не валяются. В общем, принес я ему патефон. Завод, он большой, — трубы, пар валит, каналы прорыты, там даже три своих машины «скорой помощи» имеются, чтобы убитых и раненых перевозить, если какая авария. Сирены воют, прожектора горят, собаки лают. Рабочего тамошнего сразу по глазам узнаешь. Культурой у них толстая такая старуха заведовала. Вера Баженова. Она все больше кино крутила, да вшивые кукольные спектакли показывала, ну, иногда еще какойнибудь ансамбль народных танцев пригласит, но Рудька ее уломал, чтобы она ему позволила выступить. Зубы заговаривать он умел, мог ишака за скаковую лошадь выдать, спокойно. В буфете было грязно, потом воняло. Времени было шесть вечера, как раз смена закончилась. Рабочие расселись, ждут. Человек тридцать мужиков да баб двадцать пять — сварщики, инструментальщики, истопники, водители подъемников, пара конторских, из профсоюза кое-кто. Я некоторых знал, выпил с ними по стакану кумыса. Скоро и Рудька из кухни вышел, он там переодевался. Трико высоко подпоясанное, безрукавка. Челка длинная на глаза свисает. Рабочие загоготали. Он надулся, велел мне пластинку поставить. Говорю: я тебе не турецкий раб, сам ставь. Он подошел поближе, прошептал мне на ухо, что денег не даст. Ну и хрен с тобой, думаю, но пластинку все же поставил. Первый номер у него из «Журавлиной песни» был, короткий, минуты на три-четыре, и все это время они гоготали. Танцев они уже выше головы насмотрелись, рабочие-то, а тут еще конец смены, бутылки у них по рядам ходят, все курят да лясы точат и все повторяют: «Гоните это говно со сцены! Говна кусок!» Он станцевал еще, но они только громче глотки дерут, особенно бабы. Оглянулся он на меня, и мне его малость жалко стало, ну я и снял иглу с пластинки. Рабочие примолкли. А у него взгляд стал такой, подлючий, то ли он бабам предлагает, чтоб они ему дали, то ли мужикам — подраться. И губы подергиваются. Тут кто-то бросил на сцену грязную тряпку, и все опять зареготали. Вера Баженова вся красная стала, пытается рабочих угомонить, — башку-то потом ей оторвут, она ж руководитель тутошнего коллектива. И вдруг Рудька развел руки в стороны и выдал им сначала гопак, потом «яблочко», потом встал на цыпочки, медленно опустился на колени и перешел на «Интернационал». Смех сразу затих, один кашель остался, рабочие начали вертеться на стульях, переглядываться, а после затопали по полу в такт «Интернационалу». Под конец Рудька все равно к балету вернулся, к «Журавлиной песне», полный круг сделал, но теперь эти тупые уроды ему хлопали. Пустили по рядам консервную банку, собрали рублей тридцать. Рудька глянул на меня и засунул их в карман. После представления рабочие остались в буфете, кумыс нам поставили. И скоро все опять горланили и пили. Какой-то рыжий коротышка влез на алюминиевый прилавок и сказал тост, а после поджал одну ногу и руки в стороны развел. В конце концов Рудька ухватился за него, распрямил, показал, как чего делается. Когда мы возвращались на трамвае домой, пьяные как сапожники, я попросил у него денег. А он обозвал меня жалким казачишкой и сказал, что деньги ему самому нужны, на билет до Москвы или до Ленинграда, смотря где его примут, — в общем, иди, говорит, на хер, деньги-то эти я заработал, не ты. *** Он румянит щеки красной кирпичной крошкой, подводит глаза украденным в театре черным карандашом. Тушь уплотнила ресницы, напомаженные волосы зачесаны назад. Дома он один и потому улыбается и гримасничает перед зеркалом, строит ему рожи. Подступив поближе, подтягивает трико и балетные трусики; зеркало слегка наклонено к полу, отчего видит он лишь половину своего торса. Он вытягивает руки далеко за пределы отражения, кланяется, смотрит, как руки возвращаются в зеркало. Подходит еще ближе, расставляет с преувеличенным выворотом ступни, напрягает верхние мышцы ног, выдвигает бедра. Потом снимает трико, расстегивает трусики и замирает, закрыв глаза. Ряды ламп, море лиц, он выходит навстречу овациям. Рампа помигивает, занавес раздвигается снова. Он кланяется. Потом он старым носовым платком стирает румяна и тушь. Передвигает мебель — столик, кресла, — снимает со стен дешевые картинки и начинает выполнять упражнения в пустой, тесной комнате. Отец возвращается после полудня, раньше обычного, кивает с видом привыкшего к молчанию человека. Взгляд его на миг привлекают памятки, которые Руди прилепил к зеркалу: «Поработать над батманами, довести до ума jetés coupés. Попросить у Анны Скрябина. Мазь для ног». Замыкает их ряд клочок бумаги с одним только словом: «Пропуск». Хамет опускает взгляд на носовой платок, валяющийся на полу у ног Руди. Он молча проходит мимо сына, возвращает кресло на обычное место у двери. Деньги лежат под матрасом, на проезд хватит. Перехваченная резинкой двухмесячная зарплата. Он копил на дробовик. Гуси и прочая дичь. Фазаны. Тетерева. Хамет без дальнейших церемоний вытаскивает деньги, бросает их Руди, а сам ложится на кровать и закуривает, чтобы отбить наполняющий комнату запах, папиросу. *** По пути в Ленинград, а вернее сказать, в Москву, потому что мимо нее не проскочишь, поезд останавливается в маленькой деревне под Ижевском — это моя родина. Я сказал Руди, что он узнает ее по красной с зеленым крыше вокзала. При желании он может сойти с поезда, заглянуть в дом моего старого уже дяди Маджита, переночевать там, и, если ему повезет, дядя, глядишь, поучит его ходить на ходулях. Руди сказал, что подумает об этом. Я уже давал ему опробовать ходули — в театре, после спектакля, он там участвовал в массовке, изображал римского копьеносца. Мы прибирались на сцене. Он еще не переоделся. Я сунул ему в руки ходули и сказал: залезай. Ходули были коротенькие, всего три четверти метра. Он положил их на пол, уперся ногами в ступени, затянул крепежные ремешки — да так и остался сидеть в некотором обалдении, поняв наконец, что и подняться-то с пола на ходулях не сможет. И сказал: «Сукин ты сын, Альберт, убери эти деревяшки, чтоб я их не видел». Потом расстегнул ремни и пнул ходули ногой, так что они полетели по сцене. Впрочем, он сразу же подобрал их и встал в середине сцены, пытаясь сообразить, как же на них забраться. Тогда я приволок стремянку и объяснил ему, как это делается. Руди залез на стремянку, получил от меня основные указания. Никогда не падать назад. Перенести вес на ступни. Вниз не смотреть. Поднимать повыше колени, ходули потянутся следом. Я натянул вдоль сцены веревку — примерно на уровне его подмышек, чтобы ему было за что держаться. Первым делом он попытался уравновеситься, постоять на ходулях, а это самое трудное, и я сказал ему, что он должен двигаться, все время двигаться. Руди кое-как прошелся вдоль веревки вперед и назад, почти все время держась за нее. Когда я был мальчишкой, дядя Маджит упражнялся в стоявшем за околицей нашей деревни заброшенном силосном сарае. Сарай этот он выбрал потому, что там и ветер не дул, и потолки были выше, чем в других деревенских постройках. Ходуль у дяди было пар двадцать, а то и тридцать, все осиновые, высотой от полуметра до трех. Больше всего он любил метровые, потому что они позволяли ему склоняться и разговаривать с нами, с детьми, или гладить нас по макушкам, или пожимать нам руки, когда мы пробегали под ним. Другого человека, который так же лихо управлялся бы с ходулями, я в жизни своей не видел. Он мог сколотить новые, встать на них и мгновенно найти точку равновесия. А через день-другой уже и бегал на них. Единственный на моей памяти раз дядя упал, когда учил нас правильно падать. «Только не назад! — кричал он. — Иначе черепушку расколете! — Да и начал падать назад, крича: — Никогда так не делайте! Никогда!» Заваливаясь, он едва ли не в самый последний миг перенес вес на одну ногу, развернулся и таки упал лицом вперед, — приземлился на уже согнутые колени и остался сидеть на пятках. Он был единственным известным мне ходоком, который ни разу не вывихнул ключицу. В последнюю перед отъездом пару вечеров я попытался обучить Руди приемам хождения, но голова его была занята другим. Уехать — для него это было то же, что выйти на поклоны. Я сказал ему, что если он выглянет из поезда, то увидит в полях детей, моих племянников и племянниц, чьи головы едва высовываются из пшеницы. И может еще увидеть за вокзалом, как они играют на ходулях в футбол. Ты только сядь с левой по ходу стороны, сказал я. Уверен, он ничего этого не сделал. 15 апреля 1959 Р Магия танца, молодой человек, есть нечто чисто случайное. А ирония состоит в том, что познает эту магию только тот, кто работает упорнее прочих. И когда это случается, ему гарантируется лишь одно: больше он ее ни разу в жизни не встретит. Для одного это беда, для другого — чистый восторг. А потому тебе, возможно, лучше забыть все, что я наговорил, и помнить только одно: подлинная красота жизни состоит в том, что временами в ней встречается красота. Саша 2 Ленинград, Уфа, 1956-1961 Перрон поблескивал водой, натасканной ногами пассажиров, зонтами, которые они отряхивали. Весь тот день словно проседал под грузом глухой серой сырости, в которой бродили мрачные от скуки работники железной дороги. Из громкоговорителей нестись звуки чьей-то новой симфонии — скрипка и виолончель изображали сверлильный станок. Я сидела на скамье под крышей перрона, наблюдая за прощавшейся с двумя подростками женщиной моих лет. И все разглаживала складки на юбке, не ощущая ни торжественности, ни праздничности момента, а просто пытаясь представить себе, на что же будет похож этот мальчик. Мама прислала мне фотографию, сделанную в Уфе несколько лет назад, когда он учился у нее. Худое дерзкое лицо деревенского мальчишки — высокие татарские скулы, рыжеватые волосы, настороженный взгляд, — но теперь ему было семнадцать, и, конечно, он изменился. Мама написала, что он совершенно необычен, что я мгновенно узнаю его, он выделяется в толпе, даже походка его и та — произведение искусства. Поезд наконец-то пришел, наполнив воздух паром, я встала и подняла перед собой шляпу, когда-то принадлежавшую отцу, такой у нас был условленный знак, — и, как это ни нелепо, ощутила, ожидая мальчишку, который был вдвое моложе меня, легкий трепет. Я обшаривала взглядом толпу, но так и не увидела никого, кто отвечал бы полученному мной описанию. Прошла сквозь нее, задевая плащи и чемоданы, и решилась даже остановить, поздоровавшись с ними, двух юношей, и они, приняв меня за здешнюю начальницу, испуганно предъявили мне документы. До следующего поезда оставалось четыре часа, и я вышла наружу, под морось. Кто-то потрудился над стоящим перед вокзалом памятником Сталину, выбив на каменных щеках крохотные, почти неприметные оспины. Цветы у постамента завяли, лишившись ухода. Уродовать памятник — дело, конечно, глупое, если не просто опасное, однако времени до съезда 56-го года оставалось совсем немного, и мы, ленинградцы, уже ощущали близость оттепели. Как будто приоткрылась узенькая щелка и в нее начал просачиваться свет, — ему еще предстояло разлиться, но присутствие его уже стало непреложным фактом нашей жизни. Над ремонтируемыми трамвайными путями разбили черные брезентовые шатры. Радиоприемники подешевели. В город начали завозить апельсины из Марокко — мы их годами не видели. У невских пристаней покупатели толкали друг друга в очередях за ними. Несколько месяцев назад я ухитрилась купить мужу — в надежде воскресить его прежний пыл — восемь бутылок любимого им грузинского вина. Нам даже горячую воду дали в квартиру, и как-то совсем поздней ночью я залезла — сама себя удивив, а еще сильнее его, — к мужу в ванну. На некоторое время Иосиф изрядно повеселел, однако вино закончилось, и он снова впал в прежнюю хмурость. Ждать у вокзала мне не хотелось, поэтому я прошлась вдоль Невы — мимо тюрьмы, к мосту, а там села на трамвай и поехала в университет. Постучала в дверь мужа, думая сообщить ему о развитии событии, однако его в кабинете не оказалось — верно, работал где-то или заигрывал с какой-нибудь преподавательницей физики. В университет я заглянула впервые за долгое уже время и теперь шла по гулким коридорам, словно попав в чрево барабана, составлявшего некогда музыкальную доминанту моей жизни. Я даже подумала, не заглянуть ли мне на филологический, но решила, что это лишь разбередит старые раны, а не залечит их. И потому откопала в сумочке мой старый пропуск и, прикрыв пальцем дату, до которой он был действителен, протырилась в буфет. Еда там оказалась и гаже, и безвкуснее, чем мне помнилось. Женщины за прилавком взирали на меня с презрением, уборщик сметал огромной шваброй с пола упавшие куски и какой-то сор — так медленно, точно старался одновременно осмыслить всю бездонную тайну своей мешкотности. Я почувствовала себя незваной гостьей, вторгшейся в мою прежнюю жизнь, и ушла. Снаружи сквозь тучи пробилось солнце, разбросав по небу рифы легкого северного света. Я вернулась на Финляндский. Гул, сутолока, которых пару часов назад не было, рабочие, угощающие друг друга сигаретами. Внутри свисал с потолка огромный портрет Хрущева, легкий ветерок сминал и разглаживал матерчатый транспарант: «Жить стало лучше, жить стало веселее»<a l:href="#n_6" type="note">[6]</a>. Портрет повесили совсем недавно, впрочем, освещенный глядевшим в окна солнцем, он казался вполне уместным. Я вышла на перрон, снова села на скамью и стала ждать, гадая, что, по мнению мамы, должна я делать с семнадцатилетним провинциалом. Родители написали, что Руди, которого они любовно называли Рудиком, был послан им свыше, по-моему же, послано им было, скорее, напоминание о том, что когда-то значил для них балет. Выросла я без родителей, и, по правде сказать, все время, проведенное мной в их обществе, с легкостью поместилось бы в жилетном кармане. Они жили на поселении, в Уфе, однако опорой всего их существования был город, который оба называли, по старой памяти, Петербургом, — его дворцы, дома, дуэли на шпагах, буфеты, чернильные приборы, богемский хрусталь, первые ряды партера в Мариинском — все, что отняла у них революция. Отец чудом пережил годы чисток, арестов, освобождений и новых арестов, отсидки в сибирских лагерях и, наконец, депортацию в Уфу, где власти перестали, более-менее, донимать его и маму. Мама всякий раз старалась селиться в городах, близких к лагерям, в которых томился отец, а меня оставила — ради хорошего образования и сохранения достоинства нашего рода — у своих родителей, от которых я получила и фамилию, и даже отчество. Я рано вышла замуж, работала в университете и отца с матерью видела лишь несколько раз. Уфа была городом закрытым — промышленность, лесное хозяйство, производство оружия. Она и на картах-то отсутствовала, а получить пропуск, позволявший поехать в нее, было до крайности трудно. И потому отец с мамой, хоть я всегда помнила и любила их, занимали в моей жизни место самое скромное. Я услышала, как загудел паровоз прибывавшего поезда, и полезла в сумочку, чтобы еще раз взглянуть на фотографию. Толпа приехавших из Москвы пассажиров текла мимо меня, и я почувствовала себя рыбешкой, поднимающейся вверх по течению, — люди толкали меня то в одну, то в другую сторону, а я только отцовской шляпой размахивала. В конце концов я осталась одна, растерянная, и стала думать о том, что жизнь моя уже пересекла некую неприметную черту. Мне тридцать один год, позади два выкидыша. Я трачу массу времени на мысли о том, какими были бы сейчас мои дети, если бы выжили. А теперь на меня свалилась из-за этого татарского мальчика родительская ответственность, но без какой-либо родительской радости, — я боялась, что с ним приключилось в дороге какое-то несчастье, что он потерял наш адрес, что у него не осталось денег на трамвай, что он, может быть, вообще не приехал. Я ушла с вокзала, кляня мальчишку на все корки, вернулась в центр. Я обожала мою старенькую, облезлую комнату в коммунальной квартире на берегу Фонтанки. Стены ее облупились. В коридорах пахло краской и капустой. Оконные рамы подгнили. И все же она меня утешала. Потолки у нас были высокие, с карнизами, которые, правда, плесневели в углах. Мебель темного дерева, казалось, хранила некую тайну; дверь покрывала сложная резьба; свет лился летними днями в окна. И когда по реке проходило суденышко, я слышала, как волны плещутся о камень берегов. Несколько часов я просидела у окна, глядя на улицу. Вернулся Иосиф, галстук на нем сидел криво. — Придет, никуда не денется, — сказал он. Иосиф поел, покряхтел и лег спать, а я вдруг представилась себе какой-то фарфоровой посудиной — блюдцем без чашки, что ли, или крышкой от чайничка, красивой и бесполезной. Я походила по комнате — двенадцать шагов от окна до двери, шесть в поперечном направлении. Приближался срок сдачи переводных стихов, но у меня не было ни сил, ни желания возиться с ними. Я, как маньячка, разглядывала себя в зеркале, так и этак поворачивая лицо. И острое чувство: что-то неладно — овладело мной. Никто из нас, думала я, не становится умнее, чище, долговечнее. Мне казалось, что молодость, принадлежавшая мне, пролетела. Как грустно! Как прискорбно! Как нелепо! Я пощипала щеки, чтобы вернуть на них краску, натянула плащ, спустилась по смрадной лестнице и стала бродить по двору, слушая звуки, доносившиеся из соседских квартир, — смех, ругань, редкие ноты, которые кто-то брал на пианино. Стояла пора белых ночей — полуночное светло-синее небо, ни луны, ни звезд, лишь несколько отбившихся от своей компании облачков. Отец написал мне однажды, что звезды бездоннее темноты вокруг них, и я едва ли не час обдумывала, расхаживая по двору, эти слова, пока в тенях арочного прохода не обозначилась человеческая фигура. Никакого искусства в поступи Руди я не обнаружила. Он еле волок ноги, сутулился. Да и вообще казался сошедшим с карикатуры: обвязанный веревкой чемодан, клочья волос, торчавшие под самыми разными углами и из-под вельветовой шляпы. Очень худой, что лишь подчеркивалось его скулами, — впрочем, когда он приблизился, я увидела: глаза у него далеко не простые и синие. — Где ты был? — спросила я. — Знакомство с вами — честь для меня, — ответил он и протянул мне руку. — Я тебя весь день дожидаюсь. — О, — произнес он и склонил голову набок, вглядываясь чуть искоса в мое лицо, словно пытаясь понять, насколько я сурова. — Я приехал утренним поездом, — сказал он. — Наверное, вы проглядели меня на вокзале. — И ты не видел, как я махала шляпой? — Нет. Я понимала, что это вранье, да еще и неумелое, но цепляться к нему не стала. Руди нервно переминался с ноги на ногу, и я спросила, чем он занимался весь день. — По Эрмитажу ходил, — ответил он. — Зачем? — Смотрел картины. Ваша мама говорит, что танцовщик должен быть и художником тоже. — Вот как? — Да. — И что еще она тебе говорила? — Что неплохо быть также и музыкантом. — А о том, что танцовщик должен уметь правильно рассчитывать время, она не упоминала? Он пожал плечами и спросил: — У вас есть пианино? Глаза его на миг стали озорными, и я с трудом сдержала улыбку. — Нет, — ответила я. И тут с четвертого этажа к нам приплыла еще одна нота, а следом кто-то заиграл Бетховена, и очень хорошо заиграл. Лицо Руди посветлело, он сказал, что, может быть, ему удастся познакомиться с хозяином этого инструмента, добиться, чтобы тот позволил ему заниматься музыкой. — Не думаю, — ответила я. По лестнице он, несмотря на чемодан, поднимался, перепрыгивая через ступеньки. В комнате я усадила его за стол и поставила перед ним успевший остыть ужин. — Вы готовите лучше, чем ваша мама, — сказал он, попробовав еду. Я налила себе вина и тоже присела за стол. Руди одарил меня быстрой улыбкой и занялся едой. — Так ты хочешь стать артистом балета? — спросила я. — Я хочу научиться танцевать лучше, чем сейчас, — ответил он. И сковырнул ногтем большого пальца налипший на зуб кусочек капустного листа. Он казался таким юным, полным жизни, наивным. Когда края его губ приподнимались в улыбке, лицо Руди почему-то становилось печальным, хотя никакой печали в этом юноше не ощущалось. Чем дольше я вглядывалась в него, тем более необычными представлялись мне его глаза — огромные, диковатые, они казались самостоятельными существами, которые едва ли не случайно поселились на лице и сейчас обшаривали комнату. Вот они зацепились за мои пластинки, и Руди попросил поставить Баха. Я поставила, негромко, и, пока он ел, музыка словно проливалась сквозь него. — Спать будешь на кушетке, — сказала я. — Завтра утром познакомишься с моим мужем. Он рано поднимается. Руди встал, зевнул, потянулся и подошел к кушетке, оставив на столе грязную тарелку. Я отвернулась, но видела в зеркале, как он разделся до майки и трусов, лег, до подбородка натянул на себя одеяло. — Мне он понравился, — сказал Руди. — Кто? — Город. Понравился. — Чем же? — «О, не верьте этому Невскому проспекту! Все обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» — процитировал он Гоголя, немало меня удивив. А затем сцепил под затылком ладони, набрал полную грудь воздуха и выдохнул его — протяжно и счастливо. Я допила вино и вдруг, дура дурой, пустила слезу. Руди это смутило, он повернулся лицом к стене. Я смотрела на него, спящего. И думала о моих родителях, о наших редких встречах. Вдвоем они производили впечатление комичное — отец был лишь ненамного выше мамы и почти так же узок в плечах. Седоусый, он носил старомодные рубашки с запонками и коротковатые, не закрывавшие лодыжек брюки. Годы, проведенные в лагерях, тяжело дались его телу; в Сибири отцу пришлось, чтобы остановить гангрену, отрубить себе топором палец на ноге, отчего он теперь прихрамывал. На самом деле потеря пальца спасла ему жизнь: в лагерной больнице он познакомился с врачом, который был также и стихотворцем, они тайком делились строками старых поэтов, и врач, дорожа отцом, не позволил ему умереть. В лагерях отец славился способностью, однажды услышав стихотворение, запомнить его наизусть, и, даже выйдя на свободу, он помнил то, что другой человек постарался бы поскорее забыть. Пережитое наделило его болезнью сердца, да и нога доставляла немало неприятностей. Но даже терзаемый ужасной бессонницей, он сохранял дерзкую веселость, словно говорившую: «Меня вам не сломить». Мама тоже сумела сохранить в те трудные годы красоту, оставшись подтянутой, как и положено балерине, с собранными в тугой узел волосами, с яркими и живыми глазами. Они относились друг к дружке с огромным уважением, мои родители, — и даже в их преклонном возрасте гуляли, держась за руки. Я смотрела на раскинувшегося по кушетке Руди и думала, что он стал теперь их общей тайной. Но ревности не испытывала. Наверное, все мы в конце концов понимаем после долгих поисков: по-настоящему каждый человек принадлежит только себе. Так я до утра и не уснула. Срок сдачи работы в Институт перевода по-прежнему беспокоил меня, три доставшиеся мне испанские сестины были настолько сложны, что я сомневалась в своей способности передать их изящество. После завтрака я прошлась вдоль реки, села на трамвай и повезла мою жалость к себе за город, в место, которое полюбила еще в детстве. Странное место, где река словно отрывается от земли, — обман зрения, конечно, но кажется, будто она течет там вверх. Муравчатый берег был усыпан полевыми цветами, три ивы склонялись над рекой. Всю жизнь мне нравилось ощущение, которое возникает, когда стоишь в воде полностью одетой. Вот и теперь я по бедра зашла в реку, постояла, а потом прилегла, чтобы обсохнуть под солнышком, на траву. Понемногу одно из стихотворений стало складываться у меня в голове, шесть слов сами собой забрели в нее, будто привороженные. «Верный», «мертвый», «свеча», «безмолвие», «полуночник» и «свечение». Добившись кое-какого успеха, я закрыла тетрадку, разделась до белья и поплавала. Если честно, я в то время была еще привлекательной женщиной с унаследованными от матери телом, темными волосами, бледной кожей и со светлыми глазами отца. У реки я осталась допоздна, а когда вернулась домой друзья мои уже сидели вокруг приоконного стола и чинно беседовали на усвоенном нами осмотрительном языке. Так уж у нас повелось — по понедельничным вечерам здесь собиралась компания ученыхестественников и лингвистов, с которыми я подружилась еще в университетские времена. «Салоном» наши встречи назвать было нельзя (меня это слово раздражало явственным душком буржуазности), просто мы испытывали, сходясь, облегчение — сигареты и водка, философия, матерщина и недомолвки. Лариса была профессором французской литературы. Сергей — ботаником. Надя — переводчицей. Петр, по-дилетантски занимавшийся философией науки, любил разглагольствовать о Гейзенберге и изначальной неопределенности наших жизней, — он был краснолицым занудой, способным, впрочем, сделать вечер интересным. Я питала невнятную влюбленность еще в одного Иосифа, высокого светловолосого лингвиста, переходившего, напиваясь, на греческий язык. Муж мой в этих посиделках участия не принимал, он вечно задерживался в своем университетском кабинете до позднего часа. Я тихо вошла в комнату, понаблюдала немного за маленькой драмой, которая разыгрывалась вокруг стола. Руди слушал разговор, подперев рукой подбородок, вид у него был слегка ошалелый, как у человека, которому приходится переваривать слишком много незнакомых слов. Спор шел о новой пьесе, на которую «Правда» напечатала рецензию, сильно похвалив образы выведенных в ней рабочих, участников классовой борьбы в предреволюционной Венгрии. Разговор вертелся вокруг «языковой двойственности», хотя значение этого термина определенно представлялось всем, кроме Петра, туманным. Я придвинула к столу стул, села. Руди откупорил мужнину бутылку водки, налил всем по стопочке и себя не забыл. Выглядел он уже пьяновато. В какой-то миг он наклонился ко мне. Тронул за руку и сказал: «Здорово!» В конце вечера он вышел с моими друзьями на улицу и появился дома лишь через три часа (Иосиф уже успел вернуться и заснуть), повторяя: «Ленинград, Ленинград, Ленинград!» А потом начал танцевать, напоминая мне птицу, проверяющую размах своих крыльев. Я не стала его останавливать, просто проскользнула мимо, унося на кухню посуду. Когда же я направилась к постели, он во все горло крикнул: «Спасибо, Юлия Сергеевна!» Впервые на моей памяти меня назвали по настоящему моему отчеству, я ведь всегда использовала для него имя дедушки. Я забралась под одеяло, отвернулась от Иосифа, сердце мое билось. Лицо отца проплыло перед глазами, а после мне явилась в отрывистом сне идея последней строчки сестины. И наутро другие две словно ожили, задышали с такой непринужденностью, что политический их смысл — автор был марксистом из Бильбао — приобрел вид хоть и значимой, но случайности. Я уложила все три перевода в конверт, поехала в институт, где меня уже ждали деньги. Потом купила немного турецкого кофе и вернулась домой, обнаружив там приунывшего Руди. Первое его выступление в училище прошло не совсем удачно. Он выпил три чашки кофе и спустился во двор, — я смотрела сверху, как он разминается, используя вместо станка железную оградку. Всю ту неделю Руди ходил в училище на просмотры, а в ночные часы слонялся по городу, иногда возвращаясь домой в три утра, — в конце концов белыми ночами в Ленинграде мало кто спит — с рассказами о прекрасных дворцах, о киоскере, с которым он познакомился на Кировском, о милиционере, проводившем его на Литейном подозрительным взглядом. Я попыталась предостеречь юношу, но он только плечами пожал. — Я всего-навсего деревенщина, — сказал Руди. — Им я не интересен. Что-то необычное ощущалось в коротких фразах, которыми он изъяснялся, — удивительная смесь провинциальной заносчивости с изощренным мышлением. В самом конце недели я, развешивая на коммунальной кухне постиранное белье, вдруг услышала снизу крик: «Юлия!» И, выглянув в кухонное оконце, увидела Руди, сидевшего, шатко покачиваясь, на высоком кованом заборе заднего двора. — Я прошел! — закричал он. — Меня взяли! Взяли! Он спрыгнул с забора прямо в лужу и побежал к нашему подъезду. — Ноги вытри! — крикнула я. Руди усмехнулся, протер обшлагом рукава ботинки, взлетел по лестнице в квартиру и обнял меня. Позже выяснилось, что места в Ленинградском хореографическом он добился столько же языком, сколько танцем. Уровень его был лишь немногим выше среднего, но пылкость и интуиция Руди произвели в училище хорошее впечатление. Он был старше большинства тамошних учеников, однако рождаемость сократилась за время войны настолько, что училище разрешало показываться танцовщикам его лет и даже принимало их на учебу. В общежитии ему предстояло жить по преимуществу с одиннадцати-двенадцатилетками, его это пугало, и он попросил у меня разрешения приходить к нам вечерами понедельников. Когда я ответила согласием, Руди поцеловал мне руку, — похоже, он уже начинал осваиваться в Ленинграде. Еще через две недели он уложил чемодан и перебрался в общежитие. В тот вечер Иосиф затащил меня в постель, поимел, а после прошлепал через комнату до кушетки, закурил и сказал, не обернувшись: — Маленький засранец, вот кто он такой, верно? Я почему-то сразу ощутила себя стоящей между отцом и мамой и уткнулась, ничего не ответив, носом в подушку. Прошло почти три месяца, прежде чем Руди снова появился у нас. И не один, а с чилийской девушкой по имени Роза-Мария. Красива она была настолько, что дух захватывало, но привлекательностью своей не упивалась, относясь к ней как к качеству второстепенному. Отец ее издавал в Сантьяго газету, а она училась в Ленинградском хореографическом на балерину. Руди — может быть, из-за ее присутствия рядом — показался мне изменившимся. Он носил долгополую армейскую шинель, сапоги до колена, волосы его стали еще длиннее. Роза-Мария поставила в угол зачехленную гитару, устроилась несколько в сторонке от всех, а Руди уселся за стол и слушал, склонившись над стопкой водки, наш разговор. Лариса, Петр, Сергей и я — все мы были уже хороши и напрочь увязли в нескончаемом споре о Хайдеггере, сказавшем, что жизнь становится аутентичной лишь в присутствии смерти. Для меня эта тема была в конечном счете связанной с тем, как мы жили при Сталине, однако я не могла не вспоминать и отца, существовавшего в тени не только собственной его смерти, но и прошлого. Я коротко взглянула на Руди. Он зевнул, снова наполнил свой стаканчик — не без театральности, держа бутылку высоко в воздухе, так что водка плескалась, ударяя в стекло. Петр, повернувшись к нему, спросил: — Ну-с, молодой человек, а что, по-вашему, аутентично и что нет? Руди отпил водки. Петр отнял у него бутылку, прижал ее к груди. Вокруг стола прокатились смешки. Все с удовольствием наблюдали за короткой дуэлью усталого немолодого человека и юноши. Я решила, что Петра Руди не одолеть, однако он взял со стола две ложки, вскочил на ноги, бочком протиснулся мимо моих фикусов, подошел к двери и поманил нас за собой. Простота и непонятность его поведения заставили нас примолкнуть — только Роза-Мария улыбнулась, словно зная, что нам предстоит увидеть. Руди направился по коридору к ванной комнате и присел там на край пустой ванны. — Вот это, — сказал он, — аутентично. И принялся постукивать ложками по фаянсу ванны, извлекая одни ноты из ее скругления, другие, более гулкие, из дна, третьи, высокие, из краешка. Ложки тонко позвякивали, Руди дотянулся ими до стены, прошелся ударами и по ней. Лицо его оставалось совершенно серьезным, звуки, которые он создавал, не имели ни формы, ни ритма. Цирк, да и только. — Иоганн Себастьян Бах! — объявил он под конец. Руди остановился, мы пьяно зааплодировали. Обалдевший на миг Петр вывернулся блестящим образом — не ушел, приняв гордый вид, но подступил с бутылкой в руке к ванне и влил в подставленный ему Руди рот изрядную порцию водки. Вдвоем они прикончили бутылку, а затем Петр, подняв ее над головой Руди, сказал: — Пусть в твоей жизни будет столько бед, сколько капель осталось в этой посудине. — Так и промокнуть недолго, — усмехнулся Руди. После этого все словно с цепи сорвались. Мы ели хлеб, намазывая его хреном, — другой закуски не нашлось, — пока не появился приятель Петра, одаривший нас тремя сваренными вкрутую яйцами. Роза-Мария вынула из чехла гитару и стала петь испанские песни на мало знакомом мне диалекте. Руди разгуливал по комнате, колотя железной кастрюлькой по мебели, по плиткам стены, по полу, по раковине умывальника, — до тех пор, пока соседи не застучали в стены, выражая недовольство поднятым им шумом. Именно в это время и вернулся домой Иосиф. Я встретила его в двери восклицанием: «Давай танцевать!» Но он оттолкнул меня так, что я врезалась в стену. Все примолкли. Иосиф же завопил: — Пошли все на хуй! Все! Вон отсюда! Друзья посмотрели на меня и, не вполне понимая, как себя вести, начали медленно гасить в пепельнице сигареты. «Вон!» — снова взвыл Иосиф и, схватив Руди за ворот, вытащил его в коридор. Изумленный Руди таращился на него во все глаза. Но вдруг перед моим мужем оказалась Роза-Мария — просто стояла и смотрела ему в лицо, пока он не опустил взгляд к полу. Кончилось тем, что разобиженный Иосиф спустился во двор, покурить. А ночь покатилась дальше, словно только что началась. Я понимала: произошло нечто из ряда вон выходящее, Роза-Мария сдвинула, пусть даже на время, какую-то ось, вокруг которой вращалась моя жизнь, — и я мысленно присела перед девушкой в благодарном реверансе. Она пришла к нам вместе с Руди и в следующий понедельник. Он, чувствовавший себя здесь как дома, немедленно завел разговор о мифе, который прочитал, готовясь к семинару по мировой литературе, — что-то про Шиву, танцующего в круге огня. Они с Розой-Марией заспорили о том, что такое танец — созидание или разрушение, создает ли танцующий человек произведение искусства или уничтожает его. Руди утверждал, что танцовщик возводит танец, как здание, снизу вверх, а Роза-Мария считала, что его следует разбивать вдребезги, что каждым движением ты вторгаешься в танец, пока он не остается лежать вокруг тебя разобранным на отдельные, великолепные части. Я наблюдала за ними не то чтобы с грустью, но видя в них зеркальные отражения меня и Иосифа, — когда-то, лет десять назад, мы вот так же толковали о физике и языке, так же темно и сосредоточенно. Они судили-рядили, пока не вмешалась Лариса, переведшая разговор на науку, все на ту же теорию неопределенности — к явной досаде юных танцовщиков. Иосиф, вернувшись домой, подсел, представьте себе, за стол ко всем нам, но, правда, молчал, изображая воспитанное смирение. Он внимательно разглядывал Розу-Марию, ее темные волосы, широкую улыбку, потом передвинул свой стул поближе к моему и даже спичку поднес к моей сигарете. И вдруг объявил, что Чили — его любимая страна, хоть он и не был в ней никогда, а я сидела, размышляя о том, как я разбогатела бы, если б все гадости, какие говорит мой муж, можно было обратить в золотую руду. Роза-Мария стала заходить к нам все чаще и чаще, даже без Руди. Я понимала, что за ней, скорее всего, следят, она же иностранка. Телефон у меня начал постоянно пощелкивать. Мы включали погромче музыку — на случай, если квартиру прослушивают, — хотя, по правде сказать, ничего такого особенного в разговорах наших не было. Она рассказывала о Сантьяго, по которому ужасно скучала. Я несколькими годами раньше переводила кое-кого из чилийских поэтов и потому представляла себе подъезды домов, тощих собак, продавцов иконок и статуэток святых, но страна, о которой шла речь у Розы-Марии, состояла сплошь из кафе, джазовых клубов, длинных сигарет. И говорила она так, точно у нее в горле сидел тамбурин. Танец она любила сам по себе, а не как искусство, и в училище страдала, чувствуя, что оно лишает ее свободы движения. Ей приходилось все время ходить в юбке, а она сказала, что привезла из Сантьяго узкие оранжевые брючки, — мне от одной мысли об этом стало смешно — и изнывает от желания хоть раз надеть их. По ее словам, единственным, кто удерживал ее от сумасшествия, был Руди — просто потому, что он позволял себе оставаться таким, каков есть. В училище он то и дело нарывался на неприятности, особенно с директором, Шелковым. Отказывался постричься, спорил на занятиях, подсыпал перец в танцевальные трусики своих соперников. По предметам, которые ему нравились, — по литературе, музыке, истории искусства — успехи у него были блестящие, зато естественные науки да и все, что не отвечало его внутреннему ритму, он не переносил. Руди стибрил в училище сценический грим, румяна, тени для ресниц и разгуливал по общежитию накрашенным. По словам Розы-Марии, к другим танцовщикам он никакого уважения не питал, но обожал своего наставника Александра Пушкина, который всячески его опекал. Упоминала Роза-Мария и пересуды о том, что Руди замечали бродившим ночами в окрестностях Екатерининского сквера, где, по слухам, собирались люди с извращенными наклонностями, — ее, похоже, такие сплетни нисколько не волновали, и это меня удивляло, поскольку я считала, что она и Руди просто-напросто созданы друг для дружки. — Мы с ним не любовники, — как-то сказала она. — Нет? Брови ее поползли вверх, и я вдруг почувствовала, что это мне двадцать лет, а не ей. — Конечно, нет, — подтвердила она. Благодаря Розе-Марии я словно бы снова задышала полной грудью. Мы с ней варили ночами кофе. Она учила меня чилийским диалектам, записывала старые баллады, а я их переводила, — мне еще не встречался человек, который знал столько любовных песен. Благодаря ее связям мне удалось раздобыть новый проигрыватель. Я читала все, что попадало мне в руки, — Горького, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Мао, роман Теодора Драйзера, Митчелла Уилсона, «Ад» Данте. Чехова, перечитала даже Маркса, который очень мне нравился. Набрала в институте кучу работы, совершала с РозойМарией долгие прогулки. Каждые несколько месяцев я отправляла родителям традиционные посылки, прилагая к ним письма, в которых рассказывала, что Руди делает большие успехи, хорошо учится, нашел преподавателя, который его понимает. Отец отвечал, пользуясь нашим незатейливым шифром, что во фруктовом кексе изюма оказалось меньше обычного, — это означало, разумеется, что мое последнее письмо бедновато сведениями. Он писал: Уфа — это серое на сером и еще раз на сером, ему и маме отчаянно хочется покинуть ее. И спрашивал, не могу ли я подергать в Санкт-Петербурге за какие-нибудь ниточки, ведь город этот всегда был прославлен как театр марионеток. *** Ты видишь его на улице Росси в облегающих икры сапогах, в длинном, красном, метущем землю шарфе; ты видишь его с поднятым воротником, с глубоко засунутыми в карманы руками, в ботинках с подбитыми железом носками, высекающими искры из камней; ты видишь, как он стоит в очереди в буфете, слегка склонив голову набок, словно какую-то рану разглядывает; видишь, как буфетчица с черной сеткой на волосах наливает ему лишний половник супа; видишь, как он склоняется над прилавком, касается ее руки, шепчет что-то и она смеется; видишь, когда он протирает ложку полой рубашки, какой у него плоский, крепкий живот; видишь, как он быстро управляется с супом и вытирает грубой ладонью рот; видишь, что буфетчица посматривает на него, как на давно утраченного сына. Ты видишь его в чердачном классе, залитом утренним светом, он пришел раньше других, чтобы освоить придуманное им движение, которого тебе и за три года не выучить; ты видишь, как он разгуливает по коридорам в твоих новехоньких гамашах, а когда останавливаешь его, слышишь: «Да задавись ты конем»; видишь его без трусов; видишь, как он охорашивается; видишь, как проталкивается в центр класса и занимает место впереди других, чтобы смотреть на свое отражение в зеркале; видишь, как он нетерпеливо ведет отсчет времени, наблюдая за другими учениками, показывающими свои сочетания движений; видишь, как толкает на пол чуть-чуть промедлившую партнершу и не помогает ей встать, хоть она плачет, потянув, быть может, запястье, как подходит к высокому окну и орет на всю Театральную: «Пизда!»<a l:href="#n_7" type="note">[7]</a>; видишь его зимой, видишь летом, и всякий раз тебе кажется, что он подрос, и ты не можешь понять, как это возможно. Ты видишь, как он красит белые балетные туфли в черный цвет, как пришивает пуговицы, каких ни у кого больше нет; как натягивает твои балетные трусики, но не говоришь ни слова, пока он не возвращает их грязными, и тогда ты просишь его постирать их, а он рекомендует тебе умыться говном; ты видишь его на следующий день и повторяешь, что трусики нужно постирать, и он отвечает: «Да пошел ты, жидок паршивый»; видишь, как он уходит, ухмыляясь; видишь, как проходит мимо по улице, даже не взглянув на тебя, и думаешь, что, может быть, он сумасшедший, или болен, или погружен в свои мысли, но тут он бросается через улицу к девушке-чилийке, и та раскрывает ему объятия, и через пару секунд они торопливо уходят куда-то вдвоем; видишь, как они уходят, и чувствуешь себя опустошенным, обманутым и наконец решаешь открыться ему, тебе хочется стать его другом, и ты садишься в буфете за его столик, но он заявляет, что занят, что у него важное дело, и тут же подходит к буфетчице; ты видишь, как они болтают, смеются, и сидишь злой-презлой, тебе хочется спросить у него, существует ли кто-то, кого он любит больше, чем себя, однако ответ тебе известен и так, поэтому ты не спрашиваешь. Ты видишь, как Александр Пушкин берет его под свое крыло; видишь, как он все время читает, поскольку Пушкин сказал ему, что великий танцовщик должен знать великую литературу, вот он и склоняется, сидя во дворике, над Гоголем, Хэмингуэем. Достоевским; видишь, как он скручивает в трубку страницу за страницей, и думаешь, что каким-то образом он сам обращается в книгу, что когда ты в будущем станешь читать ее, то прочитаешь его. Ты видишь его и игнорируешь, но почему-то начинаешь думать о нем все чаще; видишь, как он растягивает связку, и радуешься, но потом наблюдаешь за его танцем и гадаешь, не твоя ли ненависть так быстро залечила ему лодыжку; видишь, как он исполняет перед всем классом вариации Китри, как ноги его встают на высокие полупальцы, все смотрят на него с изумлением, — он же танцует женскую партию, даже девушки окружают его, чтобы получше все разглядеть; ты видишь, как он изучает записи Петипа, изучает досконально, так что может потом руками показать любую последовательность движений, сами руки его, грубые и гибкие, исполняют сложный танец; ты видишь, как он молча и почтительно слушает Пушкина, и даже слышишь, как он фамильярно называет наставника Сашей; видишь, как дергает за трусы учеников, когда они пропускают какое-нибудь па, и видишь, как реагирует на их взгляды, крики, на их мелочную ненависть; ты видишь, как он входит в кабинет директора и называет его дураком и уходит, оскорбительно улыбаясь; и позже видишь, как он безудержно плачет, уверенный, что его выгонят из училища и отправят домой, а еще позже — как стоит на руках у директорского кабинета, видишь ухмылку на его перевернутом лице, и вот появляется Пушкин и в который раз спасает его от изгнания. Ты видишь его отказывающимся вступить в комсомол, поскольку это мешает учебе, — такого никто еще не делал, и его вызывают на заседание комитета, где он, наклонившись над столом, спрашивает: «Извините, товарищи, а что это, собственно, такое — политическая наивность?»; ты видишь, как он кивает, извиняется и уходит, похмыкивая, по коридору и ни на одном собрании так и не появляется; видишь его и библиотеке копирующим партитуры или танцевальные нотации, рубашка его забрызгана чернилами; видишь, как он прибегает на репетицию просто понаблюдать зa ней и как потом движется, вспоминая танец, его тело; видишь, как он делает то, что делал ты; видишь, как он делает это лучше тебя, а после видишь, что ему и делать-то ничего не нужно, потому что это уже стало им; видишь, как он прокрадывается за кулисы Кировского; видишь, как ему кивают артисты балета; как он изображает полное отсутствие эмоций, читая на доске объявлений приказ, назначающий его на роль, о которой он всегда мечтал. Ты видишь его повсюду: на пешеходном мосту через канал, на скамейках консерваторского садика, на набережной у Зимнего, под солнцем у Казанского, на траве Летнего сада; видишь его черный берет, темный костюм, белую рубашку без галстука, он преследует тебя, ты не можешь избавиться от него; ты видишь его на прогулке с женой Пушкина Ксенией; видишь, как она глядит на него, и проникаешься уверенностью; она в него влюблена, до тебя доходили слухи, но ты убежден, что это невозможно; видишь, как Пушкин говорит ему, что он может когда-нибудь стать солистом Кировского, и знаешь при этом — знаешь! — что танцуешь лучше его, и гадаешь, в чем же ты был не прав и когда оступился, потому что техника у тебя лучше, ты более искусен, более изощрен, сам контур твоего тела лучше, твой танец чище, но ты понимаешь: чего-то тебе не хватает, непонятно чего, и пугаешься, тебе стыдно, тебе ненавистен звук его имени, повторяемого людьми; и в один прекрасный день ты видишь его в классе, в коридоре, в буфете, в репетиционной пятого этажа, неважно, и уверен, что видишь себя, и хочешь уйти, но не можешь, ноги вросли в пол, и зной этого дня пронизывает тебя, не остывая, и тебе кажется, что ты окунулся в ванну, наполненную кислотой, и она теперь над тобой, под тобой, вокруг тебя и внутри, жгучая, и тут он уходит, а ты остаешься один и смотришь в пол и понимаешь, какая огромная часть тебя только что скрылась из глаз. *** Уважаемый товарищ! В ответ на подписанный Вами во вторник приказ должен сказать следующее: действительно, поведение молодого человека оставляет желать лучшего, однако природа его дарования такова, что предлагаемая программа может дурно сказаться на его способностях, несомненно поразительных, пусть и не подчиненных строгой дисциплине. Он едва ли сознает, что делает, однако стремится не только осознать это, но и вообще расширить круг своих познаний. Его переменчивая натура пока остается пластичной. В конце концов, ему всего восемнадцать лет. Поэтому я официально предлагаю позволить ему переселиться, по крайней мере на время, в нашу с Ксенией квартиру при училище, вследствие чего дисциплина, которой ему прискорбным образом недостает, будет усвоена им, так сказать, осмотически. С огромным, как и всегда, уважением, А. Пушкин *** Получив письмо отца, я зачастила, пытаясь выяснить, существует ли возможность вернуть его из ссылки, в Большой дом на Литейном. Мама приезжать в Ленинград могла, но отказывалась, говоря, что в отсутствие мужа будет чувствовать себя безногим инвалидом. «Я подожду, Юля», — писала она. В прошлом я уже наводила, пусть и нерешительно, справки о том, что следует сделать, чтобы вытащить их из Уфы, однако тогда это было затеей безнадежной, теперь же, со все более приметным наступлением оттепели, надежды появились. По моим представлениям, им больше хотелось оказаться рядом с Руди, чем со мной, но это навряд ли имело значение — от одной лишь мысли об их приезде у меня пела душа. Лица людей, занимавших кабинки в приемной Большого дома, были серыми. Деревянные столы ободраны, исцарапаны просителями, которые слишком сильно нажимали на перья. Охранники с остекленелыми глазами постукивали пальцами по кобурам. Я досконально выясняла, какие бланки должен заполнить отец, что ему следует говорить, как представлять свое дело, и отправляла в Уфу письма с точными инструкциями. Я понимала, что подвергаю себя опасности, и, может быть, большей, чем когда-либо, что открываю всем напоказ мое сердце, а такие действия умными никак уж не назовешь. И гадала, не подвергаю ли угрозе всех, кто близок ко мне, даже Иосифа, который, что ни говори, мог потерять гораздо больше моего. Роза-Мария сказала, что ее отец имеет большое влияние среди коммунистов Сантьяго и, наверное, мог бы мне чем-то помочь, но я решила, что привлекать девушку к участию в этом кошмаре неразумно. Начав копаться в связанных с отцом документах, наши чиновники вполне могли обнаружить в отпечатанных под копирку вторых и третьих экземплярах факты, сильно отличавшиеся от тех, что значатся в оригиналах, — как это случилось в одном мрачном европейском романе. И однако ж почти через девять месяцев — я за это время успела перевести для Госиздата испанскую поэму — пришла телеграмма: Вторник Финляндский 10 утра Я вычистила комнату от пола до потолка, купила все продукты, какие сумела найти в магазинах. Иосиф помогал мне хотя бы уж тем, что помалкивал. Войдя в вокзал, я увидела их сидящими на скамье под огромными часами — родители приехали другим поездом, более ранним. У ног их стоял огромный чемодан с остатками грубого лакового узора. Его покрывали наклейки, большей частью истершиеся. Отец, разумеется, был в шляпе. Мама — в старом пальто с меховым воротником. Она спала, положив голову на плечо отца. Он сунул два пальца в рукав маминого пальто, пощекотал, чтобы разбудить ее, запястье. Она сразу открыла глаза, тряхнула головой. Я обняла ее, она показалась мне страшно хрупкой. Отец встал со скамьи, широко развел руки и громко сообщил: — Ты подумай, меня реабилитировали! — И прибавил гораздо тише, тоном заговорщика: — Ну, во всяком случае, на три месяца. Я оглядела зал, ища милиционеров, — ни одного. Мама шикнула на отца, а он, наклонившись к ней, произнес загадочное: — Пока не наступит утро, нам еще ехать да ехать. — А ну тебя с твоими стихами, — сказала мама. Он усмехнулся и ткнул пальцем в чемодан: — Ну что же, вези нас, Юля, голубчик. В троллейбусе он сесть отказался. Стоял, держась одной рукой за стойку и опираясь другою на трость. Троллейбус ехал, лицо отца подергивалось, взгляд рыскал из стороны в сторону. Выражение его оставалось уязвленным — город многое потерял во время блокады, а теперь перестраивался, — но порой он закрывал глаза, чтобы остаться наедине лишь со своей памятью, а один раз прошептал: «Петербург». Мелькнувшая на лице отца улыбка передалась, точно по радио, маме, а от нее мне — память отца породила эффект домино. Как только троллейбус свернул с Невского, штанга его соскочила с провода и он остановился посреди улицы. Отец подошел к двери, чтобы вернуть штангу на место, однако троллейбус был новой модели, и сделать отец ничего не смог — просто стоял в растерянности у двери. Кондуктор смерил его сердитым взглядом. Пассажиры оборачивались, чтобы посмотреть на отца, и я увидела, как лицо его побагровело от страха. Мама поманила отца к себе, предложила сесть. Он накрыл ее ладонь своею и до конца поездки молчал. Иосиф, встретив моих родителей, рассыпался в пространных приветствиях. Мама подержала его за плечи, разглядывая. Она ведь знала моего мужа только по фотографиям. Иосиф покраснел, торопливо открыл бутылку водки. Произнес тост — длинный и официальный. Мама прошлась по комнате, прикасаясь к вещам — масленке, партийным брошюркам Иосифа, книгам, в переводе которых я принимала участие. Мы сытно поели, и мама ушла коридором в ванную комнату, пустила там горячую воду, чтобы принять ванну, а Иосиф извинился и отправился в университет. Вернувшись, мама сказала: — А он не такой высокий, как я думала. Стоявший у окна отец произнес: — Ах, Фонтанка. После полудня мама заснула прямо за столом. Мне удалось перетащить ее на кушетку. Отец подложил под голову мамы свою шинель. Он гладил спящую маму по голове, и при всей его щуплости мне казалось, что от него исходит огромная доброта. Вскоре заснул и он, но спал урывками. Ранним вечером мама проснулась и принялась готовиться к встрече с Руди. Причесалась, надела платье, слишком долго, судя по его запаху, провисевшее в одежном шкафу. Отец пошел прогуляться по Невскому, ему отчаянно хотелось выкурить сигару, однако все табачные ларьки оказались закрыты. Нас выручил сосед, поделившийся двумя своими сигарами с отцом, и тот, поводив ими под носом, процитировал строку литовского поэта о великой доброте чужих людей. Руди, разумеется, опоздал. Пришел он один, без Розы-Марии. В двубортном костюме, при узком черном галстуке — первом, какой я на нем видела. С завернутой в тетрадный листок веткой сирени, которую он поднес маме, поцеловав ее. Мама просияла, сказала, что он возмужал так, как ей и не снилось. Следующий час они провели, как две шестеренки, пытающиеся сцепиться зубцами. Мама слушала, а он говорил — с пулеметной скоростью, безостановочно, демонстрируя совершенство тональности и ритма, — о наклонных полах училища, о пятнах пота на станке, о слухах насчет прыжка, который совершил когда-то Нижинский, о прочтенных им книгах (Достоевский, Байрон, Шелли), о его переселении к Пушкиным. Потом наклонился к ней и сказал: — Знаете, я теперь умею дольше висеть в воздухе! Мама казалась растерянной. Руди на миг накрыл ладонью ее подрагивавшие пальцы. Беда была в том, что Руди узнал слишком много нового и хотел непременно рассказать ей обо всем. Выходило так, что он поучал свою старую учительницу, и ей было от этого неловко. Она кивала, поджав губы, пыталась вставить хоть слово, но Руди было не остановить: занятия в классе, голландские мастера в Эрмитаже, па, которое попросил заучить Пушкин, ссора с директором, любовь к Рахманинову, репетиции, виденные им в Кировском, спектакли Театра имени Горького. Спит он мало, сказал Руди, ему хватает четырех часов, а все остальное время отнимает учеба. Мама, чтобы совладать с дрожью в руках, покручивала обручальное кольцо, и я вдруг поразилась тому, какой она стала худой, — кольцо легко соскальзывало с пальца. Выглядела она смертельно усталой, но все повторяла: «Правильно, мой мальчик, правильно». В конце концов отец что-то сказал ей на ухо, она ткнулась лбом в его плечо, встала, чуть покачиваясь, и виновато сообщила, что ей необходимо отдохнуть. Потом поцеловала Руди в щеку и замерла, не произнося ни слова. — Ты добился больших успехов, — сказал ему отец. — Она гордится тобой. Однако уже у двери квартиры Руди, проведя пальцами по пиджаку, спросил: — Я что-то сделал не так, Юлия? — Нет. Она устала. Несколько дней в дороге. — Я просто хотел поговорить. — Ты приходи завтра, Руди, — сказала я. — Завтра у меня занятия. — Ну, послезавтра. Однако он не появился ни послезавтра, ни на следующей неделе. Я отгородила ширмой угол комнаты, перенесла туда наш матрас — нам с Иосифом пришлось спать на полу. Родители поговаривали о том, чтобы попытаться снять комнату, может быть, в пригородах, в каком-нибудь спальном районе, однако сначала требовалось выправить виды на жительство, оформить пенсионные документы, разобраться с облигациями. Из Уфы им разрешили уехать всего на три месяца. Мамой овладевала все более сильная тревога, отец разговаривать с чиновниками не умел, поэтому ходить по учреждениям пришлось мне. Каждый день, возвращаясь домой, я заставала маму лежавшей, подсунув под голову подушку, на кушетке, а отца беспокойно хромавшим от окна к окну. Он раздобыл где-то карту Ленинграда, большую редкость, — то ли выторговал ее на базаре, то ли случайно встретил где-то старого знакомого. Лучше было не спрашивать. И ночами расстилал ее по кухонному столу и отыскивал сменившие названия улицы. — Смотри-ка, — говорил он, ни к кому в частности не обращаясь, — была Галерная, стала Красная. Странно. Он помечал все перемены, все места, лишившиеся после революции своей истории. Английская набережная стала набережной Красного флота, Бассейная улица — улицей Некрасова. Воздвиженскую, естественно, переименовали, как и Воскресенскую, а стоявшую на ней православную церковь превратили в универмаг. Царское Село обратилось в Детское. Полицейский мост стал Народным. Миллионная улица пропала. Рождественские стали Советскими, что показалось отцу чудовищным, да и другие переименования поражали его несправедливостью. С карты исчезли Малая Моховая, Екатерининский канал, Николаевская, Ямская, Чудов проспект, Соловьиная, Спасская, Пять Углов, Литейный проспект, Большой Мастеровой двор, Монетная. Любовь отца к поэзии заставляла его усматривать в переименованиях мотивы не только политические. — Когда-нибудь улицы начнут называть именами тех, кто их переименовывал, — сказал он. Я сказала шепотом, что ему лучше следить за тем, что он говорит, кому и, безусловно, когда. — Я уже достаточно стар, чтобы говорить что хочу. Не то чтобы отец утратил веру в прошлое, просто оно стало для него неузнаваемым, как будто он рассчитывал отыскать в городе логику своего детства, но наткнулся на что-то совсем иное. Прежние названия вошли в состав его языка и уходить оттуда отказывались. Сложность состояла в том, что он не мог угнаться за переменами, — но хорошо уж и то, что его больше не преследовали за такую неразворотливость. О своем увлечении картой он забыл, едва обнаружив, что маме становится все хуже и хуже. Признавать себя больной она отказывалась, тем не менее мы отвезли ее в больницу, вызвав поздней ночью такси. Врачи обходительно побеседовали с ней — характер и облик мамы всегда внушали людям уважение, — обследовали, сделали даже несколько анализов крови, но ничего опасного не нашли. Мама уверяла, что это воздух города нагоняет на нее сонливость. — Заберите меня отсюда, — попросила она. Комната наша теперь казалась мне затруднявшей любое движение, тесной, безжизненной. Иосиф с его мутной вежливостью внушал отвращение. Мы больше почти и не разговаривали. Годами мы старались обособиться друг от друга и даже попробовали однажды придумать русский эквивалент слова privacy, присутствующего в других известных мне языках. Для Иосифа оно до некоторой степени существовало как понятие физики, которой он занимался, — что-то вроде непознаваемости места, положения в пространстве, — и теперь мне представлялось, что все места, в которых мы с ним оказываемся, непознаваемы. Разбирая сумку, с которой мама ездила в больницу, я чувствовала себя разбиравшей на части и жизнь моего мужа. Единственной осязаемой связью с прошлым был для родителей Руди — «наш дорогой Рудик», сказала бы мама, — однако он довольно долго не появлялся, хоть я и оставила ему в Ленинградском хореографическом несколько записок с просьбами заглянуть к нам. В конце концов он пришел, чтобы сообщить о своем предстоящем выступлении в отчетном концерте учащихся хореографического. Статный, он стоял посреди нашей комнаты, ступня к ступне, и я с удивлением поняла, что танец стал единственной стратегией, принятой на вооружение его телом. — Я проведу на сцене всего несколько минут, — сказал он, — но вы сможете увидеть, чему я научился. От мысли об этом щеки мамы снова порозовели. Правда, ее изумил сделанный Руди выбор танца, чрезвычайно сложной мужской вариации из балета, основанного на сюжете «Собора Парижской Богоматери». Однако Руди заверил ее, что разучил все с помощью Пушкина и станцует с легкостью. — Но ты слишком молод для такой роли, — сказала мама. Он усмехнулся и ответил: — Приходите, увидите. Книга Виктора Гюго стояла у меня на полке, и за несколько оставшихся до концерта дней отец прочел ее маме вслух. Прекрасный, звучный голос его передавал, удивляя меня, тонкости текста, которых я прежде не замечала. Утром в день концерта мама достала из чемодана хранившееся ею для особых случаев платье и потратила несколько часов, подгоняя его по своей фигуре, а затем постояла перед зеркалом во всем блеске ее немолодой красоты. Отец повязал галстук, облачился в черный костюм, зачесал назад остатки волос и, отметила я, вставил в нагрудный карман вторую сигару. Ему хотелось отправиться в театр на дрожках — в память о былых временах, и мои уверения, что ни лошадей, ни карет в городе давным-давно не осталось, изумили его. Мы поехали в театр трамваем, и, когда тот проходил мимо управления КГБ, в окнах которого никогда не гаснет свет, отец украдкой сжал мамину руку. Концерт давали в здании Ленинградского хореографического, но мы остановились ненадолго перед Кировским, чтобы полюбоваться его бесподобной элегантностью. — Ну а разве мы с тобой не красавцы. Анна? — спросил отец. — Да, — ответила она. — Пара старых дураков. — Красавцев или дураков? — И то и другое, — сказал он. Мы поднялись на балкон, опоясывающий гимнастический зал. Остальные зрители были по большей части преподавателями и учащимися — в трико, свитерах, гамашах. Выходит, зря мы так расфуфырились. Мама сидела, вытянувшись в струну, на стуле с прямой спинкой. Роза-Мария присоединилась к нам, на ломаном русском представилась маме. И они мигом завели какой-то свой разговор, мама и Роза-Мария, шепчась, улыбаясь, походя на две части одного существа, живущие в разных десятилетиях, но соединенные некими странными эмоциональными узами. На всем протяжении концерта мамина ладонь лежала на руке Розы-Марии. Выступавшие чаще всего удостаивались лишь вежливых хлопков, хоть и казались мне изысканными, утонченными, — ну, может быть, душевного пыла им недоставало. Руди был предпоследним. Когда он вышел в зал и взглянул на балкон, мама выпрямилась еще пуще. По балкону пробежал шепоток. Талию Руди туго стягивал ремень. Волосы его были аккуратно подстрижены и расчесаны, короткие сзади и длинные, падавшие на глаза, спереди. Конечно, танцевал он великолепно — легко, быстро, пластично, с полным и спокойным владением телом, однако в танце участвовало не только оно, не только лицо, пальцы, длинная шея, бедра, но и нечто неосязаемое, не выражаемое словами, какое-то живое неистовство, одухотворенность, — и, когда грянули аплодисменты, я ощутила едва ли не ненависть к ним. Первой поднялась со стула Роза-Мария, за ней мама и отец, подтолкнувший меня локтем. Руди раскланивался внизу. Он продолжал кланяться, и когда вышел следующий танцовщик, остановившийся, сердито переминаясь с ноги на ногу, рядом с ним. В конце концов Руди развел руки в стороны и понесся высокими скачками к двери. Ожидавший там небольшого роста приятный лысый мужчина хлопнул Руди по спине. — Пушкин, — шепнула мне мама, — он чудесно поработал с Рудиком. На что отец сказал: — Ты, Анна Васильева<a l:href="#n_8" type="note">[8]</a>, тоже чудесно поработала с Рудиком. Мы вышли в прохладную весеннюю ночь. Город стих, Руди ждал нас, мы окружили его, поздравляя. От него резко несло потом, но мне все равно хотелось придвинуться поближе к нему, впитать его запах, его энергию. Он склонился к маме, спросил, как все прошло. Она словно бы замялась на миг, но ответила: — Ты был великолепен. — Мне кажется, я слишком низко приседал в плие, — сказал он. А затем по-мужски прихлопнул отца по плечу, взял Розу-Марию за руку, и они пошли, удаляясь от нас, по улице. — Кто бы мог подумать? — произнес отец. Он раскурил сигару, выдохнул в небо клуб дыма. Мама смотрела вслед уходившему Руди. — Знаешь, — прошептала она, — у него, по-моему, ноги длиннее стали. — Ну, это не сложно, — ответил отец и, улыбаясь, приподнялся на цыпочки — на одной, здоровой ноге. В этот миг из здания театра вышел Пушкин — в светло-коричневом плаще, при галстуке. Его сопровождала жена, Ксения, женщина, которую я и раньше видела на улицах Ленинграда. Не заметить ее было невозможно — невероятно красивая блондинка, изумительно одетая и словно светящаяся изнутри. Они повернулись к нам, помахали, и я подумала о том, какие удивительные зеркальные отражения создает жизнь: мои родители, учителя мальчика, смотрят на Пушкиных, учителей мужчины, а сам он уже далеко ушел по улице. Мама сказала Пушкиным, тоном на редкость формальным: — С добрым вечером. Позвольте выразить вам мою благодарность. Пушкин ответил: — Руди так много рассказывал о вас. Мама, улыбнувшись, сказала: — Огромное вам спасибо. Месяц спустя она умерла. В моей комнате, от инсульта, во сне. Проснувшись, я увидела отца, тихо сидевшего рядом с ней, положив ладонь на ее волосы. Я думала, он заплачет, но отец спокойно сказал, что мама скончалась, что хорошо бы мне договориться о захоронении на Пискаревском кладбище. Потом закрыл глаза, стиснул мамины волосы и принялся снова и снова шепотом повторять ее имя, пока оно не зазвучало как пение или произносимая нараспев молитва. А позже, днем, он, исполняя древний обряд, уложил ее на стол и омыл. Он взял для этого свою старую рубашку, сказав, что таков его последний поклон сентиментальности. Мама выглядела ужасно истощенной. Отец окунул воротник рубашки в теплую мыльную воду, протер мамину шею, потом расстелил рубашку по ее телу. Вытер рукавами ее руки, а самой рубашкой — маленькие, иссохшие груди. Казалось, ему хотелось, чтобы мама надела ее, унесла на себе в тот путь, по которому уходила. Он накрыл маму простынкой, и только тогда я увидела его плачущим, безудержно и безутешно. Водопроводный кран отец не завернул, вода негромко журчала в трубах, и это походило на горловой звук, издаваемый горюющим домом. Я вышла на улицу, оставив отца одного. Ветер был резок и сыр. Ко времени моего возвращения отец одел маму, положил ей, как полагается, монеты на глаза. День похорон выдался очень солнечным. Мы получили на Пискаревском участок посреди маленькой рощицы, по соседству с насыпью, под которой покоятся те, кто умер в блокаду. Свет косо падал между деревьями, над кустами вилась мошкара, птицы пронизывали воздух над нами. Никакой прощальной церемонии не было. У нас ушло триста рублей на взятку, которая обеспечила нам это место, и еще сто на рытье могилы. Неподалеку тарахтела косилка, подрезавшая траву на братских могилах, прекрасно ухоженных, опоясанных красными розами. Водитель косилки выключил, из уважения к нам, мотор и остался молча сидеть в ней. Отец прижимал к груди шляпу, я заметила на внутренней ленте тульи узор, созданный каплями пота. Сколько лет он носил эту шляпу, сколько раз мама надевала ее на его голову? Он поежился, кашлянул и сказал, что настроения говорить какие-то слова у него нет, что, даже покинув нас, мама оставила массу свидетельств ее пребывания здесь. Пусть она станет частью нашего воздуха, сказал отец. Потом кашлянул еще раз, покривился, глядя в землю, и отвернулся. Вдали показался за деревьями черный лимузин, «ЗИЛ», с другими черными машинами по бокам. Мы на миг испугались, решив, что это какой-то чиновный посетитель, однако машины свернули к другому концу кладбища, и мы успокоились — никто нас не потревожит. Руди и Роза-Мария стояли бок о бок. Поначалу Руди просто покусывал верхнюю губу, и мне захотелось обругать его, ударить по лицу, выдавить из него хоть одну слезу, но тут он не выдержал и заплакал без какой-либо внешней причины. Отец бросил на гроб горсть земли. Уходя из рощицы, я заметила, что водитель косилки спит, сняв, впрочем, кепку, которая лежала теперь у него на коленях, — и подумала, что маме эта картина понравилась бы. Под вечер мы отправились с отцом на вокзал. Поеду домой, в Уфу, так он сказал. Конечно, в слове «домой» присутствовала иронии, однако именно в Уфе отец прожил большую часть их общих с мамой лет, и в его возвращении туда ощущалось нечто торжественное, пусть и не очень практичное. Иосиф проводил нас до Финляндского. Там я попросила его ненадолго оставить меня с отцом. Я несла сквозь толпу отцовский чемодан. Столбы света падали из окон на серые перроны. Мы остановились у окошка вагона. Из него на нас сердито смотрела старуха в платке. Отец обнял меня, прошептал на ухо, что мне следует гордиться собой, делать то, что я хочу, в разумных, конечно, пределах. Он коснулся моей щеки, и я как дура зашмыгала носом. Огромные клубы пара нависали над перроном — так, точно никуда они отсюда не денутся, висели и будут висеть, говоря нам: почти все вы всю вашу жизнь вдыхаете то, что выдохнули сами. *** Ноты, Бах и Шуман. Уроки фортепьяно, Малый оперный. Поговорить с Шелковым о призыве в армию. Соли для ножных ванн. Открытка на день рождения отца. Разжиться портативным приемником. Урезать обеденный перерыв, чтобы подольше работать со станком, растяжки. В пустом зале. Саша: «Совершенство — наша обязанность». Работать, работать, работать. Трудности вдохновляют. «Да будет потерян для нас тот день, в который мы хоть раз не танцевали!» Ницше<a l:href="#n_9" type="note">[9]</a>. Да! Урок речи. Разрешение на поездку в Москву. Сказать Шелкову, пусть жрет говно — или жрет больше, чем до сих пор, подарить ему ведро и ложку. Еще лучше — не обращать на него никакого внимания, полная победа. Обувь. Пропуск. Почистить перед концертом в консерватории костюм. Паренек в автобусе. Осторожнее. Меньше спать. Утренняя зарядка. Исполнять каждый большой батман в два раза дольше, это даст силу и контроль над телом. Дольше стоять на полупальцах — сила. Девять или десять на каждый пируэт. Целую твои ноги, Чабукиани. Исполнять кабриоли, стоя лицом, а не боком к зеркалу. Саша: «Жить внутри танца». Продумать. Превзойти. Заучить. Даже парик должен ожить! Тройной assemblés. Урок по правильному формулированию мысли. Кое-кому хочется укусить меня, чтобы понять, золотой я или бронзовый. Пусть их. В обоих случаях зубы сломают. «L'Après-midi d'un Faune». Эстраде Герра говорит, что в баллоне Нижинский походил на подстреленного зайца, встающего перед тем, как упасть. А Нижинский сказал, что висеть в воздухе не трудно, нужно просто ненадолго задержаться в нем. Ха. В конечном счете Анна была права. По словам Саши, баллон Нижинского во многом объясняется тем, что у него была сильная спина. Упражнение: ходить на руках, чтобы укрепить мышцы спины. Билеты на Рихтера. Мальчик в Эрмитаже сказал, что у него есть связи в консерватории. Слухи о Ксении, но если не попробовать все, жизнь пройдет впустую. Выяснить, как звали украинского поэта, сказавшего, что ничего хорошего из тебя не получится, пока ты не научишься пить шампанское из сапога! Pas de trois с факелами из «Гаяне», pas de deux из второго действия «Лебединого озера», дуэт из «Корсара» с Сизовой. Почитать для антуража Байрона. Попросить Розу-Марию заштопать трико. Подстричь ногти, чтобы больше не царапать Машу при поддержках. Сказать П… пусть перестанет считать фразы<a , а то у нее во время танца губы шевелятся. Pas de deux — это беседа, а не ебаный монолог. Забыть разговоры о Ф. как о сопернике. Хуйня. Стань унитазом — и увидишь куда больше изящества. Потребуй пять десятков тапочек, тогда, может, с десяток и получишь, лучший мастер — та шепелявая грузинка. Прическа: косой пробор? Горький говорит, что жизнь будет всегда достаточно плоха для того, чтоб желание лучшего не угасало в человеке. Да. Забыл в раздевалке полотняную шляпу. Письмо из башкирского министерства. Отпраздновал девятнадцатилетие. «Евгений Онегин». Партитура Чайковского. Добиться в «Корсаре» байроновского романтизма и непокорства. Саша: «Величайшие артисты рождаются для того, чтобы обогащать искусство, а не себя». Зубная щетка. Мед для чая. Танцуй так, точно все необходимо сказать заново. Саша говорит, что к неизведанному ведут изведанные пути. И что неизведанное в конечном счете возвращает нас в изведанное. «Ты проводишь танцовщиком только часть твоей жизни. Все остальное время ты просто ходишь и думаешь о танце!» Те, кто назначен следить за мной, — игнорируй их, и останешься без глаза, но поклонись им, и они тебя ослепят. Дополнительные занятия в 17-м классе. Починить приемник, привести в порядок телефон. Выставка Дега — Роза-Мария сказала, что он пробуждает в ней сонливость. Фотографии. Сжечь письма Ксении. *** Есть одна история, которой муж любил потчевать Руди. Он пересказывал ее снова и снова — после занятий, когда оба уставали и мы втроем сидели у камина нашей служебной квартиры. Раз или два Руди негромко играл, слушая его, на рояле. От случая к случаю какие-то частности истории переставлялись местами, менялись, но Саша рассказывал ее с неослабевавшим удовольствием, а Руди внимательно слушал. Даже долгое время спустя, когда он перебрался из нашей квартиры в собственную и мы с Сашей вновь остались одни, отголоски этой истории все еще сохранялись. Дмитрий Ячменников, рассказывал мой муж, был в конце девятнадцатого века малоприметной фигурой в мире петербургского балета. Тощий человечек со скудными остатками черных волос на куполовидной голове, большой любитель спаржи, он работал преподавателем хореографии в одном зале, располагавшемся к северу от Обводного канала. Работал вместе с братом Игорем, который играл там на рояле. Жили братья во многом благодаря доброте своих учеников — кто-нибудь всегда оставлял у их дверей немного хлеба, и потому голодать им не приходилось. Как-то в конце зимы брат Дмитрия умер — просто упал лицом на клавиатуру своего инструмента. А вскоре после его похорон Дмитрий ослеп. Поговаривали, что в этой двойной беде повинна была душевная близость братьев: потрясение ослепило Дмитрия, и ничто на свете излечить его не могло. Теперь он только и ходил что из дома в зал, иногда уклоняясь от этого маршрута на рынок, чтобы купить спаржу. Дмитрий решил продолжить занятия хореографией, поскольку ничего другого он не знал. Приходил в зал, запирался там. Однако ставить танцы больше не мог и потому просто ползал на четвереньках по полу, ощупывая его, проводя ладонями по древесным волокнам, а временами даже терся о доски щекой. Он приводил в зал живших по соседству столяров, расспрашивал их о составе древесины, о длине и направлении волокон. Все решили, что он окончательно помешался. Ночами люди видели, как он, зажав в зубах стебель спаржи, идет по улице, нащупывая дорогу к тускло освещенному крыльцу своего дома. В годовщину смерти брата Дмитрий открыл двери зала и пригласил танцовщиков, которые жили в тех местах, на отборочные показы, объяснив тем, кто пришел, чего он от них ждет. Поначалу они только диву давались — нелепость же: слепой объясняет им, как они должны двигаться, — но все же начали показывать, что умеют. Вместо пианиста Дмитрий позвал виолончелиста и скрипача, они играли, а он сидел в первом ряду. В конце концов он отобрал группу танцовщиков, с которыми решил поработать. Они репетировали несколько недель, и Дмитрий почти ничего не говорил, а затем вдруг устроил им нагоняй. Даже не видя танцовщиков, он мог сказать, кому из них не хватает координации при исполнении пируэта, у кого бедра и плечи движутся вразнобой, кто совершает прыжок под неверным углом. Танцовщиков он поразил — не тем, что балетмейстер их слеп, а тем, что он говорил чистую правду. Выступления их имели успех у жителей тех мест. Осенью 1909 года одна газета напечатала статью о Дмитрии, и его история получила огласку. Дмитрия стали звать в залы побольше, но он отвечал отказами. Он отказывал всем: заводам, училищам и даже одному преподавателю из Мариинки, которому хотелось узнать, в чем состоит его метод. И однако ж пригласил поучаствовать в выступлении его труппы старевшую уже балерину Надежду Кутепову, которая очень нравилась его покойному брату. Она пришла в зал и исполнила соло для одного только Дмитрия, без публики. И даже без музыки, на чем особо настоял Дмитрий. Снаружи собралась толпа, людям хотелось узнать, чем кончится эта затея. Ждать им пришлось часа два, и наконец Дмитрий с Кутеповой вышли под ручку из зала. Когда их стали расспрашивать, как все прошло. Кутепова ответила, что благодаря полученным от Дмитрия наставлениям станцевала она превосходно. Он с замечательной точностью описал ей каждое движение, и это было, сказала она, лучшим ее выступлением. Дмитрий же сказал, что во время танца Кутеповой ему казалось, будто в зале звучит одна из симфоний его брата, музыка словно исходила из тела балерины, и ко времени, когда она закончила, он услышал каждую сочиненную братом ноту. Дмитрий Ячменников просто-напросто прислушивался к половицам. *** Лето в Уфе стояло жаркое, город тонул в дыму заводов, да еще в него заносило пепел горевших за Белой лесов. Скамьи парка Ленина покрылись тонким слоем сажи. Я немного посидел на одной, понял, что дышать мне нечем, и, набравшись храбрости, потратил все бывшие у меня с собой деньги на нелепое мотовство — поход в кино. Последний раз я был там еще с Анной и теперь подумал, что, может быть, мне удастся вернуться в прошлое, к ней, намотать на палец прядь ее седых волос. Кинотеатр «Родина» стоял на улице Ленина, понемногу приходя в упадок — трещины на величавом фасаде, пожелтевшие плакаты фильмов за стеклами. Внутри в полную силу работали, меся горячий воздух, потолочные вентиляторы. Поскольку очки я оставил дома, пришлось доковылять до первого ряда и устроиться в нем. До меня доходили разговоры о том, что Руди попал в какой-то киножурнал, имя его звучало на улицах, повторяемое молодыми людьми, предположительно бывшими его одноклассниками, и кое-кем из прежних его учителей. Юля писала, что в Петербурге девушки собираются у служебного вход театра, чтобы увидеть его. И что он танцевал перед Хрущевым. Просто чудо, даже дрожь пробирает — босоногий уфимский мальчишка выступает в Москве. Я только посмеивался, вспоминая его школьные клички: Голубок, Девчонка, Лягушонок. Теперь, когда он стал солистом Кировского, о них и думать забыли — презрительное высокомерие сменилось всеобщим ощущением «нашей» победы. Отзвучал государственный гимн, начался выпуск киножурнала. И я увидел его танцующим в «Лауренсии» Испанца. Меня словно игла уколола, но игла приятная. Руди выкрасил волосы в черный цвет, грим его был попросту кричащим. Но я вдруг почувствовал, что держу за руку Анну, и скоро она наклонилась ко мне, чтобы сказать: какой он по-варварски экзотичный. Какой вопиюще безжалостный танец. И Анна взволнованно зашептала, что он слишком ярок, что плоховато стоит на пальцах, что у него не совсем верный рисунок роли, что ему следует подстричься. А я думал: ну что за чудо — и обратившись в призрака, сдержаться Анна не в силах. И вспоминал, каким в последний раз видел его на похоронах Анны, вспоминал лицо Руди, говорившее, что посланный ему дар его больше не поражает. Теперь он казался отделенным несколькими поколениями от сопливого мальчишки с синяками над левым глазом, стоявшего, нарочито выворотив ступни, перед уфимским Оперным театром. Журнал закончился. Я, ощущая легкую тоску по прошлому, ненадолго задремал, но был разбужен грубой западной поделкой — зрителям подали главное блюдо, «Тарзана». Я вышел из кинотеатра под свет вечернего солнца, пропекшего за день рытвины немощеных улиц. Вороны поклевывали что-то в пожухлой траве. Вдали оранжево полыхали леса. В большом жилом доме на улице Аксакова кто-то играл на виолончели. Я оглянулся, едва ли не ожидая увидеть Руди, юного Руди, и Анну, поспешающую за ним. О том, что надо было купить продукты, я позабыл, однако дома оставалось немного картошки и огурцов. Патефонную иглу давно следовало заменить, хотя ей еще удавалось наполнять воздух моей комнаты поцарапанным Моцартом. Вспомнив давний фокус Анны, я продавил кулаком вторую подушку. В последнее время мое долгое бодрствование стало почти непереносимым, и потому, пробудившись утром, я удивился — не тому, что проснулся, конечно, но тому, что заснул вообще, новизне этого ощущения. *** Проведя в дороге четверо суток, его мать появляется в гостинице, где он остановился, приехав на первое свое выступление в Москве. Серое пальто, повязанная платком голова. Она привстает на цыпочки, целует его в щеку. Он берет ее за локоть, ведет мимо тяжелых, обтянутых бархатом кресел, сквозь строй антикварной мебели. Он задевает плечом красную портьеру, и мать слегка отпрядывает. Люстра льет свет на портреты Героев Советского Союза. Руди с матерью входят в банкетный зал, где несколько раньше Хрущев произнес речь, открывая фестиваль молодых артистов страны. В одном конце зала — стол с остатками банкета. — Я тут танцевал на приеме, — говорит он. — Где? — Вон на том деревянном помосте. Никита Сергеевич смотрел. Хлопал. Кто бы мог поверить. — Смотри, — говорит она. Фарида идет вдоль стола: мазок белужьей икры на белой крахмальной салфетке; тарелка с остатками гусиного паштета на краю; ароматы осетрины, селедки, мяса, трюфелей, лесных грибов, паштетов, сыров: испеченные ломаными восьмерками крендельки; единственная черноморская устрица на блестящем подносе. Фарида поднимает ко рту ломтик солонины, но, передумав, двигается дальше, отмечая пустое серебряное ведерко со льдом для шампанского, крошки на полу, сигарный пепел на подоконнике, сигаретные бычки, клинышки лимона в пустых бокалах, согнутые и сломанные зубочистки, круг красных хризантем в центре зала. — Рудик? — произносит она. — Да? Фарида подходит к окну, опускает взгляд на свои ботики, изношенные, покрытые пятнами соли: — Твой отец просит прощения за то, что не смог приехать. — Да. — Ему хотелось. — Да. — Вот и все, — говорит она. — Да, мама. Швейцар отступает от двери гостиницы, выпуская их на холод. Рудик вприпрыжку летит по улице, полы его пальто хлопают. Фарида улыбается, убыстряет шаг, ей вдруг становится легко. Все на улице кружит — снежинки, ноги прохожих, звон далеких часов. Смотреть на встречных, смотреть на сына, ощущать на себе взгляды. — Рудик! — зовет она. — Подожди! Вторую половину дня они проводят в комнате Тамары, неподалеку от Коломенского. Тамара делит ее с семьей из шести человек. Угол Тамары мал, сыр, забит фикусами, безделушками, на стене — выцветшая фотография Циолковского, коврики с замысловатыми узорами свисают с гвоздей. Стопки книг на полу. Кухня темна и тесна. В детском саду недавно урезали жалованье, поэтому полки сестры пусты. Тяжелый утюг стоит на плите рядом с чайником. Самовар отсутствует. Унитаз в туалете, что в конце коридора, засорился и переполнился, запах его витает в воздухе квартиры. Тамара заваривает чай, возится с тарелкой печенья. — Все как в старые времена, — говорит она. Она снимает с Руди ботинки, начищает их. И спрашивает, пощупав его пиджак, где он шьет одежду. Руди пожимает плечами. Медленно приближается вечер, свет в окно уже падает косо. — У меня для вас кое-что есть, — говорит Руди. Он сует руку в карман пиджака, наклоняется к женщинам, вручает им билеты на завтрашний концерт. — Места хорошие, — говорит он. — Лучшие. Мать и дочь осматривают билеты. — Чаю бы еще, — говорит он Тамаре, и та мгновенно вскакивает. На следующий вечер Фарида и Тамара сидят, нервничая, на стульях Концертного зала Чайковского. Свободных мест по сторонам и сзади от них нет. Они посматривают на сверкающие люстры, на изукрашенные карнизы, на инкрустированные золотом ножки светильников, на величественный занавес с повторяющимся изображением серпа и молота. Когда начинается выступление артистов балета, обе стискивают лежащие на юбках кулаки, но скоро, увидев Руди, бессознательно ухватываются одна за другую, пораженные не просто его танцем, но тем, каким он стал — цельным, плотным, мускулистым, проносящимся по сцене, грациозно и гневно пожирая пространство. Мать Руди склоняется на роскошном бархатном сиденье вперед, благоговейно и немного испуганно. Это моя плоть и кровь, думает она. Это я его сделала. *** Да! Рецензия Чистяковой в «Театральной Москве», № 42, 1959. «Изумительно одаренный танцовщик». «Нас захватывает стремительность его танцевальных темпов». Саша: «Когда придет первый успех, постарайся не выглядеть удивленным». Ха! Да! Совет о том, как обходиться с толпой: стой спокойно, охвати весь зал одним широким взмахом руки. Как крестьянин, говорит он, перебрасывающий вилами последнюю охапку сена. Или, что ближе к теме, как перерубающий шею палач. Посмотреть фильм, снятый Лениковским(?), Лабраковским(?). Фотографии для мамы. Новые туфли. Постирать парики. Сшить пальто, короткое, свободное в бедрах, чтобы выглядеть повыше, черт, как жаль, что ноги не могут расти! Пропуск в распределитель. Разжиться, если получится, кожаной сумкой на хорошем ремне. Может быть, полуботинки на резиновых подошвах и узкие брюки, если получится. Табак для отца, обогреватель, о котором говорила мама. Что-нибудь Розе-Марии, возможно, шкатулку для драгоценностей. *** Ему было сказано — держать позицию, как будто на таком полу, да еще и застеленном простыней, ее можно держать вечно. Он стоит в пятой, руки над головой. Утром он слишком жестко приземлился, повредил лодыжку, теперь в ней пульсирует боль. Ателье ярко освещено, в нем много воздуха, свет вливается сюда через маленькие окна. К нижней губе фотографа словно приклеилась сигарета. Он пахнет дымом и бромидом. А от лампочек, лопающихся при каждой вспышке света, тянет чем-то едким. Перегоревшие лампочки фотограф заменяет, вывинчивает из белого кожуха, надев подбитую ватой перчатку. Руди уже спросил, зачем мешать натуральный свет со светом вспышки, — ему это кажется нелогичным, — но фотограф ответил: «Вы делаете свое дело, товарищ, я свое». Боль бухает в лодыжке, Руди держит позицию, думая, что если бы он делал свое дело, и вправду делал, то никакой фотоаппарат за ним не поспел бы. На задней стене ателье висят в аккуратном порядке старые фотографии, датированные и подписанные. Все сплошь артисты балета, и все, даже великие — Чабукиани, Уланова, Дудинская, — благодушны и аморфны. Невежество фотографа сказалось на его работе. Руди так и подмывает прорезать за секунду до вспышки воздух движением, оставив на пленке размытое пятно. Фотограф пользуется аппаратом «ЛОМО». черным, тяжелым, на треноге, — и что за дурь, курить во время съемки, однако снимок нужен Руди для Кировского, вот он и перемогает боль. Странно сильную, как будто его тело, становясь неподвижным, начинает вести жизнь куда более бурную, — чтобы не думать о боли, он сосредотачивается на гневе, вызванном фотографом, а точнее, на жирных складках его шеи. Вспышка, Руди моргает, на сетчатке остается яркое пятно. — И еще разок, — говорит, вывинчивая лампочку, фотограф и останавливается, чтобы поднести спичку к погасшей сигарете. — Нет, — отвечает Руди. — Прошу прощения? — Хватит, — говорит он. Фотограф нервно улыбается. — Только одну, — просит он. — Нет. Идиот. Фотограф смотрит, как Руди спускается по лестнице; косо надетая черная шляпа затеняет половину его лица. Спустившись. Руди нагибается, ощупывает распухшую лодыжку, немного ослабляет повязку. И, не оборачиваясь, машет рукой фотографу, который смотрит на него, перегнувшись через перила, и, похоже, не верит своим глазам. — Пошлите их мне, — кричит Руди. — Если будут плохими, я съем их, высру и верну вам в конверте. Он приходит в мастерскую Кировского, репетирует в классе повышенной сложности. Танцовщик постарше пытается оттеснить его от зеркала. Руди подделывает падение, врезается ему в колено плечом, негромко извиняется и встает, возвращаясь к танцу. По мастерской прокатывается шепоток, зато теперь Руди хорошо видит себя в зеркале — упавшие на брови волосы, мускулистые плечи. Он отступает в центр комнаты, прекрасно выполняет несколько пируэтов. Его партнерша, Сизова, спокойно кивает Руди, подходит к нему и говорит: — Ты же повредил ногу, не форси. В ответ Руди тоже кивает и повторяет пируэт еще раз. Он замечает в окне Ксению — элегантную, в прекрасном плаще, в косынке, — вскидывает руку, прося ее уйти. Она остается на месте, и Руди переходит в фасадную часть мастерской, там она его видеть не сможет. Потом он и Сизова дорабатывают последние детали дуэта из «Сильфид». Лодыжка распухла еще сильнее, однако Руди танцует, превозмогая боль, и лишь по прошествии трех часов опускает ногу в ведро с холодной водой. А затем поднимается на помост и продолжает работать еще полчаса. Сизова наблюдает в зеркале за этим ритуалом сопряжения — не столько с собой, сколько с танцем. Слишком уставшая, чтобы упражняться и дальше, она говорит Руди, что должна пойти и пару часов поспать. В коридоре Сизова проходит мимо курящей на лестнице Ксении, светлые волосы закрывают ее лицо с припухшими, покрасневшими глазами. А из репетиционной долетает голос ругающего себя Руди: — Ноги у тебя коротковаты, жопа! *** В Сантьяго, когда я была девочкой, мы с братьями играли при наступлении Дня мертвых в одну игру. Мама собирала корзину с хлебом и кукурузными лепешками, и мы шли вместе с отцом на кладбище, где другие семьи уже зажигали в темноте свечи. Сотни людей собирались там. У нас была скромная семейная усыпальница под дубами. Взрослые пили дешевый ром и обменивались рассказами. Мои родители вспоминали наших покойных бабушек, запекавших в хлеб обручальные кольца, дедушек, плававших, набрав полную грудь воздуха, по подводным пещерам, дядюшек, которым являлись во снах знамения. Мы же, дети, играли среди могил. Я укладывала моих любимых кукол на надгробия, братья скакали вокруг на палочках, как на конях. Потом мы сами ложились на холодные камни, изображали покойников. Даже тогда, в семь лет, я жаждала танцевать. И, лежа на могиле, иногда ощущала на ступнях атласные туфельки. То была единственная в году ночь, которую нам разрешали проводить на кладбище, — родители не спускали с нас глаз, поили горячим шоколадом, а после мы засыпали у них на руках. Все это вернулось ко мне, как сновидение, в мою последнюю ленинградскую ночь. Я устроила в банкетном зале Кировского театра прощальную вечеринку для друзей — кое-какие закуски, русское вино, слегка напоминавшее вкусом лосьон для рук. Комната моя находилась в трех километрах от Кировского, но я решила обойтись без трамвая и пошла пешком, впитывая в себя все, следуя изгибам каналов, прощаясь с городом. Стояла теплая белая ночь. Три года в юбках. Но теперь на мне были оранжевые брюки. Встречные девушки посмеивались, махали мне ладошками. Голова немного кружилась от вина. Прямые линии зданий исчезли, дворцы размылись, широкие улицы сузились, а бронзовые статуи Аничкова моста чуть приметно покачивались. Мне было все равно. Душа моя уже возвратилась в Чили. Наконец я дошла до моего многоквартирного дома, взбежала наверх. У меня в комнате сидел на кровати, скрестив ноги, Руди. — Ты оставила дверь открытой, — сказал он. Он присутствовал на вечеринке и уже театрально попрощался со мной, однако, увидев его здесь, я не удивилась. Чемоданы мои были собраны, но Руди, покопавшись в них, вытащил сумевшие пробиться сквозь цензуру номера журнала «Dance» и разложил их на кровати, открыв на фотографиях Лондона, Нью-Йорка, Сполето, Парижа. — Чувствуй себя как дома, — сказала я. Он усмехнулся, попросил меня достать гитару. А потом сидел на полу, прислонясь затылком к кровати, и слушал с закрытыми глазами. Я вспоминала, как мама пела мне ночами под муррайей. Она сказала однажды, что плохой голос появляется от хорошей жизни, хороший — от плохой, но великий требует сочетания той и другой. После того как я спела его любимую песню, Руди встал, подступил ко мне. Голова моя еще кружилась от вина, он приложил палец к моим губам, взял у меня гитару, поставил ее к стене. Я сказала: — Нет, Руди. Он касался пуговиц моего джемпера, легко обводил каждую кончиком пальца, волосы его щекотали мой лоб. — Ты уезжаешь, — прошептал он. Пуговицы уже были расстегнуты. Ладони Руди лежали на моей спине, его ноги подрагивали, прижавшись к моим. За годы, проведенные мной в России, я ни с кем не спала. Я прикусила кончик языка и оттолкнула Руди. Он ахнул, поднял меня, припал губами к выступу ключицы, толкнул мое тело к стене. Я соскользнула по ней к плечу Руди, услышала его запах, повторила: — Нет. Руди. — И, взглянув ему в лицо, добавила: — Мы же друзья. Губы Руди коснулись мочки моего уха. — У меня нет друзей. — Ксения, — прошептала я. Руди отпрянул. Я не хотела упоминать о ней, имя как-то само слетело с моего языка. И я мигом протрезвела. Какое-то время он спал с женой Пушкина, потом оборвал эти отношения. И хоть Руди бросил ее, она все равно наблюдала за его репетициями, готовила для него еду, стирала одежду, исполняла капризы. Он подошел к окну, низко сцепив перед собой пальцы, стыдясь своего возбуждения. Я издала нервный смешок, вовсе не желая смущать его, но он ударил кулаком в стену. — И ради этого я пропустил репетицию, — сказал он. — Ради этого? — Ради этого. К окну он стоял так близко, что стекло запотело от его дыхания. Я ушла в ванную комнату, плеснула в лицо холодной водой. При моем возвращении Руди все еще стоял у окна. Я предложила ему уйти и вернуться, когда он опять станет Руди, обычным Руди. У него уже была своя квартира, в восьми улицах от меня. Но он не шелохнулся. Стекло, казалось мне, отражало скрытого в Руди ребенка, который смотрел на меня сквозь свое отражение. Он часто говорил, что любит меня, что женился бы на мне и мы танцевали бы вместе по всему миру, — это стало шуткой, которую мы повторяли, когда нам нечего было сказать, однако теперь нас разделило молчание. Дулся он совершенно очаровательно, а я вспоминала проведенные нами вместе дни: как мы массировали друг другу ноги, катались на коньках, загорали у каналов, сидели вечерами у Юлии. Возможно, вино еще гуляло во мне, не знаю, но в конце концов я сказала: — Иди сюда, Руди. Он развернулся на носках, шаркнув ногами, как в реверансе. — Что? — Подойди, пожалуйста. — Зачем? — Распусти мне волосы. Он подождал, помялся, затем подошел ко мне, вытянул из волос заколки, неумело, нерешительно. Подержал мои волосы на весу, уронил. Я прижалась к нему, поцеловала, мой рот внезапно наполнился его дыханием. Я прошептала, что он может остаться у меня до утра, вернее, до девяти тридцати ровно, после этого я поеду в Пулково, в аэропорт. Он улыбнулся, ответил, что от мыслей обо мне у него голова идет кругом, что мы проведем ночь вместе, да, будем любить друг дружку, потому что больше никогда не увидимся, это прозвучало как описание неопровержимого факта или как первая взятая поутру фортепьянная нота. Сузившиеся глаза его смотрели на меня с напористой силой — как если бы игла патефона остановилась на пронзительном пении трубы. Ладони Руди заскользили по моей спине, прижали меня к нему, пальцы медленно спустились к талии, к бедрам, к ягодицам. Я изогнулась, закрыла глаза. Он рванул меня за волосы на затылке, сильнее прижал к себе и вдруг отвернул лицо к подушке и затих. — Саша, — сказал он в наволочку. И начал снова и снова повторять имя Пушкина. А я поняла, что любить друг дружку мы не будем. Я гладила его по волосам, ночь постепенно меркла, мы накрылись, соприкасаясь ступнями, одеялом. Он заснул, ресницы его трепетали, а я гадала — что ему снится? Проснувшись среди ночи, я не сразу поняла, где нахожусь. Голый Руди сидел на полу, скрестив ноги так, что ступни прижимались к животу, и рассматривал фотографии, а заметив, что я не сплю, взглянул на меня и показал изображение Ковент-Гардена, сказав: «Взгляни». Он разглядывал Марго Фонтейн, сфотографированную в ее гримерке, — заколотые на затылке волосы, серьезное лицо, спокойный взгляд. — Посмотри на нее! Посмотри! Я приподнялась на локте, спросила, не вспоминал ли он ночью о Пушкиных, не снятся ли они ему, но Руди отмахнулся, сказав, что не хочет говорить о всякой ерунде. И снова погрузился в снимки. Я же, чувствуя себя бесполезной, похлопала ладонью по постели. Руди лег рядом со мной и заплакал, целуя мои волосы, повторяя: «Я никогда больше не увижу тебя, Роза-Мария, никогда не увижу тебя, никогда не увижу, никогда». Остаток ночи мы проспали, обнявшись. А утром покинули, неся мои чемоданы, комнату. Снаружи сидел, куря, на невысокой ограде мужчина в темном костюме. Увидев нас, он нервно вскочил. Руди подошел к нему, пошептал что-то на ухо. Мужчина ответил, запинаясь, сглотнул, вытаращил глаза. Руди скачками понесся по улице. — В гробу я их видал! — заявил он. — Долбоебы! Я хочу танцевать — и все! Остальное неважно! — Руди, — сказала я. — Не валяй дурака. — На хуй осторожность, — ответил он. В скором времени его ожидало выступление в венском «Штадтхалле», и я сказала, что, если он будет и дальше привлекать к себе внимание, его наверняка лишат заграничного паспорта. — Плевать, — сказал Руди. — Для меня важна только ты. Я взглянула на него, пытаясь понять, не изменилось ли — как обычно, скачком, — его настроение, но не поняла. И сказала, что люблю его и никогда не забуду. Он поцеловал мне руку. Мы уложили чемоданы в такси. Шофер, бывший неделей раньше на «Сильфидах», узнал Руди, попросил автограф. Слава уже облекала Руди, как новый пиджак, непривычный, но странно уютный. В такси он, закрыв глаза, называл улицы, которые мы пересекали. Я поцеловала его в веки. Шофер предостерегающе кашлянул. За нами шла машина. На аэровокзал приехали, чтобы проститься со мной, несколько человек. Голова у меня стала легкой, настроение благостным от мысли, что я возвращаюсь домой, — я уже снимала с зеркал и мебели белые чехлы. Даже запах пыли чувствовала. Юлия прибыла во всей ее прелести. Улыбалась, точно человек, посвятивший себя подрывной деятельности. Распущенные темные волосы лежали на ее плечах. Несколькими днями раньше я отдала ей кое-какие мои наряды, и теперь на Юлии была ярко-лиловая блузка, очень шедшая ее смуглой коже, глазам. Она получила письмо из Уфы, от отца, приложившего и записку для меня. Он написал, что его жена, Анна, радовалась нашему знакомству, я нравилась ей как человек, что он благодарен мне за появление на ее похоронах. А в самом конце записки присутствовало косвенное упоминание о чилийских пустынях — ему всегда хотелось увидеть Атакаму, в которой вот уже четыреста лет как не шел дождь, и, если я когда-нибудь попаду туда, он просит меня пустить по ветру горстку земли в его честь. Я поцеловала на прощание Юлию, пожала руки всем остальным. Лететь мне предстояло в Москву, потом в Париж, из него в Нью-Йорк, а уже оттуда последним перелетом в Сантьяго. Мне хотелось окончательно попрощаться с Руди, однако он куда-то исчез. Я протискивалась сквозь людскую гущу, звала его, но не видела нигде — ни среди пассажиров, ни вблизи охраны. Я выкрикивала его имя снова и снова — он не показывался, — и я повернула к стеклянной стене, за которой осуществлялся паспортный контроль. И именно в этот миг увидела далеко в толпе его макушку. Он с кем-то разговаривал, серьезно и оживленно, я было подумала — с тем, кто следил за нами, но увидела, что его собеседник — это темноволосый, красивый молодой человек со сложением спортсмена и в редких для Ленинграда джинсах. Он мягко поглаживал внутренний сгиб Рудиного локтя. Через громкоговорители объявили мой рейс. Руди подошел ко мне, обнял, прошептал, что любит меня, что жить без меня ему будет трудно, что он пропадет, да, без моего присмотра, прошу тебя, возвращайся скорее, он будет страшно скучать по мне, нам следовало любить друг друга вчера, это его вина, он не знает, как без меня обойдется. Он оглянулся через плечо. Я повернула его лицо к себе, и Руди улыбнулся — странно, обаятельно, холодно. *** РАПОРТ О ПРОИСШЕСТВИИ «Аэрофлот», рейс № 286, Вена — Москва — Ленинград 17 марта 1959 Вследствие не зависящих от «Аэрофлота» обстоятельств тележек с едой и напитками на борт не подняли. Пассажиров предупредили об этом в аэропорту. Однако после посадки было замечено, что Объект, артист балета, протащил на борт ящик шампанского. Сначала Объект проявлял сильный страх перед полетом, но потом начал скандалить из-за отсутствия еды и напитков. В середине полета он тайком от бортпроводниц достал из ящика бутылку, встряхнул ее, обрызгал вином салон. Потом Объект стал ходить по проходу, предлагать пассажирам шампанское, которое он разливал по бумажным стаканчикам. Стаканчики размокали и протекали. Пассажиры жаловались на сырость сидений и одежды. Другие стали петь и смеяться. Объект достал из того же ящика еще несколько бутылок. Когда его попытались одернуть, он ответил матерными словами. Объект заявил, что ему исполнился сегодня двадцать один год, начал размахивать руками, кричать, что он татарин. К концу полета самолет вошел в зону турбулентности, началась болтанка, многих пассажиров сильно рвало. Объект, судя по его лицу, сильно трусил, но продолжал петь и кричать. Когда представители балетной труппы, в которую он входил, попросили его успокоиться. Объект ответил еще одним матерным словом, а перед самой посадкой пустил по салону струю шампанского из последней бутылки. После приземления в Москве Объект получил предупреждение и успокоился. А после посадки в Ленинграде у него состоялся с командиром экипажа короткий разговор не установленного содержания. Капитан Соленоров подал рапорт о болезни и обратно не полетел. *** Он подходит к кровати, через голову стягивает рубашку, расстегивает верхнюю пуговицу брюк, стоит под лампочкой голый. Говорит летчику: «Задерни шторы, свет не выключай, проверь, заперта ли дверь». *** Поздними ночами, едва лишь гасли, экономя энергию, уличные фонари и город стихал, мы сходились из разных его концов в Екатерининский сквер, чтобы пройтись по старинной пыли Ленинграда под деревьями, росшими вдоль театральной стороны сквера. Тихо. Укромно. Если к нам привязывались милиционеры, мы предъявляли документы, говорили о поздней работе, бессоннице, женах и детях, от которых нет дома покоя. Иногда нас манили к себе люди, нам не известные, но мы, понимая, что к чему, спешили уйти. По Невскому проезжали машины, их фары выхватывали нас из темноты, стирали наши тени с земли, и казалось, что тени увели на допрос. Мы представляли, как нас везут на откидных сиденьях черных «воронков», как бросают в лагеря за то, что мы «голубые», извращенцы. Арест, если он происходил, производился быстро и жестко. Каждый из нас держал дома уложенный чемоданчик — на всякий случай. Хватило бы и угрозы того, что нас ждало: леса, тюремные столовки, бараки, нары, пять лет, удары металла по промерзшему дереву. Однако выпадали и ночи, когда в сквере было спокойно, и мы курили и ждали в тумане, у ограды. Высокий худощавый юноша ковырялся в пружинах своих часов перочинным ножом, вырезая время. Часы были на цепочке, свисавшей ему на бедро. Каждый четверг из подземного перехода появлялись два брата, свежие после заводской душевой, сначала мы видели их темные волосы, потом обтрепанные башмаки. Старый фронтовик стоял под деревом. Он умел высвистывать не одну великую рапсодию Листа. Все мы знали его присловье: «Зачем получать радость лишь после того, как помрешь?» Так он и стоял до утра, пока его не призывали к себе далекие гудки речных пароходов. Иногда в окнах за садом раздвигались и сдвигались занавески, появлялись и исчезали тени. Черные «Волги» отъезжали от поребрика и уносились к темным улицам. Слышался нервный смешок. Сворачивалась и облизывалась папиросная бумага. Открывались табакерки. Никто не пил — спиртное развязывает языки и обращает живое дыхание в мертвое. Пот пятнал сгибы наших воротников. Мы притоптывали ногами, дышали в перчатки, заставляли наши тела двигаться с большей, чем обычная дневная, живостью, а там и еще с большей, и порой нам начинало казаться, что мы никогда уже не заснем. Ночь проходила, желания наши оставались скрытыми, словно зашитыми изнутри в рукава пальто. И дело было не в том, что мы когда-либо снимали пальто, но в прикосновениях, в дрожи узнавания, возникавшей, если рукава наши соприкасались, когда мы подносили горящие спички к сигаретам друг друга. И в ненависти тоже. В ненависти к нашему сходству. Двери театров открывались поздно, выпуская артистов, танцовщиков, рабочих сцены. Иногда они приходили сюда от Кировского пешком, двадцать минут ходьбы. Недолгое время стояли, прислонившись к чугунной ограде, — шарфы, перчатки, теплые гамаши. Рыжеволосый юноша забрасывал ногу на оградку, разминался, растягивался, доставая лбом до колена, изо рта его валил пар, кожаная фуражка сидела на затылке. В теле юноши присутствовала особая легкость — в пальцах ног ступнях ногах груди плечах шее губах глазах. В удивительно красных губах. Даже фуражка казалась приладившей свою форму к тому, как он сдергивал и надевал ее. Подолгу он в сквере почти никогда не задерживался, ему, человеку привилегированному, было куда пойти — в подвалы, на чердаки, в квартиры, — но раз или два оставался, постукивая ступней по верху ограды. Мы, проходя, вдыхали его запах. Он никогда не заговаривал с нами. Мы привыкли ждать его появления, он становился все более известным, лицо его появлялось в газетах, на афишах. Мы часто думали о нем. При первых намеках на утро фонари начинали коротко помигивать, и мы расходились. Разбредались по улицам, кто-то искал взглядом юношу с карманными часами, кто-то заводских братьев, кто-то рыжеволосого танцовщика — отпечаток его ботинка на мокрой мостовой, хлопавшее на ходу полами пальто, шарф, летевший за шеей. Порой свет луны на ступенях, спускавшихся к черной воде каналов, разламывался широко шагавшей тенью, и мы оборачивались, чтобы проследить за ней. Но и тогда, в такой близости утра, мы и на миг не забывали, что подо льдом может прятать свой ток река. 3 Лондон, 1961 Каждую пятницу мимо него плетутся по улице пьянчуги, горластые, налившиеся виски, воняющие мочой и мусорными баками, и он, вот уж четыре года, высовывается из окна и подает каждому по шиллингу, и теперь едва ли не все побродяжки Ковент-Гардена знают прибыточное местечко на фабрике, что стоит в конце Ройал, знают открывающееся только по пятницам окно, предпоследнее, из которого высовывается мужчина средних лет, лысый, в очках, и склоняется, чтобы выслушать рассказ — «моя мать подцепила чахотку, мой дядя потерял деревянную ногу, моя тетя Джозефина так разволновалась», — и, независимо от достоинств рассказа, говорит выпивающему человеку: «Вот, держи, дружок», отдавая, шиллинг за шиллингом, большую часть заработанных им денег, а затем, вместо того чтобы ехать подземкой к своему жилью в Хайбери, топает, сберегая оставшиеся, пешедралом добрых пять миль, сутулый, в фуражечке, приветствуя кивками проституток, мальчишек-газетчиков, новых пьяниц, — некоторые узнают его и пытаются подольститься, выманить еще один шиллинг, с которым он расстаться просто не может, потому что точно подсчитал, сколько ему потребуется на еду и жилье, и он говорит: «Извини, дружок», и приподнимает шляпу, и идет дальше, и пластиковый пакет для покупок хлопает его по икре на всем пути через Ковент-Гарден, и Холборн, и Грейс-Инн, и по Розбери-авеню до Эссекс-роуд, а по ней к Ньюинтон-Грин, а небеса темнеют, и он сворачивает на Поэтс-роуд, к сложенному из красного кирпича дому 47, меблированные комнаты, и их хозяйка, вдова из Дорчестера, весело приветствует его у часов из поддельного черного дерева с двумя роющими копытами землю конями, и он, чуть наклоняя голову, отвечает: «Добрый вечер, миссис Беннет» — и поднимается по лестнице мимо картинок с утками, поправляя те, которые зацепили другие жильцы, шестнадцать ступенек, вот и комната, где он наконец снимает ботинки, думая, что хорошо бы их почистить, потом развязывает галстук, наливает себе скотча из спрятанной за кроватью серебряной фляжки, всего глоточек, глубоко вздыхает, когда виски обжигает горло, лезет в пакет для покупок, достает и ставит на рабочий стол туфли, требующие всего лишь нехитрой окончательной доделки — подравнять геленок, расширить боковины, продеть завязки, подрезать каблук — аккуратно, точно, — а покончив с этим, заворачивает каждую в полиэтилен, следя, чтобы на том не осталось ни морщинки, надо же оберегать репутацию: балерины, хореографы, оперные театры — все домогаются его услуг, все присылают точные мерки стопа такой-то ширины в заперстье, такой-то в пятке, стало быть, нужно соответственно растянуть колодку безымянный палец длиннее среднего, большая редкость, ну, это просто, довольно лишь шов посвободнее сделать вот этой туфле требуются геленок пожестче, спинка повыше и подошва помягче он славится своей изобретательностью, о ней много чего рассказывают, танцовщики и танцовщицы, которые сталкиваются с затруднениями или просто чересчур суетливы, пишут ему письма, шлют телеграммы, иногда даже на фабрику заявляются — на встречу с творцом! — в особенности те, что служат в Королевском балете, все они такие изящные, деликатные, признательные, и прежде всего Марго Фонтейн, его любимица, проведшая как-то три выступления, поразительно, в одной паре пуантов, требования ее немыслимо сложны: очень короткая союзка, низкие боковины, добавочная подклейка подносков, широкое гофре для сцепления с полом — он единственный мастер, к которому она когдалибо обращалась, она его обожает, считает образцовым джентльменом, так ведь и она — единственная балерина, чья фотография висит над его рабочим столом: «Тому с любовью от Марго», хотя его пробирает дрожь, когда он думает, как она обходится с его туфельками, когда те попадают ей в руки, как разминает геленки, чтобы придать им большую гибкость, как колотит туфелькой по двери, чтобы смягчить носок, как множество раз сгибает и разгибает туфельки, чтобы они сидели на ногах точно влитые, как будто она их вечно носить собирается, — мысль, вызывающая у него легкую улыбку, с которой он ставит туфельки на полку спальни, влезает в пижаму, преклоняет колени для двух коротких молитв и ложится, и засыпает, и не видит в снах ни ног, ни туфелек, никогда, а проснувшись, идет, шаркая, по коридору в общую ванную комнату, умывается с мылом, бреется, бакенбарды поседели за последние годы, наполняет чайник водой изпод крана, возвращается в свою комнату, ставит чайник на плитку ждет свистка, заваривает чашку чая, молоко с вечера стояло на подоконнике, охлаждаясь, потом снимает с полки стопку туфелек и снова принимается за работу и трудится все долгое утро, субботняя работа сверхурочной не считается, но ему это неважно, ему доставляют удовольствие повторения, различия в требованиях, женские пуанты намного сложнее и труднее в изготовлении, чем мужская балетная обувь, у французов лучший, чем у англичан, нюх на своеобразие деталей, испанцам требуются более мягкие кожаные вкладыши, американцы, которые называют туфельки «тапочками», господи, как же он ненавидит это слово, «тапочки», любят, чтобы в них присутствовало нечто сказочное, он часто думает о том, какому жестокому обращению подвергаются туфельки, как их бьют, как корежат, и думает о крошечных надрезах, настоящая хирургия, о мягкости, о всех тонкостях, которым он научился от отца, отдавшего этой работе сорок лет если союзка получилась слишком жесткой, не жалей брильянтина, она и помягчеет смывай с атласа пыль, с мылом, и не только перед работой над туфелькой, но и во время, и в особенности после представь себе, что ты — ступня единственное, что нарушает ритм его работы, это субботние футбольные матчи, он проходит полмили, чтобы посмотреть игру «Арсенала», а каждую вторую неделю — резервного состава клуба, шея его обернута белым с красным шарфом, он стоит на трибуне, для которой специально пошил башмаки с подошвами в четыре дюйма, — росту он небольшого, а смотреть на ноле поверх голов других болельщиков хочется, — «Арсенал! Арсенал!», толпа раскачивается, следя за летящим над полем мячом, за подкруткой, за дриблингом, за пробросом мяча между ног защитника, за ударом с лету, может, это чем-то похоже на балет, тут ведь тоже все зависит от ног, другое дело, что балета он ни разу не видел, так его отец научил держись подальше от театров, сынок, никогда в них не ходи большая радость — смотреть, как рвут твои туфли приноравливай свою работу к артисту, вот и все в перерыве мысли его снова обращаются к оставшимся в комнате туфелькам, к тому, как их улучшить, если вдруг голенки окажутся узковаты или мыски жестковаты, но затем он слышит рев толпы, видит, что команда трусцой выбегает на поле, слышит визгливый свисток судьи, и игра начинается снова, Джеки Хендерсон бьет по мячу. Джордж Истэм принимает его у боковой, передает в центр Дэвиду Херду, удар головой, гол, и обувной мастер прыгает в своих обманных ботинках, срывает, обнажая лысину, кепку с головы, а после матча идет домой в поющей толпе, его толкают мужчины покрупнее, временами прижимают к стене, однако до дома недалеко, и он смущается, если встречает в двери миссис Беннет, так до сих пор и не понявшую, почему он так подрастает по субботам, «Чашку чая, мистер Эшворт? Нет, спасибо, миссис Беннет» — и поднимается в комнату, чтобы получше приглядеться к результатам работы, срезать с картонной стельки выпуклость, которую не заметит ни один нормальный глаз, или прогладить, утоньшая их, монетой кромки геленка, а затем выстроить туфельки в ряд на тумбочке у кровати, чтобы, проснувшись поутру, первым делом увидеть их и испытать безграничную радость и думать о них даже в церкви, грузно шагая после службы по проходу вместе с женщинами в шляпках с вуалями, выходя на солнечный свет, глубоко и облегченно вздыхая, удаляясь от церкви, минуя пригородные парки, отдавая остаток воскресенья отдыху, пинте горького пива и короткому перекусу, читая в парке газету, 6 ноября, два дня назад ему стукнуло сорок четыре. «Гаагское соглашение будет изменено», «США предъявляют обвинения кубинскому шпиону», «Советский танцовщик приезжает в Лондон» — эту историю он знает хорошо, поскольку получил на прошлой неделе чертежи ступни, завтра с утра придется заняться туфлями, мысли о них вертятся у него в голове и когда он ложится спать, и десять часов спустя, когда приходит в солнечный Ковент-Гарден и идет к мастерской, ему не терпится увидеть мистера Рида, босс похлопает его по плечу, «С добрым утром, Том, лежебока», и он оставляет законченные за выходные туфли в главном офисе, входит в мастерскую, снимает пальто, надевает широкий белый передник, включает печи, семьдесят градусов — достаточно горячо, чтобы укрепить туфли, но не спалить атлас, — потом спускается вниз, в хранилище кожи, подобрать порядочные, прочные берцы, пока не явились другие мастера с их вечными разговорами о крикете, женах и похмелье, все они кивают ему, он лучший, все глубоко уважают, он же из семьи Эшвортов, величайших мастеров, многие годы ставивших на свои изделия собственное клеймо, простое а лишь немногим более затейливое, чем у других изготовителей, у каждого из которых имелся собственный, помещаемый на подошву значок — какая-нибудь загогулина, кружок, треугольник, — чтобы танцовщики знали, в чьих изделиях они выступают, и коекто из их поклонников даже роется в мусорных баках за театрами, ищет изодранные туфли, чтобы узнать, кто их сделал, «Эшворты» всегда были нарасхват, но Тома обилие работы не пугает, он отдается ей целиком, и сейчас, в очках на хребтике носа, изучает чертежи ступни того русского, пришедшие из Парижа детальные мерки размер, ширина, длина пальцев угол ногтей, подушечка стопы, подъем сухожилии к лодыжке ширина пяты, потертости, костные выросты и из одних только чертежей перед ним выступает вся жизнь этой ноги, росшей в босоногой бедности, — и, судя по ширине костей, бетон оказывался под ней, необутой, чаще, чем трава, — потом ее затиснули в обувь меньшего, чем требовалось, размера, потом пошли танцы, позже обычного, стопа осталась довольно узкой, потом ее насиловали чрезмерными нагрузками, в ней много жестких углов, но силой она отличается замечательной, и Том Эшворт, оторвавшись от стола, потягивается, улыбается, потряхивает кистями рук, а затем с головой уходит в работу, безмолвный, словно впавший в транс, за первый час из его рук выходит одна пара мужских балетных туфель, за второй — три, для него это скорость малая, заказано сорок пар, день работы, а то и два, если возникнут какие-то сложности, ибо русскому нужна обратная прошивка, поэтому приходится использовать две большие крючковые иглы, а это — хоть оно и намного проще, чем шить туфельки для балерины, — требует времени и умения, и он останавливается, лишь услышав громкое объявление обеденного перерыва, который всегда доставляет ему немалое удовольствие: сэндвичи, чай, молодые, немного развязные сапожники: «Ну, как там обувка для коммуняки, а?» — он только кивает и улыбается — другие-то мастера, едва увидели чертежи, сразу в крик: «Беглец, сейчас прям! Перебздел, вот и перебежал! Он же коммуняка паршивый, так? Нет, не так, он из наших. Из наших? Да я его по телику видел, пидор пидором!» — а когда перерыв заканчивается, он возвращается к чертежам, опасаясь, что где-то пошел не в ту сторону, в лысой голове его кружат цифры, он протирает туфли изнутри влажной тряпочкой, душа поет, он прошивает их вручную, возрождая дух Эшвортов, относит туфли к сушильной печи и еще раз проверяет термометр, убеждаясь, да, семьдесят градусов в конце концов неважно, для кого они шьются и какая тому причина, важно их совершенство. 4 Уфа — Ленинград, 1961-1964 12 августа Ночью ветер открыл деревянные ставни окон и до утра колотил ими о стену. 13 августа Встала ни свет ни заря, слушала радио, потом снова легла. Когда проснулась, отец уже завтракал. Сказал: «Тебе надо отдохнуть, дочка». А ведь неможется-то ему. Последние недели совсем его измотали. Я стала упрашивать его вернуться в постель. Но он настоял на том, что пойдет со мной и мамой на рынок. Выходя из дома, отец ни с кем не разговаривает, боится того, что ему скажут, хотя официально ничего пока не объявлено. Ходит он понурясь, как будто ему положили на шею что-то тяжелое и этот вес пригибает его голову. На Красинском рынке мы нашли три пучка шпината. И никакого мяса. Отец взялся было нести обе сумки. Но, дойдя до фонтана на проспекте Октября, сдался. Каменная стенка фонтана растрескалась от жары. Отец совсем согнулся от усталости. И, отдавая мне сумки, сказал: «Прости меня, Тамара». Но прощать-то мне его не за что. За что мне его прощать? У меня был брат, теперь нет, вот и все. 16 августа Из-за его бегства мне пришлось вернуться в Уфу. И уже кажется, что Москву я не видела много лет. Чем я тут стану? Меня душит гнев. Я едва не разбила об пол мамину чашку, еле сдержалась. 17 августа Отец вернулся с работы словно в воду опущенный. Расспрашивать его мы не решились. Сварили ему в утешение куриный бульон. Ели молча. 18 августа Белая машина на улице, ездит туда-сюда, вперед-назад. На ней написано: «Курсы вождения», однако ни одной ошибки водитель не делает. 19 августа Снова с мамой в Большом доме. Там считают, что только она может заставить Рудика передумать. Дали нам чаю — необычная для них любезность. Еле теплого. Мне на миг пришло в голову: может, он отравлен? На столе полдюжины телефонов. Четверо мужчин, две женщины. Трое в наушниках, двое у магнитофонов, один распоряжался. Никто в глаза нам не смотрел, только начальник. Он дал маме наушники, а мне велел сесть в углу. До Рудика они дозвонились с третьей попытки. Из-за разницы во времени голос у него был сонный. Он находился в какой-то парижской квартире. (Они сказали потом, что там собираются люди с неестественными, извращенными инстинктами. Сказали при маме, следя за выражением ее лица. Она постаралась, чтобы лицо ничего не выдало. Важно не показывать свои чувства, говорит она.) Слова Рудика доходили до нас с задержкой во времени. Некоторые они глушили. Мама клялась потом, что слышала хвостик слова «счастлив», но, конечно, ей больше всего хотелось услышать «вернусь». Нам велели молчать о его измене, но они же сами допрашивают танцовщиков Оперного театра, друзей Рудика, даже прежних его учителей, как же можно ожидать, что не пойдут разговоры? 20 августа Гуляла вдоль Белой, ела на отмели мороженое. Дети плавали. На берегу сидели старухи в купальниках, в резиновых шапочках. Жизнь продолжается. 27 августа Они говорят, что если Рудик осудит то, что сделал, и вернется, то, может быть, попадет под амнистию. А какие у него шансы? Семь лет трудовых лагерей — это абсолютный минимум, а в худшем случае смертный приговор. Что они с ним сделают? Расстреляют его? Посадят на электрический стул? Повесят, чтобы его ноги дергались в воздухе, исполняя последний танец? Ужасные мысли. 22 августа Оттого что я знаю — он никогда не вернется, я еще сильнее ощущаю его присутствие рядом. Лежу ночами без сна и проклинаю его за то, что он натворил. В машине «Школы вождения» всегда сидят одни и те же двое. 23 августа На кухне перегорела лампочка, а другой нет. Хорошо хоть солнце садится поздно и небо такое красивое. Отец говорит, от фабричного дыма краски становятся ярче. 24 августа Мы возвращались из Большого дома, и в парке Ленина, прямо около памятника, мама наступила на пятно нефти и у нее разъехались ноги. Она ухватилась за памятник и сказала мне: «Смотри, я почти вишу на его ступне». И тут же испугалась сказанного, но вокруг никого не было, никто ее не услышал. По дороге домой она все время почесывала руки. Отец раздобыл известь для нашей дворовой уборной, уж больно она развонялась из-за жары. Теперь спокойно сижу и читаю газету. 25 августа У мамы опоясывающий лишай. Она лежит, хотя простыни страшно раздражают ее кожу. Отец сел рядом и намазал ей живот давлеными помидорами, сказал, что это старое армейское средство. Мама стала красная, как будто она вся в крови, как будто с нее кожу содрали. Мы с отцом съездили трамваем за город, погуляли по лесу у реки. Он рассказал, как однажды ловил здесь с Рудиком рыбу подо льдом. Рудик здорово потрошил ее, одним движением пальцев — раз, и все. Когда мы повернули к дому, с реки поднялась гусиная стая и отец стал сокрушаться, что у него нет ружья. 26 августа Постирала простыни. Они все в красных пятнах от помидоров. 28 августа Слава богу, жжение в коже стихло. Отец ударяет себя в грудь и говорит: «Помидоры!» Мама взяла стул, посидела на солнышке. 29 августа На нефтезаводе авария, отключилось электричество, поэтому воздух сегодня чистый. Я пошла прогуляться под солнцем, набрала в зарослях за инструментальным цехом ягод. Принесла их домой, и мама надавила сока, тут она мастерица, светиться вся начинает, когда занимается этим. А вечером я случайно увидела в оконном стекле отражение ее морщинистого лица и даже не сразу сообразила — чье оно. А когда поняла, что мамино, меня будто током ударило. Наверное, я давно к ней не приглядывалась. Раздражение кожи почти прошло, однако лицо еще остается припухлым. Может быть, это возрастное. Пришлось напомнить себе, что ей осталось всего несколько лет до шестидесяти. Губы у нее теперь все время поджаты, уголки рта опущены. Подумать только, она всю войну обходилась без зеркала! В то время увидеть себя можно было только в оконном стекле, да и те были по большей части в трещинах. Она как-то рассказала мне историю о девочке, которая жила в подземелье. Поднявшись наверх, девочка не узнала себя, и ей захотелось назад, под землю. Мы возвращаемся к тому, что привычно для нас. Я все думаю о том, что я делаю в этой жуткой дыре, как я могла отказаться от московской прописки, с ума, наверное, сошла, да и так ли уж сильно я им нужна? Москва. Как я по ней скучаю, но разве туда вернешься? Сегодня утром отец порезался, открывая окно. Мама, бинтуя ему запястье, сказала: «Может быть, Рудик найдет себе хорошую девушку и вернется домой». 31 августа Слегла в простуде. Пью имбирный отвар. 1 сентября Отца сняли, он больше не политработник. Произошло это две недели назад, он просто не хотел нам говорить. Может быть, ему и из партии придется уйти. Извещения об измене Рудика еще не было, но какие-то слухи ходят наверняка. Мамины подруги сменили день, в который они парятся в бане. Я видела, как они шли по улице с полотенцами и вениками. Мама пожала плечами и сказала, неважно, буду ходить одна. Она такая сильная. Будет время, стану ходить с ней. Нашли на Красинском рынке банку очень вкусных маринованных огурцов. Удача и радость. «Мои любимые», — сказал отец. 3 сентября Ехала автобусом на рынок и услышала, как одна старуха сказала своей спутнице: «Думаешь, сейчас все плохо, а ты до завтра доживи, увидишь!» Подруга ее рассмеялась. А я почему-то вспомнила, как в Москве Надя с третьего этажа сказала однажды: все происходит так быстро, что никакого смысла в жизни заметить не удается. Она и за собойто угнаться не может. У нее была такая теория: человек находится в прошлом и смотрит вперед, на незнакомца, который проживает его жизнь. Конечно, незнакомец — это он сам. Я этого до сегодняшней поездки не понимала. А тут увидела себя сидящей в автобусе, слушающей разговор двух старух. Я наблюдала за собой, наблюдавшей за ними. Я и ахнуть не успею, как стану такой же. Как прост этот переход из молодых женщин в старухи. 4 сентября Слишком много в моем дневнике записей о мелких огорчениях. Надо быть сильнее. 6 сентября Плоха та мельница, что реку не мутит! Меня взяли в начальную школу на улице Карла Маркса, этo хорошая работа. Я почти на неделю отстала, но ничего, нагоню. Радость! 9 сентября Окна в классе не открываются, слиплись намертво. Правда, в дверь задувает сквозняк, принося нам некоторое облегчение. Ранняя осень, хорошие дни медленно сменяются плохими. Муксина нарисовала для меня картинку. Маджит принес мне брусничный напиток, очень бодрящий. Школа словно возвращает меня в юность. Когда здесь учился Рудик, его таскали за волосы, щипали, ужасно над ним издевались, обзывали по-всякому. У детей и сейчас немало жестоких игр, одна, например, называется «Макарончики». Ребенка заставляют вертеть головой влево-вправо, и при этом кто-нибудь бьет его то с одной, то с другой стороны по шее. Еще есть «Одуванчик», в этой игре бьют по макушке. Возвращаясь домой, не удержалась от недобрых мыслей. Может быть, обращение, которому Рудик подвергался в те годы, было наказанием, которое он получал загодя. 11 сентября Запас мелков и новая доска, пустяк, а приятно. 13 сентября Дни укорачиваются, а кажется, что удлиняются. Мама волнуется: вдруг Рудик не взял с собой ботинки. Представьте. 14 сентября Мама вспомнила, как Рудик, когда танцевал в Москве, купил ей длинное черное пальто и как ей не хотелось сдавать его в Большом на вешалку. Когда танец закончился и его стали вызывать на бис, она сбежала вниз, чтобы забрать пальто, боясь, что оно потеряется, и пропустила почти все аплодисменты. Теперь она говорит, что с радостью сдала бы и пальто, и душу с ним вместе, если б могла снова увидеть его дома. Что ж, в конце концов она поймет, что потеряла бы при этом и сына, и душу. Одно облегчение. Мы вышли погулять и увидели над Белой красивый красный закат. 15 сентября Подул первый холодный ветер. Мама жалуется на боль в коленях. Ее старое тело что твой флюгер, она даже грозу может предсказывать. Вода в ванне такого же цвета, как чай. 17 сентября В школе снова нелады с электричеством. 18 сентября Жизнь начинается с хлеба. А хлеба-то и нет. Ну, по крайней мере, есть радио, позволяющее отвлечься, во всяком случае, отцу, который включает его, как только возвращается с работы. Он говорит, что желание улучшить мир многого не стоит, вопрос — как это сделать. Утром, перед тем как он вышел из дому, мама натерла ему грудь гусиным жиром, но домой он все равно вернулся с кашлем. Он и мама словно обмениваются болезнями. Он даже не стал есть борщ, который принесла нам живущая этажом выше Эльза. Страшно похудел и все ждет исключения из партии, а оно наверняка сокрушит его окончательно. Конференция уже скоро. Пока мы дожидались вечернего автобуса, чтобы поехать на садовый участок, он сказал странную вещь: «Спутники мы, Тамара, запускаем, а наладить работу автобусов не можем». Как будто ему Рудик в ухо нашептывает, а ведь это опасно. Еще в прошлом году отец говорил, что мы живем в замечательное время: новый рекордный урожай, освоение Сибири, атомная энергия, спутники, освобождение народов Африки, он даже с тем, что Рудик в балете танцует, почти примирился, — и щеки у него были тогда такие румяные. А теперь усилия, которые требуются, чтобы оставаться собой, изматывают его. 19 сентября Мама время от времени заводит разговор о том, что Рудику нечего есть. Когда она разговаривает с ним из Большого дома, он твердит, что у него все хорошо. Она уверена, что это пропаганда. И все спрашивает, бросают ли ему до сих пор стекло на сцену. Он отвечает — нет, но она не очень ему верит. Она знает, как относятся к нам на Западе. Рудик говорит, что это делалось только в самом начале, да и то коммунистами. Нас это на время озадачило. Бессмыслица какая-то. Когда мама пошла домой, я тайком от нее купила в парке мороженое. 20 сентября Зарплата отца автоматически тратится на приобретение облигаций. А мою я еще не получила. Как я теперь жалею о вчерашнем мороженом! Мама попросила у соседей немного крупы для каши. Эльза поделилась заваркой, но поздние чаепития лишают маму сна. Отец привинтил вторые рамы, зимние. Лицо у него было такое, точно холода уже наступили. 2 октября Яростные, хлесткие ветра. Школе приходится экономить нефть, которой она отапливается. 10 октября Не могла писать, такое несчастье, необходимо как-то сдерживать мои дурные мысли. Дети страшно мерзнут. Приходится придумывать игры, которые заставляют их двигаться по классу. А я в этом не сильна. Саша не любит бегать. Гюльджамал любит неподвижно сидеть, завернувшись в два пальто. Николай не любит стоять. Халим любит стоять на одной ноге, говорит, что это его согревает. А Маджит такой несносный! Что делать? Остальных детей притягивают те, кто может поделиться с ними едой. А какие драки! После школы я обычно отправлялась ухаживать за садовым участком. А теперь выпал первый снег и делать там особенно нечего. Ко мне подошел старик, спросил об отце. Сказал, что они много раз встречались на участке. Я постаралась оборвать разговор, но пригласила его к нам, решив, что отцу не помешает компания. Он приподнял шляпу. Тон у него какой-то немного буржуазный. Я занялась работой. Уход за участком — это всего лишь ритуал. Когда я возвращалась домой, автобус обрызгал меня грязью. А отчищая пальто, я обнаружила на подкладке дырку, которую нужно заштопать. У мамы проблемы с недержанием, она говорит, что если бы человек мог штопать свое тело, то она получила бы работу самошвейки! Дойдя до дома, я остановилась в воротах, увидела на двери что-то красное. Сердце заколотилось, я подумала, что дверь опечатали сургучом, а нас хотят выселить. Но это оказалась всего лишь записка с требованием прийти завтра в Большой дом. Мама обрадовалась случаю еще раз поговорить с Рудиком. Она скучает по его посылкам из Ленинграда. Иногда она старается настроить приемник на «Голос Америки», но это невозможно, конечно. Его и в Москве-то все время глушили, и потом, это же чистой воды западная пропаганда. Мама и сама это знает. Как мне ненавистны две эти физиономии, их издевки над нами. 11 октября Ужасная ошибка. Старик, с которым я разговаривала на участке, пришел сегодня, чтобы повидать отца. Это Сергей Васильев, муж Анны, которая первой обучала Рудика танцу. Отец, естественно, был с ним вежлив, мне показалось даже, что он получал от их разговора удовольствие. Я попыталась попросить у него прощения, однако он отмахнулся от меня, сказав, что знал старика и раньше и рад был побеседовать с ним, тем более что его реабилитировали уже не один год назад. И прибавил: «Если один нежелательный элемент хочет водиться с другим, что ж, пусть так и будет». Но нельзя же иметь такие мысли и надеяться, что тебя оставят в партии. Это надорвет ему душу. Я выстирала, чтобы порадовать отца, его рубашки. 12 октября Ворон ударился с лету в окно школы, разбил стекло, а потом умер на руках у детей, многие плакали. Мама сказала, что Рудик сейчас в Монте-Карло, там есть дворец и прекрасный пляж. Как странно. Почему я никогда не видела моря? 13 октября Снова приходил Сергей В. Принес баночку варенья, очень вкусного, как ни противно мне это признать. Выкурил половину сигары. Отец прокашлял весь вечер. 15 октября Ложка малинового варенья, чтобы подсластить чай. 16 октября Купили на рынке три тюбика зубной пасты. Один отложили — подарим кому-нибудь. Паста болгарская. Вкус — хуже некуда. 17 октября Они по-прежнему считают, что маме по силам вернуть его. Магнитофонные записи разговоров с ним отсылают в Москву, там их изучают и отправляют в архив. Рудик сказал ей по-татарски, что боится, как бы тайные агенты не переломали ему ноги. Заглушить эти слова они не успели. Мама сказала ему: «Я не могу спать, любимый мой». Он говорит, что питается хорошо, что у него куча денег, дела идут превосходно, да, он знакомится с театральными звездами, певцами, а скоро встретится с английской королевой. Мама говорит, наверное, его подвергают идеологической обработке, забивают голову бредовыми мыслями. Он назвал несколько очень известных имен, даже у стенографистки глаза полезли на лоб. Но в конце-то концов, какая разница, это всего лишь имена, эти люди тоже скоро умрут. Когда мама произнесла несколько слов по-татарски, начальник ударил по столу кулаком, и голос Рудика стал встревоженным. Он явно тоскует по дому. Они говорят, что в Монте-Карло полным-полно шулеров и извращенцев, высокий уровень преступности, что его могут зарезать или застрелить. Там такое случается сплошь и рядом. 19 октября Маме приснился страшный сон про ноги Рудика. Потом она сказала: «Я уверена, он подыщет себе хорошую девушку». 20 октября Вышла из строя печка. Школьный уборщик сказал, что на следующей неделе зайдет к нам и починит ее. Даже такие пустяки выводят меня из равновесия. Он у нас на все руки мастер и, кстати, довольно красив. 21 октября Отец так устал, у него нет сил на все это. Есть он отказывается. Мы получили открытку от знакомого Рудика, но прочесть ее невозможно, почти все замазано черным. Опять приходил Сергей. Похоже, ни он, ни отец просто не знают, чем себя занять. Не нравится мне этот старый дурак. Меня пугают его появления в нашем доме, но ведь он и вправду реабилитирован. Да и хуже, чем сейчас, нам наверняка не станет. Он снова пришел с сигарами, которыми уже провоняла наша комната. Говорит, они дешевые, их в Югославии делают. Предложил одну отцу, но отец ответил, что, куря ее, будет чувствовать себя свиньей в золотом ошейнике. Оба посмеялись, а потом завели долгий разговор насчет сообщений о погоде, которые передают по радио. Отец сказал, что, послушав о погоде в Челябинске, знает, какая скоро будет в Уфе, Сергея же интересует погода к востоку от нас, это как-то связано с ветрами и с рельефом гор, что-то сложное. Потом он процитировал стихи, как будто поэты умеют предсказывать погоду! Мама сказала — зачем нам вообще заранее знать, какая будет погода? Выгляни в окошко — все и поймешь. А еще того лучше, выйди на улицу, если тебе это по силам. Перед тем как уйти, Сергей увидел открытку и сказал, что есть способ прочитать замазанные слова: надо положить на открытку листок очень тонкой бумаги и легонько заштриховать его карандашом, тогда на листке проступят вмятины, которые оставило на открытке перо. Отец разнервничался, попросил Сергея не вести таких разговоров. Мама потом попробовала проделать это с открыткой, и ничего у нее не вышло. 22 октября Мама говорит, что, видя отца и Сергея бок о бок, радуется своему здоровью (даже при ее варикозных венах!). По ее словам, они заканчивают разговоры долгими и серьезными обсуждениями того, как опорожняются их кишечники. 23 октября Отец сказал: «Если у человека нет будущего, о чем ему думать, кроме прошлого?» Я попробовала поговорить с ним о том, что с нами творится, и зря, он только рассердился. Попыталась внушить ему, что Рудик — наш посол, посол доброй воли, что он может рассказать всему миру правду о нас, но отец только головой покачал. И сказал, не в первый уже раз: «Мой сын предатель, как я могу теперь ходить по улице Ленина?» И кресло свое он разлюбил. Беда в том, что прежде отец был крупнее, а теперь, в последние месяцы, ему приходится помещать свое ссохшееся тело в так и оставшуюся большой вмятину. Да еще из кресла пружина начала вылезать, надо как-то удержать ее, а то она того и гляди, может быть, даже завтра прорвет обшивку и вопьется отцу в спину. 24 октября В школу завезли нефть! И уборщик, Илья, действительно починил печку! Дома никого не было. Мы разговаривали. Денег он не взял. Какой замечательный день! Я, конечно, забыла попросить его починить кресло, он наверняка и с этим справился бы. 25 октября Нелепые слухи о том, что Рудик с Марго Фонтейн выступают в самых разных концах света. Как это может быть? Мы же не машины, не роботы, не спутники. В этом нет никакой логики, но, возможно, на Западе так с артистами и обращаются, если они там вообще думают об искусстве. Таков наш мир. Сколько в нем лжи! Сколько вероломства! Если бы только мы могли знать всю правду! Запад использует Рудика как пешку. Они высосут из него все соки жизни и выбросят на помойку. 27 октября Сегодня «Известия» перепечатали карикатуру из лондонской «Таймс» — пьяный медведь у ног призрака Сталина. Они пытаются представить нас дураками. Если бы они были способны признать, что мы совершили огромный скачок вперед, но ведь не способны. Боятся, потому что мы просуществуем дольше, чем они. 28 октября Мой день рождения. Я думала, что с годами жизнь будет казаться мне все менее сложной, но ничто не заканчивается и не становится проще. Отец проснулся весь в поту. Мама связала мне шарф, распустив старые свитера Рудика. Он теплый, однако носить его мне противно. 29 октября Снова приходил, теперь чтобы починить кресло, Илья. Пили чай с хлебом. Он говорит, что любит, когда не занят в школе, кататься на коньках. Посидев немного. Илья принялся за работу. Разрезал с исподу ткань сиденья, просунул в него руку, нащупал пружину и оттянул ее на место. Он слышал, что у меня был вчера день рождения, попросил какнибудь вечером погулять с ним по берегу. Волосы у него редеют, глаза очень темные. Мне стало немного не по себе, но почему я должна жить как утопленница? 31 октября Мы проходили мимо Оперного, там уборщицы мыли с мылом лестницы. У оркестровой эстрады мужчины пели похабные частушки, многие плясали. Я так смеялась. Вечером прокипятила папины майки. 1 ноября Дети вымазали краской ступени школьной лестницы. Кем они стали? Илья сразу все отчистил — сказал, что не хочет, чтобы у детей были неприятности. Они всегда сбегаются к нему, он катает их на плечах. 2 ноября Готовимся к празднованию дня Революции. Илья очень занят в школе, но все же нашел время, чтобы погулять со мной по парку. Пруд, говорит он, это его второй дом. Он очень хорошо бегает на коньках. Под конец прогулки он подарил мне серебряную цепочку и медальон с изображением рыбы. Это не мой знак, но какая разница? Он показался мне таким красивым, когда я уходила, и он помахал на прощание рукой. Говорит, иногда он с друзьями играет поздней ночью в хоккей — они раскладывают на льду костры, чтобы рассеять темноту, или жгут в ведрах нефть. 3 ноября Пальто отца становится велико ему все сильнее и сильнее. В Москве скоро начнется суд над Рудиком, заочный. Отец послал Сергею с мальчиком-турком, который живет через три дома от нас, несколько записок с просьбой не приходить к нам больше, он думает, что это рискованно или может как-то сказаться на положении наших дел. Теперь отец просто сидит и смотрит перед собой. Мне страшно за него. 4 ноября Дети нарисовали к празднику такие красивые картинки, мы развесили их в коридоре. 8 ноября Вчера был день Революции. Мне приснилось, что я вместе с Ильей торгую в киоске летними яблоками. 10 ноября Рудику дали семь лет лагерей. У нас никаких сил не осталось. Мама, услышав эту новость, упала на кровать, уткнулась лицом в подушку и заплакала. Его могли и к смерти приговорить, поэтому ей, наверное, следовало облегченно вздохнуть. Но она плакала. А отец рассказал мне случившуюся в Берлине историю, там одному солдату зажало трамвайной стрелкой ногу. Трамвай быстро приближался к нему. Второй солдат шел в это время по улице, услышал крик, постарался вытащить ногу первого из стрелки, но не смог и потому набросил ему на голову шинель, чтобы он не видел налетавшего трамвая, не мучился от страха. Я эту историю где-то уже слышала. 11 ноября Что же мне теперь — шинель отцу на голову набрасывать? 12 ноября Мама тревожится за отца, хотя, наверное, тревожиться следует за нее. Шея у нее вся красная, расчесанная, похоже, вернулся опоясывающий лишай. Отец молчит, а я не могу сообразить, где мне взять помидоры, которые вроде бы помогли в прошлый раз. Да если их и удастся найти, они в это время года слишком дороги. 13 ноября Отец по-прежнему сидит неподвижно. Теперь ему надо решить, осудит ли он Рудика перед партийным комитетом, — настоящим выбором это не назовешь, потому что его все равно наверняка выгонят из партии. Мама ночью считала деньги, которые годами откладывала в фарфорового слона. Лишай прошел сам собой, без лечения помидорами. Она рассказала мне, как познакомилась с отцом. И недолгое время казалась счастливой, воспоминания подняли ей настроение. Дело было в Центральном парке культуры железнодорожников, отец поделился с ней щепоткой табаку. Он говорил о Маяковском, читал «Отечество славлю, которое есть». И тут, конечно, расчихался и страшно смутился. А на следующий день подарил ей слона. Я попробовала расспросить об этом отца, но он ничего не помнит. Отмахнулся от меня как от мухи. Мне не терпится рассказать завтра эту историю Илье. Он сказал, что Рудик ему безразличен, для него важна только я. Счастье! 14 ноября Заседание партийного комитета опять отложили. Мы снова были в Большом доме. Рудик в Лондоне, он расплакался, и мне на миг стало его жалко. Он убежден теперь, что совершил ошибку. На него сильно давят, каждый день пишут о нем в газетах. Он говорит, что не может выйти на улицу, обязательно из кустов фотограф выскакивает. Он несколько раз называл имя какого-то танцовщика — уверена, пытался намекнуть на что-то, но я не поняла, о чем он говорил. Стенографистка бросала на меня злые взгляды. 16 ноября У соседей родился ребенок, я взялась вязать ему кофточку. Почти закончила, но не очень ей довольна. Она получилась на четыре пуговицы, а нужно было на пять. Гуляла с Ильей по снегу. Он сказал, что хочет завести когда-нибудь детей. И я задумалась, как я назвала бы моего сыночка? Уж наверняка не Рудольфом. Может быть, именем отца. А если будет девочка? К школе: подготовить письма, которые отправят Брежневу на день рождения. 20 ноября Стук в дверь, сильно нас испугавший! Всполошивший! Женщина, сильно нервничавшая. Светлые волосы. Финские. Сказала, что она балерина. Я поверила, взглянув на ее фигуру. Она не назвалась. Сказала, что у ее подруги есть друг, который побывал в Осло, как и почему, она не объяснила. Попросила разрешения войти, отец ей отказал. Женщина сильно расстроилась. Она приехала к нам из самой Москвы! Двое суток в пути! Сказала, что Рудик подружился с послами разных стран, они могут доставлять в нашу страну всякие вещи. Кое-что она сама привезла нам. Сначала мы были уверены, что это ловушка. Отец сказал, что законы нашей страны запрещают это. Женщина залилась краской. Затем мама попросила ее уйти. Мы все время оглядывали улицу, искали машину из «Школы вождения», однако той не было. Женщина стала нас умолять, но отец сказал: нет. В конце концов она поставила на крыльцо большой пакет. Она уже плакала от страха. Все было очень опасно. Пакет мы трогать не стали, но перед рассветом мама поднялась, вышла в ночной сорочке за дверь и вернулась с пакетом, слегка припорошенным снегом. 21 ноября Пакет лежит на столе. Долго мы не протерпим, вскроем. 22 ноября Отец выпил капельку бренди из присланной нам бутылки. Мама вышла на улицу в новом пальто на меху, но в темноте, чтобы соседи не увидели. Сунув руки в карманы, она нашла записку: «Скучаю по вам. Ваш любящий сын». Я пытаюсь понять, что делать с присланным мне платьем. Оно слишком плотно облегает бедра. Сначала подумала, что лучше его сжечь, но зачем? И я решила снять с него пояс и надеть платье, когда пойду на следующей неделе с Ильей в кинотеатр «Родина». 23 ноября Отец вспомнил — балерина сказала, что мы получим еще один пакет, может быть, под Новый год. Конечно, в следующий раз мы откроем перед ней дверь. Если это все-таки не ловушка. Ничего, скоро узнаем. Отец чувствует себя немного виноватым, но понимает вернув пакет, мы нажили бы еще больше неприятностей. Мама сказала: «Да, это чудесно, но только новое пальто его не заменит». Она сидела в кресле, поглаживая ладонью меховой воротник. 26 ноября Отцу стало тоскливо, и он выпил за Рудика, — и впервые услышала от него слова: «За моего дорогого сына». *** Настоящим уведомляем, что 16 июня 1961 года НУРИЕВ Рудольф Хаметович, 1938 г. рождения, холостой, татарин, в партии не состоит, уроженец Уфы, артист Ленинградского театра им. Кирова, входивший в состав гастрольной труппы во Франции, предал в Париже родину. НУРИЕВ нарушал правила поведения советских граждан за рубежом, выходил в город и возвращался в отель поздно ночью. Он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись известные гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера, НУРИЕВ не изменил своего поведения. В ноябре 1961 года он был заочно приговорен к семи годам исправительнотрудовых работ. Кроме того, после публичного отречения Хамета Фазильевича НУРИЕВА, который 21 января 1962 года сурово осудил поступок своего сына, было постановлено, что он может остаться полноправным членом партии. Уфимский Комитет государственной безопасности Февраль 1962 *** За полгода до бегства Руди Иосиф вернулся вечером в нашу комнату на Фонтанке с бутылкой дешевого шампанского в портфеле. Да еще и поцеловал меня в дверях. — Юля, — сказал он, — у меня замечательная новость. Он снял очки, протер темные полукружия подглазий, отвел меня к угловому столу комнаты. Там он открыл бутылку, разлил шампанское по двум чашкам и сразу выпил одну. — Ну, рассказывай, — предложила я. Он опустил взгляд на стол, быстро налил себе вторую чашку, выпил, утер губы и сообщил: — Нам дали квартиру. Я многие годы обихаживала наше коммунальное жилище над рекой. Кухня и уборная находились в конце коридора, комнатка у нас была крошечная, старая и продолжавшая ветшать, но в ней ощущалось какое-то благородство: декоративный камин, причудливый медальон в центре потолка, свисающая из него напоминанием о прежних временах лампа с желтым абажуром. Я представляла себе историю занимавшей когда-то ее место люстры, и это было не буржуазными сантиментами, но тихим приветственным кивком прошлому моего отца. Я привела в порядок оконные переплеты, повесила шторы — так, чтобы они не заслоняли вид на Фонтанку. Больше всего я любила звуки реки. Летом, когда по ней проходили нагруженные товарами маленькие речные посудины, вода мягко плескала о стены набережной, зимой потрескивал лед. — Где? — спросила я. — В спальном районе, — ответил Иосиф. Спальными районами называли пригороды Ленинграда, в которых жилые дома только что не налезали один на другой, места, в которые, как мне всегда казалось, наше государство выселяло готовые вот-вот распасться семьи. Я спокойно отпила из чашки. Иосиф сказал: — Лифт, горячая вода, две комнаты. Я молчала, он беспокойно поерзал на стуле. — Мне ее университет дал, — сказал он. — Переезжаем на той неделе. Я, продолжая молчать, что меня и саму пугало, медленно поднялась со стула. Иосиф схватил меня за волосы, дернул к себе через стол. Я попыталась освободиться, но он дал мне пощечину: — Укладывать вещи начнешь сегодня! Мне хотелось сказать ему, что он и дерется-то, как научный сотрудник, но это лишь заставило бы его замахать кулаками. Я смотрела, как он наливает себе еще шампанского. Когда он откинул голову назад, чтобы выпить, двойной подбородок его исчез, и на краткий миг Иосиф стал даже привлекательным, отчего меня только дрожь пробрала. — Спокойной ночи, — сказала я. И, достав из комода шарф, вышла в коридор. По всей Фонтанке играли солнечные блики. Мне вдруг пришло в голову, что можно бы перевалиться через низкий парапет и поплыть по городу, и мосты поднимались бы, чтобы пропустить меня под собой. Какая утонченная глупость. Я побрела вдоль реки, вышла боковой улочкой к Консерватории, Кировскому, к их роскошной площади. Перед театром висела афиша, извещавшая о выступлении Руди в «Жизели». Когда я вернулась домой, Иосиф так и сидел за столом. Взглянуть на меня он не пожелал. В стоявшем рядом с нашей кроватью старинном самоваре у меня было припрятано несколько рублей. Я взяла столько, чтобы хватило на билет в галерке, натянула кашемировый свитер. Пока я спускалась по лестнице, мне казалось, что эхо полученной мной от Иосифа пощечины продолжает гулять по зданию. Ко времени моего возвращения в Кировский вестибюль театра был уже заполнен людьми. По театральным правилам все плащи и куртки надлежало сдавать перед спектаклем на вешалку. Я поразмыслила, не сдать ли и свитер, но мне нравилось, как он сидит, нравилось его тепло, изящество. Место мне досталось между двумя довольно крупными женщинами. Хотелось заговорить с ними, сказать какую-нибудь нелепость наподобие: «Ах, балет — это лучшее из лекарств». Мне вдруг пришло в голову, что, может быть, Иосиф топорно пошутил, что никуда нам из нашей комнаты переезжать не придется, все останется по-прежнему, я так и буду спать ночами под звуки реки. Музыканты заняли места в оркестровой яме, стали настраивать инструменты, флейта там, виолончель здесь, эти ноты, поначалу нестройные, понемногу поплыли в унисон. Соседи мои взволнованно переговаривались. Фамилия Руди так и порхала по воздуху, и удовольствие, с которым эти люди присваивали его, начинало меня злить. Мне захотелось встать и крикнуть: «Да вы же не знаете Руди, это я его знаю, моя мама учила его танцевать!» Однако я давно уж не видела его, почти год. Ему исполнилось двадцать два, у него теперь собственная квартира, он покупает продукты в распределителе, получает большое жалованье, и портреты его высоко висят в коридорах судьбы. Свет померк. Руди вылетел из-за кулис на сцену, зал зааплодировал, а он принялся взламывать знакомую всем роль — не столько танцем, сколько тем, как он себя подавал, это был голод, воплотившийся в человека. Я постаралась целиком погрузиться в спектакль, однако после первой вариации поняла, что мне становится до ужаса жарко. Я попробовала обмахиваться, не привлекая к себе внимания. Но ощущение жары все усиливалось, а мешать соседям, егозя в кресле или стягивая через голову свитер, я не желала. Пронзительная тревога, сквозившая в танце Руди, говорила: «Смотри на меня! Смотри!» — но мне уже ни до чего, кроме свитера и жары, дела не было. Воздух казался насыщенным ею. Лицо мое горело, по лбу стекал пот. Дождавшись кое-как антракта, я быстро встала, обнаружив, что колени меня не слушаются, а ноги подкашиваются. В себя я пришла почти сразу, но шума наделать успела: люди показывали на меня пальцами, перешептывались, и я мигом представила себе сообщение в завтрашней газете — одинокая женщина лишилась чувств во время выступления Руди. Я снова опустилась в кресло, сняла с помощью сидевшего сзади мужчины свитер. Мне очень хотелось объяснить, что со мной случилось, но было ясно: он решил, что меня обуяли восторженные чувства. — Нуриев — чудо, верно? — Мне просто стало жарко. — Именно так он на людей и действует, — изрек сосед моего благодетеля. И тут на меня накатило снова, я испугалась, что вот-вот грохнусь в обморок, но все же сумела набрать воздуху в грудь, встать, проковылять по проходу и спуститься по освещенной люстрами лестнице. В уборной кто-то подержал меня за плечи, пока я блевала. Я услышала слово «беременная» и пришла в ужас — невозможно. Привела себя в порядок, умылась. Зеркало покрывали отпечатки пальцев, и у меня возникло странное ощущение призрачной руки, гладившей мое лицо. Тридцать шесть лет, а уже морщины в уголках глаз и наметившиеся под глазами темные мешки. Женщины в уборной обменивались восклицаниями — какой замечательный спектакль. Две девушки курили у раковины в углу, перебрасываясь фамилией Руди. Поднявшись в буфет, я купила мороженое и ко времени, когда прозвенел звонок, извещавший о начале второго действия, оклемалась в мере достаточной для того, чтобы вернуться на место. Я склонилась вперед, прищурилась, глядя на далекую сцену, и скоро сидевшая впереди женщина, недовольная тем, что мои волосы касаются ее волос, протянула мне театральный бинокль. Тело Руди пленяло прежде всего красотой ― резкие линии плеч, исполосованная мускулами шея, мощные бедра, подрагивающие икорные мышцы. Он поднимал над собой партнершу и с удивительной легкостью вращал ее в воздухе. Я поневоле вспомнила день, когда Руди, семнадцатилетний, появился у нас, когда я видела, как он раздевался, как его тело, невнятное обещание нынешнего, скользнуло под одеяло моей кушетки. Я вернула бинокль хозяйке и попыталась утихомирить овладевшие мной чувства. Вцепилась в края кресла так, что ногти едва не вонзились в дерево. Когда балет закончился, Руди раскинул руки и, поворачивая голову, обвел зал взглядом, от стены до стены. От аплодисментов у меня зазвенело в ушах. Я выскочила из театра, торопливо прошла вдоль Фонтанки, поднялась по лестнице. Вошла в комнату — Иосиф по-прежнему сидел за столом, совсем уже окосевший. Я положила руки ему на плечи, поцеловала его. Он изумленно оттолкнул меня, налил стакан, выпил, пересек, пошатываясь, комнату и тоже влепил мне поцелуй. Я попробовала раззудить его настолько, чтобы он овладел мной, прижав к стене, однако Иосиф был пьян до того, что и удержать-то меня не смог бы. Просто повалил на пол, но я не возражала, куда уж там, — танец все еще кружился по мне, Руди стоял на сцене, точно усталый путник, добравшийся до какой-то невообразимой земли и, как ни обрадовало его открытие, мгновенно начавший искать другую, тоже невообразимую, и, возможно, думалось мне, ею была я. Когда я открыла глаза, Иосиф вытирал со щеки пот. А вернувшись к столу, сказал: — Не забывай, тебе еще вещи укладывать. Если бы я могла сложить в картонные коробки все глупости, какие понаделала в жизни, получился бы хороший памятник ей, — но я складывала вещи. И через неделю оказалась в спальном районе Ленинграда, оставив мою любимую Фонтанку в прошлом. Новая квартира была большой и темной. С горячей водой, телефоном, плитой, холодильничком. За дверью ее скрежетал лифт. Я ждала, когда тоненько засвистит чайник. И уже пообещала себе, что скоро уйду отсюда, раздобуду достаточно денег, уплачу пошлины, подам заявление о разводе и примусь за решение огромной задачи ― за поиски нового жилья. Но по правде сказать, я знала, что уступила Иосифу, что, отдаваясь ему, лишь усиливаю его безразличие ко мне. Полгода спустя я сидела на восьмом этаже нашего нового дома, тщетно пытаясь перевести кубинское стихотворение о тайне и тени, и тут в дверь квартиры постучала моя подруга Лариса, приехавшая в нашу даль трамваем. Лицо у нее было серое. Она взяла меня за руку, отвела на футбольное поле за домами и там прошептала: — Прошел слушок. — О чем? — Руди остался там. — Что? — Говорят, он сбежал в Париже. Мы зашли в футбольные ворота, остановились, молча глядя одна на другую. Я начала припоминать мгновения, которые могли выглядеть ключевыми. Как в первую его неделю здесь я часто видела Руди смотревшимся в зеркало, словно старающимся усилием волн вселиться в чье-то еще тело. Как он рассказывал о зарубежных танцовщиках, как слушал пение Розы-Марии, рылся в моих книгах. Как при всяком посещении Эрмитажа его притягивали итальянское Возрождение и голландские мастера. Как, сидя за столом с моими друзьями, он вечно выглядел оголодавшим, готовым ухватиться за любое новое слово, любую мысль. И я почувствовала огромную вину и страх. — В Париже? — переспросила я. — Нам лучше помалкивать об этом, — сказала Лариса. В тот вечер я сидела с Иосифом и прислушивалась к скрипу лифтовых блоков за дверью. Когда лифт останавливался на нашем этаже, у меня появлялась неотвязное предчувствие, что сейчас они постучатся к нам. Я уже упаковала в сумку вещи, которые могли, по моим понятиям, мне понадобиться. В том числе и роман Горького с подклеенными изнутри матерчатой обложки деньгами. Сумку я поставила под кровать, и ночью мне приснилось, что меня приковали цепью к столу. Иосиф сказал: — Мелкий выродок, как он посмел? Потом встал и прошелся по комнате, шепча: — Как он посмел? И взглянул мне в глаза: — Как посмел, мать его? А назавтра удивил меня, сказав, что бояться нечего, я ничего плохого не сделала, у него есть связи, он позаботится, чтобы меня не тронули. Я погладила ему рубашку, в которой он собирался выступать на конференции, Иосиф собрал портфель, сказал, что все обойдется. Потом быстро чмокнул меня в щеку и ушел в университет. Но они все равно пришли — утром следующего понедельника. Когда в дверь постучали, я была в доме одна. Я мигом засунула деньги под стельки моих туфель и даже булку положила в карман домашнего халата. Дрожа, подошла к двери. Мужчина был вполне традиционным — пронзительный взгляд, серый плащ, — зато женщина оказалась молодой и красивой, со светлыми волосами и зелеными глазами. Они вошли, не представившись, уселись за стол. В голову мою закралась мысль, что Иосиф мог отправиться к ним, чтобы обезопасить себя, что теперь он предал меня понастоящему — после всех наших накопившихся за годы мелких интимных измен. Я спросила: — Вы меня арестуете? Они не ответили. Я не сомневалась, что сейчас меня поведут из квартиры. Они вытащили из моей пачки по сигарете, закурили, пуская дым в потолок. Роли свои оба освоили в совершенстве. Посыпались вопросы: давно ли я знакома с Руди, говорил ли он когда-либо о Западе, кому говорил, почему предал свой народ. — Вам известно, гражданка, что он терпит провал за провалом? — Мне ничего не известно. — Жалкие провалы. — Правда? — Парижская публика бросает ему на сцену битое стекло. — Стекло? — переспросила я. — Хочет, чтобы он распорол ноги. — Почему? — Потому что танцор он, разумеется, никчемный. — Разумеется. Я задумалась о том, как Руди выступает в Париже, ведь его и вправду могли освистать или сослать в кордебалет. Может быть, французы отвергли сценический стиль Руди, — нетрудно себе представить, что он и в самом деле провалился. Что ни говори, а он так молод, двадцать три года, да и танцует всего несколько лет. Они продолжали наблюдать за моей реакцией, но и я следила за своим лицом. Скоро разговор коснулся посиделок в моей прежней комнате. — В вашем салоне, — сказала женщина. Спорить было бессмысленно. Она закрыла глаза: — Нам нужны имена, адреса и род деятельности всех, кто к вам приходил. Я записала имена. Занятие бессмысленное, потому что они и без меня все знали, — едва я закончила составлять список, как они прочитали его и назвали, криво улыбаясь, тех, кого я забыла. По-видимому, за мной следили уже довольно давно. — Пишите снова, — потребовали они. — Простите? — Список. Руки мои дрожали. Меня заставили второй раз записать имена и адреса всех, кто когдалибо бывал в нашем доме, независимо от того, встречались они там с Руди или не встречались. Я изо всех сил старалась защитить тот уголок моего сознания, который занимал отец. Мысленно я видела его в Уфе: хромая, он приближался в тени нефтезавода к двери своего дома и обнаруживал новых агентов и новые неприятности, вторгшиеся в его жизнь. Но об отце эти двое не спрашивали. Понемногу до меня начало доходить, что они пытались выяснить, не могу ли я как-нибудь повлиять на Руди, — может быть, позвонить ему и уговорить вернуться, — однако уже сообразили, что это маловероятно. В конце концов они спросили, готова ли я публично осудить его. Да, ответила я, ни секунды не помедлив. Похоже, это их разочаровало, непонятно почему. Оба закурили по второй сигарете. Мужчина сунул за ухо карандаш. — Вы напишете ему письмо. — Да. — Напишете, что он изменил родине, своему народу, нашей истории. — Да. — Конверт не заклеивайте. — Не буду. — Вы вели себя рискованно, — сказала мне женщина. Я не без достоинства ответила, что постараюсь исправиться. — О нашей встрече никому не говорить, — предостерег меня мужчина. Я кивнула. — Вы поняли? Он выглядел едва ли не испуганным, — впрочем, любой неверный шаг сказался бы и на всей его дальнейшей жизни, на жене, детях и месте жительства. — Да, поняла. — Мы к вам еще придем. Женщина прибавила: — Я бы, например, не плюнула на него, даже если бы он горел в огне. И уставилась на меня, ожидая ответа. Я кивнула и сказала: — Да, естественно. Они ушли, я прислонилась спиной к двери, ожидая, когда лифт пойдет вниз, а потом не заплакала, но почему-то засмеялась, — и смеялась, пока хватало сил, смеялась, когда залязгали колесики и блоки, когда раздалось шипение пневматики, когда услышала, как лифт остановился внизу, смеялась и вспоминала тот вечер в Кировском, мое желание переспать с Руди или переспать с ним через посредство Иосифа. И вдруг с удивлением поняла, что ненавижу Руди, но ненавистью, какую испытываешь к человеку, который спал с тобой, а после бросил, — иными словами, против собственной воли или с завистью к нему, успевшему уйти первым. Теперь друзей моих приводила в ужас одна лишь мысль о возможности встречи со мной. На их политическую чистоту и благонадежность пала тень сомнения, на каждого завели дело, и уже навсегда. Я думала о том, как год за годом мою жизнь урезали, слущивая с нее один слой за другим. Как-то вечером я, вернувшись домой, увидела неотрывно глядевшего на бутылку Иосифа. Верхняя губа его была искривлена и приподнята, словно он зарычать собирался. Он повернулся ко мне и сказал, что на балконе сохнут шесть его рубашек, их нужно погладить. — Нет, — ответила я. — Гладь сраные рубашки! — рявкнул он. И, подняв к моему лицу кулак, подержал его в паре сантиметров от моих глаз. Снимая рубашки с веревки, я слышала сквозь стекло, как он наливает себе еще стакан вина. Я сделала единственное, что, как мне представлялось, способно было помочь мне сохранить ясность рассудка, — поехала поездом в Уфу, погостить у отца. Когда я обратилась куда следует за разрешением на поездку в закрытый город, был уже конец сентября. Из-за пересадок я провела в пути три дня. С поезда сошла усталая, ни такси, ни даже лошади с телегой найти не смогла, пришлось тащиться через город пешком, спрашивая у встречных дорогу. По улицам прогуливались мусульманки с детьми. Взглянув на меня, они сразу отводили глаза. А я поневоле гадала, каким образом город вроде этого смог породить танцовщика, подобного Руди. Вдоль улицы, на которой жил отец, тянулись старые деревянные домишки, чьи яркие ставни спорили с серостью выросших за ними пятиэтажек. Я обходила грязные выбоины и гадала, как, боже ты мой, отцу удается гулять тут с его палочкой. Отец открыл дверь и едва не захихикал, увидев меня. Выглядел он на редкость хорошо, хоть и отпустил седые волосы ниже ушей, что придавало ему вид слегка безумный. В костюме и при галстуке с несколькими оставленными супом пятнами. Пуговицы рубашки были застегнуты доверху, но галстук болтался свободно, как будто у него с рубашкой имелись разные планы на день. Одна из заушин очков отломилась, к ней была привязана уходившая за ухо веревочка. Единственным, что по-настоящему говорило о его возрасте, было несколько лопнувших под кожей лица капиллярных сосудов. Но по-моему, и они лишь странно украшали его. Мы обнялись, и я почувствовала затхловатый залах его волос. Отец поставил пластинку Бетховена, я села, он захлопотал у крохотной плиты, заваривая чай. На тумбочке у кровати стоял портрет мамы. Отец познакомился с молодым художником, и тот сделал по фотографии рисунок углем. Как верно передал он мамину красоту, подумала я, — теперь кажется, что она всегда была красавицей. Отец, заметив, что я рассматриваю портрет, сказал: — Жизнь дана нам для того, чтобы мы останавливали какие-то ее мгновения. Я кивнула, не очень поняв его слова. Он отпил чаю. Я поколебалась — говорить ли ему о Руди, ведь официально ничего еще объявлено не было, — но все же выпалила: — Руди в Париже. — Да, — сказал он, — знаю. — Откуда? Отец огляделся вокруг, словно его мог услышать кто-то кроме меня, и сообщил: — У меня свои источники. Шаркая, он подошел к буфету, сказал: — Это стоит отпраздновать, тебе не кажется? Я все еще не отпраздновал. — По-моему, не стоит. — Почему же? — Ему вынесут смертный приговор. — И что они сделают? — спросил отец. — Пошлют в Париж расстрельную команду? — Все может быть. Мои слова отрезвили его. Он пошевелил губами, словно пробуя на вкус какую-то пришедшую ему в голову мысль. — Все мы приговорены к смерти, — наконец сказал он, — через сколько-то лет. Но по крайней мере, он проживет их лучше нас! — Ох, папа. — Он всегда был хитрющим тараканчиком, верно? — Да, пожалуй. Отец достал из буфета запыленную бутылку водки, театрально откупорил ее и для полноты картины перебросил через руку белую тряпицу. — За хитрющего тараканчика Рудольфа Хаметовича Нуриева! — провозгласил он, высоко подняв рюмку. Мы приготовили под угольным взглядом мамы нехитрый ужин. Отец, вспоминая о ее мариинских днях, сказал, что ей не дали развернуться, что она могла стать одной из величайших балерин, — он знал, что это неправда, но неправда приятная, согревавшая нас обоих. Я постелила себе на кушетке. И уже почти заснула, когда он произнес: — Его отец… — Что? — Я подумал о его несчастном отце. — Ложись спать. — Ха! — ответил он. — Спать! Немного позже я услышала, как он усаживается с книгой за стол, как перелистывает ее. Потом по бумаге заскрипело перо, и под этот звук я заснула. Ушел он рано утром, и это меня обеспокоило. Чтобы чем-то занять время, я вытерла в комнате пыль и вымела сор из углов. На столе обнаружился под стопкой поэтических сборников дневник. Я пролистала его. На первой странице отец записал дату маминой смерти. Бумага была дешевая, чернила пропитывали ее, марая следующую страницу. Почерк у него был неровный, неразборчивый. Я подумала: «Это жизнь моего отца», заставила себя не читать написанное им и снова взялась протирать то, что уже протерла. Росшие в горшках цветы засохли, я отнесла их в общую ванну, опустила на пару сантиметров в воду — вдруг оживут. В ванную комнату вошла старуха-соседка, постояла, наблюдая за мной, — молча. Женщиной она была грузной, но годы уже лишили ее прежней силы. Она спросила, кто я, а услышав ответ, фыркнула и ушла к себе. Я посидела на краю ванны. В стоке застряли волосы, не отцовские — волосы молодого человека, темные, еще живые. Мне показалось оскорбительным, что отцу приходится мыться в ванне, которой пользуется кто-то еще. Все это время мысль о дневнике словно дырку в моей голове прожигала. Вернувшись по коридору в его комнату, я села за стол, провела пальцем по черной обложке дневника и открыла его наугад, примерно в трети от начала. И все-таки правда состоит в том — хоть я никогда и не верил в Бога, а это и само по себе не делает меня достойным гражданином, — что, возможно, в самом конце я полюблю его, если он и вправду существует. Большую часть моей жизни я провел, не живя в сколько-нибудь подлинном смысле этого слова, а все больше выживая день за днем, гадая, когда ложился спать: «Что-то случится завтра?» Наступает завтра, а я все гадаю. И однако ж юдоль вздохов способна создавать коллективную музыку. Вот в этот миг птицы суетятся в деревьях, под окном моей комнаты. Отец вернулся в полдень, переполошив меня. Я все еще смотрела на ту страницу и вдруг услышала, как скрипнула дверь. Я поспешила сунуть дневник под стопку книжек, но они посыпались на пол, пришлось опуститься на колени, чтобы собрать их. В итоге он увидел, как я засовываю дневник под старенький сборник Пастернака. В руке отец держал букетик лилий. Он опустил их в стоявшую на подоконнике вазу, и лилии покивали ветерку. А я погадала: сколько раз повторил он, срезая цветы, мамино имя? Лицо его никаких чувств не выражало. Я думала попросить разрешения прочитать весь дневник, но не успела, потому что он сказал голосом, который показался мне странным: — Ты знаешь, что его отец ни разу не видел, как он танцует? Я промолчала довольно долгое время, а затем спросила: — Откуда тебе известно? — Я бывал у него. — Где? — В его доме. — Вы дружите? — Мы беседуем. — Что он собой представляет? — спросила я. — Хороший, положительный человек. — Потом повернулся к окну и сказал, словно обращаясь к наружному миру: — Боюсь, в конце концов его сломают. Он постоял у окна, поглаживая пальцами занавеску. — А мать? — спросила я. — Мать сильнее, — ответил отец. — Она вытерпит. Он подошел к столу, взял дневник, провел пальцем по обрезам страниц и сказал: — Если хочешь, просмотри. Я, покачав головой, ответила, что прочла несколько слов, они прекрасны. — Да ну, ахинея, — возразил отец. И, коснувшись моей руки, добавил: — Не позволяй им портить тебе жизнь их скудоумием, Юля. Я спросила, о чем он, отец ответил, что и сам не вполне уверен, просто почувствовал вдруг, что должен это сказать. Те несколько дней я льнула к отцу, льнула к его душе. И при каждом его уходе из дома читала дневник. Он был любовной песнью, но мне не давало покоя отсутствие в ней каких-либо упоминаний моего имени. На страницах дневника появлялись лишь двое — отец и мама. Воспоминания отца об их жизни были беспорядочными, последние дни сталкивались с первыми, иногда мне казалось, что поздние годы как-то определяют ранние, — отец словно взял время в кулак, стиснул, и оно стало бесформенным. Поражало меня и еще одно: несмотря ни на что, мои родители вели жизнь, не лишенную некоторого форса. Оба родились в богатстве и жили, зная, что умрут в бедности, и тем не менее спокойно принимали, казалось мне, все, что с ними происходило, — быть может, в некоторых отношениях полная перемена их обстоятельств сделала родителей более счастливыми, скрепила неразрывными узами. Я думала о моих обычных радостях, о том, что прожила большую часть лет, уклоняясь от сложностей. Бродила по Уфе, по грязным улицам, мимо заводов и нескольких еще сохранивших живописность зданий. Купила на птичьем базаре у мечети щегла, которого продавали как певчую птичку. От клетки отказалась, отнесла его в ладонях к Белой, а там раскрыла их. Птица на миг вроде бы испугалась, но затем упорхнула — несомненно, затем, чтобы снова попасть в силки. Мне была противна бессмысленная жалость к себе, которой я пропиталась, но в то же время я принимала ее, поскольку она казалась мне целительной. Сдуру я купила еще двух пичуг, выпустила их и только тогда сообразила, что денег на трамвайный билет у меня не осталось. Я сочла это уместной иронией и пошла к дому отца пешком. Мне оставалось провести у него три дня. В вечер перед моим возвращением в Ленинград я сказала отцу, что думаю о разводе. Он, похоже, не удивился, может быть, даже обрадовался. — Вот и правильно, действуй, добейся развода. Он всплеснул руками, я насупилась. — Или, по крайности, выйди за кого-то другого! — А квартира? — Какая разница? Нам же с собой жить, а не с нашими комнатами. Я мрачно молчала, и он сказал: — Юля, милая. Получи развод. Останься в Петербурге. Проживи по-человечески то, что тебе осталось. Он уселся в кресло, задымил половинкой толстой, зловонной сигары, которую прятал где-то. В тот же вечер, попозже, отец сказал, что должен сделать нечто важное. Приложил палец к губам — так, точно в комнате присутствовали еще какие-то люди, и подошел к патефону. Я решила, что он хочет поставить пластинку, но отец поднял звукосниматель и начал патефон разбирать. В чреве его оказалась спрятанной небольшая плоская шкатулка. Отец вручил ее мне, сказав, что эту вещицу хранила мама, всегда хотевшая, чтобы она принадлежала мне. — Надо было тебе ее раньше отдать, — добавил он. Отец примолк, я попыталась открыть шкатулку. Однако в нее давно уже не заглядывали, и защелка заржавела. Я взяла нож, попыталась осторожно вскрыть ее. Отец молча наблюдал за мной. Я думала, что найду внутри еще один дневник, быть может, тот, что мама вела до революции. Или давнюю любовную переписку родителей. Или собранные ими за много лет безделушки. Я собралась потрясти шкатулку, но отец схватил меня за запястье, сказав: — Не надо. Он взял нож, взломал защелку. И, не подняв крышку, отдал шкатулку мне. В ней лежало маленькое, не больше пепельницы, фарфоровое блюдце. Миниатюрное, тонкое, бледносинее, с шедшими по ободку буколическими изображениями крестьян и упряжных лошадей. Поначалу оно меня разочаровало, такое легкое, такое хрупкое, не имевшее, подумала я, никакого отношения к моим родителям. — Ему около ста лет, — сказал отец. — Принадлежало бабушке твоей матери. После революции Анна забрала его из подвала нашего петербургского дома. Вместе с другими. Хотела все сохранить. — И куда они делись? — Разбились во время наших переездов. — Только это и осталось? Отец кивнул и произнес: — Нужда, страсть, болезни, зависть, надежда. — Извини? — Нужда, страсть, болезни, зависть и надежда, — повторил он. — Это пережило все остальные. Я держала невесомый кружок фарфора в руках и плакала, пока отец не сказал, улыбнувшись, что пора бы мне и повзрослеть. Я завернула блюдечко в тряпицу, положила его в шкатулку, засунула ее в чемодан, поглубже, чтобы никто ее не обнаружил и не повредил. — Постарайся сохранить его, — сказал отец. Мы обнялись, он процитировал чью-то строку о ночных птицах, пересекающих лик луны. Я отправилась поездом в Ленинград и, глядя на скользивший за окнами ландшафт, набралась наконец храбрости, потребной для развода. Все сводилось к тому, чтобы скопить необходимые для уплаты пошлин деньги и правильно выбрать момент. И в следующие восемнадцать месяцев я переводила и переводила, спеша, и складывала деньги бок о бок с припрятанным мной блюдечком. А затем одним вечером в начале лета 63-го я проснулась, пытаясь понять, утро сейчас или вечер. Именно в тот день был отменен запрет на новости о Руди. Два года о нем не печатали ни слова, а тут сразу и «Известия», и «Правда» разразились статьями на его счет. В них говорилось, что Руди нравственно опозорил себя и свою страну, — это было забавно, а возможно, даже и верно. Фотографии его в обеих газетах, разумеется, отсутствовали, но блеск Руди каким-то образом пробивался и сквозь желчность статей. Иосиф за последние месяцы все больше наливался злобой. Он дважды ударил меня. Я поддалась желанию посмеяться над ним и сказала, что он отвешивает мне оплеухи типичным для представителя интеллигенции образом, — тогда он сильно ударил меня кулаком, расшатав один зуб. После чего мы с ним почти не разговаривали. Он сидел за столом, сгорбившись над тарелкой супа, звучно хлебая его и читая газету. Мне он казался постаревшим, лампа, висевшая над его головой, освещала обозначившуюся на макушке лысинку. Я разглядывала его, лежа в кровати, но вскоре мое внимание привлек шум за окном, приглушенные расстоянием крики, вроде бы усилившиеся, когда я стала прислушиваться. Новый крик, глухой удар. Я спросила у Иосифа: — Что там такое? — Спи, женщина, — ответил он. — Просто хулиганье в футбол играет. Я перевернула подушку прохладной стороной кверху, опустила на нее щеку, но что-то в этих криках не давало мне покоя. Так я прождала час, пока Иосиф не улегся на кушетку, а после встала, подошла к окну, отвела в сторону штору, вгляделась. За день работы над несколькими переводами я устала — пришлось долго моргать, пока глаза не привыкли к темноте. Между нашим двором и футбольным полем толклась рядом с грудами недавно вырытой земли компания молодых хулиганов. Там начиналось какое-то строительство, и груды эти шли одна за другой подобием гряды невысоких холмов. Хулиганы нашли пару белых палок и воткнули их в землю — получились ворота. Пожилой мужчина, похожий на ветерана войны, на голове его криво сидела старая военная фуражка, пытался выдернуть палки из земли, но подростки отталкивали его. Он кричал на них, однако с такого расстояния слов я не различала. Хулиганы пихали мужчину в грудь, но он стоял на своем. Вот он прорвался сквозь их цепочку, выдернул короткие белые штанги ворот из земли, взмахнул ими, как оружием. Отступая назад, он размахивал штангами. Хулиганы просто смотрели на него. Отойдя метров на пять, он повернулся и побежал, прижимая белые палки к груди. Преследовать его подростки не стали. Просто расхохотались и отошли к одной из куч земли на строительной площадке. Порывшись в ней, они отыскали белый мяч и начали гонять его по земле. И я, дрогнув от ужаса, поняла, что это не мяч, а череп. Пол поплыл под моими ногами, я вцепилась в край подоконника. Тут вернулся ветеран. Увидев, как юнцы перебрасывают ударами ног череп, он уронил палки — бывшие, должно быть, чьими-то костями — и снова побежал, пригибаемый к земле своим телом, курткой, фуражкой, печалью. За спиной его остались лежать перекрещенные кости. А я вспомнила слова песни об убитых, превращающихся в журавлиную стаю. Меня трясло. Я думала о том, чьи это могут быть кости — немца или русского, — затем о том, какая мне, собственно, разница, а после вспомнила о блюдечке, завернутом в тряпку и спрятанном. Я опустилась под окном на пол и съежилась, потрясенная мыслью о том, во что мы обратились, о нашем беспамятстве. Потом встала, задернула шторы, взглянула на похрапывавшего Иосифа. Я ощущала усталость, но и бодрость тоже, как будто что-то страшное тянуло меня вниз, одновременно толкая вперед. Мне захотелось разбудить Иосифа, сказать ему, что мы все переживем, пройдем через это, что мы можем измениться, можем научиться жить иначе. Захотелось, чтобы он сделал зля меня что-то доброе, способное успокоить, но я не стала будить его, да и он не шевелился, и я поняла, что возможности наши упущены. Мне тридцать восемь лет, я ухожу от него. Я вытащила из-под кровати чемодан и начала укладывать вещи: одежду, книги, словари, неоконченные переводы, фарфоровое блюдечко. Я не старалась не шуметь. Иосиф мог бы и проснуться, однако не проснулся. Мне казалось: та его половина, которая спит, знает, что ощущает другая, бодрствующая. Я подумала, не поцеловать ли его в щеку, но вместо этого написала записку, процитировав в ней слова отца о том, что звезды бездоннее темноты вокруг них. Когда я покончила с чемоданом и готова была уйти, уже наступило утро. Хулиганы исчезли, однако бывший солдат еще оставался на поле. Теперь у него в руках была лопата, он перезахоранивал череп и кости на нетронутой земле. Между далекими домами сияло солнце, дома казались кубиками, которыми играют дети. Словно по чьему-то замыслу поднялась в небо, трепеща крыльями, стая маленьких птиц. Я спустилась по лестнице, не желая томиться клаустрофобией в лифте. Воздух был уже тепл и влажен. Чемодан не казался мне тяжелым. На поле я прошла мимо ветерана, он, не подняв взгляда от земли, повернулся ко мне спиной, словно желая сказать: «Наши войны не кончаются никогда». *** Июнь 1964 Тамара! Ты усомнишься в этом, но известие о смерти отца ударило меня точно обухом — так, что я даже упал на колени. Я был в Италии. Тамошние идиоты дождались окончания спектакля и только потом вручили мне телеграмму, пришедшую через Париж, куда ее ошибкой отправили. Потому и прошло столько времени, прежде чем я связался с вами. Другой причины нет. Я бродил в одиночестве по улицам Милана и волей-неволей вспоминал отца — с нежностью, хоть ты и в это не поверишь. Да, все так, большую часть жизни я провел в дрязгах с ним, но я питал к нему и чувства совсем иные. Такие противоречивые эмоции содержат в себе большие возможности — даже самый посредственный балетмейстер скажет тебе это. Поэтому меня глубоко ранило то, что ты написала. Верно и то, что на следующий вечер я выступал, — но, как тебе известно, танец для меня — это проявление каждого из моих чувств, он не только праздник, но и смерть, тщета, одиночество. Даже любовь должна пройти через одиночество. Вот я и танцевал его живого. Выйдя на сцену, я отправился в полет и получил свободу. Ты можешь не верить мне, но это правда. Рассказанное тебе о том, что я веселился тогда в ночных клубах, нелепо. Фотография, на которой я обрызгиваю шампанским мою гримерку в Ла Скала, сделана в другое время, не в ночь смерти отца. Не верь каждой их лжи. Сама мысль об этом уродлива. Мне двадцать тесть лет. Как можно думать, что я стал таким бесчувственным скотом? Разве я состою из льда? Или из дерева? Правда в том, что душа моя истекает кровью так же, как у любого человека, а может быть, и сильнее. Ты проклинаешь меня, но, на деле, я защищаю тебя и, конечно, маму. Лучше бы ты меня поблагодарила. Оторваться от дома — значит оторваться от всего, что тебя создало. А оказаться оторванным от всего, что тебя создало, в миг его смерти — значит умереть самому. Тьма повсюду отыскивает тьму. Наверное, ты не захочешь это понять. Но ты должна выслушать меня, когда я говорю о том, как много потерял, — в особенности маму, которая и на миг не выходит у меня из головы. Ты сочла возможным сказать, что моя жизнь обратилась в цирк. Ничто на свете не просто, Тамара, даже твои попытки все упростить. Почему я так поступил? Я никогда не собирался покидать страну, мог бы в ней и остаться, но, если слишком долго пробовать воду ногой, так и не научишься плавать. Я ничего не хотел сказать моим поступком. Политика — для толстяков с сигарами. Не для меня, я — танцовщик, я живу танцем. Вот и все. Ты спрашиваешь, словно бы фыркнув, какова теперь моя жизнь? Да, мне повезло. У меня есть дом, контракты, массажист, менеджеры, друзья. Я танцевал почти на каждом континенте. Пил в Белом доме чай с президентом Кеннеди незадолго до его гибели. Мы с Марго выступали на инаугурации Джонсона. В Венской государственной опере нас вызывали на поклоны восемьдесят девять раз. Овации нередко продолжаются по полчаса. Я восхитительно счастлив, но иногда просыпаюсь утром с ужасным чувством, что это существование заканчивается, да и никогда оно так уж много не значило. Я не испытываю никакого желания обращаться в сенсацию, в недолговечную злобу дня. Я переезжаю из страны в страну. Там, где я стал кем-то, теперь я никто. У меня нет гражданства. Вот так. Да так всегда и было, начиная, думаю, с давних уфимских дней. Жизнь во мне поддерживается танцем и только танцем. Гете говорит: Такова цена, которую боги берут за песню, — ты становишься тем, что поешь. Временами в голову мне приходят образы, в подлинном значении или смысле которых я не могу разобраться. Помнишь торговку пивом, лоток в конце Красинской? У нее еще лицо было, как у мула. И всего три кружки, она вечно кричала на клиентов, чтобы пили побыстрее. Костяшки на счетах она перебрасывала очень точными движениями. Ты как-то под вечер свела меня туда и сказала, что можешь определить время дня по тому, какая часть ее не видна. Я не понял, и ты указала мне на рассекавшую ее тень от зонта. В середине дня продавщица вся была темная, потому что солнце стояло высоко в небе. А к вечеру солнце садилось и она становилась видна целиком. Ты могла узнать время по тени. Я тебе вот что скажу: я завидую свободе, которая позволила тебе выйти за Илью. Да-да, свободе. Ты, наверное, понимаешь, что и я желал бы выбора. Но выбора я лишен. Жизнь моя привязана к оперным театрам, отельным номерам, ресторанам, закусочным, репетициям. Как бы там ни было, мне правда очень жаль, что я пропустил твою свадьбу. Я посещал такие торжества на Западе и всегда вспоминал о тебе. Ты наверняка была очень красива. Передай поклоны и поздравления твоему молодому мужу. Естественно, мне без разницы, уборщик он или нет, почему меня это должно волновать? Ты могла бы и побольше доверять мне. Без уборщиков, электриков, водопроводчиков все мы, конечно же, выносили бы дерьмо ведрами, дождавшись темноты. Сейчас я в загородном доме друзей, пробуду здесь еще дня три-четыре. Впервые за десять лет — не считая случаев, когда я повреждал ногу, — мне не приходится ни танцевать, ни репетировать. Нужно побездельничать немного, перевести дух, я уже очень давно не делал этого. Друзья добры ко мне, компания замечательная. Возможно, я изменился, но если и так, то только к лучшему. Дураков я не перевариваю. Прежде всего, и это самое главное, изменился мой танец. Я построил на заложенном мной в Ленинграде фундаменте огромный театр. Мы с Фонтейн пользуемся потрясающим успехом. Последние годы были у нее очень трудными, не в малой мере и потому, что муж ее стал калекой. И все же, танцуя, Марго становится гением. Однажды я видел, как она спускалась на пуантах по ступеням собственного дома. Несмотря на ее возраст, она постоянно изумляет меня. Выходя на сцену, она забывает обо всем, мы с ней — два сапога пара. Мир тому свидетель. До нынешнего времени я работал, не жалея себя, а мир сбирал с меня немалую дань, теперь надо набраться сил. За этим я сюда и приехал. Земля здесь в основном плоская, хотя наш дом стоит в холмах. Отчасти все напоминает Крым. Мой друг заботится обо мне, готовит еду, принимает звонки, не подпускает ко мне репортеров. Услышав, что звонит телефон, я сразу думаю о маме. Надеюсь, она здорова. Иногда меня душит неодолимый гнев. Я бы рассказал о нем всему миру, но знаю, что тогда может случиться. Если я заговорю, ее только сильнее придавят. И должен сразу сказать тебе, что в слухах обо мне и других мужчинах нет ни слова правды. У меня много друзей — все просто. Не верь тем, кто оговаривает меня, жалкие они тараканы. Тебе следует гордиться мной, и если бы нам удалось поговорить с глазу на глаз, ты наверняка отмахнулась бы от вранья и гадостей, которые обо мне нагородили. Я помню долгие вечера в Уфе, солнечный свет, заводские гудки, грязный воздух. Видишь, я не забыл родину, но не хочу распускать нюни. За мной все еще ходит по пятам тайная полиция, я живу в страхе, но не позволяю ему влиять на меня — и переживу его, чтобы сказать: я это пережил. Я ни о чем не жалею. Сожаления — для дурачков. Иногда мне снится мама, как я привожу ее на Запад, где она могла бы жить в комфорте. (И ты тоже, если захочешь.) Я обращался к политикам, те уверяют, что у них связаны руки. Нанимал юристов, чтобы они изучили все возможности. Эти берут, разумеется, деньги, но, боюсь, пользы от них не будет. Кровососы! Нужно оставаться сильными, не позволять судьбе навязывать нам свою волю. Что касается мамы, надеюсь, она здорова. Помнишь, как она однажды стригла при нас отцу ногти? Он смущался, что мы видим, как ему стригут ногти, торопил ее, да? Мама порезала ему палец, он несколько дней ходил перевязанный. Прятал руку с повязкой в карман. Тамара, если это письмо дойдет до тебя, скажи маме, что я думаю о ней бесконечно. Скажи: ее сын танцует, чтобы сделать мир лучше. И прошепчи мое имя траве, под которой лежит отец. Вот и все. Рудик Книга вторая 1961–1971 Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в улицу, в страну; Позвоночное, обугленное тело, Сознающее свою длину. Осип Мандельштам Одиннадцать часов репетиции, час неторопливой работы у станка. Добиться правильной фразировки невозможно. Тебе необходимо терпение каменотеса. Руби и руби, пока все не сойдется. Поспал в гримерке, еще час репетировал с Розеллой. Во время спектакля никто — никто! — не заметил, даже Франсуаза. Двадцать вызовов на бис, ну и что, какая разница? Помни: Совершенство — наша обязанность. Пети говорит в интервью, что есть вещи, которые, если их произносят, отменяют сами себя. Что танец — единственный способ описания того, что никак иначе не описуемо. Да. С лампочки над зеркалом свисает записка от Грейс Келли. С веранды смотрит Эдит Пиаф. Из теней улыбается Жан Кокто. На диване раскинулась Марлен Дитрих. Говорят, Леонард Бернстайн уже едет сюда из отеля, может быть, появится даже Пикассо. Кто-то начинает цитировать строки Пруста. Все ради меня! Возвращался с телохранителями в отель и слышал, как на набережной метельщик напевает Моцарта. Думаю, меня ничто уже не удивит, даже мои сны. Дом де ла Рошфуко — пятнадцать марок шампанского, икра в еще не виданных мной количествах. На столах орхидеи. Золотые канделябры. Все бродят кругами по залу, у которого нет углов. Разговор идет о балетмейстерах, критиках и публике разных театров, но в конце концов переключается на философов, сплошь западных, включая Деррида, и я оказываюсь в проигрышном положении. Придется многое наверстывать. Иначе надо мной станут смеяться. Я ухватываюсь за мысль Саши: танец говорит то, чего не может сказать ничто иное. Танец с яйцами. Мозг следит за яйцами. Масса кивающих голов. Прикрываемые ладонями смешки. Я оставлю их в покое, лишь когда действительно сумею просунуть язык им в глотки и разорвать их пустые сердца. Двадцать три года. Постоянная (скрываемая) мысль, что я самозванец. Но ты не можешь стать лишь историей того, что оставил в прошлом. Ни чая, ни фамильных ценностей, ни плача. Ни затхлого хлеба, смоченного водкой и слезами. Ты обязан вышагивать по парижским бульварам в белой шелковой рубашке! Мама неудержимо плакала по телефону. Ночью вспомнил ее у приемника, крутившую белые ручки настройки: Варшава, Люксембург, Мости, Прага. Киев Вильнюс, Дрезден. Минск. Тамара сказала: ты нас предал. Менухин играл Баха в Зале Плейель: сердце забилось быстрее, я почти забыл обо всем. Ванна. Мед к чаю. Репетиция. Совершенство не столько в исполнении, сколько в пути к нему. Это радость. Ты должен сгорать! Каждый уголок, каждая скульптура, каждое полотно перенимают дыхание. Словно идешь сквозь книгу по истории, длящуюся и длящуюся, не желая встречаться со своей задней обложкой. Диво, седьмое чудо света, почти такое же, как Эрмитаж (хотя оно в два раза меньше и не так благолепно). Меня уже и охранники узнают, а один здоровается на ломаном татарском. Его семья перебралась сюда несколько поколений назад. Охраняет он импрессионистов, и я задержался у них. Клэр прошлась со мной от музея вдоль Сены. Выдала мне для маскировки огромные солнечные очки, надвинула пониже мою кожаную шляпу. И четыре человека немедленно закричали: «Нуриев!» Букинист размахивает у лотка подписанным экземпляром «Прощай, оружие». Всего несколько недель, как умер, а его книги уже продают по немыслимым ценам. (Возможно, следует умереть в танце, еп l'air<a l:href="#n_16" type="note">[16]</a>, выставить замершее исполнение на аукцион и продать тому, кто больше даст.) Клэр роется в сумочке, но букинист говорит, что у него нет сдачи. Она покупает книгу по цене почти в полтора раза большей, чем обычная. И удивляется моему испугу. Немного позже объясняет, как устроен банковский счет, — такая дурь. Слухи о том, что Сашу пытали. Ксению допрашивали, а Юлию арестовали и продержали неделю в камере. Вранье, конечно. В Париже новая модная прическа: под Нуриева. Какой-то стервятник написал в «Ле Монд», что она появилась так же быстро, как Берлинская стена, однако Кокто объяснил: они просто хотят превратить меня в товар. Эх, мне бы такую голову, как у него. (Он говорит, ему как-то приснилось, что он застрял в лифте и слушал «Божественную симфонию».) Бородатый еврей вышагивает по Люксембургскому саду, сцепив за спиной руки с молитвенником. Садится на скамью под деревом, ковыряет в зубах. Небось думает при этом: «Ах, Петербург». (Примечание: телесная сила всегда наполняет лицо значительностью.) Мадам Б. ожидает меня, пока портной-алжирец снимает мерку. Затем покупает мне черный бархатный костюм. Она говорит, что мне следует бесконечно наслаждаться новыми начинаниями. В ее квартире горничная подает нам отвратительный мятный чай. Я отпиваю и тут же сплевываю в чашку. Мадам, похоже, испытывает наслаждение, как если б она отыскала прирожденного дикаря. Она подходит к дивану, перетирает между большим и указательным пальцами лацкан моего костюма. Я отхожу к окну. Внизу идут по тротуару мужчины с переброшенными через руку плащами, женщины в шляпках, которые они носят так, точно на головах их сидят некие живые твари. Машины стоят в пробке. Вдоль Сены летят обрывки газет. Мадам у окна, пытается окликнуть меня, уходящего по набережной. Все часы — немецкие, ручной работы, ценники отсутствуют. Трудновато сохранять безразличие, когда мадам спрашивает, какие мне хотелось бы получить. Ей хочется оглушить меня своим богатством, а почему я должен говорить источнику, что не желаю пить его воду? Немного погодя мадам поведала, что, нервничая, я стягиваю манжеты рубашки до самых костяшек пальцев. Неотесанность, сказала она, крестьянская привычка, но ничего, время все поправит. Она стояла, прислонясь к перилам балкона, держа в пальцах длинную сигарету. Подбородок ее немного выпятился, как будто она сию минуту произнесла нечто чрезвычайно умное. И я снова стянул рукава до костяшек. Она взмахнула сигаретой. «Oh, non non non, Rudi, топ Dieu!» А после лицо ее изменилось удивительным образом — когда я швырнул часы с балкона в парк. Если ты хочешь носить в помещении шляпу, кто может тебе запретить? (Она забывает, что ведро говна так легко опростать, особенно стоя вверху винтовой лестницы.) Ты не должен кончить ни безумием (Нижинский), ни угодливостью (Тихомиров). У Дворца ждет под дождем поклонник. Венгр. По его словам, бежал в 59-м. Он стоял под брызгами, летевшими из сточного желоба, и говорил, что не знал, кто он, пока не увидел мое выступление. Такой идиот. Прикрывал голову газетой, и по лицу его текла типографская краска. Кроме того, от него несло коньяком. Все же в его книжке автографов я расписался. Мария взяла меня под руку. За обедом мы разговаривали о великих — Карсавиной, Павловой, Фонтейн. Разумеется. Марию я поставил первой в списке. Она покраснела. Немного позже она сказала, вполне разумно, что артисту балета стоит поработать с балеринами, которые старше его, — точно так же, поедая лобстера, не оставляешь без внимания и его клешни. И проворно продемонстрировала это, разодрав клешню и шумно высосав ее. Эти дураки разукрасили мой рукав блестками, которые во время поддержки дерут внутреннюю сторону ее ляжки. При исполнении па-де-де у нее на глазах появились слезы, я увидел струйку крови. Шла генеральная репетиция, публика собралась нетерпеливая. У идя за кулисы, она взвыла от боли: «Черт, черт, черт, мне конец!» И плюнула во француза-костюмера. Потом сменила костюм, врач залепил царапину пластырем. Все это за две минуты. На сцену она вышла с обычной ангельской улыбкой. Критикесса «Ле Монд» написала, что начала испытывать невосприимчивость к красоте, но после па-де-де «Баядерки» вышла из театра пошатываясь, со слезами счастья на глазах. Не позволяй критикам изображать тебя таким молодцом, что лучше и не бывает. Соответственно, не позволяй им грызть твои хрящи. (Саша: «Твой долг — переубеждать неверящих».) Истина: Когда тебя критикуют, ты впадаешь в исступление, но помни, защищаясь: тот, кто спокойно слушает, не меняется никогда. Мадам пригласила в гости юношу. Сказала, что он из хорошей семьи, изучает в Сорбонне русский язык. Сама открыла ему дверь. Поджав губы, ввела в библиотеку. Он беззастенчиво пересек комнату, бросил кожаную куртку в кресло Людовика XV. Мадам, услышав, как молния проехалась по подлокотнику, вздрогнула и застыла. Она поставила пластинку Стравинского и деликатно удалилась. Мы сидели, разглядывая друг друга. Он протянул руку и сказал: «Жильбер». Порою довольно лишь слова, чтобы снять заклятие. Жильбер сказал, что серебряные приборы они выставили в мою честь. Смотрел, как я ем дыню. Я прошелся языком по вилке, ему напоказ, и через всю комнату почувствовал, как он задрожал! А во время десерта оставил на несколько лишних секунд во рту чайную ложку. Его молодая жена смерила меня взглядом из-под тонких бровей и сказала, извинившись, что ей пора ложиться. По пути в Рамбуйе Жильбер лизнул рулевое колесо своей открытой машины и захохотал. Пробка от шампанского ударила в зеркальце заднего обзора. Я подумал, что сейчас на дорогах, в темноте, должны быть сотни таких, как мы. В «Доминике» его друзья завопили, увидев меня: «Руди! Руди! Руди!» Составили пирамидой бокалы. Жильбер прокричал казацкий тост. Лакей из эмигрантов усмехнулся, услышав мои выговор. Я плеснул ему в лицо кофе, забрызгав его тонкую белую рубашку. Появился управляющий, униженно заверивший меня, что лакея уволят. Жильбер рассмеялся, пнул меня под столом ногой. После, в клубе на рю д'Асис, мальчики в красных бюстгальтерах плясали канкан. Английский актер с черными баками посматривал на меня. Снаружи солнце впилось мне в глаза. Мы отправились прямиком на репетицию. В гардеробной Жильбер пристроился спать на скамье. Человек в угловом кафе показался мне знакомым, однако вспомнить, кто он, я не смог. Густые седые усы и брови. Он ерзал на стуле, курил. Я рылся в памяти, нервничая, потому что он мог следить за мной. Он походил на русского, да, но только когда он повернулся к официанту, чтобы оплатить счет, я заметил, какая у него злокозненная, раздраженная рожа. И вдруг сообразил — это же лакей из «Доминика». Меня он словно и не видел, кафе покинул, с шумом отпихивая столики. Остановился возле работавшего на углу пожирателя огня и, театрально помахав бумажкой в двадцать франков, бросил ее в корзинку артиста. Я вышел из кафе, пересек улицу, расцеловал пожирателя в щеки (он не уклонился). Задница-лакей понаблюдал за мной издали и торопливо ушел, быть может, на рю Дарю, где он и ему подобные оплакивают свое ничтожное существование. Истина: я скрываю мой страх под необузданностью, и танец — ее проявление. Аплодисменты становятся более утомительными чем танец. Возможно, когда-нибудь появится балет, состоящий из аплодисментов. Я сказал об этом Клэр, она ответила, что балет получится весьма и весьма в духе Арго. Я смутился — впервые о таком услышал. Иногда скрыть мое невежество становится не возможно. Клэр сказала — все правильно, это французский экспериментатор, она даст мне его книги он бывает интересным, что-то такое о театре жестокости. А еще она пообещала мне запись Рихтера. Хороший портативный проигрыватель позволит слушать его в дороге. Я было решил, что это розыгрыш. Едва не обругал ее на четырех языках. А поняв, что и впрямь говорю с Марго, едва не задохнулся. Она сказала: все обговорено. У Ковент-Гардена. Я снимаю берет, толпа ревет. Репетируем чисто, без грязи. Резкий ум Марго. Она танцует из себя. Для па-де-де выбрала крошечные, неуверенные шаги, которые роняет на сцену, как слезы, — совершенство. Она заставляет нас видеть не только танец, но и то, что видит сама балерина. (Про меня Марго сказала, что я кажусь способным полететь над рампой.) После репетиции она отвела меня в свой дом в посольстве Панамы<a l:href="#n_17" type="note">[17]</a> и накормила тушеной бараниной — засмеялась, когда я стянул через голову рубашку и принюхался. (За едой пошутила, что это она овца, а я ягненок, для менято разница в двадцать лет ничего не значит.) Для приема в «Савойе» она оделась по моде, кто-то потом сказал — чистый Сен-Мориц, что бы сие ни значило. Когда она шла по залу, все оборачивались, провожая ее взглядами. Английские претензии на цивилизованность — чистой воды дерьмо! Они пускают своих репортеров и фотографов куда угодно. Беда их в том, что они видят в танце аперитив, а не хлеб насущный. Французские критики говорят, что, танцуя, вы становитесь богом. Сомневаюсь. Сомневаетесь в критиках? Сомневаюсь во французах. (все смеются) И в богах тоже. Простите? Я сказал бы, что боги слишком заняты, чихать они на меня хотели, да и на кого другого, уж если на то пошло. Прошелся под дождем до Национальной галереи и галереи Тейта. Телохранитель не понял ужаса, овладевшего мной, когда я увидел на Кенсингтон-Пэлис-гарденз советское посольство. Потом до него дошло, и он увел меня, обняв за плечи. Вернулся к Марго, она разогрела остатки баранины, заварила горький английский чай. Тито уехал куда-то далеко по панамским делам. На ней была шелковая блузка с низким вырезом. Шею ее мог бы писать да Винчи, самое малое. Она расспрашивала меня о доме, сказала, что может мысленно нарисовать мою мать, очень, должно быть, красивую женщину Я не знал, что ответить, поэтому встал из-за стола и ушел в парк за домом. Марго вышла следом, сказать, что надеется, она меня не обидела. Она установила проектор, у нее десяток коробок с фильмами, разложенными по датам — начиная с 1938 (!). Мы всю ночь прокручивали фильмы, пока я не нашел Бруна<a l:href="#n_18" type="note">[18]</a>. Он отличается великолепной строгостью. Я ушел в мою комнату, но заснуть не смог, ходил из угла в угол. Стервятники спрашивают о Кубе. Я не позволю втянуть меня в такой разговор. На редкость глупый заголовок в «Дейли экспресс»: «Che será será»<a l:href="#n_19" type="note">[19]</a>. «Элефан-энд-Касл»<a l:href="#n_20" type="note">[20]</a>: надеешься увидеть нечто волшебное, сказочное, а видишь еще один район Киева. Менеджер, агент, счетовод: Гиллиан уверяет, что в жизни любого великого артиста это святая троица. Под конец разговора Сол сказал, что, может быть, ему удастся выжать из немецкой телекомпании пять тысяч долларов. Двадцатиминутное выступление, то есть двести пятьдесят долларов за минуту! Я притворился недовольным и смотрел, как он потеет на другом конце стола. (Марго говорит: «Ты только танец из виду не теряй».) В вестибюле «Савойя» появился Эрик. Высокий, гибкий. Весь в белом, белы даже нитки, которыми прострочена его одежда, и зубчики молнии на куртке. Некоторое время мы взаимно присматривались, осыпая друг друга комплиментами. Он только что потратил кошмарные деньги на Миро, и разговор наш вертелся вокруг Миро и Пикассо, — впрочем, ясно было, что говорим мы о себе (Эрик — это, разумеется, Миро, а я — Пикассо). Допив шампанское, мы попросили коридорного принести Эрику чая и сигарет. Он сидел, прикуривая одну сигарету от другой. В два часа Эрик, натужно улыбнувшись, извинился и ушел в свой номер. Лифтом он не воспользовался. Я подумал, что величайший (или все же второй?) танцовщик мира перепрыгивает через четыре ступеньки за раз. Провели вместе час у станка, потом пошли в репетиционный класс. В окна КовентГардена вливался свет. В Тейте, у картины Тернера «Цепная гавань, 1828», он коснулся моего плеча. Позже, на Сэвил-роу, его заинтересовало, как мы будем выглядеть в костюмах и котелках. Продавец притворился сильно занятым. Я стянул с его шеи сантиметровую ленту и прошептал Эрику, что он должен измерить длину внутренней части моей ноги. Потом мы шли по городу в котелках, смеялись. В кинотеатре на Шафтсбери-авеню. В темноте. Высокий силуэт Эрика у окна «Савойя», снаружи дождь. Английский обувной мастер совершенно не таков, как я ожидал. Лысая голова, грязный пиджак, лицо, как у казака. Над его столом висит обрамленная фотография Марго. На фабрике нечем дышать, воняет воловьей кожей и разлитым по ведрам клеем. Но работа его великолепна. Он тратит часы на подготовку к изготовлению туфель, скрупулезно вникая в каждую деталь. Всего лишь надев его туфли, я, по-моему, получаю заряд энергии. (Сапожник с Казначейской мог бы кое-чему у него научиться.) После представления в гримерной Марго перегорает одна из лампочек над зеркалом. Она бросается к моей двери, пару раз стучит и приходит в отчаяние из-за того, что я не отвечаю. «Руди, милый, загадай желание!» (Марго очень суеверна. Иногда ей удается поймать падающую на щеку ресницу или лепесток стоящего в вазе цветка, и она ничуть не сомневается, что это изменит все вокруг.) В Эдинбурге выпал снег, я словно опять в Ленинграде. Кларинда и Оскар (под псевдонимом) пишут по заказу издательства историю моего побега, смешно, конечно, но только это людей и интересует. Они говорят, что такая книга поможет издательству в продаже других, что читатели хотят знать, как все было, как я бежал, бу-бу-бу. (А я даже дату не помню — вроде бы 17 июля, хотя какая разница?) Но я взялся помогать им и буду теперь балабонить о свободе. Их дом в Кенсингтоне просторен и тепл, они пригласили меня пожить у них месяцдругой. Она пообещала стирать мою одежду, кормить меня, ухаживать за мной, — почему бы и нет? Мне это ничего не стоит, а она все же культурнее, чем простая рабыня. По вечерам они любят слушать радиопьесы, очень английская черта. Заваривают чай, пекут булочки, разжигают камин. Я лежу на медвежьей шкуре. К ночи они подкладывают в камин новые поленья, готовят горячий шоколад. Кларинда любит слушать, как я играю на рояле. Говорит, что делаю я это блестяще (вранье, конечно, и даже она это понимает). Возможно, я стал играть лучше, но как мне хотелось бы заставить пальцы вытягиваться дальше. Быть своим собственным оркестром. Кларинда набрала журналов и сложила их в три стратегические стопки, накрыв каждую пьесой Ионеску. Я ощутил себя капризным ребенком, однако выпятил челюсть и ничего не сказал. В номере отеля полным-полно ассистентов, ламп, проводов, парикмахеров, лакеев с подносами. Гример шепнул мне, что Аведон, похоже, задумал театральное появление. Я смотрел на дверь, ждал. Меня, конечно, надули, и весьма умело. На самом деле он был уже там, среди своих ассистентов, наблюдал, присматривался ко мне, прикидывал, под какими углами будет снимать. Потом велел всем выйти, открыл шампанское. А когда я разделся, произнес: «Господи боже». Проснувшись утром, я едва с ума не сошел от страха. Гиллиан позвонила в его студию и пригрозила подать в суд, если он опубликует хоть одну фотографию. Аведон прислал мне телеграмму: «Я сохраню вашу тайну (большую)». Эрик вытянулся на спине и заснул. (Я вспомнил, как Анна сминала подушку, чтобы получился отпечаток Сергея.) Неровное дыхание, запах сигарет. Я поцеловал его, спящего, и начал укладываться. Водитель лимузина предпочел ехать не туннелем, а верхним ярусом моста. Сказал, что я увижу, как в городе загораются огни. Мой эскорт счел это неинтересным, они заявили, что мост старый, ветхий, но я крикнул: «Едем по долбаному мосту!» Водитель усмехнулся. Город похож на безумный бриллиант. Я высунул голову в окно. Один из сопровождавших все повторял, что сегодня у евреев праздник, поэтому окон горит меньше обычного. (Очередной жидовский невротик.) Я больше не смог выносить их трепотню и пересел вперед, к водителю. Велел ему поднять за нашими спинами стеклянную перегородку. Он слушал по радио Чарли Паркера. Сказал, что «Пташкой» Паркера зовут потому, что он не умеет стоять на земле обеими ногами. (Нижинский вообще отказывался спускаться на землю. Возможно, для каждого сумасшедшего воздух предпочтительнее.) Прохаживался взад-вперед у газетного киоска, смотрел, как люди покупают «Нью-Йорк таймс», и думал: я en l'air разошелся по миллионам рук. Фотограф поймал меня в совершенной позе. Саша! Тамара! Мама! Отец! Уфа! Ленинград! Слышите меня? Я приветствую вас с авеню Америк! Снег и слишком много машин. Шуба вызывает смешки и улыбки. Около театра «Аполло» меня узнает прохожая, собирается толпа. Кто-то говорит: «Покажи Сэмми Дэвиса!» Я влезаю на пожарный гидрант, демонстрирую пируэт, толпа ревет. На авеню Св. Николая возвращаюсь в такси. (Никто не верит мне, когда я говорю, что в России нет нищих.) На «Шоу Эда Салливана» выяснилось, что он не способен произнести мое имя. Балет никогда его не интересовал, он так и сказал. Однако он чистой воды джентльмен с совершенными манерами. Прическа — волосок к волоску, и каждый на своем месте. Сказал, что балет всегда доставлял радость Жаклин, поэтому он годами старался развить в себе искренний интерес к нему. Что, увидев меня и Марго по телевизору, полностью переменил свои взгляды (отъявленное вранье, разумеется, и довольно глупое). Отвел нас в Овальный кабинет. Прекрасно скроенный костюм, но галстук чуть ослаблен. Под конец обмена любезностями он, взглянув на мои ноги, сказал, что я — символ чистой политической отваги. Снаружи прогуливались по лужайке агенты секретной службы. В конце концов Жаклин принесла чай и он, извинившись, удалился. Провожая нас с Марго до вертолета, Жаклин взяла меня под руку и сказала, что надеется снова увидеть нас здесь, что она и муж очень высоко оценивают наше искусство. В вертолете мы сидели в благоговейном молчании, глядя, как уменьшаются на лужайке фигурки людей. (Я на миг представил себе, что бегу вверх по ленинградской лестнице, а за мной гонятся милиционеры.) «Ньюсуик»: Кажется, что вы перепахали свою душу, чтобы посеять семя вашего Альбрехта<a l:href="#n_22" type="note">[22]</a>. (приступ паники, мне представился отец на садовом участке) Прошу прощения? Танцуя Альбрехта, вы создаете совершенно новую личность. Я актер. Но вы безусловно больше, чем… Ох, прошу вас, не говорите больше глупостей. Я слышу, как она просыпается за стеной, у себя в номере. Иду поздороваться с ней. Она улыбается, начинает разминаться — вращает шеей, вытягивает ноги, все это в тщательно продуманной последовательности. Марго способна непринужденно перекрестить их за затылком и так продолжать беседу. Смешно — она твердит, что боится постареть. (Урок: Продолжай работать над подвижностью.) Обложки «Тайм» и «Ньюсуик», обе в одну неделю. Гиллиан в восторге. 22 ноября 1963. Под вечер с улицы начал доноситься плач, но до шести никто нам ничего не сказал. Марго попросила пианистку играть Баха, но и та была охвачена горем, пальцы ее дрожали над клавишами. Мы сидели молча, потом отправили Жаклин телеграмму. Наше выступление отменили. По улицам люди несли свечи. Метр «Русской чайной» попросил о минуте молчания, которое нарушил лишь какой-то дурак, сбивший со столика вилку. Письмо от Юлии, она развелась. Жить негде. Наша сраная страна. Еще двенадцать часов подготовки к «Раймонде». Странно, кордебалет так удивляется, когда я репетирую или провожу с ним занятия. Эти бездельники сидят в коридоре, курят вонючие сигареты, а мне хочется прогнать их пинками по задницам до самого министерства труда, если такое существует. Ленивые говнюки со слабыми ногами, неотработанной выворотностью, косными ступнями, их необходимо переменить, всех до одного. Тромбоны мычат как больные коровы, пианистка еще и хуже. Не говорю уж о рабочих сцены, которые грозят устроить забастовку, потому что в спектакле используются живые попугаи и их помет вываливается за кулисами из клеток. Несчастные ублюдки жалуются на то, что им приходится его выметать. Марго едва способна говорить, голос ее неуправляемо дрожит. Она сказала, что пуля ударила Тито в грудь и вышла из спины. В больнице Сток-Мандевилля нас после посещения Тито (он лежит в койке, молчит) провели по палатам. Четырнадцатилетняя девочка, парализованная от шеи и ниже, сказала, что часто воображает себя Марго и тогда ей удается подвигать ногами. Другая, очень красивая, восьмилетняя, нарисовала цветными карандашами, которые держала в зубах, картинку: я танцую в поле, а она наблюдает за мной, сидя на ветке покрытого цветами дерева. На обороте пронзенное стрелой сердце и наши с ней имена — Уна и Рудольф. Я сказал ей, что повешу картинку в моей гримерной. Девочка едва способна поворачивать голову, на губах ее пузырится пена, но глаза ярко-синие, и ей почти удается улыбаться. Она сказала, что многого не желает, но если когда-нибудь попадет на небеса, то первым делом станцует. (Какой-то фотограф снял меня, мудак, плачущим в коридоре.) Ходить Тито никогда больше не будет, значит. Марго придется выступать и дальше, чтобы оплачивать больничные счета. Конечно, она такая англичанка, что не видит в этом ни малейшей иронии. (Так не хочется говорить ей, что Тито получил по заслугам.) Когда мы вышли из больницы, она постояла, перебрасывая сумочку с одного плеча на другое, промокая платком глаза, а потом убежала назад, чтобы еще раз увидеть его. Перед премьерой пришла телеграмма от принцессы Грейс. Очень милая: «Merde!<a l:href="#n_23" type="note">[23]</a> С любовью. Г». Были и другие поздравления — от короля Норвегии, от принцессы Маргарет и проч. У меня в номере двадцать букетов. Дождь за окном кажется окрашенным в десятки цветов. Позвонил портье отеля — букет от Марго, все хорошо, ей жаль, что она не танцует. Здесь собралась вся Италия. Однако наличие славы не искупает огрехи моего исполнения роли. Без Марго па-де-де «Раймонды» выглядит ужасно, но и соло мое — ведро с говном. После спектакля Сполето показался мне лишившимся всей его магии, да и мысль об отельном номере подавляла меня. Я отменил обед, разогнал всех и провел ночь, прикидывая, как исправить совершенные мной за этот вечер ошибки. Утром рабочие сцены обнаружили меня спящим на оставленном ими брезенте. Принесли мне капучино и круассан. Я снова репетировал и таки нащупал характер. И на втором представлении танцевал так, что у самого волосы дыбом встали. Марго ждала меня в вестибюле. С конвертом в руке. Уже по лицу ее было понятно — что-то случилось. Консьерж смотрел в сторону, притворялся занятым. Очевидно, новость поступила раньше, телеграфом. Я было решил, что дело в Тито. Однако Марго сказала сквозь слезы: «Твой отец». Говорил по телефону с мамой, горе мешало ей находить слова. Позже: Рахманинов, 1 и 2 фортепьянные концерты; Зандерлинг и Ленинградский филармонический вернули меня в прежние дни. Отец — ботинки начищены, чисто выбритый, плащ висит на проволочных плечиках, грязь под ногтями. Эрик отменил Нью-Йорк. Главная печаль: отец ни разу не видел, как я танцую. Я сказал Гиллиан и Эрику: не будет ни горя, ни потоков слез. Мы открыли бутылку шампанского и выпили. Читал Солженицына, в переводе, на одной странице — недолгий проблеск света. И вдруг — ошеломившее меня желание воскресить отца. (Лежащее в кармане письмо Тамары ощущается мной, как рана.) У миланского кафе «Фило» юноша пел арию, которой я ни разу не слышал. Эрик спросил, что это, но юноша пожал плечами, сказал, что не знает, и продолжал выгружать из машины хлеб. Однако, взглянув мне в лицо, замер, а потом побежал за мной по улице, выкрикивая мое имя, и вручил свежий каравай. Эрик скормил хлеб голубям на площади, отпихивая их ногами, когда они подбирались слишком близко к нему. Щедрость Марго ко всем и каждому — кроме самой себя — поразительна. Разумеется, это высшее проявление ее доброты. Хлопоты с Тито страшно утомили ее. Тем не менее она ухитрилась собрать посылку для мамы и Тамары. (Меня пришибла мысль, что отцу ничего больше посылать не придется.) Меня она спросила только, какого цвета шарфы выбрать. Пришлось вспомнить, как они выглядят, особенно мама. Фотографии у меня стародавние. Марго сама упаковала вещи, посылка пойдет через финское посольство. *** На столе между окном и кроватью с пологом на четырех столбах стоит ваза с белыми лилиями. Море светится редкостной синевой. В окно задувает порывами свежий, прохладный ветер. Руди предугадал все ее желания: вид на океан, простыни, постиранные в лавандовой воде, горячий чай по утрам и полевые цветы на подносе. И комнату он ей отвел с окнами, глядящими на восток, зная, что Марго по душе любоваться восходом солнца. Вчера после полудня он специально для нее выписал с материка рояль. Вертолет прорезал синий простор небес и описал над островом два круга, выясняя поведение ветров. Подвешенный на тросах рояль, казалось, летел сам по себе. В ожидании его теннисный корт застелили мягкими матами, так что посадку инструмент совершил мягкую. Для того чтобы помочь ему встать на место, были наняты семеро островитян. Руди сам поймал его за одну из ножек, — Марго улыбнулась, представив, что рояль — это она, а Руди держит ее высоко в воздухе. Затея была сумасшедшая, инструмент ничего не стоило доставить по воде, но Руди захотел получить его мгновенно и слушать Марго не стал. Поначалу она, что случалось с ней редко, слегка рассердилась — все же такие траты, — но затем с удивлением обнаружила, что ее охватывает пронзительное чувство восторга. Руди был в рубашке с короткими рукавами. Он сильнее, чем те островитяне. Созданный винтами вертолета поток воздуха срывал с них фуражки. Потом Руди заплатил им и отпустил взмахом руки. Сам настроил инструмент и играл на нем до поздней ночи. Уже лежа в постели, Марго слышала, как плывут по воздуху ноты — высокие, сладкозвучные. И думала, что постоянно вести такую жизнь было бы нестерпимо, что она драгоценна именно своей необычностью. Ее пугала мысль о том, что ей сорок пять, а ему всего двадцать шесть и жизнь его пролетит так быстро. Иногда ей казалось, что она различает в движениях Руди всю историю татарской властности. А в другие времена — когда они гуляли по пляжу, придумывали танец, оттачивали поддержку — Руди подчинялся ей во всем, как-никак опытностью она весьма и весьма превосходила его. Она видела в окне рояль, стоявший посреди теннисного корта под покрытым каплями росы полотнищем пластика. Придется попозже пожурить Руди, упросить занести инструмент в дом, но сейчас это зрелище поражало ее сказочностью, неразделимостью — рояль и смятая теннисная сетка под его полированными ножками. Марго передвинулась к краю кровати и принялась разминаться, для начала осторожно, пока не дотянулась ладонями до ступней, а затем пальцы ее коснулись подошв, обнаружив на них мозоли. Она наполнила ванну горячей водой и, опустившись в нее, продраила ступни легкими круговыми движениями руки, сжимавшей кусочек пемзы. Потом осмотрела след комариного укуса на подъеме, коснулась маленькой красной припухлости, вышла из ванны и втерла в стопы травяной крем. Она и Руди репетировали предстоявшее выступление в Париже, и пальцы ее ног побаливали от настланного им в подвале виллы временного пола. Снова и снова проходясь ладонью от лодыжки до пальцев. Марго чувствовала, как притирание понемногу согревает ступню. Снаружи вздымались и опадали волны, здесь еле слышные, частый вельвет пенных гребней краснел в свете зари. Несколько морских птиц отлетали рикошетом, ударяясь о воздушные потоки, вдали поднимала желтые паруса яхта. Внезапно взгляд Марго зацепился за мелкую неправильность морского пейзажа — из моря выставилась рука. У Марго мгновенно пересохло в горле. Она затаила дыхание, но тут над водой поднялась вторая рука, сменив первую, и Марго с облегчением выдохнула — это Руди с потемневшими от воды волосами плавал в море. Она опустилась на кровать, расслабила мышцы и приступила к утреннему ритуалу растяжки: ухватилась за правую лодыжку, подняла ее высоко в воздух, закинула за голову, пристроив на шею. Отпустив ступню, пошевелила пальцами и проделала то же самое с левой, а затем, немного поерзав на кровати, села поустойчивее и чуть опустила ноги, ощущая лодыжками прохладу своих длинных волос. Вернув стопы на пол, она потянулась поперек кровати к телефону, чтобы позвонить Тито в больницу, сказать, что соскучилась по нему, что скоро вернется, чтобы ухаживать за ним, однако трубку в больнице не сняли. Марго подошла на слегка ослабевших после растяжки ногах к окну. Руди медленно поднимался из воды. Сначала появилась голова, потом плечи, грудь, узкая талия, пенис, оставшийся большим даже после купания в холодной воде, гигантские бедра, крепкие икры — Микеланджело, да и только. Марго много раз видела Руди голым — в его гримерной — и невозмутимым, словно ребенок, собирающийся забраться в ванну; она могла при желании составить подробную карту его тела. Танцуя с Руди, она каких только частей его тела не касалась. Ключиц, локтей, ушных мочек, чресл, поясницы, ступней. И все же подняла сейчас для проформы ладонь к губам, словно искупая этим жестом полное отсутствие удивления. Кожа его была ослепительно белой, почти светящейся. Резкие, словно вырезанные ножницами линии тела, — ничего, в меньшей мере похожего на Тито, она и представить себе не могла. В почти болезненном приливе удовольствия Марго смотрела, как он идет по берегу к росшей за скалами высокой траве, как попирает ее босыми ступнями. Потом услышала, как захлопал на ветру сдираемый с рояля пластиковый чехол, как пальцы Руди быстро пробежались по клавишам. Она залезла в постель, накрылась и притворилась спящей, когда он вошел с горячим чаем на подносе и сказал, чтобы разбудить ее: «Ты заспалась. Марго, вставай, пора репетировать». А после ухода Руди улыбнулась — не так, как на сцене, в улыбке ее не было ничего царственного, сдержанного — и снова взглянула на море, думая, что даже если у тебя ничего нет, ты всегда обладаешь воспоминаниями. *** «Космополитен»: «Самый красивый мужчина мира». Следует помнить, что лицо будет меняться, что тело уязвимо. И что с того? Наслаждайся мгновением. Самый красивый мужчина мира! Семидесятилетиям я буду сидеть у огня, разглядывать фотографии и плакать, ха! Кто-то прилепил к зеркалу гримерной обложку программки с пририсованными к моей физиономии сатанинскими рожками. Все бы ничего, но эта сволочь испортила мой карандаш для век, — наверное, та толстая сука уборщица, что ушла вчера зареванной. Мои поклонницы спят на холодной Флорал-стрит. Гиллиан наполнила несколько термосов горячим супом и уговорила меня составить ей компанию, вынести их из театра — это-де понравится публике. Когда мы вышли, наступила тишина, а потом кто-то тоненько взвизгнул и все словно с цепи сорвались. Подбежали, протягивая мне, чтобы я подписал, все что угодно — зонты, сумочки, носки, трусики. Гиллиан, разумеется, позаботилась о присутствии фотографов. Когда я уходил, одна девица попыталась вцепиться в мои причиндалы. (Может, мне теперь на хер вязаный носок надевать — для защиты!) Как балетмейстер он крадет буквально у всех, от греков до Фокина, Шекспира и так далее. Говорит: «В конце концов кто только не прикасается к кисти художника». Марго принимает его предложения и волшебно переиначивает их, хотя поначалу мне кажется, что я таскаю по сцене труп. Она каждый час звонит Тито. Он лишил ее свободы. (Теперь он никого больше ебать не может, вот и ебет душу Марго, ее жизнь.) Сердце рвется в Париж. Он словно медом намазан. (Сказать Клодет, пусть обставит новую квартиру, найдет кровать с пологом.) Пришло письмо, запечатанное красным воском. Поколебался немного, вдруг это уловка Советов. (От них всего можно ждать — пропитанного кислотой конверта и так далее.) Но печать была королевской, а короткое письмо написано от руки и очень аккуратно сложено. Я сказал моей экономке: «Вот черт, опять Ее Величество написала». Новый телохранитель (на неполный рабочий день) состоял когда-то в охране Черчилля. Говорит, что видел в Ялте Сталина. Попытался уверить меня, что Сталин был очень воспитанным человеком. (У меня в памяти словно поезд свистнул: госпиталь, я подглядываю из-за деревьев, как старухи моют солдат, — сколько столетий назад это было?) Нашел на одном из расставленных вдоль Сены лотков со старыми книгами текст Деррида. И там же — монографию о Марте Грэм. И то и другое побывало в воде, страницы обоих книжиц слиплись. Рассказал о них Теннесси Уильямсу (напившемуся на приеме у Дежё). он заявил, что это очевидная метафора, хоть и не объяснил почему, не мог, наверное. Изумился, услышав, что я читал его по-русски. Положил голову мне на плечо и пролепетал: «О, какое милое дитя». Он стал мне надоедать, да еще и пиджак мой коктейлем облил, и я велел ему поцеловать меня в жопу. Он ухмыльнулся и ответил, что был бы счастлив. Клэр принесла запись, на коробке которой корявым почерком выведено: «Rostropovich». Второй скрипичный концерт — его вторая часть довела меня до слез. Когда-то в Ленинграде я от большого ума сказал Юлии, что, если бы увидел Шостаковича сидящим под дождем, прошел бы мимо. Унюхал доносившийся из кухни Лакотта запах разложенной по тарелке редиски и сразу перенесся в прошлое. Поспешно ушел — к большому неудовольствию Лакотта. Он погрозил мне от двери пальцем. Проснулся, оттого что приснилась мама с накрытым белой тканью лицом. Возможно, Марго права, когда говорит, что я танцую так много — «слишком много», — чтобы не думать о доме. Так трудно рассказывать о маме. Когда я правильно излагаю факты, получается неправильное настроение, а при правильном настроении от фактов остаются рожки да ножки. «Она работала на оружейном заводе. Она торговала матрешками. Однажды за ней погнался волк». Иногда я забываю к середине интервью, что наговорил о ней в начале, и еще сильнее запутываюсь в выдумках. Невесть почему заявил австрийскому журналисту, что она работала швеей в Уфимском оперном театре. Время, когда я плохо к себе отношусь, неизбежнейшим образом совпадает с тем, когда я плохо танцую. В самые мрачные минуты я думаю, что лучшие мои выступления состоялись в Кировском. (Фантомное ощущение бедер Сизовой в ладонях.) Эрик столкнулся где-то со знакомым Рихтера, и тот рассказал, что, когда Прокофьев умер, в Москве не осталось в продаже цветов. Все были раскуплены для похорон Сталина. Рихтер сыграл на похоронах, а потом прошел через всю Москву, чтобы положить единственную сосновую ветку на могилу Прокофьева. (Прекрасно, но правда ли?) Мистер Нуриев, ваши движения словно бросают вызов представлениям о возможном. Невозможного не существует. К примеру, исполняя фуэте, вы следите за вашим телом? Нет. Почему? Потому что слишком занят танцем. Желание сделать журналистам приятное почти так же сильно во мне, как желание пособачиться с ними. И после интервью мое сердце переполняется желанием принести извинения. Подлинный ум должен обладать способностью принимать и критику, и хвалу, но он же написал в «Сетеди ревю», что в арабеске я слишком высоко держу руки, что мои движения выглядят раздутыми и неуправляемыми. Если я когда-нибудь снова повстречаю его, ему придется слишком высоко держать свои яйца — в глотке, — и посмотрим, кто из нас покажется раздутым и неуправляемым. Что касается Жака, это типичная для «Юманите» жопа с глазами, очередной социалистический байстрюк, не способный дня прожить без кровной мести. Говорит, что я слишком буквален. А чего он хочет — чтобы мои ноги выписывали символы, а хер сыпал метафорами? Я посоветовал бы ему сделать для его партии что-нибудь полезное — повеситься, к примеру, — но, боюсь, груз его жирной задницы переломит потолочное стропило и он полетит на пол. Паб в Воксхолле, с лестницы свисает на тонком шнуре моя огромная фотография. Спросил у бармена: это Есенин? — он не понял. Когда мы с Эриком усаживались за стойку, все, кто уже сидел у нее, замолкли. Бармен попросил меня подписать фотографию, что я и сделал, поперек груди, сорвав аплодисменты. Они весь вечер ждали какого-нибудь бесчинства, чего-то русского, нуриевского. Битья стаканов, сшибания бутылок со столиков. Я выпил четыре рюмки водки, потом взял Эрика за руку. И мы почти слышали, уходя, как все они застонали. В отеле меня ожидала очередная записка с угрозой смерти. Полицейские сказали, что буквы вырезаны из заголовков просоветской эмигрантской газеты. Кто они, эти засранцы? Неужели не понимают, что я им не какая-нибудь ебаная марионетка? (Марго говорит: не обращай внимания, самое правильное — вежливо улыбаться. «Выплескивай все на сцене», — говорит она. Мне не хватает духу сказать ей, что она несет херню. Кому-кому, а ей-то известно: все, что я делаю, уже спрыснуто моей кровью.) Тайное желание: дом у моря, дети на пляже, на скалах — камерный оркестр, весь мокрый от брызг огромных волн. Я сижу в шезлонге, пью белое вино, слушаю Баха, старею, хотя, конечно, и это быстро нагонит скуку. «Мудрость, оберегающая юношу от любви», Шарль Мейнье, 47 500 долларов. Вначале он предстает перед ней неприкрытым, выдающим свои подлинные чувства. Он остро сознает, как должен смотреть на нее, ничего не открывая и не скрывая. Играть в эмоциональную рулетку, быть привередливым, пока они не прорвутся друг к другу и не станут единым движением (нарастить па-де-де, расширить соло). В конечном счете его необходимо придумать заново, иначе получится не роль, а чистое говно, — он окажется картонной фигурой, безжизненной загадкой. Прочувствуй роль как игру его ума. Под конец герой должен корчиться от страданий и, сохраняя полную ясность разума, понимать, что все потеряно. Прекрасная репетиция! Решили освободить для себя вторую половину дня. Он должен оставаться за кулисами так долго, чтобы всем стало не по себе, а затем вырваться из потусторонности, напугать до полусмерти всех прозаичных зрителей. Она — выдерживать медленный темп. Поначалу она должна оставаться холодной. А он — согревать ее танцем. И всякий раз, как она избавляется от нового покрова, это должно выглядеть так, точно она еще на шаг приближается к той, кем станет в будущем. В конце концов ее похищают у него, уносят, духи движутся по диагональным линиям, подвижное V. Свет (лунный) никогда не достигает земли окончательно. Струнные должны звучать приглушенно, не позволяй музыке брать верх. «Совершенно очевидно, что Нуриева, если и когда он покинет сцену, ждет будущее балетмейстера». Журнал «Dance», декабрь 1966. Ха! «Он творит не исключительно для тела, он творит посредством тела». Эрик сказал, что мысли о маме становятся у меня все более неотвязными лишь потому, что я так далеко от нее. (Чья бы корова мычала, над ним самим так до сих пор и висит призрак седой стервы с викингами в родословной.) Я хлопнул дверцей машины и пошел через улицу поперек движения, и только тут до меня дошло, что я ни одной копенгагенской улицы не знаю. Вернулся и сел на переднее сиденье, рядом с водителем. Позже, забравшись ко мне в постель, Гамлет (как он не любит это прозвище!) признал свою ошибку Его так трудно разозлить, но, если все время молчать, он становится ненасытным. Плавание по озеру. Шампанское. Фейерверк. Женщина из Гамбурга, в ожерелье: «Вы — степной Рембо!» Маме опять отказали в выездной визе, но на сей раз мясники попросили подписать бумагу, отрицающую ее желание остаться на Западе. Эрик ждал в аэропорту, очки и шляпа — для маскировки. Через пару часов мы уже на танцевальной площадке. Юноша в белой шелковой рубашке и серебристых полуботинках на платформах. Ну да, Пиккадилли! Я вышел за ним на улицу. Копыта лошадей дерут безупречную траву парка — гости играют под дождем в поло. Эрик подбирается ко мне сзади, кладет голову на плечо, покусывает ухо. Обед (mousseline d'écrivisse, poussin rôti aux herbes, салат, purée из сельдерея), барон сурово взирает на нас. Я прошептал Эрику, что барон наверняка хороший наездник, но стек у него, скорее всего, обвислый. Эрик хохотал так, что забрызгал скатерть десертом. Ямочка на его шее. Мы задремали. На быстром катере к Галли. Эрик, Пабло, Джером, Кендзо, Марго, Гиллиан, Клэр и я. Марго весь уик-энд звонила Тито. Мы надумали вывезти с собой оркестр, но он оказался состоящим из бог знает какого сброда, и мы отослали «музыкантов», прилично им заплатив и позаимствовав у них инструменты. Играли до четырех, пока не пришлось затащить пианино, чтобы спасти его от росы, в рубку катера. (Эрик процитировал строки Гомера о сиренах. Шампанское рекой. Джером предложил мне заткнуть всем уши воском, а себя привязать к мачте Эрика!) Голый Пабло играл Шостаковича (плохо), его зад оставил на фортепьянном табурете мокрое пятно. Рано утром Эрик вышел посмотреть, как мы купаемся. Я доплыл под водой до скал, а там вынырнул и затаился. Он выкликал меня, выкликал и вскоре обезумел от испуга. Скакал по песку, звал на помощь. И минут через пять прыгнул, не сняв пижамы, в воду. А он просто ненавидит холодную воду. Проплыв несколько метров, увидел меня и обозвал по-голландски пиздой. (Теперь я знаю это слово на восьми языках!) Я сказал ему, что видел яркую звезду, плывшую по темному небу. Он ответил, что это, наверное, спутник следил за мной сверху, может, и русский. Ему хотелось придумать какую-нибудь месть, однако мысли замерзли у него в голове. Читали в постели письма Флобера из Египта. Снаружи билось море. С постельного столбика свисают трусы. Роскошный флаг. Стюардесса осталась, по-моему, недовольной, когда, сказав мне, чтобы я снял ноги в ботинках с сиденья, услышала в ответ, что это салон первого класса, — уж не предпочитает ли она, чтобы я положил ноги куда-то еще, на ее огромную немецкую корму, к примеру. 6 янв. Дал Марго новогоднее обещание: выкинуть из головы любые обязательства перед чем бы то ни было, кроме танца. Классы Валентины. Ее движения похожи на молящихся в церкви. Начинаешь испытывать в ее присутствии едва ли не робость. В классе все не сложилось, день оказался испорченным. Потом во время спектакля — слишком яркий свет, я больше обычного смотрел в пол, чтобы не слепило глаза, путался в ногах. Артур сказал своим высоким голосом: «У каждого бывают такие вечера». Кто-то бросил на сцену кусок стекла, чуть не попал мне в голову. (В такие минуты я себя ненавижу. Существование сумасшедшего гения утомительно.) На вечеринке Бэкон<a l:href="#n_27" type="note">[27]</a> спросил: почему именно танец? Я резко ответил: а почему живопись? Он затянулся сигаретой и сказал, что живопись — это язык и он отдал бы душу за то, чтобы научить ее говорить на нем. Да! *** Каждый вечер он ждет сигнала, разминается, сцепляет пальцы. На сцене Марго разматывает цепочку шене, скольжений, плие и замирает. Он притрагивается к левому уху на счастье, с миг пережидает наступившую тишину и вырывается из-за кулис, взлетает, он свободен. Музыка проникает в его мышцы, огни вращаются, он бросает гневный взгляд на дирижера, тот исправляет темп, и он продолжает танец, поначалу сдержанный, все движения точны и опрятны, они начинают сливаться в одно целое, его тело упруго, три jetés en tournant, филигранное приземление, он выстраивает роль, прекрасная музыка, а вот и виолончель. Свет меркнет, пластроны смазываются. Череда пируэтов. Ему легко, музыка лепит его тело, одно плечо находит другое. Правая ступня касается левого колена, высота, глубина, форма, контроль, поворот запястья, сгиб локтя, наклон шеи, ноты впиваются в артерии, сейчас он воспарит, усилие ног, какого не помнят их мышцы, последний нажим бедер, он словно вырастает, контуры его тела обретают собственную свободу, он взвивается в воздух, и небеса удерживают его. Зрители склоняются вперед, шеи вытянуты, рты приоткрыты. Он снижается, приземляется и бросается к ней, ветер свистит в ушах, он — размазанное пятно неукротимой энергии, летящее туда, где ждет, склонив голову, она. Он врастает перед нею в пол, она принимает его, он поднимает ее над собой, она легка, она всегда легка, его ладони избегают ободранных на репетиции ребер. Капля пота слетает, кружась, с его волос. Лицо прижато к ее бедру, к паху, к животу. Их сжигает один огонь, они — единое движение, держава единого тела. Он опускает ее, в зале кто-то ахает, так они там живые, французская публика, — хорошие зрители всегда французы, даже в Ливане, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Вене, Лондоне, всегда французы, — он впивает ее духи, ее пот, ее одобрение и убегает в левую кулису. Теперь ее черед править публикой, ее соло. Стоя в сумраке, он восстанавливает дыхание, промокает лицо, отирает пот, грудь его вздымается и опадает, наступает покой, о да, темнота — его друг. Он вступает в поднос с канифолью, несколько раз проводит по ней ступнями, чтобы усилить их сцепление с полом, ждет, когда стихнут заслуженные ею аплодисменты. Ну вот, бери их и держи, да покрепче, извергайся на сцену! Из-за кулис он вылетает по воздуху, четыре кабриоля, он летит, пока звук не нагоняет его, миг касания, мышечный рывок, и тело скользит по сцене, она в его власти, в беспредельной. Восемь идеальных entrechatdix, чудесно, публика притихла, нет больше ни тел, ни мыслей, ни сознаний, наверное, такой миг люди и называют Богом — когда везде и всюду открываются двери, ведущие к другим открытым дверям, ко всем, и не остается ничего, только открытые двери, ни петель, ни рам, ни косяков, ни порогов, ни теней, это моя душа, рожденная невесомой, рожденная вневременной, пружина часов лопнула, я лечу, я могу лететь всегда, — и гляжу во мглу ожерелий очков запонок пластронов и знаю, что все они принадлежат мне. Потом, в гримерных, они осыпают друг дружку преувеличенными претензиями — просто для того, чтобы поддержать в себе течение жизни. Ты сменила духи, ты слишком сильно потеешь, шене у тебя кошмарные, ты прозевал сигнал, ты застряла за кулисами, твои пируэты только ослу и впору, давай завтра станцуем лучше, — и вместе выходят через служебную дверь, рука в руке, улыбаясь, смеясь, их встречает толпа, цветы, крики, приглашения на вечеринки, они расписываются в книжечках для автографов, на программках, на туфельках, но, когда они уходят, танец еще сидит в их телах, и они ищут точку покоя, точку тишины, в которой нет ни времени, ни пространства, лишь чистота. *** У Сиднейского оперного толпа, возбужденная, шумная. Какие-то демонстранты вопят о Вьетнаме. Для отвода глаз мы с Марго посылаем лимузин вперед, а сами подъезжаем к главному входу. Поняв, кто мы, толпа выкрикивает приветствия. В артистическую заглянул Рок Хадсон<a l:href="#n_28" type="note">[28]</a> в двусмысленно расстегнутой рубашке. Сказал, что снимается где-то здесь в фильме, посидел, пока я гримировался, рядом. Упомянул о найденном им ресторане с лучшими устрицами в мире, сказал, что, если у меня будет желание, можно встретиться после спектакля. Я его потом заметил в зале. Он сидел отвернувшись от сцены и смотрел на кого-то в бинокль. Ресторанный счет Рок оплатил с большим неудовольствием: я привел с собой четырнадцать человек (ха!). Потом он ушел в уборную и вернулся оттуда сильно взбодрившимся. Переругались в музейном кафе по поводу мотивов Альбрехта. Фредерик считает, что интуиция оправдывает все. Навалил кучу говна и попытался подкрепить ее цитатой из Гете, который сказал, что после того, как художник избирает Природу своим предметом, ей уже ничто не принадлежит. Как будто это имеет хотя бы малое отношение к делу! Позже, в отеле «Собель», в самом конце Кингз-роуд (еще одной Кингз-роуд!), я плеснул в него кофе. Думаю, что, скорее всего, он просто испуган огромностью задачи. Послал ему телеграмму, увеличившую гостиничный счет. Такая изысканная хореография. (По крайности, полученный урок он усвоил.) Перед вторым актом показал нам фотографию зимородка, подбрасывающего в воздух заколотую им добычу, — и птица (живая), и рыба (мертвая) совершают в воздухе великолепный разворот. Персидский ковер ценой в восемнадцать тысяч франков. Увидев, как я любуюсь им, хозяин магазина сказал, что он мой — задаром. Эрик заметил, что я первым делом поставлю на него игрушечный поезд, что было не совсем верно. Хозяина такое унижение его роскошного подарка, кажется, встревожило, поэтому я сказал, что, когда в мою квартиру придет корреспондент «Вог», я непременно упомяну о его магазине. Он разулыбался и чинно вручил мне свою визитную карточку. Выйдя на улицу, я бросил ее в канаву, а Эрик, заметивший, что хозяин наблюдает за нами в окно, пришел в ужас. Сидевшая в джакузи женщина выразила недовольство моими ступнями, сказав, что они растрескались, что на них видны открытые раны, что мне нельзя купаться вместе с другими. Я сказал ей, кто я, она натянуто улыбнулась, села в воде и вскоре ушла. Беккет у стойки кафе. Приветственно покивал. Похоже, он наливает кофе в коньяк, а не наоборот. Кто-то сказал, что если я выкурю сигарету с марихуаной и меня поведет, то даже Брижит Бардо, глядишь, и развеселится. Однако меня и это не заинтересовало. Зачем мне терять разум — и еще того хуже, тело? Дома поискал прибежища в Рихтере. Он проказлив. Говорят, он может растягивать пальцы до двенадцати клавиш. Марго порвала связку. Энтони спросил, как она себя чувствует. «Боюсь, мне немного больно». Поиски замены. Эвелин было недвусмысленно сказано, что артистка она дерьмовая, что в движениях ее слишком много расчета, что если она хочет стать достойной Бэзила, да и вообще танцевать, ей следует научиться выполнять хотя бы наполовину пристойный grand jeté. Она разминалась целый час, затем последовала демонстрация буррэ. Прыжок у нее высокий, спина гибка настолько, что Эвелин достает носом до икр, — кажется, что лезвие ножниц сталкивается с их же кружком для большого пальца. Впечатление такое, что костей у нее попросту нет. Она ударяет ногой о ногу с чудесной силой. Мне оставалось только аплодировать. Наконец она подняла с пола сумочку (набитую барбитуратами?) и ушла. Шарф она перекинула через плечо с таким изяществом, что я предложил ей пожизненное партнерство, но дверь лифта уже закрывалась, да и ладно. (Возможно, я действительно почувствовал к ней что-то, однако истина состоит в том, что мы с ней смотрелись бы как яблоко с апельсином.) Звонок от Жильбера. С намеком на самоубийство. «Если ты не приедешь поскорее. Руди, я оставлю просвет между полом и моими ногами». Жена его, похоже, слегла от расстройства. (Сказал Нинет, что я, татарин, провел не одно столетие, созерцая просветы между полом и ногами. Нинет выпалила, что она, ирландка, уже провела в воздухе сотни лет.) Миссис Годсток почти точная копия мадам Б. за тем исключением, что танцевала когдато с Баланчиным и держит в холодильнике свои старые балетные туфли, как будто собирается когда-нибудь снова выйти на сцену. В восемь утра, еще до открытия антикварных магазинов, свезла меня на Мэдисон-авеню. Пообещала купить все, что я захочу, и даже отправить покупку в Париж самолетом, а не по воде. Я выбрал в магазине на Шестьдесят третьей русское библиотечное кресло. Стоило оно, наверное, раза в четыре дороже, чем в Советах. Под вечер пришел конверт с подтверждением покупки. Что за идиотическая пизда! Звонила восемь раз за три дня, пока я не воспользовался телефоном-автоматом, который висит в коридоре рядом с репетиционной, и не уведомил ее, говоря с французским акцентом, что мсье Нуриев украл ее белого пуделя, чтобы зажарить его в масле и покормить артистов кордебалета, — они разорились все до одного и голодают. (Марго хохотала до икоты.) Немного позже я сдуру пустил кресло на растопку. Позвонил миссис Годсток, сообщить, что у меня упала с полки коробка с книгами и сломала креслу ножки. Она вздохнула, сказала, что не настолько наивна, но ничего страшного, она способна понимать артистические порывы. Правда такова: я связываю их по рукам и ногам, запираю калитку и ухожу, хохоча. Не очень гуманная, но правда. Еще один голос твердит: да пошли они все на хер, денег у них гораздо больше, чем чувств. Снова звонок от Жильбера. И снова о самоубийстве. Мелькнула мысль: вернуться в Париж, влудить ему и ссудить веревку. Марго так рада выздоровлению, она все улыбалась самой себе и говорила о том, какой теплой была ночь, а я углядел в первом ряду старика, Антонио Бертолуччи. По поддону с канифолью полз одуревший таракан (удивляться нечего, это же НьюЙорк). Я пришиб его запасной пуантой Марго. Оркестр как раз настраивался и заглушил большую часть ее воплей. И все же, когда я пропихнул покойника под занавес, поближе к контрабасам, она рассмеялась. Доктор, Гийом, сказал, что это глупо и опасно, однако я все равно танцевал, несмотря на жар. Трудно поверить, но даже рабочие сцены прервали партию в покер, чтобы посмотреть мое соло, — думали, полагаю, что я свалюсь, а я танцевал лучше, чем когдалибо, и чувствовал, как жар выходит из меня куда-то вверх. После спектакля температура оказалась почти нормальной. Гийом стоял рядом со мной, сбитый с толку. Рабочие принесли мне пакет со льдом. Воспаление легких. Эрик натирает мне грудь гусиным жиром. Через два дня все как рукой сняло. Голос мамы по телефону старый, печальный, не повеселевший даже после моего рассказа о гусином жире. Она кашляла. Потом пошел побродить над береговым обрывом Мендосино. Тюлени выпрыгивали из воды, прорезая воздух. (Вечером позвонил Сол — сказать, что он почти удвоил мои деньги на рынке золота. Он принял мое молчание за радость.) Вначале Эрик танцевал, как три ведра с говном, но затем сплел и расплел ноги в воздухе — прекрасно, ничуть не утратив четкости движений, — и я подумал: «У каждого из нас свои секреты, верно?» Перед entrechat huit (обращенным, на спуске) он на секунду завис в воздухе. Великолепно. Я чувствовал, как напряглась, вытянув шеи, публика. (Судить о качестве работы можно по тому; что она делает с публикой.) Я первый вскочил на ноги, чтобы потребовать биса. И весь зал последовал моему примеру. Эрик улыбнулся, взял Виолетту за руку, они вместе поклонились. В гримерной он слушал Первый концерт Листа — Рихтер, Кондрашин и ЛСО. Мы пили «Шато д'икем». Прекрасный получился вечер, впрочем, сняв туфли, Эрик болезненно поморщился и стал с силой растирать ступни, а потом сказал, что, похоже, у него треснул после особенно высокого sauté палец. (Лист однажды играл с небольшой трещиной в левой руке и говорил потом, что буквально чувствовал, как ноты перепрыгивают с кости на кость.) Ни перелома, ни трещины у него не нашли, однако больничный врач сказал Эрику, что ступни свои он погубил и в старости ему будет трудно ходить. Эрик пожал плечами, усмехнулся: «Ладно, буду передвигаться, исполняя буррэ». Эрик говорит: после выступлений ему все чаще кажется, что он куда-то ушел от себя. Сидит один в гримерке, усталый, так и не выйдя из роли. Переодевается, смотрится в зеркало и видит лишь чье-то отражение. Приходится вглядываться долгое время, прежде чем он узнает старого знакомого — себя. Только тогда он покидает театр. Набор редких башкирских фигурок из дерева: 8000 франков. Мысль о том, как они сидят за столом в Уфе, — хлеб, борщ, графинчик водки, мама штопает свой синий халат, Тамара возвращается с базара. Моя вина огромна, но что я могу сделать? Когда Елена (как она прекрасна) только-только появилась во Франции, то жила она тем, что шила подвенечные платья по заказу буржуйских семей, приехавших до нее. Потом она рассказала, как добиралась на судне от Киева до Константинополя, с ней плыло очень много людей, бежавших из дома с самым дорогим, что у них было, с нелепыми вещами — лампами, ножичками для вскрытия конвертов, фамильными гербами. Большую часть пути она на берег не сходила, а из-за дурной погоды плавание растянулось на многие дни, и она сказала — совершенно чудесно, — что с тех пор ощущает движение воды во всем, особенно в истории и в скрипках. Он светловолос, худощав, молод, ребячлив. Иногда такая красота заставляет меня приглядываться к себе, хоть я и ничего не боюсь, но танцовщик он дерьмовый, словно свинцом обвешанный. Когда его (как и ожидалось) не приняли даже в кордебалет, он забился в истерике. Я подумал, не утешить ли его еще разок, но, что бы ни говорила Клодет, по жизни меня ведет вовсе не пенис. Ну, не всегда! Как заставить его понять, что ему требуется больше честолюбия, что место в кордебалете, положение молекулы воздуха в барабане, приговоренной издавать малый шум в малом пространстве, — это не цель? Он сидел, с упавшими на глаза волосами — несомненное подражание. Я обещал ему помощь. В репетиционной его пришлось убеждать в важности медленного адажио, в необходимости контролировать пол, но и сохранять четкую позу. Он не слушал, пока я не влез на подоконник и не спрыгнул на замерзшую землю. (Ненавижу линолеум.) Я смотрел, как он раз за разом ошибался. Ну что тут поделаешь? В его душе нет ни соли, ни перца. Наконец он заявил: «Я устал». Я ответил, что если он сейчас уйдет, то обрубит ветку, на которой сидит, однако он все равно ушел, связав шнурки туфель и повесив их на палец. Он хочет написать мою биографию, но что мне ему сказать? — он говно, от него несет чесноком, у него слишком много сала под поясным ремнем, чахлый умишко, и место в Музее жоп с глазами за ним уже закреплено, несомненно. Я объяснил ему все это (!) и услышал в ответ, что я производил бы намного лучшее впечатление, если бы был поскромнее и умел как следует слушать. Я ответил, что да, действительно, я тоже жду не дождусь, когда наконец умру. (Гиллиан говорит, что моя манера материться на английском французском татарском русском немецком и так далее распространяется, точно вирус.) Пошел с письмом Юлии в Тюильри, посидел на скамье. Письмо много раз раскрывали и складывали, где оно только не побывало: пришло в Лондон на адрес Марго, оттуда отправилось в Париж, в посольство Австрии, а из него — к Гиллиан. Почерк у Юлии великолепный, петлистый. Она не один год собиралась написать мне, но по разным причинам, ни одна из которых теперь уже не существенна, откладывала. Отца Юлии нашли мертвым в его уфимском доме. Должно быть, Сергей знал, что его ожидает последнее путешествие, поскольку был в шляпе, а он никогда ее дома не надевал. В одной руке перо, другая прижимала к груди записную книжку. Он оставил ей письмо: «Какое бы одиночество ни испытывали мы в этом мире, оно наверняка объяснится, когда мы уже не будем одиноки». Он написал, что совсем не боится смерти, его ничто не пугает, да и с чего бы? — он же вот-вот соединится с Анной, которую любил всегда, даже в мгновения самого страшного мрака. Я сижу на скамье, солнце бьет в меня. Безмерная жалость. День закончился Рихтером: Прокофьев, фортепьянная соната № 2, третья часть — анданте, Прага. Какое настроение должно было владеть Рихтером, чтобы он мог поднести человечеству подобный подарок? Бог, если он существует, наверняка заглядывает на мою новую вирджинскую ферму. По утрам воздух прохладен и свеж настолько, что на всех нападает голод. Скачут и ржут кони. Свет густ и желт, деревья стары, сучковаты. (Совсем не такой представлял я себе Америку в юности.) Отправился на верховую прогулку. Гнедая кобылица взбрыкнула и встала, утвердив одну заднюю ногу за другой, почти как в арабеске, а затем резко опустила голову. Грива мазнула меня по лицу. Невесть почему я назвал ее Юлией. Сильно перебрал на вечеринке. Меня вдруг поразила мысль, что в жизни у каждого есть двойник, кого ни возьми. (Возможно, ее родили внезапно навалившиеся на меня трудности.) Поозиравшись, я увидел стоявшего у буфета Сергея, только что без шляпы. Он разговаривал с Тамарой (другое дело, что она никогда так хорошо не одевалась). В углу сидел отец. Я поискал маму и нашел отдаленно похожую женщину — старинную колорадскую приятельницу Ли, правда, у мамы сейчас, наверное, больше седых волос. Старая полячка напомнила мне Анну. (Жутковатые переправы через Стикс — тудаобратно.) Когда я увидел, что двойник Сергея направляется к Анне, у меня на загривке вздыбились волосы. Теперь он был в шляпе и с переброшенным через руку плащом. Поискав себя, я понял, что такого здесь нет. В гримерке: ажник кило черноморской икры, двенадцать букетов, один ― из дюжины лилий. Сергей, старина, я думал о тебе. Онассис нанял двух юношей, чтобы они стирали белые брюки, белые рубашки, белые шляпы, белые носки, белое белье, белые жилеты, белое все. Молодой грек улыбнулся мне на палубе, сказал, что припас для меня личный подарок на день рождения, ему никак не верится, что мне уже двадцать девять. Когда поздравления и тосты закончились, я извинился и сошел вниз. Юноша ждал меня в конце коридора, в одной рубашке, с сигаретами, засунутыми в подвернутые рукава. Выяснить у Сола, почему я должен платить налоги, когда моя страна — чемодан? Во время антракта «Волос» в Порт-Сен-Мартен<a l:href="#n_29" type="note">[29]</a> она наклонилась ко мне и небрежно спросила, слышал ли я о Жильбере. Он заткнул выхлопную трубу машины парой моих старых носков и оставил двигатель включенным. Жена обнаружила его в гараже — Моцарт на полную громкость и пустой пузырек из-под снотворных таблеток под боком. Жак заявил, что отдал бы коммунистическому аду предпочтение перед капиталистическим: у коммунистов наверняка происходили бы перебои с топливом. Немного позже он подошел ко мне с идеей балета о Берлинской стене. Стену, уверяет он, построили за один день (это правда?). Упавшего в раствор русского каменщика даже вытаскивать не стали, кости его и теперь крепят кладку. Возлюбленная каменщика, рассказывал он, назовем ее Катериной, будет идти вдоль стены, ощупывая кирпич за кирпичом, надеясь встретиться с духом любимого. Потом она, вопреки своим здравым инстинктам, влюбится в отделенного от нее стеной американского солдата. Но, чтобы попасть к нему, нужно пробиться сквозь останки ее мертвого любовника. (Станцевать стену и ужас по обеим ее сторонам.) В конце молодой американец попробует перебраться к ней, и его застрелят на самом верху стены. (Падать со стены мертвым не буду.) Идея чудовищная, но оба мы были пьяны. Ходят слухи, что Саша открыл в Ленинграде юного гения. Эрик сказал, что я побледнел. (Что за херня!) Так или иначе, если этот гений приедет на Запад, он лишь вдохновит меня на великие дела. Прежде чем умереть, говорит Марго, она попросит повторить в ее воображении одно совершенное выступление, одно, столь изумительное и прекрасное, что она сможет пережить заново — мысленно — каждое его па. Какое именно, Марго не сказала, может быть, оно еще впереди. Пока, по ее словам, она может выбрать одно из восьми-десяти. Что до меня, по крайней мере одно будет связано с Кировским. Мои ноги и сейчас ощущают наклон его сцены. В сновидениях я стою босиком в канифольном поддоне. *** Она сидит в затемненном гостиничном номере, входит молодая женщина, раздергивает шторы. «Добрый вечер, — говорит женщина, — к вам пришли». И ставит на столик вазу со свежесрезанными цветами, а Марго ждет начала нашествия. За окном раскинулся другой город — небо, свет, стекло, правда, она не может толком припомнить, какой именно. Лодыжка зажила, хотя повязку Марго еще носит. Час-другой назад она разговаривала по телефону с Тито, снова сказавшим, что ей пора выйти в отставку, прошло три с половиной десятка лет, она может уже получить покой, вернуться в Панаму, на ранчо. Тито умелец заговаривать зубы. Ходок Тито. Тито, мужчина, которого она обожает, разъезжает теперь по дому в инвалидной коляске, способный лишь поводить туда-сюда глазами и помахивать рукой. Она вспоминает, как стояла неделю назад у подножия лестницы и Тито сказал, что любит ее по-прежнему. Когда она ответила, что тоже любит его, ей показалось, что с лица Тито опали все наслоения, что она и муж всю жизнь проиграли в салки. В постели Марго уложила его так, чтобы прижиматься к нему щекой. Заснуть ей не удалось, она поднялась, постояла у двери, слушая его хриплое дыхание, и поймала себя на том, что ее трогают очертания его тела. Она рассказала Руди, как смотрела на спящего Тито, он понял ее, потому что знает, как тиха и уязвима бывает Марго — во времена вроде нынешнего, когда Руди добр к ней, оберегает ее и им хорошо танцуется. В номер начинают набиваться импресарио, рекламные агенты, журналисты. Короткие разговоры, изысканные и добродушные. Впрочем, час спустя Марго объявляет, что устала, — большую часть утра она провела с Руди в классе — и, когда номер пустеет, она откидывает с постели покрывало, чтобы вздремнуть. Сны ее безжалостны и пронизаны Тито, она толкает его коляску поперек реки, но течение слишком сильно, и коляска застревает. Сирена будит ее, теперь она вспоминает: Ванкувер, конец лета. Тут-то из соседнего номера до нее и доносятся звуки, издаваемые Руди и еще каким-то мужчиной, звуки любви, пугающие, неистовые, интимные. Марго теряется, обычно они смежных номеров не занимают, это одно из их правил; она включает телевизор, погромче. Сначала Вьетнам. Потом мультфильм. Она жмет на кнопки, находит мыльную оперу, — женщина легко пересекает комнату, чтобы влепить пощечину другой женщине. Пауза, стон за стеной, а следом рекламная песенка. В ванной Марго пускает горячую воду, сыплет в нее толченые травы. В последние недели телу ее пришлось тяжко трудиться, да и раньше крайностей тоже хватало. Совершенное над ним насилие сказывается в обычных, повседневных жестах Марго, в том, как она смотрит на наручные часики, как подносит вилку ко рту. Она понимает, насколько это необычно — то, что тело делает с разумом, а разум с телом: взаимные заверения, что все в порядке, все под контролем. Случаются дни, когда она остро сознает, что тело ее обратилось в собственное кладбище: огрубелые ступни, головные боли оттого, что волосы столько лет приходилось туго зачесывать назад, искореженные колени — и все же, знай Марго в юности, как сложится ее жизнь, это ее не остановило бы, она все равно стала бы танцевать. Она садится в воду, опускает затылок на край ванны. Звуки за стенкой принимают новое обличье, приглушаются и все же усиливаются, становятся из-за отсутствия ясности более настырными. Марго засовывает в каждое ухо по клочку ваты, голоса смолкают. Многие годы назад Тито перед тем, как лечь с ней в постель, непременно распахивал окна. Немного погодя она просыпается — за дверью ванной кто-то выкрикивает ее имя: «Марго! Марго! Марго!» Она открывает глаза, садится, вода вокруг покрывается рябью. Учуяв запах сигаретного дыма, она мигом понимает, кто там кричит. Вынув из ушей вату, она говорит: «Я всего лишь вернулась в мои лучшие годы, Эрик. Замечталась». Но в ванную входит не Эрик, а Руди, держа наготове раскрытый халат. Она встает, Руди накидывает халат ей на плечи, целует ее в лоб. За ним стоит и курит Эрик. Марго ощущает прилив теплоты, эти двое прекрасных мужчин балуют ее. — Мы позвонили, — говорит Эрик, сильно затягиваясь сигаретой, — никто не ответил. Руди испугался, что ты утонула. *** Джаггер попытался втолковать мне, что, наблюдая за моим танцем, он испытывает ощущение нереальности — ему не хочется ни бухать, ни играть на гитаре, не хочется ничего. (Когда Марианна уводила его, я услышал скрип у него в паху.) Продавец взглянул только раз, всплеснул руками и сказал, что у него есть пара красных дренажных труб, которые идеально мне подойдут. В дискотеке вращаются светильники. Мы занимаем кабинку, заказываем огромную бутылку шампанского, и как же мы хохочем! Лара смешнее всех. Она все понимает про Эрика и тем не менее сообщает мне, что мои губы чувственны до безответственности! Я отвечаю, что женюсь на ней. Ее анекдот о французской медсестре: «Повернитесь на живот, мсье, я должна заколоть вас». А затем, когда остальные уходят танцевать, она перегибается через стол так, что ее длинные волосы падают мне на пах, и щекочет мои яйца — у всех на виду! Дед ее родился в Москве, но успел эмигрировать еще до революции и сколотить состояние, продавая, сказала она, газетные вырезки. (Сумасшедшая страна.) Теперь ей принадлежат четыре дома и шесть, как ни странно, плавательных бассейнов. Она прошептала, что обожает купаться голышом, а то я сам не догадался. Напилась она до того, что поделилась со мной идеей голого балета — «Орфей опадает» (!), — занавес ползет вверх, нежные виолончели, мягкий лунный свет, а затем отовсюду выступают качающиеся пенисы. Я сказал, что станцевал бы в нем, да не хочу, чтобы мне бока ободрали. А когда объяснил шутку (глупышка), она облила шампанским лиф своего платья. Она говорит, что жизнь — это хлеб, да, но секс — его закваска (самое малое). В двери появилась Роза-Мария. Я мгновенно узнал ее. Красное атласное платье, белая роза в волосах. Эрик, когда она, раскрыв объятия, побежала ко мне через зал, пихнул меня локтем. Я закружил ее в воздухе, она зацепилась ногой за скатерть, но с совершенной грацией высвободилась, а потом поцеловала меня. Все смотрели на нас, когда мы уходили на веранду, особенно Эрик. Теплая ночь, цикады. «Расскажи мне все», — попросил я. Но ей хотелось говорить обо мне, о моем успехе, о прошедших годах. Я принялся упрашивать ее, и после долгих уговоров она рассказала, что, вернувшись в 59-м в Чили, вышла замуж за молодого журналиста, коммуниста, он занялся политикой, успешно, но погиб в автомобильной катастрофе. РозаМария перебралась в Мехико, вот, собственно, и все. Она танцевала шесть лет, пока ее не подвели лодыжки. Сказала, что хотела бы станцевать со мной, всего один раз, но ей хватает ума понимать, что с моей стороны это было бы всего лишь проявлением снисходительности. Появился Эрик с тремя бокалами шампанского, мы выпили друг за друга. Потом РозуМарию изловил симпатичный мексиканец, писатель, седой, словно обнимавший ее взглядом. Мы попрощались, она смахнула слезу. У него хриплый баритон, грубое лицо, волосы падают на глаза. Он проснулся, а я никак не мог припомнить его имя, хотя сказанное им о том, что ему не понять, как можно вести такую напряженную жизнь, помнил. Я провел день, втыкая ему, репетируя, втыкая, танцуя в спектакле и снова втыкая (один раз во время антракта). Он вылез из постели, ликующий, заварил мне чаю, пять кусков сахара, наполнил чуть ли не кипятком ванну на когтистых лапах, с блестящими медными кранами. Сидел на ее краю, сыпал в воду ароматические соли. Точность движений. После ванны я сразу ушел, имени так и не вспомнив. Эрик оставил у портье отеля записку: «Ты дерьмо» — сильно дрожавшей рукой. Вы сожалеете о чем-нибудь, мсье Нуриев? В конечном счете я не стал бы отказываться ни от каких моих слов и поступков. То и дело оглядываясь назад, можно свалиться с лестницы. Очень философично. Я умею читать. Идущие по Пятой авеню люди повернули, все как один, головы, точно подсолнухи в поле. Уорхол, воскликнув: «Черт!» — остановил машину. Это был «частник», цену, которую он запросил, Уорхол счел непомерной. Водитель сплюнул в окошко, чуть-чуть промазав мимо туфель Уорхола. Энди — напыщенная жопа, хоть он и обещает когданибудь нарисовать меня. В его офисе обнаружилась целая коробка выпечки «Эротической булочной». Он сунул мне в руки пончик и потянулся к поляроиду. Пришлось отбирать у него аппарат. Скорее всего, он продал бы тысячи копий этого снимка. Он бегал в своих ярко-зеленых штанах по офису, увертываясь от меня и дико визжа. В итоге мы оказались в задней комнате с расставленными по полу огромными чернобелыми игральными костями. На каждой грани стояло по одному слову. У первого набора: «Ты Я Они Мы Нас Джокер». У второго: «Ебать Сосать Лобзать Вставлять Дрочить Джокер». Цель игры — получить, бросив кости, наиболее осмысленное сочетание. «Мы Вставлять». «Ты Сосать». «Они Лобзать». Выбросивший джокера может сделать все, что ему взбредет в голову. Уорхол называет это «человечьим покером». По его словам, число сочетаний бесконечно, но для игры требуется самое малое восемь человек, иначе получается скучно. Я сказал, что ему следует сделать из этой игры балет. Он завопил: «Точно, точно!» — и нацарапал что-то в записной книжке. Скорее всего, говнюк вставит это в фильм (не сославшись на меня). Звук моей оплеухи пронесся по всей галерее и вылетел на Пятую авеню. Ну, в конце концов эта дура сама полезла ко мне, требуя автографа, пока я пытался разглядеть картину. Владелец галереи принял ее сторону, но я стоял на своем. Ладонь потом минут пять зудела. По правде сказать, я очень хотел извиниться, но не смог. Гиллиан сказала, что пора бы мне вынуть из жопы тотемный столб и повзрослеть. Я тут же ее уволил, и она спросила: «Что, опять?» Она теперь красит ногти в ярко-красный цвет. По счастью, пострадавшая от меня девица оказалась начинающей балериной, доводить дело до суда она не хочет, опасаясь за свою карьеру, однако Гиллиан упрямо твердит, что нам необходимо принять меры на случай, если эта история попадет в газеты. Сценическая конструкция предложена такая: Когда я выпрыгиваю изо рта, требуются шестеро, чтобы поймать меня, не дать грохнуться об пол. «Пост» написала, что это самый поразительный выход на сцену, какой когда-либо видел балет. (Херня, разумеется.) Какой-то козел сфотографировал меня — спина согнута, тело враскоряку. Но публика ревет от восторга. (Присутствовали: Полански, Тейт, Хепберн, Хендрикс.) Отзывы хорошие, если не считать Клинта, назвавшего все болезненной выдумкой. (Жопа.) В разделе светской хроники напечатана статья обо мне и Хендриксе, с фотографией. «Пируэт Руди и Джими». Ногти у него почернели (возможно, старые кровоизлияния) от слишком яростной игры на гитаре. В клубе он скрылся в облаке марихуанового дыма, но потом появился среди танцевавших. Вокруг меня водила хоровод дюжина баб. Высокий черный парень в кожаной рубашке и башмаках мотоциклиста вытащил нас во внутренний двор, и началось веселье. Отпраздновал день рождения только для того, чтобы забыть о нем. Тридцать один год. Марго купила прекрасный хрустальный кубок, Эрик подарил часы от «Гуччи». А я только одного и хотел — погулять по пляжу. Звезды над Сент-Бартом казались почти такими же яркими, как над Уфой, когда я столетия назад ловил зимой рыбу. Сапоги из леопардовой шкуры! До бедер! А-ля Твигги! В театре сказали, что они упоительно порочны. Появившись в «Ле Бар», я вынужден был пройти сквозь строй стояков. Углядел там паренька, казавшегося двумя людьми в одном, — Янусом, справа прекрасным, слева обезображенным шрамом. Утром он все норовил повернуться ко мне красивой стороной, и я его выставил. Мама сказала, что в Уфе выпал снег, заглушивший все звуки. Тамара говорит, что хочет понять меня, мою жизнь, но она такая дура, где уж ей меня понять? Так ведь и никто не понимает. Эрик жалуется, что я с каждым днем несу все более несусветную чушь. Как будто он ее не несет. Говорит, что мне следует просто делать то единственное, что я умею, — работать в моем священном пространстве, на сцене. Моя мысль о том, что танец улучшает мир, ему противна. «Сентиментальщина», — говорит он. Я пытаюсь сказать ему нечто о красоте, но Эрик (который теперь тратит время на то, чтобы смотреть новости из Вьетнама и Камбоджи) говорит, что танец ничего не меняет ни для монаха, который кончает с собой самосожжением, ни для фотографа, который смотрит на него через объектив камеры. «Вот ты сжег бы себя ради чего-то, во что веришь?» — спросил он. А я спросил, стал бы он щелкать затвором, если бы горел я. Он не сразу, но все же ответил: «Нет, конечно». Мы переругивались, пока не зазвонил будильник. Я сказал, что давно уже сжигаю себя, неужели он этого не понял? Он вздохнул, повернулся ко мне спиной и заявил, что ему плохо, он устал от всего, ему нужен всего-навсего коттедж в Дании, у моря, он сидел бы там, курил и играл на рояле. Я хлопнул дверью и сказал, чтобы он сам себе вставил. Он крикнул сквозь дверь: «Да, может, оно и предпочтительней». Я ответил, что бисов от него наверняка не потребуют. Лед в пакетиках не замерз, английская соль куда-то пропала. Захотелось выбросить холодильничек в окно. Только толпа оравших внизу поклонников меня и остановила. Марго продолжает грозить уходом. Она хорошо понимает, насколько сильна, к примеру, Беттина, да и Джойс тоже, даже Алессандра, а может, и Элеанор. И все-таки каждая партнерша неизбежно возвращает меня к Марго, к ее магнетизму. Сказала по телефону, что разрывается на части. С одной стороны, говорит Марго, она нужна Тито. С другой — самой ей нужны деньги. (А еще она боится увядания.) Эрик прав, хоть я и наорал на него и запустил цветочным горшком, только-только не попав ему в голову. Наверное, я, да, танцевал ужасно. Блядь! Впрочем, новый массажист поставит меня на ноги. Уверяет, что в теле существуют спусковые зоны, из которых он может убрать напряжение, разогнав его по другим участкам тела, а там оно рассосется само собой. (И точно, на пляже, после четырнадцати дней и шести стран, я все-таки расслабился.) Таких сильных рук, как у Эмилио, я еще не встречал. Начинаю проникаться ненавистью к стоячим овациям в ресторанах, какая инфантильность. Виктор безумен, вульгарен и мил (шелковый халат, страусовые перья), ни с кем мне не бывает так весело. Темой устроенной им вечеринки был «Нуриев». По его словам, стилисты всего Нью-Йорка завалены работой, даже Дайане Росс пришлось, чтобы сделать прическу, дать на лапу. (Она потом сказала мне, что я сам по себе божество.) Пьяный Квентин Крисп прошептал мне на ухо: «Я слишком, слишком мужчина для всех, чтобы быть единственным мужчиной какого-либо мужчины». (Где-то он это спер, уверен.) Я объяснил ей, что, если она захочет продолжить карьеру, ей придется целоваться, и это еще самое малое, с каждой жабой. Потом мы услышали, как она ревет около репетиционной, и кто-то побежал к ней с сигаретой. Гиллиан сказала, что сигареты сушат любые слезы. Идея: следует бесцеремонно рассовывать пачки по всем доступным дырам, какие имеются у истеричек, танцовщиков, любовников, счетоводов, рабочих сцены, таможенников и т. д. Выступление — ошибка на ошибке. Ужасно. Двигаюсь как говно. Ну куда ему ставить римскую оргию! Появляясь на сцене, я должен блистать так, точно мир создан мгновение назад. Открыть все окна тела и на этом построить загадку. Бродвейский театр, первый ряд. Шоу оказалось дерьмовым, однако Эрик сказал: уходить нельзя, пойдут разговоры. Я изобразил зубную боль и смылся, но после вернулся на вечеринку. Исполнитель главной роли спросил, как мои зубы, ну я и укусил его за руку, а потом ответил: да, похоже, поправились. Он весь вечер расхаживал с повязкой на руке и закатанным рукавом. Гиллиан спросила, как я могу танцевать после поебки, и я сумел ответить только, что не могу танцевать без нее. (Хотелось бы, правда, чтобы промежутки были подлиннее!) Патрик колется между пальцами ног, чтобы никто не увидел следов. Перед выходом на сцену он надрезает палец и сыплет в порез соль (боль жуткая), это помогает ему взбодриться, стряхнуть сонное оцепенение. В баре на углу Кастро я висел, держась за перила балкона, а паренек творил, расстегнув мою молнию, тихое чудо. Он одного роста с Эриком и тоже блондин. Я чуть не растянул плечо, так долго пришлось висеть. Предложил ему пойти в отель, вздремнуть подружески. Статуя Кановы: 47 000 долларов. (Миссис Годсток!) Уорхол говорит, что подготовка к тридцать второму дню моего рождения будет походить на последние дни Римской империи. Он заказал по такому случаю красный виниловый бандаж для яиц, который сможет надеть поверх брюк. Волей-неволей думаю, что его ожидает забвение. Мода на него спадает. (Быть рядом с ним все равно что вдыхать какой-то нелепый попперс.) На «приеме после приема», для своих, ледяные изваяния обнаженных тел начали таять. Был подан торт, испеченный в виде жопы, — с марципановыми ямочками и прикрасами из глазури. Я задул тридцать три свечи (одна на счастье), а затем облаченный в сюртук Трумен Капоте запрыгнул на стол, сорвал с головы и отбросил белую шляпу и, ткнув рожей в торт, поднял ее, и изо рта у него торчали «лобковые волосы». Виктор свалился от усталости, его спешно свезли в больницу. Позже он снова явился в «Студию 54» с торчавшей из руки капельницей для внутривенных вливаний. Вторгся, катя металлическую стойку капельницы, в толпу танцевавших под крутящимися лампами, и скоро все вопили, аплодировали и свистели. Виктор поклонился, оккупировал кабинку в дальнем углу зала, примостил в ней капельницу и попытался угостить всех выпивкой, но снова упал в обморок. (Ему бы понравилось, если бы он увидел, что выносит его не кто иной, как Стив.) Марго говорит: «Сбавь обороты». Я сказал ей, что бесчисленные бесенята (секс, деньги, вожделение) ничего для меня не значат в сравнении с ангелом танца. Судя по всему, Саша упал посреди парка. Сердечный приступ. Сегодня остался в театре допоздна, отослал всех домой и танцевал его жизнь. Забрел в парк, где последний кузнец Парижа подковывал свою первую за этот день лошадь. Он разрешил мне посидеть на стене, понаблюдать за ним. Нога лошади в его руке, искры у его ног. Телеграмма и цветы Ксении. Блядь! Лодыжка словно вывернулась из-под меня (Саша, столько лет назад: «Неужели ты и твое тело больше не дружат, Рудик?») Три месяца отдыха, сказал Эмилио. Да я ровно через четыре дня выкину костыли посреди Центрального парка. (и даже через три!) Две долгие недели отдыха в Сент-Барте. Ни телефонных звонков, ничего. Жара стояла такая, что капли дождя испарялись над морем, не долетев до воды. Облака желтых бабочек поднимались с деревьев. Мир был далек и мал. Местные жители вставали при первом свете зари, чтобы поработать на своих клумбах. Эрик сказал, что старикам живется лучше, чем цветам, — дел у них меньше, да и в тень они могут уходить, когда захотят. (Какие странные слова.) После обеда его вырвало в ванну. Пищевое отравление, сказал он. Горничная все убрала и отмыла. В его аптечном шкафчике в ванной пузырьки с обезболивающими. В постели мы поворачивались друг к другу спинами. Он скрипел зубами и лягался. К рассвету простыни намокали от пота. Фотография Тамары. Ее тяжелые груди, приземистое тело, коротковатые ноги, какой она стала русской. Двадцать четыре повторения вместо двенадцати. Эмилио каждый день увеличивает нагрузку и измеряет мышцу. Мы гуляем по улицам с грузом, привязанным к моей лодыжке. Прогулка заключенного. Скоро вернусь к танцу. Никогда еще не видел, чтобы кто-то так быстро шел на поправку. Все утра — массаж. Растяжка бедер. Раскрутка торса. Подколенные сухожилия. И самое главное — ляжки и икры. Чтобы предотвратить спазмы, он заставляет меня сидеть на столе свесив ноги и сердится, когда я пытаюсь читать, пристроив книгу на специальную подставку. Говорит, что может пересказать сюжет читаемой мной книги, просто проведя ладонью по моей спине. Возможно, нога стала еще и сильнее, чем прежде. Толпа в Вероне, под звездами, устроила двадцатиминутную стоячую овацию, хоть под конец ее и пошел легкий дождик. От Эрика ни слова. «Чикаго сан-тайм» пишет, что он был бледен, а следующее его выступление отменили: желудочный грипп. Марго подсчитала, что всего мы выступали вместе почти 500 раз, говорит, черт с ним, она будет продолжать, попробует добраться до 700. это счастливое число! Средство Эмилио от бессонницы: налить воду на запястье, мягко промокнуть полотенцем, вернуться в постель и согреть ладони под мышками. Наша последняя ссора, наверняка. Весь фарфор перебили, кроме чайничка, который Эрик баюкал, прижав к животу. В двери он закурил сигарету, еще держа чайник в руке. А когда я отвернулся, уронил и его, без намека на какую-либо эмоцию. «Прощай». Мучительная окончательность этого слова. Гиллиан сказала, что это было неизбежно. Я грохнул трубкой об аппарат. Марго уехала с Тито в Панаму. На звонок не ответила. Виктор трубку снял, слушал, что я говорю, но порывался удрать. У меня закружилась голова. Попробовал дозвониться до мамы, все время занято. Все начинается с шарфов, темных, купленных в магазине Миссони на рю дю Бак; постепенно, с годами, он сходится с владельцами магазина так близко, что они открываются для него одного и воскресными утрами. Шарфы становятся все ярче, узористей, пока он не приобретает такую известность, что начинает получать их бесплатно, рекламы ради, и некоторые контрабандой посылает домой, сестре и матери, которой они кажутся слишком броскими, кричащими. В Лондоне, на Савил-роу, портной шьет ему тужурку с высоким воротом, как у Неру, похожую на ту, какую он носил в школе, но только кашемировую, он шутит, что именно так себя в ней и чувствует, кашемир-но, выговаривая это как нечаянное сочетание трех слов. В Вене он приобретает рококошную люстру из муранского стекла с пятьюдесятью пятью рожками и двадцатью сменными лампочками. В Каире — старинные персидские туфли. В Рабате опускается коленями на ковер, сотканный для него слепым марокканцем, и рассказывает мастеру о петербургском балетмейстере, который внимательно вслушивался в звучание половиц. Марокканцу история нравится настолько, что он повторяет ее другим покупателям, она переходит от человека к человеку, меняется, пролагает себе путь по гостиным мира, множество раз рассказанная и пересказанная, балетмейстер превращается в московского танцовщика, в сибирского музыканта и даже в глухонемую венгерскую балерину, и годы спустя он снова слышит ее, переиначенную, и ударяет кулаком по столу, так что все замолкают, пораженные, и кричит: «Чушь! Бред сивой кобылы! Он был петербуржцем, а звали его Дмитрием Ячменниковым!» Он покупает старинные английские книжные шкафы и складные столики. Румынские изделия из стекла, появившиеся на свет несколько столетий назад. Обеденный сервиз австрийских императоров. Аргентинский раскладной стол. Витражное стекло баварской церкви. Тайно вывезенные из Чехословакии металлические кресты. Серии распятий работы ватиканского мастера. Чилийское зеркало в резной оправе, которое он дарит затем рабочему сцены из Сантьяго. Приобретает партитуры, вручную записанные в 1930-х Верой Немчиновой, и сидит над ними до поздней ночи, учась читать их и напевать из них что-нибудь, когда его одолевает редкая бессонница. Он заказывает осевшему в Мехико советскому эмигранту карты с помещенной в центр их республикой Башкирия — Уфа наконец-то находит себе место в картографии. По одной карте для каждого из его домов, в итоге их набирается семь, его счастливое число. Они висят в позолоченных рамах, за специальным не отражающим свет стеклом. В Афинах он покупает римский мраморный торс первого века, копию Поликлетова «Диодумена» с несколькими выщербинами на ребрах. В его фермерском доме в Вирджинии стоят на полках шкафчика драгоценные резные фигурки из Ганы. Он покупает туфельки Ольги Спесивцевой, показывает их своему ковент-гарденскому обувщику, и тот обнаруживает в них новый для себя стежок. В Нью-Йорке, на Мэдисон-авеню, он приобретает, после долгой торговли, полотно Шарля Мейнье «Мудрость, оберегающая юношу от любви». И сам оттаскивает его в свою квартиру в «Дакоте», не желая платить еще несколько сотен долларов за доставку. Старинные аккордеоны, скрипки, виолончели, флейты, смычки, красного дерева концертный рояль, «Вильям Кнабе энд Ко»: он окружает себя музыкой. В Стокгольме он покупает стеклянный короб с редкими окаменевшими аммонитами. В Осло — горку работы Георга Кофода. «Mobelfabrikant». В Риме расстилает по полу китайские бумажные стенные панели со сценами сражений, фоном которым служат цапли, деревья, храмы. Затем они морем отправляются в его островной дом на Ли Галли, неподалеку от Капри. Он специально едет в Ниццу, чтобы купить подборку фотографий Нижинского и изучить по ним позы и па, о которых не сохранилось никаких записей. В Праге заказывает мастеру-стеклодуву светильники ручной работы. Торгующая книгами австралийка регулярно поставляет ему первые издания литературных шедевров, главным образом русских. В одной из лавочек Сингапура он натыкается на старинные напольные часы и спасает их от погибели. В Новой Зеландии приобретает туземные маски. В Германии — полный набор мелких, твердого английского фарфора, с золотыми ободками тарелок, из которых когда-то кормился кайзер. В Канаде заказывает кедрового дерева сундук нафталина он не любит и слышал, что есть там один лес, в котором растут лучшие в мире кедры. А в Уэльсе отличающийся искусным владением формой и уважением к ней кардиффский мастер Ллевелин Харрис изготавливает для него модель поезда настолько точную, что, расставляя ее на полу, он иногда вспоминает себя шестилетнего, сидевшего в ожидании на холме над уфимским вокзалом. Книга третья Освоившись с невразумительной музыкой, вы должны затем научиться одолевать протекающие водопроводные краны. Джим Харрисон «Теория и практика рек» 1 Нью-Йорк, 1975 Это одна из бездушных улиц, что встречаются в тех районах города, где свет пробивает вчерашнюю еще тьму, и ранний вечер ощущается как комендантский час, и мусор, набросанный днем, скользит по тротуарам, и серые голуби сидят на сетчатых заборах, и машины стоят в пробках, пыхтя и дымя, и витрины темны и мутны от грязи и копоти, Одиннадцатая стрит, Нижний Ист-Сайд, героин и гибель, но Виктор пронизывает ее, просто шагая по тротуару, обращая ходьбу в танец, который начинается с симметричного перекатывания плеч, какого даже черные еще не освоили, долгого пожатия одним, затем другим, они словно соединены синоптическими шестереночными зубцами, — сначала левым, потом правым, — но и не только плеч, круговое движение спускается к груди, к реберной клетке, и вниз по телу до самых ступней — «Бог сотворил меня коротышкой, и оттого я могу отсосать у баскетболиста, не повреждая коленей», — а после снова вверх, на миг задержавшись в бедрах, ничего такого уж страшного, зачем привлекать внимание, походка, она и есть походка, ты можешь сидеть на крыльце богатого дома, под кайфом, или похмельем, или под тем и другим, проникаясь дерьмом, и грязью, и тысячами повседневных мучений, слишком ужасных, чтобы говорить о них здесь, и заметить, как Виктор проходит мимо с видом человека, который только что, самым первым, научился насвистывать, — в тесных черных брючках и неоново-оранжевой рубашке, с зачесанными назад черными волосами, с белыми зубами под темными усами, с телом, которое покачивается и колесит не в джазе, не в фанке, не в фокстроте и не в диско, это всего лишь Виктор с головы и до ног, произведение искусства, усвоенного им при рождении, смеющееся на ходу, переливисто, сначала тоненько, а после все гуще, Виктор смеется просто так, смеется, и все, как будто тело его только что рассказало анекдот о себе, и, пока ты будешь следить за ним, пролетит весь день, часы остановятся, гитары настроятся в унисон, кондиционеры запоют, как скрипки, мусоровозы, как флейты, а ты так и будешь сидеть, вросший в ступени, глядя, как Виктор машет ладошкой другим свисающим из окон гомосекам — все сплошь парики, и перья, и похоть, — как давит каблуком сигаретку, или завязывает шнурки, или звучно стучит в окно серебряным долларом и получает в ответ у-лю-лю и свист особую известность Виктор приобрел шесть лет назад, после беспорядков на Шеридансквер, где его арестовали за хулиганство в голом виде — за голое хулиганство! — но зато ему подрочил рослый белобрысый фараон из шестого участка, так, во всяком случае, Виктор со смехом рассказывает в банях, барах и бардаках города а он продолжает вышагивать по своей империи, отвешивая поклоны витринам, науку поклонов досконально преподал Виктору его добрый друг Руди Из-Нуриев, надо немного наклониться, изогнув дугой спину, широко повести рукой в небо, замереть на миг, улыбаясь, и идти дальше, переходя из солнца в тень, до угловой табачной лавки, где он глубоко затягивается косячком, которым делятся с ним миловидные пуэрториканские мальчики, и они по очереди начищают белой банданой туфли Виктора, пока он босиком входит в лавочку, чтобы сказать ее владельцу: «Дружище, того, кто тебя стриг, следует арестовать как серийного убийцу», его-то волосы столь гладки и густы, что светятся под неоном вывески, и он покупает пачку «Лаки Страйк» — «счастливый случай», так? — вся его жизнь — это вереница счастливых случаев, начавшихся на улицах Каракаса и приведших его туда, где разгорается заря нового мира, он начинал столяром, стал официантом, потом хастлером, потом маляром, потом, после Стоунволла<a l:href="#n_30" type="note">[30]</a>, декоратором интерьеров — «О, я так вас снутри отдекорирую!» — работая ровно столько, сколько требуется, чтобы жить, как ему нравится, зная: чем меньше работаешь, тем больше получаешь, таково одно из простых правил Нью-Йорка, а за долгие годы Виктор вывел для себя кучу простых правил, и самое его любимое: будешь жить, ни в кого не влюбляясь, и тебя каждый полюбит, это один из великих законов любви и перепиха — бери что дают и быстро делай ноги и не оглядывайся, и потому даже пуэрториканские мальчики не могут удержать Виктора, разделив с ним на крылечке половину их косяка, он снова уходит, осеняя своей персоной следующую улицу, и следующую, его окликают, а он идет, пританцовывая, и торговцы дурью лезут в карманы подбористых желтых штанов за парой колес дорматила, бесплатных, говоря: «Виктор, дружище, скажи своим аристократишкам, где можно найти настоящее дерьмо», все они надеются провернуть вечерком дельце с Виктором, потому что дельце с Виктором стоит многого. Виктор может пригнать к твоему крыльцу целую ораву, и ты проснешься утром еще в подпитии — рядом твоя краля похрапывает, а под подушкой лежит пухлая пачка двадцаток, — и Виктор улыбается, и берет таблетки, произнося «Gracias»<a l:href="#n_31" type="note">[31]</a> — одно из двух испанских слов, какие у него в ходу «gracias» и «cojones»<a l:href="#n_32" type="note">[32]</a>, оба он произносит в три протяжных слога, как будто пережевывая в этот миг детские воспоминания о Венесуэле: грязь, собаки, футбольные мячи, которые катятся к открытым люкам канализации когда Виктору было восемь лет, неподалеку от Каракаса, в порту города Ла-Гуайра, утонула статуэтка Девы Марии, случившееся представлялось горожанам столь важным, что они упросили нырять за ней ловцов жемчуга — безрезультатно, горожане уверовали, что Дева объявится сама в год благодатности и изобилия, и потому, когда Виктора вытащили из воды задыхавшимся, прижимавшим к груди старое, осклизлое изваяние, его осыпали такими деньгами и подарками, что он смог вывезти мать и братьев в Америку, оставив, разумеется, четверть всех денег мастеру, который высек для него статуэтку, совершенную подделку и получается, что Виктор даже тогда знал: желание — это только ступенька, ведущая к другому желанию и он устремляется дальше на запад, через Виллидж, мимо проститутки в облегающих шортах, крутящей бедрами так, точно тело у нее все на шарнирах, мимо лоботрясов в банданах, распродающих остатки футболок «Смерть Запада!», мимо нищих в инвалидных колясках, мимо черных хипстеров, подпирающих ограды Сент-Марк-плейс, мимо фермерских сынков, кайфующих, впервые хлебнув амфетамина, мимо всей пьяни и рвани Америки, и на Второй авеню роняет несколько монет в пластиковый стаканчик юной наркоманки, и та поднимает взгляд, чтобы сказать ему что она отродясь не видала более клевой рубашки, и Виктор бросает в стаканчик еще доллар, а затем огибает брызги, летящие от пожарного гидранта, и переходит Третью авеню, стекается по лестнице на Астор-плейс, перескакивая без какой-либо логики через две ступеньки, одну, две, три, машет билетеру в кабинке, перепрыгивает через турникет, билетер орет: «Мужик, чтоб тебя, за проезд заплати!» — а Виктор вступает в вагон, кивая пассажирам, улыбаясь, подмигивая, для него в городе нет одиночества, даже в подземке, где он ездит, не присаживаясь, не касаясь металлических стоек и ременных петель, расставив для устойчивости ноги пошире, словно готовясь к ночи, которая его ждет, спрыгивая с поезда Шестой ветки на Центральном, чтобы выкурить в Дубовом зале<a l:href="#n_33" type="note">[33]</a> четыре сигареты и выпить коктейль (водка, грейпфрутовый сок, два доллара чаевых бармену, «денежки круглые, значит, должны кататься»), а после пронизывает вокзал навстречу приливу жителей пригородов, увертываясь, виляя, и спускается по замусоренной лестнице в уборные Централки — для Виктора нет мест ни слишком хороших, ни слишком плохих, — воздух там пропитан влажным ароматом мочи. Виктор подает себя со спокойной сдержанностью, о которой он где-то прочитал, губы его сомкнуты, в пальцах поднятой повыше руки дымит сигарета, он проходит мимо прямоугольных зеркал, между которыми стоят рядком, будто закусочки на стойке бара, мужчины числом с десяток. Виктор кивает бледному юноше и чернокожему мужику, лица у обоих настороженные, нерешительные, кто его знает, может, он легавый или ненавистник педиков, а то и убийца, тут за последние годы многих порезали, но Виктор шарит в кармане, выдает каждому по колесу, они успокаиваются, улыбаются, проглатывают дорматил, все трое ныряют в кабинку и скоро уже хохочут, тискаются, целуются, сплетаются, расплетаются, а минут через двадцать Виктор выходит, ополаскивает лицо, шею, подмышки, другие мужчины смотрят, перешептываются о нем, завистливые и тоскующие среди зеркал, ибо тот, у кого отсосал Виктор, словно ходовую валюту получил, знак отличия, автограф, его в любой ночной клуб пускают — «Привет, я дружок Виктора Пареси», — но поищи там Виктора, нету его, он из тех, в ком нуждаются ровно потому, что они отсутствуют, он вечно бродит где-то еще, сердце еле бьется от гелия, все клапаны открыты, и его уносит куда-то, не дотянешься в подземный зал «Наковальни», быть может, или в иранское консульство, где устраиваются многолюдные кокаиновые вечеринки, или в тыльный подвал «Змеиной ямы», или в глядящий на парк зал отеля «Плаза», или в темный лифт «Туалета», или на чашку чая в отель «Алгонкин», или в свинарник «Треугольника», или за столик «Клайдса», или на подгнившие причалы у Вест-Сайд-хайвея, город во всем его убожестве и роскоши принадлежит Виктору, ему известны здешние улицы, авеню, швейцары, бармены, вышибалы, расстояния, отделяющие один притон от другого, известно, когда в какой лучше заглядывать, часов Виктор никогда не носил, но время суток знает с точностью до минуты, где бы он ни был, с кем бы ни перетыкивался, что бы ни пил, сколько бы ни был обкурен, утомлен, известен компании, потому что, глядь, и пора уже двигаться дальше, а то зарастешь паутиной, никто ж не знает, что может случиться с ним всего в квартале отсюда, центр мира смещается, переменяется, и дело Виктора — пребывать именно в нем: «Я — среднее гринвичское время державы геев!» и он сходит с экспресса, с Четвертого, на Пятьдесят девятой и Лекс, и пересекает Верхний Ист-Сайд, еврейки с пуделями или пудели с еврейками, он так и не смог разобраться, кто кого выгуливает, и Виктор, проходя мимо них по тротуару, оскорбительно виляет задом и сшибает листья с растущих вдоль бордюра деревьев — какая буколика! — свет меркнет, оживают, помаргивая, фонари, он курит, гневно раскачиваясь, затягиваясь, выпуская в воздух над собой клубы дыма, еще одна сигарета торчит за ухом, готовая подладиться от той, что во рту, он улыбается швейцарам в белых перчатках, думая, что эта регалия, похоже, обозначает новую моду, — Виктор-пролаза, Виктор-прислужник, Виктор-зазывала, — он проскальзывает по мраморному полу вестибюля, несколько неказистого, на его вкус, поднимается лифтом в пентхауз, где уже вовсю идет первый за этот вечер прием с подачей коктейлей, предбалетный, не его жанр, он в такую рань и выходит-то редко, однако это дом предположительного клиента, которому Виктора порекомендовал Руди, да он уж и цену назначил и потому павой вступает в обитую красным деревом комнату, на миг останавливается под огромной люстрой и пытается возвестить о себе молчанием, но ажиотажа не порождает, ни тебе шепотков над краями бокалов, ни гомона, ни благоговейной тишины — «как огорчительно», — и он окунает свою яркую рубашку в водоворот темных платьев и галстуков-бабочек и кланяется, рассылая преувеличенные воздушные поцелуи, и пожимает руки, и снимает горстку закусочек с серебряного подноса, слегка озадачивая своей внешностью официантов, гадающих, то ли Виктор сюда без приглашения протырился, то ли он некая знаменитость, — то ли испортит сейчас всю малину, то ли сам малина и есть, — впрочем, пока он курсирует по комнате, несколько лиц обращаются к нему, и ободренный Виктор с топотом направляет стопы свои к хозяйке, которая и себя-то саму удивляет силой, с какой из нее исторгается вопль: «Дорогой!» — и щелкает пальцами над головами трех мужиков в бабочках, и с пугающей быстротой появляется выпивка, водка, и грейпфрут, и лед, побольше льда, и хозяйка берет Виктора под руку и проводит через толпу, представляя: великий Виктор Пареси, друг Руди, — и все, с кем он знакомится, приходят в совершенный восторг, как мило он ловит их взгляды, или пожимает ладони, или прикасается к плечам, как приветствует, искренне, но словно бы мимоходом, как он дружелюбен, но ненавязчив, как никого не принуждает заговаривать с ним, и тем не менее все заговаривают тридцать, по меньшей мере, приглашений в неделю поступает в его квартиру в Нижнем Ист-Энде, и почтальонша, с ее резким гарлемским выговором и грубой красой, старается устроить так, чтобы приносить Виктору почту в свой обеденный перерыв, ей нравится сидеть с ним в его яркой кухне, они вместе вскрывают конверты, читают приглашения и отвергают их, «Виктор, лапушка, тебе пишут больше, чем Санта-Клаусу!», а Виктор улыбается и отвечает: «О да, но лишь потому, что я знаю, где живут все нехорошие мальчики» и Виктор, которого на любой вечеринке более всего интересуют люди неприкаянные, в обществе коих можно немного похулиганить, отрывается от хозяйки, поцеловав ей на прощанье руку, и направляется к маленькой компании — стареющий писатель, скучающий молодой художник и полнеющая балерина, которая кивает и улыбается, когда он усаживается у стеклянного столика на пол и говорит: «Простите, я малость попрактикуюсь в воскрешении!» — и достает из кармана пакетик, осторожно открывает его, высыпает содержимое на стекло, лезвием крошечного складного ножичка нарезает две дорожки, сворачивает трубочкой бумажку в пятьдесят долларов, носом втягивает дорожки, возводит взор к потолку, «Gracias!», а после сооружает еще шесть скупых дорожек, кладет в середину стола свернутую банкноту: «Заводите ваши моторы, леди и джентльмены!» — и молодой художник сразу склоняется, чтобы внюхнуть первую дорожку, за ним писатель, за ним балерина, она немного жеманничает, однако втягивает в себя больше других, а вечеринка переполняется разговорами, хозяйка, окинув их квартет взглядом, произносит: «Ох уж этот Виктор!» — и скоро считай что все смотрят в его сторону, какая упоительная, пусть и прискорбная известность, он встает на металлический обод стола и отвешивает поклон, в горле щекотно от радости, торопливый прилив энергии пробегает по телу, мешая сохранять равновесие, улыбка перекашивает лицо, и, наконец, Виктор спрыгивает на пол под легкий всплеск аплодисментов, зная, что разбаламутил вечеринку в мере достаточной для того, чтобы миф продолжал жить, питаясь устроенным им нынче представлением, жаль только, не было здесь Руди, потому что никто на свете не умеет так заворожить людей, так быстро наполнить их напряженным ощущением огромных возможностей, зарядить энергией, электричеством, как Руди, повышающий голос до того, что он звучит вдвое громче других ночь, когда голый Руди свисал с люстры ценой в миллион долларов, вечеринка, на которой Руди обрил свои гениталии бритвой Энди Уорхола, после продавшего ее тому, кто дал наибольшую цену, день, когда Руди готовил еду для друзей и подмешал в голландский соус немного спермы, назвав это секретным русским рецептом, открытие галереи, после которого Руди поимел в ванне, наполненной скользкими от жидкого крема стеклянными шариками, трех мальчиков сразу всем известны байки про Руди, одна непристойней другой (и, вероятно, лживей), стало быть, Руди, наподобие Виктора, — живая легенда, опекаемая, балуемая и оберегаемая мифотворцами, жизнь, проживаемая не по какой-то там разумной причине, но просто в угоду яркому свету или его отсутствию, подобная семечку, набухающему в его кожуре, — оба они нуждаются в постоянном движении, поскольку, оставшись в одном месте на слишком долгое время, укоренятся в нем, как все прочие, и потому порой Виктор думает, что и он тоже танцует, вечно пристукивая ногами или покачивая из стороны в сторону головой, подкручивая пальцами кончики черных усов. — «Причина, по которой я ношу усы, джентльмены, состоит в том, что они сохраняют для меня ароматы вчерашних прегрешений!» — вы и заметить того не успели, а Виктор уже летит, обгоняя себя самого, словно желая сказать: «О, ищите меня вон там», и никто не способен окончательно собрать эту складную картинку, хоть и поговаривают, будто он научился каждому своему движению у самого Руди, что постоянно отсиживает репетиции, наблюдая, и это тоже вранье, но Виктор его не опровергает, поскольку оно означает, что о нем ведут разговоры, что и с ним хотят их вести, хотят присвоить на ночь его непоседливость, и Виктор подчиняется, слушая вполуха, не спуская глаз с двери, пока не видит, как слуги подают кому-то шубы, и не слышит перезвон бокалов, и тогда извиняется, поскольку знает: пора уходить, таково его правило, всегда удаляться одним из первых, — и спускается, не дожидаясь лифта, по лестнице, а выйдя во влажный вечер, следует за супружеской четой, идущей к черному лимузину, чета пугается, когда он проскальзывает за ней в машину и мигом насыпает на столик бара дорожку, женщина приходит в ужас, мужчина пытается изобразить хладнокровие: «Добрый вечер, вы тоже едете посмотреть на Нуриева?» — Виктор в ответ подмигивает: «Конечно, нет, балет, по-моему, скучен до колик», мужчина чопорно улыбается: «Да, но сегодня будет танец модерн», на что Виктор отвечает: «Все равно одни педрилы и дивы», и мужчина слегка отшатывается, гадая, что это за создание вползло в его жизнь, какие дивы? какие педрилы? а Виктор, великодушный до конца, предлагает первую дорожку даме, однако та лишь таращится на него, затем ее мужу, который также отказывается, правда, чуть подмигнув, и Виктор сам вдыхает кокс, ухмыляется, насыпает немного на карманное зеркальце и, проехавшись по кожаному сиденью, склоняется вперед, чтобы предложить нюхнуть и шоферу, и тот с ошеломленной благодарностью качает головой, нет, после чего Виктор театрально ударяет себя ладонью в лоб и восклицает: «О! Как я одинок!» — но тут же сбрасывает туфли и кладет ступни на противоположное сиденье, говоря: «Впрочем, если увидите Руди, поклонитесь ему от меня», каковые слова мужчина принимает за шутку и разражается долгим кудахтаньем, а Виктор холодно смотрит на него, пока мужчина не смущается настолько, что выдавливает: «Знаете, это все-таки наша машина», и Виктор отвечает: «Конечно, чья же еще?» — а затем обращается к шоферу: «Добрый человек! Подбрось меня до Черных холмов!» — но тот ни черта не понимает, и приходится объяснять ему насчет глядящей на Центральный парк «Дакоты»<a l:href="#n_34" type="note">[34]</a>, и супружеская чета ошалевает не столько от прославленного адреса, сколько от Виктора, от его ауры, от привкуса, который он оставляет в воздухе, а он вручает водителю десять долларов, выскакивает из машины, чувствуя, как заряд кокаина гуляет по его телу, пружинно подпрыгивает, приземляется, машет лимузину на прощанье рукой и устремляется прямиком к украшенной золотой табличкой двери при первом его появлении в «Дакоте», несколько лет назад, швейцары в ливреях и эполетах завернули Виктора к черному ходу, и он скандалил, пока Руди не заорал в интерком, чтобы его гостя немедленно пропустили, однако на следующий день, при вторичном визите, швейцары сурово покивали ему, вследствие чего он, свесив голову, прямиком к черному ходу и направился, изрядно их озадачив, — такова, говорит Руди, особенность его стиля, ибо единственный истинный способ обретения признания состоит в том, чтобы оставаться непризнанным а когда он поднимается в квартиру Руди, там вовсю идут приготовления: сегодня Руди впервые танцует в «Люцифере»<a l:href="#n_35" type="note">[35]</a> и потому задумана вечеринка, которая станет для него сюрпризом, поскольку устраивается она в последнем месте, какое пришло бы ему в голову, в анфиладе из семи комнат его собственной квартиры, — Виктор предложил свои услуги бесплатно, он будет балетмейстером этого вечера, изогнет цветы так, что они станут отвешивать из своих ваз поклоны, поместит чашу с икрой в самый центр большого стола, чтобы до нее едва-едва можно было дотянуться, заменит лампочки на более тусклые, расставит кресла так, чтобы они не мешали гостям прогуливаться, разгладит морщины на бархате кушеток, раздернет шторы, чтобы открылся вид на Центральный парк, в уборной поместит сложенные салфетки рядом с ароматическими свечами, искусно осветит китайские обои ручной работы, вообще определит весь этикет вечера, отчего прием пойдет глаже гладкого, как глоток наркотика, или сон, или то и другое сразу, — Виктор окидывает быстрым взглядом наемных, одетых в смокинги официантов и направляется к другой группе людей, к организаторам, все они — светские дамы средних лет, богатые, увешанные драгоценностями, властные, некогда красавицы, а сейчас с загорелой до табачного тона кожей, — о, какое собрание элегантных «Лаки Страйк», — и все теснятся друг к дружке, все относятся к приготовлениям очень серьезно, и, когда Виктор нарушает их строй, лица дам меняются, выражая и неприязнь, и облегчение, они озабочены, очень, ведь на кону стоят их репутации, а беспечности Виктора им никогда не обрести, хоть они и пытаются подражать ей, он же восклицает, ни к кому конкретно не обращаясь: «Эй, кто-нибудь, покажите этим красавицам, где валиум лежит!» — и дамы смеются, но Виктор знает: они не просто смеются, в их смехе присутствует еще один смысл, эти женщины только что выпустили из рук бразды правления и вручили их Виктору, теперь каждая в его власти, он должен обходиться с ними и как с принцессами, и как с какашками, причем одновременно, и потому отправляет их на кухню, холодильник которой забит, в прямом смысле слова, шампанским, велит соорудить для него пирамиду из бокалов, театрально наполняет оные, говорит: «Пусть вакханалия начнется!» — и заставляет дам содвинуть бокалы и забыть обо всех преступлениях прошлого — на чей прием сошлось больше народу, кто сидел ближе всех к оркестровой яме, чью руку поцеловал Оскар де ла Рента, — теперь, когда за все отвечает Виктор, это не имеет значения, а он, злоупотребляя своей властью, говорит им, как чудесно они выглядят в их платьях от Холстона, в искрящихся драгоценностях от «Тиффани», в идеальном макияже, «Я сжег бы тысячу кораблей, лишь бы быть рядом с вами!», а затем велит им приглядывать за наемной прислугой, не спускать глаз с официантов, неусыпно следить за столовым серебром, и — наклонясь к ним так близко, что они различают темные ободки его зрачков, — похоже, Виктор намеревается открыть им некую баснословную тайну, однако он, выдержав паузу, говорит: «Леди! Банкетный стол всерьез нуждается в подтяжке лица!» только-только попав в круг Руди, Виктор поразился обилию входивших в него, готовых на все пожилых женщин, некоторые даже стриглись «под мальчика», уповая, что Руди сочтет их привлекательными, этого никогда не случалось, однако они не теряли надежд, хотя теперь, когда возраст подпортил их тела, искали скорее сына, которого можно побаловать, что наводило Виктора на мысли о собственной его покойной матери, одна из его печалей состояла в том, что он не был с ней, когда та умерла в глубинах Бронкса от непонятного заболевания печени, в то время Виктор сидел на такой мели, что даже не смог отвезти мать назад в Венесуэлу, лишь позже, годы спустя, он отправился туда с Руди, они, попав после полудня в Каракас, взяли такси, поехали в предгорья, и там Виктор рассыпал ее пепел у подножия горы Авила и посмотрел, как разлетается прах, и то был один из редких случаев, когда он всплакнул на людях, — сел на землю, опустил голову на колени и тихо заплакал, а после вскрикнул, встал и попрощался с ней, — эта животная интимность горя поразила Руди, в тот вечер он, выступая в оперном театре Каракаса, посвятил свой танец ее памяти — и споткнулся, но выпрямился в элегантном гневе, и сидевший в глубине зала Виктор подумал, что это прекрасная реплика жизни его матери: танец, запинка, гнев, аплодисменты, вызов на бис, занавес, падающий до того, как она успела скрыться, прихрамывая, за кулисой и Виктор, состроив разгневанную гримасу, выступает из кухни, щелкает пальцами, подзывая к себе облаченную в плохо пошитые смокинги прислугу, и вступает на опасную почву, ибо хоть они ему и нравятся, хоть он и сочувствует им и даже их уважает, но хорошо знает, что должен сказать, и, когда прислуга собирается на кухне, вся дюжина, взбитые волосы, браслеты, прикрытые рукавами татуировки. Виктор не склоняется к ним поближе, но с властным видом отступает на шаг и произносит, подразумевая дам: «Эти сучки связывают нас по рукам и ногам», в выговоре его отсутствует даже намек на венесуэльский акцент, но бравада уроженца латиноамериканского пригорода в голосе проступает, он словно хочет сказать, что более важной работы им выполнять еще не доводилось и, если они с ней не справятся, он выгонит их всех еще до возвращения Руди, поскольку знает, чего им хочется, чего хочется всем — просто побыть рядом с Руди, и говорить потом, что они прикасались к нему, и Виктор поддает для пущей надежности жару — набирает полную грудь воздуху, взглядывает им поочередно в глаза и говорит, что, если работа сделана не будет, он подвесит каждого мужчину за его крохотную пипку к потолку и измолотит, как здоровенную белую пиньяту<a l:href="#n_37" type="note">[37]</a>, — «кто-нибудь сомневается?» — а затем протащит рукава своей оранжевой рубашки сквозь подходящие дырки каждой из женщин и без всякой жалости развесит их по деревьям Центрального парка, под каждым из которых уже будут ждать возможности хором их отпендюритъ по дюжине черножопых подростков, и глаза прислуги лезут на лбы, но Виктор снимает напряжение долгим смехом, который понемногу становится мягким, добрым, полным нежности, а после говорит, что если они справятся хорошо, то каждый получит еще по двадцать пять зеленых, а может, и коксику вдобавок, и теперь Виктор уверен, что окончательно сбил их с толку, что они как воск в его руках, что вечер пройдет без сучка без задоринки, будет ладным, как стул, сработанный умелым столяром, — все нагели заделаны заподлицо, ножки стоят по углам идеального квадрата, — он думает даже, что теперь, потрудившись на славу, может позволить себе нырнуть минут на пятнадцать в парк и подобраться к Прогулочной Тропе о Тропа! о все ее силуэты стоящих, ноги циркулем, юнцов! все блуждания по траве! все лица, запиханные в кусты! все банданы в задних карманах брюк! вся наркота, бродящая во всех телах! какая лавка живых сладостей! все хлысты, и колечки для членов, и лубриканты, и иные упоительные съедобности! земля, покрытая вмятинами от колен! луна за листвой десятка различных деревьев! длинная тень Джонни Рамона<a l:href="#n_38" type="note">[38]</a> на траве, и, о, как упруго он изгибается! да! Виктор и Тропа хорошо знают друг дружку, о не только по прогулкам, раз или два он даже сопровождал по ней Руди, потому что Руди нравятся иногда крутые ребята, резкие, горячие парни из Бронкса и Гарлема однако Виктор избирает взамен Тропы альтернативную дозу воскрешения, ныряет в туалет, протирает крышку бачка влажной тряпочкой, насыпает дорожку, с большим смаком втягивает ее, встряхивает головой, ударяет ногой в пол и, выйдя, отвечает на резкий звонок интеркома: «Пошлите их наверх!» — и через несколько мгновений в двери появляются доставщики с десятками подносов еды, одну он отправляет на кухню, другую расставляет по банкетному столу, это деликатесы, самые разные и все больше русские, нарезанная ломтиками осетрина, белужья икра в охлажденных чашах, паштет из конины, крендели, пирожки, черноморские устрицы, мясные салаты, окружившие Виктора дамы волнуются и суетятся, он успокаивает их, сняв кончиком пальца несколько икринок, попробовав: «И для королевы сошла бы», а следующий час проводит, проверяя работу своих подчиненных, дам, следящих за слугами, слуг, следящих за дамами, все слажено, все разыгрывается как по нотам, и, стало быть, Виктор может заняться тем, чем необходимо заняться, и он чуть-чуть перекашивает, под микроскопическим углом, картины гостиной, в особенности, это его личная шутка, Мейнье, «Мудрость, оберегающая юношу от любви», поворачивает диван спинкой к окнам, чтобы его не оккупировал какой-нибудь погрустневший бездельник, расставляет пепельницы подальше от обтянутых тонкой тканью кушеток, уменьшает накал ламп, расправляет веерочками кисточки персидских ковров, заботится о том, чтобы Бетховена сменял в стереоавтомате Джеймс Браун: «Немного музыкальной анархии, будьте любезны!» — и все это время не упускает из виду часы, вечер тянется, расписанный до мельчайших деталей: складки салфеток, расстановка подсвечников, угол, под которым стоит рояль, температура грибного соуса, — и Виктор начинает терять терпение, притоптывая, пытаясь сообразить, что сейчас происходит в театре, закончил ли Руди, сколько времени займут овации, а интерком уже трезвонит, появляются первые гости, и Виктор благодушно раскланивается с организаторшами, предоставляя им пожинать плоды их трудов, в последний раз облаивает бармена, не протершего бокалы до полного блеска: «Берегись, я еще вернусь!» — ибо таково второе правило Виктора: никогда не появляться на приеме первым, даже если ты за него отвечаешь, и он спускается, махнув рукой на лифт, по лестнице, став ненадолго задумчивым, почти печальным, Виктором, проводящим несколько мгновений наедине с Виктором, прислоняющимся затылком к горчичного цвета стене, глубоко дышащим, чувствующим, как покой разливается по его телу до самых ступней, время мирного коктейля, который он выпьет где-нибудь в темноте и безвестности, не в геевском баре, не в клубе и не на Тропе с ее особыми коктейлями, — в месте, где можно будет недолго передохнуть, сберечь энергию для остатка вечера, он находит убогую забегаловку на углу Семьдесят четвертой и Амстердам, убавляет громкость музыкального автомата, гадает, как отнесется Руди к вторжению в его квартиру дело было в 68-м, пожилая матрона, при которой Виктор состоял тогда в провожатых, свела его на балет, «Ромео и Джульетта», они сидели на лучших местах, и поначалу Виктор скучал, ерзал в своем дорогом пиджаке, скрещивал и перекрещивал ноги, гадал, долго ли еще, скоро ли ему удастся смыться, но потом что-то случилось, Фонтейн бросила на Руди один из тех взглядов, которые, похоже, меняют все, и Руди поднял ее над собой, ярко освещенное лицо Фонтейн стало прекрасным, казалось, оба они тают, переливаясь друг в дружку, и Виктор понял, что видит нечто большее, чем балет, чем театр, чем спектакль, — любовную связь, которая разворачивается на глазах у публики, в которой любовники овладевают один другим не за сценой, а на ней, — и Виктору захотелось вскочить с кресла и исполнить… не балетный танец, нет, а просто какие-то движения, широкие и свободные, ему было больно видеть такую красоту, не составляя ее части, лицо Руди, его энергия, его владение своим телом наполнили Виктора негодованием, и потому, когда упал занавес, он ощущал уже необъяснимую ненависть, ему хотелось подняться на сцену и столкнуть Руди в оркестровую яму, но он остался неподвижным, потрясенным тем, что мир способен преподносить такие сюрпризы, — это же балет, балет! здесь можно громко кричать! — и это заставило Виктора гадать, что еще он упустил, чего еще не хватает в его жизни, и, стоя посреди фойе в очереди к вешалке, чтобы получить меховую шубку своей подопечной, Виктор ощущал и жар, и холод, дрожал и потел одновременно, а потом вышел на ночной воздух, где большая толпа девиц в широкозадых джинсах вопила: «Руди нуди! Руди нуди! Мы хотим нагого Руди!» — кое-кто из пылких поклонников проталкивался, прижимая к груди его фотографии, вперед в надежде получить автограф, и Виктору пришлось бросить свою стареющую подопечную, он запрыгнул в такси и поехал в центр города, чтобы потанцевать и забыться, в клуб на восьмом этаже старого завода, к слепящим огням, к балдеющим от наркотиков мальчикам, к знаменитым актерам, нюхающим пропитанные хлорэтилом тряпицы, к запаху «поп-персов», к стоящим, закрыв глаза, перед зеркалами мужчинам, облаченным в пиратские рубахи, головные повязки, остроносые сапоги, со свистками, свисающими на шнурках с шей, к музыке столь громкой, что у некоторых тамошних мальчиков кровь текла из ушей, из лопнувших барабанных перепонок, и час спустя Виктору полегчало, он снова стал самим собой, мокрым от пота, окруженным мужчинами, которые желали его, но позже, когда он сидел за столиком и пил с богатым кутюрье шампанское, к ним неожиданно подошел Руди — «Привет, Руди, это Виктор Пареси», — и, едва Руди взглянул на него, у Виктора от отчаяния засосало под ложечкой, поскольку они мгновенно невзлюбили друг друга, каждый различил в другом самомнение, но различил и сомнение, такую вот летучую смесь, огонь и пустота, оба поняли, что они схожи, и это сходство наполнило их раздражением, ведь оба вышли из мира лачуг и вступили в гостиные богачей, они были гуртом монеты, и, сколько раз ее ни подбрасывай, они гуртом и останутся, богачи такого не понимают, но не понимают и бедняки, и это сделало взаимную ненависть Руди и Виктора почти осязаемой, они разошлись по разным краям танцевального пола, и в скором времени началась их дуэль, попытка понять, сколько мальчиков сумеет приманить к себе каждый, и вся жизнь Виктора свелась к дуэли с Рудольфом Нуриевым, благо Виктор находился на своей территории, хоть и был коротковат, смугловат и не по моде венесуэлист, — «ростом мал, о да, зато велик всем прочим!» — его боготворили на танцевальном полу задолго до того, как начинали боготворить в постели, бедра его вращались столь нарочито, что ноги казались отделенными от тела, рубашка с подвернутыми и стянутыми узлом полами открывала плоский смуглый живот, странная шла между ними война под крутящимися лампами, в перегретом воздухе, в кессонной камере барабанов, гитары и голоса, пока не наступило затемнение, свет не то чтобы ослаб, а просто погас, погрузив все во тьму, многие решили, что это часть обычной программы, — свет часто выключали, чтобы мужчины могли предаться любви, — но Виктор ждал во мраке, стряхивая с хвостов рубашки капли пота, ощущая себя целостным, завершенным, неуязвимым, вслушиваясь в совершавшуюся повсюду вокруг возню, в смех, в тычки и гордясь своей воздержанностью, своего рода аскетическое величие осеняло его, пока зал наполнялся кряхтением и взвизгами, пока свет не зажегся вновь, слепящий, буйный, — и кто же возвышался на другом краю танцевальной площадки, как не Руди, спокойный и величавый? — и музыка одним прыжком вернулась к жизни, и они улыбнулись друг другу, признав в тот миг, что каким-то образом смогли пересечь пропасть, что стоят теперь по одну сторону границы, совершенно уверенные, что никогда не прикоснутся один к другому, никогда не будут втыкать, или отсасывать, или дрочить, или вылизывать анус, и понимание это стало бальзамом, елеем, негласным договором, они не нуждались в телах друг друга и все же были неразрывно связаны — не деньгами, или сексом, или работой, или известностью, но прошлым и настоящим каждого, и, встречаясь на сильном ветру, они будут вместе искать укрытие, и Виктор пошел на другой край танцевального пола, не отрывая взгляда от Руди, и танцовщик протянул ему руку, они обменялись рукопожатиями, смеясь, и направились к столику, заказали бутылку водки и проговорили несколько часов — не о мире, который их окружал, но о мирах, из которых вышли, об Уфе и Каракасе, ловя себя на том, что рассказывают о вещах, которых не упоминали годами, о крышах из гофрированного металла, о заводах, о лесах, о том, как пахнет в сумерках воздух. — «Посередке моей улицы текла река нечистот!» — «А моя и улицей-то не была!» — «Моя пахла, как парочка мокрых ебливых собак!» — точно так же они могли говорить с зеркалами, но нашли таковые друг в друге и забыли в своей чистой умиротворенности о клубе, и покинули его в шесть утра, провожаемые сердитыми, завистливыми взглядами завсегдатаев, и пошли по улице, чтобы позавтракать вместе в «Клайдсе», Виктор вращал плечами. Руди пощелкивал каблуками, солнце, пышное и красное, всползало над складами и скотобойнями манхэттенского Вест-Сайда ко времени, когда Виктор оставляет бар и возвращается в «Дакоту», напевая «Возврати меня в Черные холмы», вечеринка идет полным ходом, он вступает в водоворот тел — актеров балетоманов выскочек горнолыжников долдонов египтологов ёрников женшинвамп зоологов инженеров йогов кинозвезд лизоблюдов миллионеров наркоманов оригиналов послов раздолбаев секс-символов трагиков умников философов хапуг целителей чревоугодников шарлатанов щеголей энтузиастов юристов яхтсменов, — все они взбудоражены спектаклем или слухами о спектакле, большая толпа их собралась в углу вокруг Марты Грэм, твердя: как чудесно! как дерзко! как образно! как смело! как ново! как волшебно! как революционно! Виктор заглядывает Грэхем в глаза, словно желая сказать: если б здесь было куда упасть яблоку, оно пришибло бы сотню идиотов, и проталкивается, чтобы поцеловать ей руку, к Марго Фонтейн, сияющей, спокойной, точной в движениях, она всегда дружелюбна с Виктором, хоть и не вполне понимает его, таково духовное качество ее доброты, он уведомляет ее, что выглядит она «упоительно!», и Марго улыбается в ответ, болезненно, словно ее уже умучили непрерывными комплиментами, и Виктор, развернувшись, приветствует забившегося в другой угол Джаггера, приклеенного к миру своими губами. Мик разговаривает с блондинкой, чьи волосы кажутся бродящими, пошатываясь, по ее голове, а рядом с ним Ролан Пети размахивает руками, беседуя с компанией молодых танцовщиков, а прямо напротив Пети возвышается Витас Герулайтис, теннисист, энергичный и экспансивный, окруженный стайкой роскошных молодых мужиков, «Подмойся, — кричит ему Виктор, — и приходи в мой шатер!» — после чего принимается не скупясь кивать и подмигивать всем, кто хоть что-то собой представляет, Фордам этого мира, его Холстонам, Аведонам, фон Фюрстенбергам, Радзивиллам, Гиннессам. Алленам, Рубеллам, Капоте, высоковольтные улыбки Виктора вспыхивают по всей квартире, но где же, черт подери, Руди? Виктор быстро окидывает взглядом комнату, тряпки от разнообразных кутюрье, бокалы с шампанским, где он, черт возьми? жмет все новые руки, рассыпает воздушные поцелуи, все время выискивая Руди, где же он, мать его? и с самыми дурными предчувствиями направляется к спальне в глубине квартиры, у двери ее стоят организаторши, беседуя, точно дипломаты, серьезно и сдержанно, и Виктор интуитивно постигает природу проблемы и стремительно проскакивает мимо них, хоть дамы и пытаются его задержать, нажимает на позолоченную дверную ручку, захлопывает за собой дверь, запирает, пару мгновений просто стоит, давая глазам привыкнуть к темноте, произносит: «Руди?» — но ответа не получает и повторяет, тоном отчасти гневным: «Эй. Руди?» — и слышит шорох, а следом вопль: «Уебывай отсюда!» — и прямо в лоб ему летит шлепанец, Виктор уворачивается и наконец различает на кровати ком безутешного гнева и пытается сообразить, что ему делать, за что зацепиться, как разговаривать, но Руди вдруг выскакивает из постели и кричит, стоя у нее: «Ну, говорят, что получилось отлично? Отлично? Дерьмо! Дерьмо они говорят! Это бифштексы получаются отлично! Музыку мне запороли! Занавес запороли! Все запороли! И не говори мне, что получилось отлично! Оставь меня в покое! Здесь морг! Отвали! Кто этот прием устроил? Ничего нелепей сроду не видел! Блядь! Пошел вон!» — Виктор выслушивает его тираду с тайной улыбкой, но знает: смеяться пока еще рано, и старается принять спокойный вид, не показать, что в голове его вихрем кружат мысли, перебираются бесчисленные сочетания слов, рычаги и тяги вечера, раздоры, овации, ошибки, рецензии, глубина множества возможных ран, и и конце концов говорит: «Да, я слышал, ты был сегодня ужасен», и Руди, повернувшись к нему, восклицает: «Что?» — а Виктор пожимает плечами, пристукивая ступнями по полу, и добавляет: «Ну, я слышал, ты выглядел сегодня как кусок говна, Руди, танцевал хуже некуда», и Руди спрашивает: «Кто это говорит?» — а Виктор отвечает: «Все!» — а Руди: «Все?» — а Виктор: «Все и, на хер, каждый», и лицо Руди перекашивается от ярости, но он молчит, лишь на губах появляется намек на улыбку, и Виктор понимает: сработало, они достигли точки возврата, — и, не дожидаясь дальнейшего, просто отпирает дверь, тихо затворяет ее за собой, чтобы вернуться к гостям, шепчет дамам-организаторшам: «Смертельных ран не обнаружено, милочки! Расходитесь по боевым постам!» — и тут из другой двери выходит мужчина, прижав к носу ладонь и знакомо поскрипывая зубами, и через минуту они с Виктором уходят в укромное местечко и делят на двоих щедрую дозу кокаина как-то он был у врача, и тот поразился, что Виктор все еще жив, не говоря уж здоров, ему полагалось бы помереть не один год назад, а Виктор сказал ему: «Жизнь человека, если это хорошая жизнь, старше его самого», и доктору так понравились эти слова, что он украсил ими стену своей приемной на Парк-авеню, а Виктору выдал две сотни чистых бланков для рецептов и денег с него не взял и вскоре Виктор выходит из уборной, а Руди — из своей спальни и как ни в чем не бывало скользит по гостиной, облаченный в прекрасную белую рубашку с удлиненным воротником, тесные белые джинсы и туфли из змеиной кожи, для Виктора у него не находится даже улыбки, но того это не заботит, он знает, теперь может произойти что угодно, все глаза следят за продвижением Руди, он выглядит как человек, только что постигший саму идею счастья, откидывает рывком головы волосы, которые упали ему на глаза, и комнату вдруг наполняет ощущение магнетизма. Руди кажется связанным с каждым, а Виктор остается одним из немногих, не участвующих в представлении, взамен он довольствуется мгновением покоя, наблюдая, как Руди собирает вокруг себя людей и произносит пылкую речь о балете как эксперименте, в котором все твои побудительные мотивы нацелены на созидание приключения, а конец каждого приключения есть новый побудительный мотив к дальнейшему созиданию. «Если танцовщик хорош, — говорит Руди, — он должен оседлывать время! Должен перетаскивать старое в новое!» — в ответ слушатели кивают и соглашаются, очарованные словами Руди, его выговором, ошибками произношения. Виктор уже много раз видел это: умение Руди овладевать толпой даже вне сцены, способность раскачиваться от бессмыслицы к глубине и обратно к бессмыслице, «Боже милостивый, он не только прекрасен, он еще и умен!», Виктору нравится наблюдать за лицами людей, когда Руди расходится в полную силу, это одни из немногих успокоительных мгновений в жизни Виктора, он смотрит, как изменяется Руди, — и, разумеется, тот не моргнув глазом тут же разбивает, швыряя в камин, шесть бокалов подряд, а после садится за концертный рояль и играет этюд Шопена, и комната затихает и тянется к нему, а он, доиграв, кричит: «Не аплодировать!» — ибо каждому ведомо: Руди нуждается в похвалах, но и ненавидит их, для него жизнь — непрестанная череда неудач, а продолжать ее можно, лишь веруя, что ты еще не сделал лучшего, на что способен, ведь сказал же Руди когда-то: «Не столько я люблю трудности, сколько трудности любят меня» Виктор видел однажды в Париже, как массажист Руди, Эмилио, разминал его в гримерной перед «Корсаром», — Руди лежал на массажном столе, идеально вылепленное тело, крепкое, белое, все в перевитых мышцах, увидев такое, начинаешь невольно посматривать на свое, но удивило Виктора не столько телосложение Руди, сколько то, что перед массажным столом стояла особая подставка, а на ней книга, которую Руди читал, подписанная автором: «Рудольфу с наилучшими пожеланиями, Сэм», книга Сэмюэла Беккета, — Руди наизусть знал большие куски из нее и позже, той же ночью, на званом обеде в австрийском посольстве, встал и процитировал — идеально, слово в слово — длинный пассаж о камушках в кармане и камушках во рту, сорвав шумные аплодисменты, а еще позже, возвращаясь домой, скорым шагом направился к Сене, рассказывая на ходу, как он уверовал в то, что в искусстве не должно быть цельности, никогда, что его бальзамирует совершенство, но в нем должна присутствовать и какая-то прореха, разрыв, — таков персидский ковер с неверно завязанным узелком, — потому что это и делает жизнь интересной: «Ничто не совершенно, даже ты, Виктор», а дойдя до реки, Руди сгреб горсть камушков, забрался, позаимствовав у Виктора пальто, на парапет и стоял, с трудом сохраняя равновесие, снова произнося ту же речь, широко разведя руки, и Виктор гадал, что случится, если Руди свалится в воду, если сама Сена станет танцевать с ним Виктор радуется, понимая, что прием приобрел наконец плавность хода, как машина после старательной смазки, все едят и пьют, квартира гудит от разговоров, Руди исполняет роль идеального хозяина, обходя столы, болтая с гостями, предлагая тост за тостом за своих товарищей танцовщиков и танцовщиц, за Марту, за Марго, «За сам танец!» — и Виктор понимает, что обязан поддерживать набранные приемом обороты, и потому скачками пересекает комнату, вытаскивает из конверта пластинку «Темптейшнс», устанавливает ее на проигрыватель, отекает иглу, подкручивает ручки тембра и громкости, а затем влетает в кухню и рявкает слугам: «Чтобы там через пять минут ни единой тарелки не было! Очистить все долбаные столы! Принести Руди выпить! Принести выпить мне! Всем до единого!» — и из гостиной выплескивается музыка, пиджаки набрасываются на спинки стульев, ступни выскальзывают из туфель, пуговицы рубашек расстегиваются, сдержанность гостей испаряется (не без помощи спиртного). рядом с проигрывателем трясет телесами толстяк в мягкой шляпе. Мик Джаггер крутится на рояльном табурете, чтобы получше все разглядеть. Фонтейн хохочет, запрокинув голову. Тед Кеннеди срывает галстук, появляется Энди Уорхол в ярко-красных штанах, из своей квартиры наверху спускается Джон Леннон под ручку с Йоко Оно, и Виктор чувствует, как ночь насыщается электричеством, тела покрывает испарина, бокалы переходят из рук в руки, мужчины многозначительно облизывают кончики сигар, и вскоре воздух наполняется ведомыми шепотом разговорами о сексе («Ну слава богу!»), как будто квартиру заполонили внезапно шпанские мушки, не знакомые прежде люди доверительно прижимаются друг к другу, женщины украдкой щекочут одна у другой кожу изнутри предплечий, мужчины трутся плечами. Виктора пронзает ощущение собственной силы, он наблюдает за Руди, перепархивающим от одной группы гостей к другой, заряжая всех эротичностью, мужчин, женщин, не имеет значения, видя в происходящем гимнастическую разминку перед часами, которые ждут впереди полтора года назад, во время отдыха Руди в Париже, Виктор наблюдал — в клубе под названием «Ле Трап», в комнате наверху, освещенной лишь красными лампочками, — как он отсасывает у шести французов, у одного за другим, выпивая в перерывах между ними по стопочке водки, а затем, услышав, что Виктор обогнал его на двух человек: «Такая изысканная французская кухня! Упоительно нежная!» — Руди затащил туда же первых трех человек, какие ему подвернулись, выстроил вдоль стены, «Настоящая расстрельная команда!», и набросился на них точно так же, как танцевал, воплощением изящества и неистовства, его сексуальная слава уже почти сравнялась тогда с балетной. Руди был известен еще и тем, что всегда норовил перепихнуться по-быстрому в паузах между выходами на сцену, а однажды в Лондоне выскочил во время антракта из театра, накинув поверх сценического костюма плащ и сменив обувь, и побежал по улице к общественному сортиру, заскочил в одну из кабинок, где и был арестован за приставания к полицейскому. — «Но меня нельзя брать под арест, у меня через десять минут выступление», на что полицейский ответил с ухмылкой: «Ты уже выступил», антракт растянулся на сорок пять с гаком минут, и в конце концов менеджер Руди, Гиллиан, нашла его и наорала на полицейского — дескать, вся Англия ждет! — и устроенное ею представление рассмешило фараона, он снял с Руди наручники, и тот понесся по улице, проскочил сквозь служебный вход в театр и выпорхнул на сцену, воспламененный случившимся, и станцевал блестяще, в газетах писали, что это было одно из лучших его исполнений, а выходя на бисы, увидел того полицейского, он стоял у задней стены зала, улыбаясь и пофыркивая, а Гиллиан нежно поглаживала лацканы его мундира а между тем ночь все пуще проникается похотью, и Руди кивает через всю гостиную Виктору, и Виктор отвечает ему кивком, их тайный язык, и вот Руди начинает обходить гостей, рассыпаясь перед ними в неумеренных, щедрых благодарностях, шепча что-то на ухо одним, помогая другим завершить заключение сделки, пожимая руки, снуя впередназад, целуя Леннона в щеку, а Йоко в губы, шлепая Уорхола по заду, заверяя Фонтейн, что души в ней не чает, чмокая руку Грэхем, — «До свидания, до свидания, до свидания», — говоря, что у него назначена на ночь встреча в «Русской чайной», простите, пора бежать, «Извините меня, пожалуйста», вранье, конечно, но рассчитанное точно, бражники начинают разбредаться, а Виктор между тем наводит порядок за сценой, выдает каждому из наемных слуг по тридцатке на чай — «Купите себе что-нибудь красивенькое, мальчики и девочки!» — гости разбредаются кто куда, на другие вечеринки, в ночные клубы, даже в «Русскую чайную», надеясь еще раз упиться созерцанием Руди, не получится, поскольку у него и Виктора совсем другое на уме, они спускаются по лестнице, свистят, подзывая такси, — холод промозглой ночи мигом пробирает их до костей — и вскоре попадают на новую территорию, покидая такси на углу Двадцать восьмой и Бродвея, где попирают ногами оттиснутое в тротуаре слово БАНЯ, Руди поправляет поля своей изрядно поношенной черной кожаной шляпы, Виктор четыре раза стучит в дверь, словно тайный знак подает, а после кричит «Приветствую!» открывшему дверь молодому человеку, они пускают монеты скользить по стойке, получают полотенца, проходят по тускло освещенному коридору с обшитыми сосновой доской стенами и попадают в раздевалку, разоблачаются, их уже обтекает здешний шум, шлепки босых ног, звон падающих капель, шипение пара, далекие крики и смех, голые, в одних полотенцах вокруг чресл и с привязанными к лодыжкам ключиками от одежных шкафчиков, Руди с Виктором направляются в сердце «Эверарда»<a l:href="#n_39" type="note">[39]</a>, тоже, хоть и на свой манер, балетного театра: здесь занимаются любимым делом величайшие из заднепроходцев города — мужчины в серьгах, мужчины на шпильках, мужчины с подведенными глазами, мужчины в одежде, выглядящей так, точно они сию минуту сбежали со съемок «Унесенных ветром», мужчины, еще не снявшие маек, которые носили во Вьетнаме, мужчины в летных очках, мужчины, обмазавшиеся маслом, мужчины, похожие на женщин, мужчины, желающие быть женщинами, одни с набухшими членами, другие со стоящими, третьи, бедолаги, с обвисшими, кто-то приседает над бьющими прямо из пола струями воды, чтобы на скорую руку поставить себе клизму, из душевых доносится визг, и все ублажают друг дружку, сэндвичи плоти, — у фонтана, в кабинках душевой, в сауне, в котельной, в чулане, где уборщики хранят орудия своего труда, в уборных и купальнях, ублажают кулаками, ступнями, пальцами, не говоря уж о языках, ублажают, порой объединяясь для этого в компании, — истинный праздник блаженства, такой, точно Виктор и Руди бросили в воду таблетку похотливости, аллилуйя, да здравствует таблетка! спускайся к нам! присоединяйся! каким бы ты ни был! низкорослым и толстым! долговязым и тощим! богатым или бедным! коротким или длинным! (предпочтительно длинным!) приди в «Вечный Стояк»! и Виктор замечает мужика, пропитанного адреналином и амфетаминами, из одежды на нем — одна боксерская перчатка, ладонь другой руки наполнена лубрикантом, он вопит: «Налетай — подешевело, налетай — подешевело! Бью только левой!» — а вон там другой тихо сидит в углу, лишь наблюдает, обручальное кольцо на пальце, это козел совсем другого пошиба, женатиков Виктор терпеть не может, ему противно двуличное бесстыдство, которое прет из них перед тем, как они возвращаются домой, к женам, ну да и ладно, кому они нужны? кто их хочет? тут и без них есть кем заняться, и он, повернувшись к Руди, говорит: «Все твои!» — потому как они никогда не охотятся вместе, только раздельно, разные оконечности спектра, и миг спустя Руди удаляется по коридору в другую часть бань, а Виктор приступает к обходу своей территории, выясняет обстановку, всматривается в лица, первые десять минут он неизменно отдает ритуальным наблюдениям, сосредоточенным и серьезным, поскольку никогда не знает точно, с чего начать, это ознакомление с ситуацией — он понимает, что не следует действовать с бухты-барахты, — и омывает лицо сочащейся из крана водой, а затем прорезает пар, полотенце так и остается на бедрах, опытный стрелок, опускающий веки, чтобы сказать: «Нет, тебя не хочу и не захочу никогда, окажись ты даже вторым и последним мужчиной на свете», или, не отводя взгляда: «Возможно», или расширяя глаза: «Да да да», внимание Виктора привлекает попа под душем, спинная ложбинка, изгиб грудины, он продолжает прогулку, пока не чувствует, как оживает его тело, закипает кровь, растет желание, теперь его облекает пар, да да да да, он кивает рослому бородатому блондину, стоящему в двери одной из комнат, синеглазому, серьезному, и через несколько мгновений они спрягаются под красными лампочками, игнорируя прискорбное отсутствие матраса на полу, для опоры довольно и стены, скольжение кожи, шлепок желания. Виктор позволяет ему вести, дыхание блондина обжигает кожу, он отводит руку назад, щекочет яйца своего любовника, как-то по-крестьянски они этим занимаются, думает он, тому, кто делает выбор, не следует изображать попрошайку, и, когда блондин кончает, Виктор выпрямляется: «Gracias!» — и вновь отправляется на поиски, решив, что остаток ночи он проведет на водительском месте, эта позиция нравится ему больше всего, максимальная свобода движений. «Gracias! Gracias! Gracias!», огромная приливная волна соитий, безжалостных и беспощадных, юноша, зрелый мужик, снова юноша, да еще с самыми, это точно, красивыми лопатками, какие когда-либо видел Виктор, он обожает лопатки, любит пробегаться языком по верху спинной ложбинки, щекотать губами шею содрогающегося и стонущего партнера или проходиться зубами сверху вниз по его спине. Виктор не знает устали, да надеется, что и не узнает, — его немногочисленные «нормальные» друзья, особенно женатые, не верят, что он и вправду может протрахаться целый день и продолжить на следующий, полагают, что Виктор врет, говоря, что мужчин он отымел больше, чем выпил чашек чая: «Чай, друг мой, сильно переоценивают», и он продолжает переходить от тела к телу, пока наконец не решает устроить маленький перерыв, дать себе небольшую передышку, и направляется в собственно баню, довольный, счастливый, охота временно прервана, он спускается, окутанный паром, в уютную воду и мокнет в ней, пока вокруг продолжаются гимнастические упражнения, — когда-то, давным-давно, бани принадлежали итальянцам и ирландцам, но с конца шестидесятых, со славного конца шестидесятых, в которые плоть обрела популярность, бани принадлежат Викторам этого мира, победа осталась за ними, хоть забавы их и рискованны, легавые время от времени устраивают здесь облаву, Виктору случалось проводить ночи в тюрьме, и вот уж где отстаивались традиционные банные ценности, такое дружество! такая учтивость! такие тюремные перепихи! — погруженный в успокоительное тепло Виктор гадает, как там Руди, однако знает, беспокоиться не о чем, для людей Руди что липучка для мух, он способен удерживать их висящими в воздухе, въедаться в память, и в предстоящие годы они еще будут шепотом рассказывать об этом: «Что же, я внес свой вклад в холодную войну, да, меня отхарил сам Рудольф Нуриев! Я, доложу вам, был серпом, а он молотом!» — и рассказы эти будут присваиваться и переприсваиваться: величина его члена, стук сердца, ощущение, оставляемое его пальцами, аромат, оставляемый языком, пот на его бедрах и, может быть, даже звуки, с какими разбивались в груди их сердца, когда он уходил Виктор часто говорил Руди, что любовь к одному-единственному мужчине невозможна, он должен любить их всех, но временами Руди горевал, и бурно, об утраченной любви, что было вовсе не в духе Виктора, он верил в кругооборот, в рискованную игру и не мог взять в толк, как это Руди удавалось любить, в прошлом, как он сумел по-настоящему втюриться в одного-единственного мужчину, отдать ему свое сердце, ведь Руди провел с Эриком Бруном многие годы, два величайших танцовщика мира любили друг друга, это казалось невозможным, и рассказы об этом выводили Виктора из себя, ибо звучали они так, словно миллион камертонов одновременно ударял в грудь Руди, а Виктору было противно слушать о мгновениях, которые танцовщики проводили вместе по всему свету, на яхтах, в гостиных, в люксах отелей, в санаториях на датских равнинах, Виктор не мог это понять, Брун представлялся ему антитезисом жизни, высокий, светловолосый, пасмурный, хладносердый, педантичный, «этот гребаный викинг!», дело было не столько в ревности, питаемой Виктором, во всяком случае, так он твердил, сколько в боязни, что у Руди разобьется сердце, что любовь подорвет его силы, что он лишится всего точно так же, как мужчина, женившись, словно проваливается сквозь пол, по которому разгуливают его жена и дети, а еще Виктор боялся стать одним из внезапно покинутых Руди людей, того, что ему придется влачить ужасный груз воспоминаний об их прежней дружбе, однако страхи его были напрасны, потому что в конечном счете именно Руди бросил Бруна, не наоборот, Виктор хорошо помнит ту ночь, когда все закончилось — не в первый раз, зато в последний. — Руди рыдал в телефонную трубку, что проняло даже Виктора, и наконец выяснилось, что он в Копенгагене, — «здесь такой охеренный холод», — но уже выезжает в Париж, он порвал с Бруном и хочет, чтобы Виктор приехал, и Виктор немедленно уложил чемодан, поехал в аэропорт, где его ждал билет в первый класс, и поневоле улыбнулся, уяснив, какими удобствами обставил Руди, несмотря на душевные муки, его перелет, а после, откинувшись в уютном кресле, думал о том, что скажет Руди, какие сможет найти ответы, однако, добравшись до квартиры на набережной Вольтера, обнаружил в ней лишь француженку-экономку и сел у окна, на миг порадовавшись несчастью Руди, ибо оно сулило новую драму, но когда Руди вошел и Виктор увидел его унылое, изможденное, изрезанное горестными морщинами лицо с черными дорожками слез, то ощутил укол огромной жалости и обнял друга, что делал очень нечасто, и заварил ему чай, и насыпал в чашку шесть ложечек сахара, и достал бутылку водки, задернул шторы, и двое мужчин сидели в темноте, пили, разговаривали: не об Эрике, что удивило Виктора, не о разрыве, страданиях или утрате, но о своих матерях, поначалу это оставляло странное ощущение общего места — двое взрослых мужчин ищут друг у друга материнского утешения, — но затем тоска обоих по матерям стала до ужаса реальной и Руди сказал: «Временами мне кажется, Виктор, что мое сердце сидит под домашним арестом», и Виктора проняла дрожь, он знал, что Руди годами отчаянно пытался получить для матери визу, пусть даже на один день, чтобы Фарида могла еще хоть разок увидеть сына танцующим, разделить с ним, хотя бы на краткий срок, его мир, временами разлука с ней затмевала для Руди все его счастливые минуты, он думал о матери день и ночь и к кому только ни обращался, ко всем, к президентам, послам, премьер-министрам, королевам, сенаторам, конгрессменам, принцам, принцессам, но тщетно, власти и пальцем не шевельнули, и визу его мать так и не получила, и уж тем более они не дали бы визу самому Руди, и он боялся, что Фарида умрет без него, и отдал бы все на свете, лишь бы увидеть ее еще раз, и Виктор проглотил еще одну стопку водки и сказал, что и ему уже много лет хочется увидеть мать, каким-то образом воскресить ее, просто вернуться в Каракас, чтобы сказать, как он ее любит, соединить в ее честь эти три слова, и разговор этот так сблизил их, что Руди и Виктор оказались способными просидеть час в молчании, в интимности большей, чем секс, без жульничества, без притворства, в великой, задушевной, необходимой интимности, имя Эрика они так ни разу и не назвали, вспоминая вместо этого более счастливые времена, и наконец оба заснули у окна, и разбудила их экономка, Одиль, принесшая кофе и сразу ушедшая, и Виктор сказал Руди: «Может, позвонишь Эрику, может, тебе стоит поговорить с ним», но Руди покачал головой, нет, и Виктор понял: все действительно кончено. Брун обратился еще в одну веху прошлого, и, прежде чем начать день, Руди подошел к каминной полке и снял с нее фотографию Фариды, стоявшей, с искаженным печалью лицом, в белой шапочке посреди заводского двора, снимок выглядел неуместным в этой квартире, среди ее мебели и произведений искусства, но Руди прижал его к груди, словно кланяясь прошлому, а позже, когда двое мужчин вышли под ясный свет дня, они уже немного стеснялись того, что произошло в темноте, «Посмотри на нас, Руди, мы же промокли от слез!» — и все-таки знали, глядя на чадный утренний поток шедших вдоль Сены машин, что они непонятно как окунулись в прирожденную замусоренность своих душ пар встает сейчас вокруг Виктора, а он думает, что зря нажал на кнопку «пауза», что они, эти воспоминания, способны чересчур разбередить его раны, и просит у соседа сигарету и зажигалку, с удовольствием затягивается, слышит вокруг какое-то бормотание и видит, как Руди спускается с ним рядом в воду, видит идущую от пупа полоску волос, тонкую, словно кованую, талию, никакого жеманства, никакого, длинный член, удовлетворенно обмякший, как путешественник в конце долгого пути, и Виктора веселит — а ему как раз необходимо веселье — мысль обо всех пенисах мира, совершающих путешествия, одни маются сейчас в туристических группах, другие гуляют по английским паркам, третьи сидят в душных комнатах Средиземноморья, четвертые — в поездах Сибири, но некоторые и впрямь, о да, и впрямь некоторые оказались кочующими цыганами, побывавшими повсюду и возвращающимися восвояси без особой цели, а просто ради удовольствия жить. «Эй, Руди! Ты и я! Мы оба кочевники!» — он объясняет Руди соль шутки, они лежат, наслаждаясь мгновением, посмеиваясь, болтая о приеме в «Дакоте», кто что надел, кто с кем пришел, а еще полчаса просто нежатся в воде, в молчании, в близости, пока Виктор не спрашивает, улыбаясь: «Знаешь, Руди, на что мы потратим остаток жизни?» — и Руди, закрыв глаза, говорит, что скоро уйдет, завтра рано вставать, репетиция громоздится на репетицию, его жизнь похожа на бесконечную подготовку к чему-то настоящему, приближаются большие события, все важные, два благотворительных гала-концерта, пять фотосъемок, десяток телевизионных интервью, поездка в Сидней, в Лондон, в Вену, не говоря уж о пробах для кинофильма, конца-края не видать, иногда Руди хочется остановить все и на время выйти из своей жизни, столько еще нужно сделать, а это отнимает время у танца, он хочет просто выступать и ни о чем больше не думать, и Виктор встает, вздыхает, поднимает в воздух руку и кричит: «О, утопите меня в мартини! Купите мне виселицу от „Тиффани“! Приготовьте последний ужин у „Максима“! Убейте током в моем джакузи! Бросьте в бассейн мой платиновый фен!» — и Руди улыбается, он знает, что Виктора ему в эти игры не переиграть, и кивает стоящему на кромке бассейна, раскланиваясь, другу, и, ухватив его за ногу, дергает, и Виктор головой вперед валится в воду, «Не испорти мне прическу!», и они хохочут до изнеможения, отдуваются, держась за край бассейна, двое мальчишек, очарованных друг другом, и неожиданно в глазах Руди опять загорается греховный свет, он вылезает из воды — полотенце на шее, тело набралось новых сил — и говорит, что готов к финальному раунду, что Уильям Блейк — «Тропа излишества, Виктор, ведет в чертоги мудрости»<a l:href="#n_40" type="note">[40]</a> — это одобрил бы, и по бане проносится новый бормоток, а Виктор бросает взгляд на свои ментальные часы, думая, куда отправиться теперь, где может найтись наилучшая дурь, наилучшая музыка, где еще один раунд стихийного секса сможет напитать его сокровенные нужды, и тоже поднимается из воды, но идет в направлении противоположном, не обращая внимания на пару симпатичных заигрываний, жертвоприношений, если правду сказать, и возвращается к своему шкафчику, садится на деревянную скамью, натягивает черные брюки и оранжевую рубашку, он вне поля зрения Руди — «Время для новой дозы воскрешения!» — и, втянув в себя дорожку, вставляет ступни в туфли, кивает мужчинам в коридоре, производит, ища Руди, обход бани, но Руди нигде не видно, быть может, он укрылся в каком-то углу, или спрятался, или ушел, не попрощавшись, тут ничего необычного, разумеется, просто один из его номеров, ведь мир принадлежит Руди, зачем же прощаться с любой из его частей; досконально обыскав бани, Виктор не обнаруживает никаких следов друга и потому выходит на улицу, смотрит вправо, смотрит влево, даже добегает трусцой до угла, однако авеню на удивление тиха и зловеща, ни души в ее тенях, опасное время, там, случалось, избивали геев, но ведь ты проживаешь свою жизнь, лишь пока она проживает в тебе, и Виктор пускается в путь, снова поигрывая плечами, перекатывая их вперед и вверх, — «Кто бы ни привел меня сюда, друзья мои, платить по счетам придется мне», — он останавливает такси с красивым молодым мексиканцем за рулем, думает, не пригласить ли его выпить в одном из клубов центра, и отказывается от этой идеи, увидев покачивающегося на приборной доске пластмассового Иисуса, вера для Виктора — это не более чем суетный суппозиторий, он опускает стекло, чтобы посмотреть на проскальзывающий мимо Манхэттен, на буйство его кричащего неона, Вест-Сайд, сверкливая красная желтая оранжевая зеленая страна чудес, карманники, бабники, попрошайки, проститутки, мальчики и девочки, пришибленные химикатами, Виктор машет им ладонью, они показывают ему средние пальцы, он продолжает махать, такси катит на юг к «Наковальне», сейчас, в половине четвертого утра, живой и пульсирующей, светильники дискотеки вращаются, мужчины в коже и заклепках, мужчины в джинсах с вырезанными ножницами задами, мужчины в одеждах фермеров и ковбоев, мужчины со стальными болтами и гайками вместо молний, на маленькой сцене трансвестит играет с шестифутовым боа-констриктором, на веревках раскачиваются несколько залихватских танцоров, Виктор проверяет, на всякий пожарный, бар, нет ли там Руди, — отсутствует, — а оглядываясь по сторонам, вдруг понимает, что в баре нет ни одного мужчины, которого он не отодрал бы, как отодрал и их братьев и добрую половину дядьев, с ума можно сойти! и ни один не отрастил на Виктора зуб, поскольку перепихи так же необходимы здесь, как воздух, а может, и больше, перепих есть вода и хлеб существования, а этот бар — местечко злачное, позлачнее многих, здесь языки вылизывают уши, руки бродят под чужими поясными ремнями, пальцы пишут круги вокруг сосков, сам воздух пахнет сексом, Виктор и опомниться не успевает, а уж бар с разных концов пересекают, направляясь к нему, с полдюжины захватанных бокалов с водкой и грейпфрутом, залп ночной артиллерии, и Виктор принимает их все, «Побольше льда, джентльмены, прошу вас!», и раздает остатки дорматила, оставляя себе немного порошка, легкая скаредность вреда не приносит, и начинает танцевать, и выводок поклонников вторит ему, все песнопения лета пропитывают их, Виктор снова воскрес, точно перелетная птица на последнем отрезке пути, и гадает, где же все-таки Руди, если он и в самом деле ушел, когда они встретятся снова, есть одно последнее местечко, Виктор хорошо его знает, там вполне можно скоротать ночь, отдыхая, — грузовики! постыдные грузовики! темные помещения на шестнадцати колесах! о да! грузовики! местечко, которое нравится и Руди, темное, безликое, опасное, сточная канава желания и Виктор обдумывает: ехать туда, не ехать — к ночному ряду колес в районе мясохладобоен, да уж, мяса сегодня забито будь здоров, на последнюю сцену вечера, и оглядев танцевальный пол, замечает: движение к дверям уже началось, и думает, что не хочет становиться одним из багроволицых педиков Нью-Йорка, жалующихся, что им теперь приходится вставлять мальчишкам, которые вдвое моложе их, нет, не то, совсем не то, «Я подписал хартию жизни! Я продолжу! Покачу дальше! Пока не докачусь до края и не свалюсь!», и с помощью жестов и пары продуманных, произнесенных шепотом фраз: «Возьмите с собой только пять тысяч самых интимных моих друзей!» — собирает компанию мальчиков, умаявшихся до того, что им впору валиться с ног, глаза их совсем утонули в глазницах, но мания таскаться по пятам за великим Виктором осталась при них, а на улице ждет флотилия желтых такси, здесь одно из немногих на Манхэттене мест, где таксист может с гарантией рассчитывать на заработок, и Виктор, расцеловываясь с вышибалами, щелкает пальцами и грузится со своей когортой в машины, некоторые из его сопровождающих высовываются в окна, будто ковбои, впервые едущие в машине по городу, по Вест-Сайду, «Приготовьте лассо, девочки!», другие сообщают водителям, что они сию минуту прибыли из Техаса и ищут место, где можно сложить свои седла, «Ковбои — лучшие любовники, это вам любой бычок скажет!», запахи Гудзона вплывают в открытые окна, камни мостовых светятся от недавнего дождя, в бочках из-под нефти горят костры, вокруг которых покуривают, делясь сигаретами, бездомные бродяги, ночной воздух все еще веет холодком различных возможностей, такси огибают углы, пока не появляются, точно миражи, грузовики, серебристые, огромные, блестящие, целая миля кипучей деятельности, мужчины в различных состояниях восторженности и распада, одни хохочут, другие рыдают, двое пытаются танцевать на тротуаре вальс, каждый так близок к банкротству, что все они с последней щедростью раздают оставшуюся у них дурь, колеса, «попперсы», порошки, припасенные на конец вечера, окликают друг друга из грузовиков, перекидываются баночками «Криско» и жестянками вазелина, кто-то орет, что у него обчистили карманы, трансвестит визжит, понося любовника, юноши спрыгивают из кузовов на землю, подсаживают наверх пожилых педерастов, все походит на странную, волшебную зону боевых действий, на игру в прятки, но Виктор ненадолго замирает посреди сутолоки, зажав в зубах кончики усов, пробегается взглядом по толпе и как раз перед тем, как решает залезть в кузов. — «Конец света очень даже может наступить до восхода солнца!» — оборачивается к мощенной булыжником улице и видит одинокого мужчину, идущего к грузовикам, пересекая круги фонарного света, идущего с уверенностью и грацией, звук его шагов включен на полную громкость, что и привлекло внимание Виктора, мгновенно понявшего — еще не успев узнать кожаную шляпу, изгиб ее полей, долговязость хозяина, — кто перед ним, и Виктор чувствует, как прилив эмоций проносится по нему, словно ветер по траве, заставляя зудеть волоски на предплечьях, а Руди кричит: «Ты, венесуэльская мразь! Бросил меня там!» — и хохочет, лицо его расплывается в счастливой гримасе, и дрожь пробегает по хребту Виктора, пока он следит за приближением Руди, думая: вот идет по улице одиночество, аплодируя себе на ходу. 2 Ленинград, 1975-1976 Зиму 1975 года я пробродила по Ленинграду, волнуясь из-за переведенных мной лишь наполовину стихов. После развода с Иосифом я поселилась в коммуналке, находившейся неподалеку от Казанской. Получила голую, ничем не украшенную комнату с линолеумным полом — в достаточной, чтобы создать для меня связь с прежней жизнью, близи от Фонтанки. Вставала я рано, выходила на прогулку, а потом усаживалась за работу. Поэты мои были недобитыми социалистами, которым еще хватало сил собираться и шумно обличать — на прекрасном и свободном испанском — сотворенные Франко ужасы. Они писали, чтобы сохранить то, что иначе забылось бы, продлить его жизнь, и слова их поглощали меня. В прежние времена я уезжала за город, чтобы подумать, побродить по колено в воде одной из речек, но теперь Ленинграду каким-то образом удалось стать для меня настоящим бальзамом. По темным водам канала медленно плыли барки. Птицы проносились над ними. Давний дневник отца, который я носила в кармане плаща и перечитывала, сидя на скамьях скверов, все еще согревал меня. Находились люди, которым мое видимое бездельничанье внушало подозрения, — кто-то из прохожих мог подолгу поглядывать в мою сторону, или машина вдруг останавливалась и шофер вперялся в меня полным сомнения взглядом. Ленинград — не тот город, в котором стоит выставлять напоказ свою праздность. Я начала носить шаль, придерживать сгибом локтя воображаемый сверток, касаться другой рукой пустоты, делая вид, что несу завернутого в одеяло ребенка. Пятидесятый день моего рождения я провела, возясь с одним-единственным стихотворением, до ужаса антифашистским памфлетом, в котором народы, просветленные и темные, безрассудно неслись под грозой по полям и буеракам. Стихотворение имело явственный политический привкус, однако я начинала понемногу думать, что оно относится непосредственно ко мне, навоображавшей какого-то там ребенка. Если ты молода, то можешь и после двух выкидышей позволить себе питать некие амбиции, относящиеся к Партии, Народу, науке или литературе. Однако я давно их отбросила, и теперь свет, проникавший в мою душу, был не более чем фантазией о том, что я еще могу сотворить нового человека. Ребенок! Смеха достойно. Я не только прожила на белом свете полвека, но и не познакомилась после развода ни с одним мужчиной. Я потопталась по комнате от стены к стене, от зеркала к зеркалу, потом вышла из дому, купила на рынке себе в подарок пакет мандаринов, но даже слущивание их оранжевой кожуры казалось мне, сколь это ни абсурдно, связанным с моим желанием. Отец когда-то рассказывал, как в его лагерь пришел полный вагон огромных бревен, которые заключенным надлежало разрубить. Он входил в бригаду из двенадцати человек. Лето стояло ужасно жаркое, каждый взмах топором был пыткой. Отец рубил ствол и вдруг услышал удар металла о металл. Наклонился и увидел застрявший в древесине, похожий формой на гриб, кусок свинца. Пулю. А сосчитав годовые кольца, отделявшие пулю от коры ствола, получил число своих собственных лет. — От себя не уйдешь, — сказал он мне годы спустя. Одним весенним утром я на трамвае поехала в пригород, где работала в детском доме моя знакомая, Галина. Когда я опустилась в ее темном кабинете на стул, она приподняла одну бровь, нахмурилась. Я сказала, что ищу работу — в дополнение к переводам. Вряд ли Галина поверила мне. Желание возиться с сиротами считалось странным. В большинстве своем они были слабоумными или хронически нетрудоспособными. Над столом Галины висел на стене листок с отпечатанной на нем пословицей, по ее словам, финской: «Треск, с которым валится дерево, — это его просьба о прощении за то, что оно сломалось». Я убеждала себя в том, что поездка сюда — это просто попытка сбежать хотя бы на полдня от испанских стихотворений. Но я также слышала кое-что о женщинах моего возраста, которые открывали семейные детские дома. Совсем небольшие, иногда всего на шесть детей, и государство выплачивало им нерегулярные пособия. — Так ты в университете больше не работаешь? — спросила Галина. — Я развелась. — Понятно, — сказала она. Из глубины дома долетал детский плач. Когда мы покинули кабинет, нас обступила стайка мальчиков — остриженные наголо головы, серые тужурки, красные болячки у губ. Галина провела меня по территории детского дома. Раньше в этом здании находился оружейный склад, теперь его ярко окрасили, из крыши торчала длинная дымовая труба. Учебные классы сложили из шлакобетонных плит. Сидевшие в них дети пели хвалебные песни своей хорошей жизни. В саду стояли качели, всего одни, каждому ребенку разрешалось в течение дня полчаса покачаться на них. Служащие дома попытались построить в свободное от работы время детскую горку, но дела до конца не довели, и теперь скелет ее возвышался за качелями. Тем не менее трое мальчиков ухитрились залезть и на нее. — Здравствуйте! — крикнул один из них. На вид ему было года четыре. Он спустился с горки, подбежал к нам, поднял руку, чтобы почесать поросшую мягким пушком голову, — на ней уже начали отрастать сбритые волосы. Голова казалась слишком большой для его крошечного тельца. Глаза у мальчика были огромными и странными, словно скособоченными, лицо ужасно худым. Я спросила, как его зовут. — Коля, — ответил он. — Вернись на качели, Николай, — сказала Галина. Мы пошли дальше. Оглянувшись, я увидела, что Коля снова забирается на самодельную горку. Солнечный луч высветил темную щетину на его голове. — Он откуда? — спросила я. Галина коснулась моего плеча и сказала: — Ты бы не привлекала к себе излишнего внимания. — Мне просто интересно. — Нет, правда, будь поосторожнее. Работу в детском доме ей дали после отчисления из университета. Годы проехались катком по ее лицу, меня поражало, каким оно стало вялым, неопределенным и, в общемто, похожим на мое. Впрочем, когда мы вошли в маленькую рощицу, Галина остановилась, кашлянула и слабо улыбнулась. И сказала, что родители Коли были интеллигентами с дальневосточной окраины России. Им удалось получить должности в Ленинградском университете, а потом оба погибли — машина, в которой они ехали, врезалась на Невском в трамвай. Каких-либо родственников Коли, ему в то время было три месяца, отыскать не удалось, первые несколько лет жизни он промолчал, не произнеся ни одного слова. — Ребенок умный, — сказала Галина, — но страшно одинокий. И не без странностей. — Каких? — Прячет еду, дожидается, когда она начнет попахивать или заплесневеет, и уж тогда ест. А еще писается. Никак не научится вовремя бегать в уборную. Мы обогнули здание и увидели бригаду из мальчиков и девочек, рубивших хворост, наполняя воздух паром своего дыхания. Взлетавшие над их головами топоры отливали мгновенным блеском. — Зато у него есть задатки шахматиста, — продолжала Галина. Я, ошеломленная явившейся мне внезапно картиной: отец, вытаскивающий пулю из древесного ствола, спросила: — У кого? — У Коли! — ответила Галина. — Он вырезал для себя фигуры из перекладин своей кровати. Мы обнаружили это как-то вечером, когда он рассыпал их по полу. Коля их в наволочке прятал. Я остановилась на дорожке. К главному зданию подъехала автоцистерна. Галина посмотрела на часы, вздохнула и сказала: — Мне пора. Откуда-то донесся детский смех. — Если хочешь, я, пожалуй, смогла бы помочь тебе получить здесь работу, — сказала она. И пошла к дому, позвякивая связкой ключей. — Спасибо, — ответила я. Галина не обернулась. Я-то знала, чего хочу и, возможно, хотела всегда, с юности. Перед тем как уйти, я постояла, глядя на свисавшего со шведской стенки Колю. Прозвучал визгливый свисток, призывавший детей вернуться в школу, — сторож уже выпускал во двор следующий десяток малышей. Я тоже вернулась домой, к моим словарям и мандаринам. На следующей неделе служащая Минобрнауки сказала мне, что любые усыновления практически отменены, и я поддакнула — да, разумеется, государство способно позаботиться о сиротах лучше любого частного лица, — но затем поинтересовалась: а как насчет опекунства? Она смерила меня злым взглядом и сказала: «Подождите здесь, пожалуйста». Вернулась чиновница с папкой, порылась в ней и вдруг спросила: «Вы любите балет?» Вопрос ее мог иметь только одно объяснение. Руди остался на Западе больше десяти лет назад. В последние годы официальное отношение к нему смягчилось, за это время появились другие перебежчики, более высокопоставленные, и внимание властей переключилось на них. «Известия» напечатали даже статью о его турне по Германии, процитировав западные газеты, писавшие, что звезда Руди едва ли не закатывается. А когда в начале семидесятых умер Александр Пушкин, газеты мимоходом упомянули и Руди, заявив, впрочем, что интересным танцовщиком он стал благодаря гениальности его учителя, а не собственным дарованиям. Я стиснула кулаки, ожидая от чиновницы пояснений. Она внимательно прочла мое дело. Мне казалось, что я, в моей лихорадочной спешке, сама вырыла себе яму, в которую свалилась. Разумеется, в моих документах знакомство с Руди никак обозначено не было, но, по-видимому, в деле что-то о нем говорилось. Я пролепетала какие-то извинения, и чиновница, поправив на носу бифокальные очки, уставилась сквозь них на меня. И сурово объявила, что в конце пятидесятых годов видела в Кировском один балет. Танцевал ведущий исполнитель прекрасно, однако в дальнейшем страшно ее разочаровал. Говорила она недомолвками, но у меня сложилось впечатление, что обе мы вглядываемся в прошлое. Она еще раз просмотрела мое дело. Я позволила себе облегченно выдохнуть. Имени Руди чиновница не упомянула, однако он словно бы встал между нами. На самом-то деле я вовсе не хотела, чтобы Руди снова занял какое-то место в моей жизни, — по крайней мере, тот Руди, которого я знала многие годы назад. Я хотела получить Николая, Колю, мальчика, которому я смогла бы помочь вырезать что-то осмысленное из перекладин моей жизни. — Пожалуй, я смогла бы помочь вам, товарищ, — сказала чиновница. «Господи, во что же это я влезла?» — подумала я. Она сообщила, что статья 123 Семейного кодекса содержит положение, касающееся опеки, и существует еще один закон, предоставляющий членам партии возможность заботиться об одаренных детях. Я состояла в партии, но, разойдясь с Иосифом, вела себя тише воды ниже травы, опасаясь, что он попытается свести со мной счеты. Мне даже примерещилось, что эта женщина из Отдела народного образования как-то связана с ним, что она может выдать меня. Однако я ощущала в ней честность и простоту, соединенную с острым умом. — У мальчика есть какие-нибудь способности? — спросила она. — Он шахматист. — В четыре-то года? Она записала что-то на листке бумаги и предложила: «Приходите на следующей неделе». До этого времени я считала, что женская дружба — дело пустое, шаткое, зависящее скорее от обстоятельств, чем от душевных движений, однако Ольга Вечеслова, которую я вскоре узнала близко, оказалась существом неординарным. Она была моложе меня и пыталась скрыть за очками в золоченой оправе острую неуверенность в себе. Темно-карие волосы. Темные, почти черные глаза. Когда-то она танцевала на сцене, но теперь в теле ее не осталось и намека на это — широкая в бедрах, сутуловатая, они ничем не напоминала маму, которая, даже заболев, ступала так, точно на голове ее стоит фарфоровая чашка. Мое знакомство с Руди нервировало Ольгу, но и было приятно ей. Конечно, она относилась к нему отрицательно — изменник, еще бы! И кроме всего прочего, он изменил тому, чего в конечном счете хотели для себя мы, — реализации наших желаний. И в этой нелюбви крылась потребность в нем. Болезнь своего рода: и я, и она не могли выбросить его из головы. Мы стали встречаться раз в неделю, бродить вдоль каналов, понимая, конечно, что наша дружба способна привлечь нежелательное внимание, но делая вид, что нам на это наплевать. Ольга добилась для меня разрешения навещать Колю в сиротском приюте. Лето шло к концу, Коля выглядел недокормышем — торчавшие из трусиков ноги его были тонкими, точно у паучка. Болячки на лице, ужасные. Его пороли за недержание, спину покрывали рубцы. Галина сказала мне, что на самом деле ему шесть лет, не четыре, просто он задержался в развитии. И я начала сомневаться, грызть ногти, впервые с шестнадцати лет. «Мне с таким ребенком не справиться», — думала я. А тут еще формальности усыновления — стратегический кошмар: очереди в школы, изменение имени, квартирный вопрос, прививки, документы. И все равно я купила краску, кисть, отыскала в комиссионке кружевную занавеску, выкрасила угол комнаты в голубой цвет, изобразила на подоконнике, скопировав их из книжки, шахматные фигурки. Расставила по полкам антикварные безделушки. Полки у меня были плетеные, оранжевые. Главная беда — кровать для Коли отсутствовала. Я записалась в магазине в очередь, но ждать нужно было месяца четыре, да и денег, хоть я и переводила как нанятая, у меня жутким образом не хватало. В итоге Ольга нашла матрасик, приобретший, когда я отчистила и залатала его, вид вполне презентабельный. Я оглядела комнату. Какая была, такой и осталась — функциональной, серой. Ладно, найти в Ленинграде птичью клетку — не проблема, я купила одну, привесила к потолку и поместила в нее фарфоровую канарейку: безвкусно, но красиво. А еще отыскала на рынке чудесную музыкальную шкатулку ручной работы, игравшую, когда ее заводили, концерт Арканджело Корелли. Стоила она, как множество моих стихотворений, но, подобно фарфоровому блюдечку, полученному мной от отца, отзывалась сразу и прошлым, и будущим. И когда в конце сентября Ольга добилась наконец оформления опекунства, настал момент, лучше которого я ничего в моей жизни не знала, абсолютно. Коля стоял посреди комнаты и плакал — так, что у него кровь носом пошла. Чесался, покрывая царапинами руки и ноги. Я приготовила примочку, залепила пластырем ранки, а совсем уж вечером выдала ему шоколадку. Он не знал, что это, смотрел на нее, смотрел, потом развернул. Отгрыз кусочек, поднял на меня взгляд, откусил еще и сунул половинку плитки под подушку. Я в ту ночь не заснула, баюкала его, когда ему снились кошмары, и даже смазала уже затхлой примочкой себе пальцы, чтобы ногти больше не грызть. Проснувшись, Коля забился в страхе, но после затих и попросил вторую половинку плитки. То была просьба из тех, что без видимой причины наполняют душу надеждой. Спустя месяц я написала Руди о том, какой резкий поворот произвела моя жизнь, каким она пошла скорым ходом. Но письмо не отправила. Зачем? Я стала матерью. И с довольством принимала теперь седину в моих волосах. Мы с Колей спустились к Фонтанке. Он ехал на вихлястом велосипеде, найденном нами возле мусорного бака, далеко от меня не отъезжал. Мы направлялись в Минобрнауки, сообщить о наших успехах. Посмотрел «Все в семье», потом поехал на такси к Джуди и Сэму Пибоди (такси 2,50 доллара). Пришел Нуриев, выглядел ужасно — по-настоящему старым. Похоже, ночная жизнь его все-таки доконала. С ним был его массажист. Массажист и одновременно чтото вроде телохранителя. Направляясь туда, я этого не знал, но Нуриев сказал Пибоди, что, если появится Моника Ван Вурен, он уйдет. Говорит, что она его использует. Нет, он ужасен. Когда он был никем и даже не мог поселиться в отеле, Моника дала ему кров, а теперь он говорит, что она использует его. Негодяй, просто негодяй. В 1.30 Эберштадты решили уйти, и я подвез их (такси 3,50 доллара). Дневники Энди Уорхола Воскресенье, 11 марта 1979 3 Париж, Лондон, Каракас, 1980-е Мсье спал, город был тих, я с ранних лет любила его таким, я стояла у окна, вдыхала запах Сены, иногда он неприятен, но в то утро от реки веяло свежестью. На кухне пеклись печенья, и два аромата смешивались в воздухе. В девять утра ветер принес на набережную звон колоколов Святого Фомы Аквинского. Пока я ждала пробуждения мсье, чайник закипел в четвертый раз. Обычно мсье позже девяти не залеживался, как бы поздно ни возвращался домой. Я всегда знала, есть ли с ним кто-нибудь, потому что в этих случаях по креслам бывали разброшены пиджаки и другая одежда. Однако в то утро гостей не было. Я сняла чайник с плиты, в спальне мсье что-то громко стукнуло, потом проигрыватель заиграл там Шопена. Когда годы назад я поступила на службу к мсье, он привычно выходил из спальни в одних трусах, однако я подарила ему на день рождения белый купальный халат, и в знак признательности мсье стал надевать его по утрам. (У него десятки шелковых пижам и красивых тибетских мантий, однако он никогда их не носит, а выдает гостям, которые неожиданно решают остаться на ночь.) Я ополоснула заварочный чайничек горячей водой, насыпала заварку и вернула большой чайник на плиту, на слабый огонь. Появился мсье, поздоровался со мной, как обычно широко улыбаясь. Простые радости жизни все еще доставляли ему удовольствие, редко выпадало утро, когда он не подходил бы к окну и не набирал полную грудь воздуха. Я всегда считала, что молодой человек с неограниченными средствами — ему было в то время сорок два года — ничего, кроме счастья, испытывать не может, однако случались дни, когда небо словно придавливало мсье, и я оставляла его предаваться мрачным мыслям. В то утро он зевнул, потянулся. Я поставила на стол чай и печенье, а мсье сообщил, что уйдет сегодня позже обычного. Сказал, что ждет гостя, обувного мастера из Лондона, визит этот он хотел сохранить в тайне, поскольку в Париже хватало танцоров, которые также могли претендовать на время мастера. Утренние визитеры случались у нас не часто, я забеспокоилась, хватит ли нам печенья и фруктов для угощения, но мсье сказал, что уже много раз встречался с этим обувщиком, человек он простой и ничего, кроме чая и тостов, ему не потребуется. Я знала многих англичан, поскольку моя тетушка еще за двенадцать лет до войны служила на Монмартре экономкой в доме известного актера. Английский язык всегда поражал меня присущей ему учтивостью, однако со временем я стала отдавать предпочтение русскому характеру с его требовательностью и умением просить прощения, мсье проявлял эти качества совершенно открыто. Он мог, к примеру, сильно повысить голос, если мясо оказывалось переваренным, но после извинялся за свой дурной нрав. Со временем вспышки мсье, а их случалось немало, стали даже нравиться мне. К приходу обувного мастера мсье расставил по полу множество старых балетных туфель. Открыв дверь, я увидела низенького лысого мужчину с плащом, переброшенным через одну руку, и чемоданчиком в другой Он был лет на десять старше меня — под шестьдесят, самое малое. — Том Эшворт, — представился гость. Он поклонился, сказал, что пришел по делу. Я протянула руку к плащу, но гость, похоже, не хотел с ним расставаться — сконфуженно улыбнулся и сам повесил его на стоячую вешалку. Мсье пересек прихожую, обнял мастера, тот смущенно отпрянул. Чемоданчик врезался в вешалку, она покачнулась. Мне удалось подавить смешок. Лицо у нашего гостя было красное, брови густые, кустистые, очки сидели на носу криво. Я ушла на кухню, оставив дверь приоткрытой, чтобы видеть гостиную, в которой уселись мсье и обувной мастер. Наш гость повозился с запорами чемоданчика, открыл его, полный туфель, и начал вынимать их, одну за другой, при этом повадка его изменилась, стала менее скованной. Поскольку он англичанин, решила я, то чай, наверное, пьет с молоком, а то и с сахаром. И отнесла все это на подносе в гостиную. Я даже пожертвовала печеньем, которое испекла себе к завтраку, вдруг ему захочется попробовать, но он почти и не взглянул на угощение, до того был занят туфлями. Беседовали он и мсье на английском, каждый склонялся к другому, чтобы лучше слышать. Насколько я поняла, мсье очень привязался к некоторым из своих старых туфель и говорил о желании их починить. — Они живут на моих ногах, — сказал мсье, — они живые. Мистер Эшворт ответил, что с удовольствием починит, сделает все, что сможет. Я закрыла дверь кухни и стала перебирать продукты, которые могли понадобиться для приготовления званого ужина: каплун, приправы, морковь, спаржа, масло, молоко, яйца, лесные орехи для пудинга. Мсье пригласил двенадцать гостей, нужно было проверить, достаточно ли у нас шампанского и вина. Готовлю я на деревенский отчасти манер, научившись этому в моей семье. Собственно, потому мсье и взял меня в услужение — пищу он любит жирную и обильную. (Мамины родственницы на протяжении четырех поколений служили стряпухами в харчевне деревни Вутене, что под Парижем, — увы, в 1944-м она стала жертвой нашей победы, немцы, отступая, сожгли ее.) Я всегда с удовольствием обходила парижские рынки в поисках наилучших продуктов. Как правило, самые свежие овощи можно купить на рю дю Бак. На рю де Бюси есть мясник, к которому я заглядывала, когда мне требовалось лучшее мясо, — у него был гортанный парижский выговор, порой напоминавший мне мсье. Ради специй и приправ я свела в Десятом округе знакомство с бангладешцем, который держал крошечную лавочку в переулке неподалеку от «Пассажа Брэйди». Обычно я ходила пешком или ездила на автобусе, но в то утро, поскольку мсье был занят с мастером, я спросила, нельзя ли мне взять машину, — сильно помятую, мсье нередко во что-нибудь врезался. (Водителем он был ужасным, один из его грубых ньюйоркских друзей, Виктор Пареси, часто отпускал неприятные замечания о пристрастии мсье к одному месту.) С покупками я в тот день управилась быстро. А вернувшись домой, удивилась, увидев работавшего в одиночестве мастера. Он застелил ковер газетой, чтобы не закапать клеем. Я поздоровалась на моем спотыкающемся английском. Он пояснил, что мсье ушел на репетицию. Мастер прилетел из Лондона ранним рейсом, и я, полагая, что он голоден, предложила ему позавтракать. Он вежливо отказался. Готовя на кухне еду на вечер, я наблюдала за его работой. Он надевал туфли на руку, будто перчатки, что-то подрезал острым ножом. Казалось, что он дичь потрошит. Шил уверенно, быстро. В какую-то минуту, ожидая, когда подсохнет клей, он оглядел сквозь очки комнату. Мсье был ценителем изобразительного искусства, особенно нравились ему нагие мужчины девятнадцатого столетия. Похоже, обувному мастеру они действовали на нервы. Он встал, осмотрел мраморный торс в центре гостиной. Постукал по нему пальцами, а отвернувшись и встретившись со мной взглядом, вздрогнул. — Мсье знает толк в искусстве, — сказала я. Мастер пробормотал что-то и снова принялся за работу. В мою сторону он больше не глядел, но после полудня, похоже, испытал, возясь с одной из туфель, какие-то затруднения — скрипнул зубами и головой покачал. Я принесла ему чай, спросила, все ли у него ладится. Он достал из жилетного кармана часы, взглянул на них и ответил: — Работы еще очень много. Странная у него была улыбка. Когда она растекалась по лицу, начинало казаться, что в душе его наступил совершенный покой. Он посидел, прихлебывая чай, еще раз посмотрел на карманные часы, потом вздохнул и сказал, что, пожалуй, не успеет покончить с работой до рейса, которым хотел улететь. — Вы, я полагаю, не знаете, есть ли поблизости приличный отель? — спросил он. — Мсье будет настаивать, чтобы вы остановились здесь. — О нет, не могу. — У нас две запасные спальни. По-видимому, мысль о необходимости ночевать в нашем доме сильно его расстроила. Он потер ладонью загривок и повторил, что предпочел бы маленький отель, что не хочет доставлять мсье беспокойства. А затем закрыл чемоданчик и ушел на Монмартр, в названный мной небольшой пансион. Мсье вернулся с репетиции в пять пополудни. Я наполнила для него ванну. Он любил очень горячую. Снимая одежду, в которой он репетировал, мсье спросил про обувщика. Я рассказала, что произошло, мсье остался невозмутимым и просто пошел купаться. Тем временем я поджарила бифштекс с кровью, мсье всегда съедал такой за несколько часов до выступления. Наполовину расправившись с мясом, он вдруг поднял повыше нож и указал им на меня: — Позвоните мистеру Эшворту в отель и скажите, что я оставлю ему в театре билет на сегодняшний спектакль, а после он присоединится к нам за ужином. Мне пришло в голову, что за столом окажется тринадцать человек. За время моего знакомства с мсье он становился все более суеверным — заразился от мадам Фонтейн. Но я решила ничего ему не говорить, зная, что ближе к вечеру мсье, скорее всего, пригласит кого-нибудь еще. (Каплуна я предусмотрительно купила такого, что хватило бы и на семнадцать человек.) Я позвонила. Портье отеля ворчливо сообщи, что телефонные аппараты у них в номерах отсутствуют, а он может лишь принять от меня сообщение, поскольку из служащих в отеле сейчас только он один и есть. Я упрашивала его подняться в номер, даже имя мсье упомянула, однако на портье оно впечатления не произвело. Мне оставалось только одно — самой отправиться в отель. Я торопливо покончила с приготовлениями к ужину, наполнила для мсье термос горячим чаем с медом и поехала в такси на Монмартр. Стояло лето, вечереть еще не начало. Напротив отеля был разбит крошечный скверик, и там на траве я увидела обувного мастера, работавшего в уютном одиночестве. Картина эта застала меня врасплох: он надел шляпу и казался помолодевшим. Я перешла улицу. Увидев меня, мастер побагровел, сгреб туфли в кучу и засунул в карман пиджака ножницы. — Мистер Эшворт. — Том, — ответил он. — Мсье попросил меня кое-что передать вам. Когда я рассказала ему о приглашении, Том покраснел еще пуще. — О. Он достал из кармана ножницы, снял пиджак, расстелил его по траве и взмахом руки предложил мне сесть. Мода тех дней требовала коротких юбок, и я порадовалась, что на мне домашнее платье, длинное, ведь нет ничего более неудобного, чем сидеть в короткой юбке на траве, на пиджаке мужчины, стараясь принять достойную позу. Он пробормотал, запинаясь, что я оказала ему большую честь, проделав такой путь, чтобы доставить приглашение, он с наслаждением пришел бы на ужин, если наряд его сочтут подходящим для этого, но на балетах он по причинам личного характера никогда не бывает. — Это связано с правилом, которое установил мой отец, — сказал он. Я подождала объяснений, однако больше он ничего не сказал. Встал и протянул мне руку, помогая подняться. И я вернулась на набережную Вольтера, чтобы продолжить приготовления к ужину. Каплун, если его правильно приготовить, птица на редкость вкусная. Я научилась делать это еще в молодые годы. Для соуса только и требуется, что розмарин, тимьян и лимонный сок. Надо просто приподнять кожицу на груди птицы, смазать ее мясо этим соусом, а все остальное она сама доделает в духовке. На гарнир я выбрала запеченный картофель и слегка пропаренную спаржу. Ужин должен был начаться около полуночи, однако Том пришел намного раньше. Брюки его были отглажены, складка, правда, получилась кривоватой, на шее красовался завязанный тугим узлом галстук. — Мне очень неудобно, но я как-то не уловил ваше имя, — сказал он. — Одиль. Он протянул мне пучок нарциссов и сказал: — Ну что же, Одиль. Обычно я к этому времени уже сплю, так вы простите меня, если я буду немного клевать носом. Честно говоря, в то время он казался мне всего лишь приятным, без претензий, мужчиной, не привлекательным в каком-либо общепринятом смысле, но определенно интересным. Я приняла цветы, сказала спасибо и попросила его устроиться поуютнее до прихода других гостей. Стоя посреди кухни, я видела через приоткрытую дверь, как он опасливо опускается на кушетку. Он сказал, что не привычен к вину, и теперь держал бокал так, точно тот мог ему чем-то навредить. В половине двенадцатого появились обычные наши официанты, Пьер и Алейн, начинающие актеры. Этим наглецам довольно было смерить Тома единственным взглядом, чтобы полностью списать его со счетов. Они занялись последними приготовлениями, протерли подсвечники, расставили столовое серебро, ополоснули винные бокалы, а я вносила завершающие штрихи в закуски и десерт. Когда начали подходить гости, я с тревогой обнаружила, что мсье среди них нет. Ничего необычного в этом не было, мсье часто опаздывал на свои званые ужины, но мне было жаль Тома, который явно стеснялся гостей. Мсье пригласил несколько танцовщиков и танцовщиц, аргентинского балетного критика, какую-то кинозвезду, бизнес-менеджера и пару светских дам, одна из них приехала из Нью-Йорка, — миссис Годсток, старавшаяся появляться на его приемах как можно чаще. Ей было изрядно за пятьдесят, но одевалась она вызывающе, как молодая девушка, бюст ее только что не вываливался из лифа платья. Насколько я знала, у нее имелся муж, впрочем, ни одного упоминания о нем я от нее не слышала. Она сказала что-то о картине, которую купила для мсье, о ее строгой уравновешенности. Назвала цену, и Том нервно заерзал на кушетке. Аргентинский критик согласился с миссис Годсток в том, что картина отличается совершенством цветового решения. Я же наблюдала за тем, как бедный Том понемногу обращается в предмет обстановки. В полночь я решила, что пора приступать к ужину, пусть даже и без мсье. Гости нехотя заняли места за столом. Тут-то и выяснилось, что Том неприметно для меня напился, да еще как. Я-то думала, что он весь вечер продержал в руках изначальный бокал, но, повидимому, наши официанты из мелочного злорадства его пополняли. Непривычный к вину Том остался на кушетке, с которой громогласно потчевал усевшихся за стол гостей рассказами о лондонской футбольной команде, ни одному из них не любопытной. Миссис Годсток фыркала, мужчины безуспешно пытались заглушить голос Тома своими. Одни лишь танцовщики, по-моему, и проявляли к нему вялый интерес. Я предложила Тому сесть среди гостей, подвела его к столу. Свободным осталось только одно место, рядом с миссис Годсток. Я попыталась отобрать у Тома бокал, он воспротивился, выплеснув немного вина себе на брюки. Салфетку он заправил за ворот своей рубашки с немалым трудом, одна из балерин даже захихикала. Я вернулась на кухню, чтоб разложить по тарелкам первое блюдо. Пока тянулся ужин, английский выговор Тома становился все более резким, голос звучал все громче, Том размахивал вилкой с насаженным на нее куском каплуна. Я наблюдала за ним сквозь приотворенную дверь кухни и в конце концов решила, что пора действовать. Том добрался в своем рассказе до пенальти, которое предстояло пробить его команде. Я улучила подходящий момент, вышла из кухни и окликнула его: «Мистер Эшворт! Мистер Эшворт!» И затараторила, объясняя гостям, что у меня сломалась посудомоечная машина, а поскольку Том мастер на все руки, мне необходима его помощь, так не позволят ли гости увести его из-за стола? — Я к вашим услугам, — сказал Том и встал, ушибив колено о край стола и едва не стянув с него скатерть. Он покачивался, я взяла его под руку, отвела на кухню и усадила у стены, чтобы не упал. — Одиль, — не очень внятно выговорил Том. В следующий миг я услышала, как в дом вошел мсье. И очень скоро в столовой началась перебранка. Несколько человек повысили голоса, мсье сильнее всех. Кто-то закричал на него. Я поняла: беды не миновать — с мсье вообще было лучше не спорить. Я велела Тому сидеть на месте и вышла из кухни. Все гости стояли, кто тыкал в мсье пальцем, кто грыз ногти, кто застегивал запонки, а мсье, возвышаясь посреди этой суеты, гнал их одного за другим из дома. — Опоздал? — кричал он. — Это я опоздал? Вон! Пошли вон! Некоторые медлили, надеясь вернуть себе его расположение, не тут-то было. Миссис Годсток пошептала ему на ухо, он ее оттолкнул. В ужасе она повторяла и повторяла имя мсье. Попыталась коснуться его руки, но мсье заорал: «Вон!» Аргентинский критик стоял, бормоча что-то, у двери, он даже ухитрился пожаловаться на качество каплуна, но я была слишком занята мыслями о Томе и обижаться не стала. Мне необходимо было вернуться на кухню до того, как и Том слишком уж пострадает от гнева мсье. Я просто представить себе не могла, что произойдет, когда мсье увидит его сидящим там, — думала, что все фурии вырвутся из Аида. Я торопливо помогала гостям просовывать руки в рукава плащей, поправляла им воротники и все пыталась расслышать, что происходит на кухне. Выставив из дома последнюю гостью, миссис Годсток, я вернулась в кухню. И вообразите, как удивилась, увидев мсье и Тома пившими из больших бокалов красное вино. Том рассказывал мсье об особой паре ботинок, которую он изготовил для себя, чтобы ходить на футбольные матчи. Объяснял, как поставил их на платформы, желая видеть поле поверх голов других болельщиков. Однако платформы он сделал неприметными, и его домохозяйка так и не смогла понять, почему в дни матчей он становится выше ростом. — Такая обувь не помешала бы моему другу Виктору, — сказал мсье. Следующий час они провели весело. Мсье достал из бумажника несколько фотографий, на одной была снята его мать, на другой — маленькая племянница, Нурия, за несколько лет до того родившаяся у жившей в России сестры мсье. Том, поборов отрыжку, сказал, что фотографии чудесные, что ему всегда нравились русские женщины. И, взглянув на меня, прибавил: — Вы, Одиль, хоть и не русская, но тоже прекрасны. Но скоро его организм спасовал перед спиртным, и он уснул за кухонным столом, уткнувшись лбом в брусок сыра. Мсье помог мне перевести его в гостевую. Он даже снял с Тома полуботинки и носки и пожелал ему спокойной ночи. Я же перекатила бедняжку на бок и поставила у кровати ведро — на случай, если его будет рвать. Не знаю, что заставило меня поцеловать его в лоб, очень мягко. После этого я отправилась спать. Утром меня разбудил перестук дождя. Я выбралась из-под одеяла, вышла в коридор. Удивилась, заметив, что дверь гостевой слегка приотворена. Заглянула туда. Том сидел согнувшись, завязывая шнурки полуботинок. Лицо красное, волосы торчат. — С добрым утром. Том, — сказала я. Он испуганно поднял на меня взгляд. Пиджак его криво свисал со спинки стула, рубашка измялась. — Я бы с удовольствием погладила вашу одежду, — сказала я. — Спасибо, но мне правда пора уходить. — Мне будет нетрудно. — Огромное спасибо, но не стоит. Он с трудом сглотнул. Я оставила его, уж очень он был смущен. Заварила на кухне чай, сварила кофе, накрыла на стол. А прибирая то, что осталось от прошлой ночи, краем глаза заметила, как Том, передвигаясь на цыпочках, пытается улизнуть из дома. — Мистер Эшворт! — позвала я, но он не ответил. — Том! Он все-таки обернулся. В жизни не видела такого страха на лице взрослого человека. Красные глаза Тома были наполовину прикрыты набрякшими веками, вообще выглядел он так, точно его мучила ужасная рана. И молчал, только перебирал пальцами пуговицы пиджака. Ко мне он стоял боком, но я заметила, что на глазах его блестят слезы. Я бросилась к нему, однако он уже начал спускаться по изогнутым ступенькам к двери. — Мне стыдно за себя, — сказал он. — Мои предки шили обувь на протяжении сотен лет, а я их опозорил. — Вам вовсе нечего стыдиться. — Я вел себя как дурак. — Нет-нет-нет. Мсье чудесно провел с вами время. — Я шут. — Ничего подобного. — Больше я шить обувь не буду. — Как это? — спросила я. — Прошу вас, передайте мсье Нуриеву мои извинения. С этими словами Том коротко поклонился и вышел из дома на набережную. Я смотрела, как он уходит под дождем. Он натянул пиджак на голову и свернул за угол. Мсье проснулся через полчаса, спросил о мистере Эшворте. Я рассказала ему, что случилось. Некоторое время мсье смотрел в чайную чашку, жевал круассан. Я же стояла у раковины, домывая последние бокалы. И чувствовала пустоту внутри. Должно быть, мсье догадался о чем-то, поскольку попросил меня повернуться к нему, он хотел посмотреть мне в глаза. Я не смогла. Услышала, как он встает из-за стола, затем мсье подошел и сжал мой локоть. Я с трудом удержалась от того, чтобы не заплакать, припав к его груди, а он взял меня за подбородок и поднял мое лицо к себе. Глаза у мсье были страшно добрые. — Подождите-ка, — сказал он. Мсье ушел в спальню и вернулся, уминая что-то в кармане халата и позвякивая ключами, которые держал в другой руке. — Поехали, — сказал он. — Но вы все еще в халате, мсье. — Это станет новой модой! — ответил он. Я и опомниться не успела, а мы уже мчались по улице с односторонним движением навстречу другим машинам, и мсье во все горло распевал какую-то сумасшедшую русскую песню о любви. Десять минут спустя мы остановились перед отелем Тома. За нашей спиной громко загудели машины. Мсье выскочил на асфальт, обернулся к их водителям, сделал неприличный жест и вбежал в отель, но скоро вышел, покачивая головой. — Попробуем аэропорт, — сказал он. Мсье включил двигатель, и тут появился Том. Увидев нас, он остановился, замялся, затем сунул руки в карманы пиджака и направился к двери отеля. Мсье пощупал в кармане халата какую-то вещь, выпрыгнул из машины, взбежал на крыльцо и схватил Тома за руку. Из отеля вышел портье, раскрыл над головой мсье зонт. Том старался не встречаться с мсье взглядом. Он откашлялся, словно собираясь сказать что-то, но мсье остановил его, многозначительно покачав головой. А следом достал из кармана пару старых балетных туфель. И помахал ими в воздухе. — Почините их, — сказал он. Тут уж Тому пришлось взглянуть мсье в глаза. — Почините их, — повторил мсье. — Простите? — произнес Том. — Я хочу, чтобы вы их починили. С каких это пор вы не понимаете по-английски? Том стоял, переминаясь с ноги на ногу, лицо у него было мокрое, красное. — Хорошо, сэр, — наконец промямлил он и взял у мсье туфли. Мгновение подержал их перед собой и добавил: — Простите меня за вчерашнюю глупость. Мсье, помолчав, ответил: — Если вы когда-нибудь снова попытаетесь уйти от меня, я вам задницу отшибу! Понятно? — Сэр? — От меня не уходят! Я сам всех увольняю! Том поклонился ему, не в пояс, конечно, но и всего только сильным кивком назвать это было нельзя. А выпрямившись, посмотрел на меня сквозь сползшие на кончик носа очки. *** Она практиковалась в этой улыбке годами, в своей сценической улыбке, совершенной, говорившей: «Все в моей власти, я царствую, я — балет». Марго улыбалась и сейчас — сидевшему по другую сторону стола Руди. Да, собственно, улыбались все, кто пришел на свадьбу. И тем не менее Марго чувствовала: что-то сегодня не так, не сходится, не слаживается, просто не могла сказать что. Прямо напротив нее хохотал, откинув назад голову, Руди — лицо в глубоких складках, морщины расходятся от глаз. Рядом с ним сидел его друг, Виктор, — с глупыми усами, препоясанный многоцветным кушаком. Марго хотелось схватить Руди за руку, встряхнуть, сказать ему что-нибудь, но что она могла сказать? Какая-то засевшая в глубине ее сознания мысль отчаянно рвалась наружу, однако Марго ощущала лишь существование ее, не содержание. И так уже многие дни. Она ушла со сцены. Тито умер. Теперь она летает в Панаму, чтобы отнести цветы на его могилу, точно персонаж какогото романа девятнадцатого века. И часто, постояв на краю примыкающего к кладбищу поля, ловит себя на том, что следит, как ветер колышет траву. Или, стоя в Лондоне перед светофором, — на том, что гадает, какого рода жизнь ведут люди, проезжающие мимо в машинах. Или, читая книгу, вдруг забывает, о чем в ней рассказывается. В детстве никто не объяснил ей, что за жизнь ждет балетную танцовщицу, и, даже узнав ее, Марго так и не поняла, как может она быть такой наполненной и пустой одновременно, кажущейся извне одной, но совершенно по-другому переживаемой и изнутри, — выходит, что ей приходилось держать в руках два абсолютно не схожих способа существования и жонглировать ими, узнавая каждый все лучше. Руди сказал ей однажды, что они были как рука и перчатка. Интересно, чем была она, рукой или перчаткой? — теперь-то уже ни тем ни другим. Руди сейчас сорок три, а может быть, сорок четыре, она не могла припомнить. Он все еще выступает. Да почему же и нет? Она-то дотянула до шестидесяти. Марго наблюдала за начинавшими свой первый танец женихом и невестой. За Томом с его старым неповоротливым телом. За Одиль в белых туфельках, специально для этого случая сшитых ее теперь уже мужем. Белый, обрамленный кружевами атлас, каблуки отсутствуют. Тонкие ноги Одиль. Ее маленькие руки. Том приподнял шлейф ее вуали, намотал себе на предплечье. Ведь должен же существовать какой-то ключ, думала Марго, к жизни свободной, честной и с любовью. Ее любовью был танец. И любовью Руди тоже. Не то чтобы они оказались лишенными самой возможности любви иного рода, нет, дело не в этом, ничуть, — но их любовь была совсем особой, оставлявшей ссадины, публичной. К ней любовь никогда не приходила так, как приходит к другим людям. Тито, да. Однако Тито был никчемным человеком, а потом обратился в никчемное тело. Тито относился к ней, как к изящному украшению его жизни. Тито согревал другие постели. А потом в него стреляли, и он стал тем, кем никогда не был, — существом бесполезным и добросердечным. О, Марго любила Тито, да, но не так, чтобы при всяком взгляде на него ощущать внутри себя гулкую пустоту. Марго часто пыталась понять, не была ли она наивной, ведь ей доводилось видеть проблески настоящей любви, да она и сейчас видела их и нисколько в этом не сомневалась, — Том и Одиль, неловкость, с какой они прикасались к телам друг дружки, застенчивая учтивость, чистая красота их невзрачности. Руди держал у губ бокал с шампанским. Марго говорили, что свадебную церемонию оплатил он, никому об этом не сказав. Его скрытная щедрость. Тем не менее, пока новая супружеская чета переволакивалась по полу, он выглядел отчужденным. Многие назвали бы это одиночеством, однако Марго знала — не в одиночестве дело. Одиночество, думала она, порождает своего рода безумие. А тут, скорее, поиски чего-то пребывающего вне танца, чего-то человеческого. Но что может быть лучше нескончаемых оваций, что способно взять верх над ними, что когда-либо превосходило их? И тут она поняла. Ни одна мысль никогда не казалась ей столь окончательно ясной. Она танцевала, пока тело ее не сдалось, а теперь живет без любви. Доктор сказал, что у нее рак. Возможно, она протянет еще несколько лет, но именно рак, да, рак и был той последней точкой, к которой влеклась ее жизнь. Она никому не говорила об этом. Даже Руди — пока. И все же было что-то еще, о чем она должна сказать ему, и Марго обшаривала свой разум в поисках нужных слов. Рак. Лекарства. Таблетки. Снотворные таблетки, таблетки для похудения, таблетки от боли, таблетки от самой жизни, таблетки от любой болезни, начиная с ревности и кончая бронхитом, таблетки, принимаемые в продуваемых сквозняками залах, где юные девушки исходят потом и плачут из-за ролей, которых никогда не получат, таблетки от надорвавшихся банковских счетов, таблетки от вероломства, таблетки от предательства, таблетки от корявой походки, таблетки от самих таблеток. Марго никогда их не принимала, хоть ей нередко и приходилось гнать из мыслей воображаемые белые кружочки, которые могли бы избавить ее от боли. И вот пожалуйста, рак яичников. От него никакие таблетки не помогают. Ей начало казаться, что стены комнаты сдвигаются, намереваясь ее раздавить. Она окинула взглядом сидевших по сторонам от нее артисток балета, жадно вгрызавшихся, по обыкновению их, в еду. [Потом девушек будет рвать в уборных.] На другом конце зала шумят обувщики. Стаканы с пивом мелькают в воздухе. [Тосты.] Скоро Руди исполнит русскую песню о любви, он ее на всех приемах поет. Марго чувствовала: вечер подходит к концу, к неизбежному расставанию с новобрачными, к зависти, которую она, возможно, испытает. Она никогда не проявляла зависть на людях. Если она и была чем-нибудь, то самой дипломатичностью. Неизменно. К тому же она так счастлива за Тома, так рада, что ему удалось отыскать нечто, выходящее за рамки его мастерства. А что отыскала она, что открыла? Темную опухоль в собственном теле. Она не чувствовала горечи, вовсе нет, просто ее поражало, что судьба сдала ей такую карту. Все-таки она заслужила большего. А может, и не заслужила. Ее жизнь была полнее любой другой, какую она знала. Смерть, вероятно, настигнет ее на борту яхты, или в гостиной, или на песке пляжа. Но что же она должна сказать Руди? Что именно в его ухмылке, смехе, в том, как он склоняется к Виктору, как поглощает мир, она хотела отменить, пусть даже на миг? Какая поразительная жизнь. Марго знала, им выпали наилучшие годы, какие только могут пережить танцовщики. Люди думали, что они спали друг с дружкой, нет. Они были слишком близки для этого. Хотя, конечно, подумывали о такой возможности, размышляли о привязанности вне танца. Лечь с ним в постель. Это погубило бы их. Да к тому же в танце все равно больше интимности. Митоз, вот что с ними произошло, они стали единым целым. Ссорились редко. Если угодно, она была для него матерью — и чем дальше, тем больше. Руди все чаще и чаще заговаривал с ней о Фариде, которая стала теперь существом почти мифическим. Однако то, что Марго хотела сказать, не имело отношения ни к матерям, ни к странам, ни к другим рукотворным мифам. И никак не касалось любви или сопутствующих ей мук. И балета не касалось. Или касалось? Касалось? Она почувствовала, как у нее задрожали пальцы. Скоро закончится свадебный танец, ей придется произносить любезности, выставлять напоказ привычную всем Марго, высоко держать подбородок, вежливо аплодировать, может быть, даже встать, если от новобрачных потребуют биса. Она смотрела, как Виктор шепчет что-то на ухо Руди. И вдруг с огромным облегчением поняла, чем это было. Поняла, что должна прервать, какие слова произнести, чтобы не позволить этому продолжаться, ничего более важного она Руди сказать не могла, это станет наилучшим советом, какой он когда-либо получал. Марго поколебалась, воспитанно положила вилку рядом с тарелкой, потянулась к бокалу с водой, чтобы утолить жажду. Потом попыталась поймать взгляд Руди, но тот пребывал в какой-то другой вселенной. Марго должна сказать ему. Должна сказать, что пора остановиться. Так просто. Он должен покончить с танцем и сосредоточиться на других его дарованиях, на хореографии, на преподавании. Пока не стал слишком старым. Ей отчаянно хотелось сказать ему это. Уходи. Уходи. Уходи. Пока еще не слишком поздно. Она снова взяла вилку. Как привлечь его внимание? Марго потянулась через стол, прикоснулась серебряными зубцами вилки к растопыренным пальцам Руди. Он почувствовал их легкое постукивание, посмотрел на нее, улыбнулся. Виктор тоже улыбнулся и опять зашептал что-то, и Руди поднял руку, словно говоря Марго: «Подожди». Она откинулась в кресле, подождала, и тут музыка смолкла. Марго встала, чтобы вместе с другими похлопать Тому и Одиль, и скоро Руди перегнулся через стол, взял ее за руку и спросил: «Да?» Она поколебалась, усмехнулась и просто сказала: «Разве они не прекрасны. Том и Одиль? Чудесная пара, верно?» *** Из интервью, данного Дэвидом Фарлонгом в Холборне, Лондон. 23 мая 1987 года. Интервью брал студент этнографического отделения Эдинбургского университета Шон Ф. Харрингтон. Вследствие технических затруднений, связанных с магнитофоном и микрофоном, вопросы интервьюера остались не записанными. Ну да, не то чтобы у него хер вечно стоял, но он знал, чего хотел, и брал все, что мог получить. И за свои денежки получал многое, ага. А запрашивали с него побольше, чем с прочих, знали же, кто он такой, а в те дни семьдесят пять фунтов — это были хорошие бабки. Ладно, ты помалкивай, обойдемся без «Дейли миррор», «Сан» и «Ньюс оф зе», мать его, «Уолд». Он всегда, типа, медосмотр устраивал, проверял твои руки, осматривал гребаную шею и даже чего у тебя там между пальцами на ноге, видать, ширял побаивался. Выбирал, понимаешь, кто помоложе, в рубашках с короткими рукавами и чтоб штаны в обтяжку. Но против табачного запаха ничего не имел, некоторые из них курильщиков не выносят, этот был не такой, по крайности, можно было посмолить после всего. Снимал он тебя на Киниp-роуд или рядом с Пиккадилли. Иногда таскал с собой по клубам, если у него настроение было подходящее. «Небеса» рядом с Чаринг-Кросс. Или «Колхерн». Но, знаешь, обычно он в нормальные места ходил. В «Рокси», в «Многолетний», в «Бродяги», в «Аннабель», в «Пале». А там кокса и бухла хоть задавись. И народ все волосатый, в кожаных прохорях. Он вообще-то охеренно чудной был, сажал тебя за стол со своими дружками — пижонами всякими и поклонницами. Но домой оттуда тебя не брал, не хотел, чтобы видели, как он с тобой из клуба выходит. Никак я его, на хер, понять не мог. Ну, он же русский, а если ты сто тысяч лет будешь с родней групповухой баловаться, так тоже таким станешь, разве нет? Иногда он просил своего менеджера отвезти тебя назад, или приятеля, или вызывал для тебя такси через хозяина клуба, они для него на все были готовы, ну на все. А тебе приходилось ждать тачку у заведения, так? Просто стоять у дверей и ждать. И все, кто там жил по соседству, могли на тебя полюбоваться, если им захочется. Ты вот это тоже представь. Я там всего четыре раза побывал, он меня не запомнил и даже имени не спросил. Я, по-моему, сказал ему — Дамиан или еще чего. Настоящее-то имя называть нельзя. Опять же, у меня девчонка была, которая ни хера об этом не знала. Хотя денежки мои ей нравились. Как-то ночью я его по телику видел. Он там о танце распространялся, о каком-то дерьме в этом роде, не знаю, типа, губишь свой организм ради удовольствия чужих людей, такое примерно дерьмо. А я, по его мнению, какого хера делал, а? Исусе. Ради удовольствия чужих людей. Он-то свое удовольствие получал, да? и еще раз получал, а после просто перекатывался на бок и дрых, а ты думал, мать твою, взять бы и обчистить эту гребаную квартиру, зацапать все его дурацкие гребаные картины с лордами, гончими, охотничьими рогами и прочим дерьмом и свалить отсюда на хер. Так тебя через пять минут самого на улице зацапают. Раз я выбрался из койки, а его экономка не спит, завтрак готовит, булочки там, фрукты, и все-то она на меня поглядывала через плечо. Страхолюдина, мелкая лягушатница присматривает за мной, боится, что я сбегу с ихним серебром. Такая скорее голову в духовку сунет, чем станет со мной разговаривать. Ну я и сидел тихо как мышь, пока она такси не вызвала. На следующую ночь я снова в «Рокси» попал, так он прошел мимо меня и не взглянул. Пятьдесят из его семидесяти пяти я уже отдал за новую рубашку. Все на нее оборачивались, только не он. В его кабинку набился какой-то народ, весь из себя серьезный. А после он встал и прошел мимо меня. И даже слова не сказал. Сосало паскудное. *** Он так и танцует в полную силу. Его гениальность в том, что он способен пробудить ребенка в каждом, кто просто наблюдает за ним. Он герой, танцующий вопреки ходу времени. Это человек, который будет танцевать так долго, как сможет, до конца, до последней капли крови. Жаклин Кеннеди-Онассис, 1980 Что? Этот мальчик еще таскает свои кости по городу? Трумен Капоте, 1982 Прежде всего, он домосед. Люди не различают в нем это, но так и есть. Приезжая в наше французское шато, он всегда просит дать ему стакан вина и немного тишины, чтобы он мог посидеть у огня и подумать. А в нашем особняке на углу Шестьдесят третьей и Мэдисон часами кряду, буквально часами сидит и вглядывается в произведения искусства! Его настоящая страсть — художники Средневековья. Об этом мало кто знает. Рене Годсток, 1983 *** Лас Мерседес, Каракас Май 1984 Руди! Начинается сезон дождей, я торчу дома, переваривая кое-какие восхитительные таблетки от боли, а поскольку письмо это будет послано пяти тысячам самых интимных моих друзей, ха-ха, тебе придется простить меня за то, что я пишу его от руки. Я занимаюсь йогой, сижу на полу в позе лотоса, такого неудобства моя задница отродясь не знала. Вообрази, на что должна быть похожа жизнь уроженца Нью-Дели! Как видишь, я сменил мою скромную обитель, теперь у меня дом здесь, в центре Каракаса — с цветами, лианами и красной черепицей, — это немного лучше Нижнего Вест-Сайда, особенно по воскресеньям, после позднего завтрака, когда все дилетанты выстраиваются вдоль Девятой авеню, чтобы поблевать в сточные канавы. Джаз, впрочем, здесь хуже. И полагал, что соскучился по венесуэльской музыке, но тут есть ансамбль, каждую ночь играющий на paseo<a l:href="#n_41" type="note">[41]</a>, так он издает звуки, с какими тонут восемь крыс, даром что состоит всего из трех человек. Я приехал сюда с другом, который недолгое время работал в программе «Дружок» и на несколько месяцев проникся ко мне симпатией, он оказался также обладателем степени по восточной медицине, но я просто на всякий случай прихватил с собой мои тайные припасы, использовал все оставшиеся у меня чистые бланки рецептов, продал принадлежавшие мне живописные изображения детородных членов кисти Уорхола et voilà!<a l:href="#n_42" type="note">[42]</a> — оказался здесь, чтобы потратить все деньги и умереть. Может быть, меня отнесут в горы и оставят там, прикрыв картонкой. Теперь я один, поскольку Аарон, мой возлюбленный, покинул меня, прихватив с собой восточную медицину, такова, полагаю, жизнь, — легко пришло, легко ушло. Город уже не тот, каким я его знал, но так ли уж важно, что уличный шум мешает слышать, как разбивается мое сердце? В Каракасе живет по меньшей мере сто двадцать миллиардов человек, здесь есть хайвеи, пандусы и небоскребы. Жители его носят расклешенные джинсы и сапоги до бедер (думаю, некоторые из них обчистили твои старые одежные шкафы!), а богатые гринго приплывают сюда целыми пароходами, чтобы выкачивать нашу нефть. Так что, да, город изменился. Я даже не смог найти холм, на котором вырос, если последнее слово употребимо. Таксист который вез нас из «Симона Боливара», надумал завернуть в пригород Катиа, чтобы нас там избавили от бремени нашего багажа. Я каким-то образом вспомнил, как выглядит на местном жаргоне фраза: «Если ты, сосало убогое, не повернешь машину, я позавтракаю твоим елдаком». Какое красноречие. Он чуть в фонарный столб не впоролся. Довез и денег не взял, и тогда я отвалил ему непомерные чаевые, так что теперь у меня здесь репутация, как будто одной только молодости было мне не достаточно. Не мудохайся с Виктором, он тебя сам отмудохает (и с большим удовольствием)! В первую здешнюю ночь Аарон проделал нечто ужасное. Выбросил с балкона все мои «Лаки Страйки», и мальчишки на paseo (все — жители поселков, состоящих из жестяных хижин) чуть с ума не посходили. Они подбирали сигареты и засовывали их, а-ля Брандо, в закатанные рукава рубашек. О их коричневые руки, какие воспоминания! Один из этих хорошеньких пацанов (а какой я был хорошенький!) оказался искусным карманником, я познакомился с ним на следующее утро, когда он пришел ко мне попросить окурков. Мы заключили взаимовыгодную сделку. Он отправляется на Авенида Либертадор, в «Хилтон Каракас», где останавливаются все бизнесмены, или в новый художественный музей, где болтаются туристы, и крадет для меня сигареты. Если они оказываются нужной мне марки, он получает доллар сверху. Ему даже ножик не нужен, чтобы карманы резать, у него, умницы, такие длинные и острые ногти, которые рассекают любую ткань. По временам я гадаю, что бы из меня получилось, помимо трупа, конечно, останься я здесь. Извини, мне придется оттащить мои кости к столу и приступить к перевариванию еще одной таблетки. Живем только раз. Я занимаюсь йогой. Занимаюсь йогой, Руди. Слышу, как ты хохочешь. Перед тем как смыться, Аарон научил меня медитировать, — впервые, возможно, в моей жизни я освоил умение скрещивать ноги. Проделав это в первый раз, я готов был поклясться, что тресну пополам, как плохая венесуэльская сушка. Я всегда полагал, что если бы Бог (зануда он этакая) желал, чтобы я прикасался губами к пальцам моих ног, то разместил бы их в промежности, однако Господь, судя по всему, не настолько благоволен. Впрочем, йога идет мне на пользу. Я снова и снова твержу себе: это хорошо, это хорошо, Виктор, ты не полный мудак, занимайся йогой, занимайся, ты не полный мудак, ну, может, самую малость. Перед тем как Аарон смылся (ладно, перед тем как я его вытурил), мы поднимались с утра пораньше, выходили на балкон, устраивались там. Аарон все печалился, что балкон не на восток смотрит. Примерно час мы медитировали, потом завтракали. Апельсиновый сок, круассаны, грейпфрут — но без водки! Аарон был помешан на здоровой пище. И все старался заставить меня прибавить в весе. Холодильник лопался от полиненасыщенного маргарина, пикулей, йогурта, чатни, корнишонов, ореховой пасты, кокосов, высококалорийных шоколадных молочных коктейлей, чего угодно. Парнем он был рослым, рыжеватым и бесподобно представительным. Руди, друг мой, член его, может, и не был поэмой, но ягодицы уж точно рифмовались. Однажды в Коннектикуте он видел тебя на сцене и говорил, цитирую, что ты был грациозен, грандиозен и провокативен, — и почему все английские мальчики так любят их смехотворные словечки? Мой доктор с Парк-авеню сказал, что Каракас станет для меня смертным приговором: кишечные расстройства, дешевые лекарства, дурные больницы, грязный воздух et cetera, et cetera<a l:href="#n_43" type="note">[43]</a>. А я провел здесь пять месяцев, и мне становится все лучше. Я вот что делаю: за полчаса доезжаю на такси до побережья. Сижу в шезлонге на пляже, медитирую, рисую в воображении клетки и говорю им: вы, бля-блябля, мелкие прохвосты, бля-бля-бля, стараюсь представить себе, что они — чванливые вышибалы, которые не желают бесплатно пустить меня под конец ночи в «Райский гараж», бля-бля-бля, совсем от наркоты одурели, бля-бля-бля, таким как вы, господи боже, только в «Святых» и работать, бля-бля-бля, вы посмотрите на ваши башмаки, ужас какойто, бля-бля-бля, а у тебя вообще на губе говно. А потом открываю глаза и вижу синюю воду (синеватую), лижущую золотистый (желтоватый) песок. Как хорошо. И тут я наношу словесное оскорбление моим метастазам, говоря им: чтоб вы в аду сгнили. Я — мужчина сорока двух лет, мысленно обманывающий себя. Почему же и нет, раз жизнь меня обманула? Нынче утром, еще до дождя, я вышел из дома, чтобы купить одеяло, и встретил метиску, похожую на мою маму как никто другой на земле. Наверное, ты был прав, говоря, что у каждого из нас есть где-то двойник. Я возвратился домой, свернулся в кресле и заснул, мечтая. Я скучаю по Нью-Йорку, по его догмам, по всем и всему и особенно по Нижнему ИстСайду, он такой омерзительный, такой чудесный. Единственное, о чем я сожалею, так это о том, что сожалений у меня маловато. Я, например, не попрощался с мусорщиками. Хотел бы я видеть, какие у них стали физиономии, когда они обнаружили мою мебель выставленной на улицу. Они, наверное, арию запели. О мой сказочный желтый диван! Боже, а какое красивое у меня было колечко для пениса! А упоительный, уверяю тебя, фаллоимитатор! Жизнь моя была чередой комнат (по большей части кабинок), а теперь я более-менее застрял в этой, потому как если я вылезу на улицы Каракаса, то, вполне вероятно, покачусь по ним без всякой машины. Ах, Руди, устал я от этого лекарства. Когда закончится дождь, я выйду из дома. А может, и раньше, чтобы почувствовать, как омывают лицо его струи. Сдается, не так уж я и боюсь смерти, Руди, мне куда интереснее, что случилось бы, живи я в замедленном темпе. Ага! Раз декседрин, два декседрин, три декседрин — и на пол! С любовью — Виктор. P. S. Я слышал, что жеребец по кличке «Нуриев» произвел сенсацию в мире лошадников. Это правда? Ха. Готов поспорить, елда у него совершенно русская! Целую! *** Самолет приземлился не по расписанию, позже. Мсье был вне себя. И из зоны выдачи багажа просто пулей вылетел. Мы прошли мимо стоявших в ряд вооруженных охранников, сели в такси. Мсье на ломаном испанском поговорил с водителем. Послеполуденная жара была такой, какую я ожидала. Вдали поднимались в небо зеленые горы, но город тонул в смоге. Я все думала о бедном Томе, как он там, в Лондоне, один. Такси виляло, объезжая выбоины, пока мы не добрались до старого колониального района и не застряли в пробке. Здесь стояли белые кирпичные дома с протянутыми между окон бельевыми веревками. По улице бродили старики в рубашках без ворота. Дети играли перед машинами, разбегаясь, когда те трогались с места. Женщина, сидевшая за цветочным лотком, поймала взгляд мсье, он выскочил из такси, купил цветы. Она была в желто-красном платье. Мсье дал ей десять американских долларов, расцеловал ее в щеки а когда машина поехала, женщина встретилась взглядом со мной, и я прочла в ее глазах мольбу о том, чтобы ей позволили жить моей жизнью, сидеть, как я, рядом с мсье на заднем сиденье такси. По правде сказать, она и могла бы. Мсье хорошо сознавал, что я, сопровождая его, никакого счастья не испытываю. Мне было очень трудно расстаться с Томом, но мсье умолил меня поехать с ним, хотя бы на неделю-другую. — Нам нужно шампанское, — сказал мсье, когда машина медленно поползла вперед. Таксист обернулся к нему, улыбнулся. И, замысловато размахивая руками, сказал, что с наслаждением купит для нас шампанское, что знает хороший магазин. Он свернул в узкий проулок и остановил машину перед большим амбаром. Мсье дал ему деньги, он вылез из машины и миг спустя вернулся, неся две большие бутылки. Начинало смеркаться, однако жара не спадала, меня одолевала сонливость: перелет был долгим и трудным. Я слышала, как мсье шумел в первом классе, теперь он тронул меня за руку, еще раз поблагодарил за компанию, извинился за то, что не смог купить мне в самолете место рядом с ним. — Что бы я без вас делал, Одиль? — сказал он. Когда мы подъехали к дому, мсье дал водителю щедрые чаевые, потом прошел по подъездной дорожке, потянул за шнурок звонка. Звон разорвал тишину, но ничего не произошло. Мсье постучал по высокой деревянной двери. Он потел, под мышками появились два темных овала. Длинно выругавшись, мсье сказал: — Надо было сообщить ему о моем приезде. У нас имелась одна авторучка на двоих, но не было бумаги. Мсье подцепил ногтем этикетку на бутылке шампанского. — Старый трюк, — сказал он. Отодрал этикетку. Она разорвалась пополам. Мсье прислонился к стене дома, вздохнул и написал: «Виктор, я найду отель и вернусь. Руди». Я сложила бумажку, наклонилась, чтобы просунуть ее, подталкивая пальцами, под дверь. Выпрямилась, поправила платье, которое уже начинало липнуть к телу. Внезапно из дома вырвался поток музыки. Да и весь дом словно ожил. Я подошла к калитке, окликнула мсье, уже успевшего уйти немного по улице. За моей спиной открылась дверь. За ней стоял маленький человечек в шелковом халате. Худое лицо, на ушах наушники, от которых свисал до колен черный витой провод. Должно быть, он заметил записку, которую я подсовывала под дверь, и выдрал провод из гнезда стереопроигрывателя. — Мистер Пареси? — спросила я. Он вглядывался, прищурясь, в этикетку шампанского. Я видела его много раз, но уж больно он изменился. — Мистер Пареси? — снова спросила я. Он пошаркал по порогу огромными желтыми шлепанцами. Оперся о дверную ручку, кашлянул, обвел взглядом улицу. — Господи, да это же Руди, — сказал он. И, пока я махала рукой, призывая мсье вернуться, уковылял обратно в дом. Мсье поначалу рассердился, но затем тоже проскочил мимо меня в дом. — Виктор! — кричал он. — Виктор! Беспорядок в доме был страшный. На полу одежда. На кушетке тарелки с остатками еды. Сквозь выцветшие синие шторы сочится свет. Вращается потолочный вентилятор. Потрескавшиеся зеркала в красивых рамах. Раскиданные по полу пластинки. Мсье подскочил к проигрывателю, убавил звук. — Виктор! — снова крикнул он. На видеомагнитофоне помигивала красная лампочка. Кадр порнографического фильма замер на экране телевизора. Я подошла и выключила его. — Видел бы ты себя! — закричал мсье. Виктор приплясывал на верхней площадке лестницы, пытаясь влезть в брюки. От халата он избавился, надев, но не застегнув, ярко-красную рубашку. Грудь у него была тощая, кожа бледная. Когда ему удалось просунуть одну ногу в штанину, он сильно закашлялся и едва не упал, однако удержался, схватившись рукой за перила. Мне было жалко его, но не настолько, чтобы я изменила мое мнение о подлинном характере Виктора, — слишком часто я видела, как он изображает шута. Мсье взлетел вверх по лестнице, поцеловал Виктора в одну щеку, потом в другую. Виктор разразился непристойной тирадой, сводившейся к вопросам: «Где ты спер цветы, Руди? Где побывал? Расскажи мне все!» Голос у него был счастливый, но и усталый, как будто счастье бежало вдогонку за изнеможением. Мужчины, обнявшись, спустились в гостиную. — Ты помнишь Одиль? — спросил мсье. — О да, — ответил Виктор. — Я ведь был на вашей свадьбе, верно? — Верно. — О, я извиняюсь, извиняюсь. На свадьбе он повздорил в уборной с одним из коллег Тома. — Вы прощены, мистер Пареси. — Я всего лишь попросил, чтобы он завязал шнурок на своем ботинке. Не смог удержаться. Ожидая моего ответа, он склонил, точно напроказивший ребенок, голову к плечу. — Мистер Пареси… — О, прошу, не зовите меня так, я от этого чувствую себя старым пердуном. — Виктор, — сказала я, — вы прощены. Он поцеловал мне руку. Я сказала, что приехала устроить его поудобнее, вывести на путь к выздоровлению, пока мсье будет искать для него экономку из местных, которая сменит меня. Объяснила, что нисколько не хочу навсегда остаться в Каракасе. Он пристыженно покраснел, и я обругала себя за резкость. Он застегнул рубашку, в которую поместился бы еще один такой же, как он, мужчина. Затем сунул ноги в желтые шлепанцы, подошел к стоявшему посреди гостиной креслу, плюхнулся в него, задыхаясь. Закурил длинную тонкую сигарету и выпустил дым в потолок, а я отправилась на кухню. — Руди, — воскликнул Виктор, — подойди, обнимемся! И, чтобы не обойти меня вниманием, прибавил: — Знаете, Одиль, я единственный в мире человек, которому дозволено командовать Руди. Я принялась наводить на кухне порядок, начав с высоких узких бокалов для шампанского. Мыло отсутствовало. Виктор обходился без металлических мочалок, без тряпок для посуды, без каких бы то ни было моющих средств. Я начала составлять в уме список всего, что мне понадобится. Вымыла бокалы, поставила их и бутылку шампанского на поднос и направилась с ним к джентльменам. — Ох, как же я вас люблю! — воскликнул Виктор. Мсье хлопнул пробкой, я разлила вино. — Выходите за меня замуж, сию же минуту, Одиль! Мсье стал перебирать разбросанные по полу пластинки, искать классическую музыку. И, оторвав от них взгляд, сказал: — Ты омещанился, Виктор. — Я теперь только сальсу слушаю. — Сальсу? Виктор попытался станцевать, но быстро сбился с дыхания. — Может, тебе не стоит пить слишком много шампанского, — сказал мсье. — Ой, заткнись! — ответил Виктор. — Я немного простужен, только и всего. — Простужен? — Ну да, простужен. Скажи мне, Руди. Ты проведешь остаток жизни здесь, со мной? — В пятницу я танцую в Сан-Паулу. Одиль побудет с тобой, пока я не помогу тебе найти кого-нибудь из местных. — В Сан-Паулу? — Да. — Ох, возьми меня с собой. — Может, тебе лучше отдохнуть, Виктор, не торопись. — Отдохнуть? — Ну да. — Я умираю! — вскричал он. — Кому он нужен, отдых? Давай шампанское пить! И ради бога, покажи мне этикетку. Ручаться готов — моча! Он всегда покупает мочу, Одиль! Самый богатый скряга в мире. Мсье прикрыл этикетку ладонью. Виктор не без затруднений вылез из кресла и отправился на поиски записки. А отыскав ее в кармане своего халата, театрально вздохнул. Потом лизнул изнанку этикетки и прижал ее к сердцу. — Ах, ты всегда был так прижимист! — сказал он. Я пустила воду из крана, чтобы заглушить их голоса, и приступила к мытью оставшихся бокалов, поднимая каждый к последним лучам солнца. И мне снова представился Том. Сейчас он, наверное, дома, смотрит телевизор, чинит туфли. Я уже соскучилась по нему. На заднем дворе подрагивали под ветерком какие-то растения с длинными листьями. — Ой, давай не будем чушь нести! — услышала я выкрик Виктора. — Ты же не для этого приехал, верно? Скажи мне, Руди, ты влюблен? — Я всегда влюблен. — Любовь любит меня, — произнес Виктор голосом, удивительно похожим на голос мсье. Они засмеялись. Бутылка быстро пустела. Виктор взял ее и еще раз прочитал напечатанное на половине этикетки. — Это моча кошачья, — сообщил он с поддельным французским акцентом. — Чтобы получить ее, поят молоком бродячих кошек с бульвара Сен-Мишель. Виктор включил проигрыватель, зазвучала латиноамериканская музыка, мужчины немного потанцевали, а я продолжала уборку. Наступали сумерки, прохладный вечерний ветерок принес мне небольшое облегчение. Я услышала, как Виктор отдувается после танца, и, покончив наконец с моими трудами, вышла из кухни, извинилась и сказала, что хочу лечь спать. Проснувшись утром, я страшно удивилась, когда увидела, что мсье спит на кушетке гостиной, а Виктор сидит в кресле с ним рядом, промокая ему белой тряпочкой лоб. Я-то не сомневалась, что все будет наоборот. Похоже, у мсье поднялась температура. Впрочем, встав, он принял какие-то таблетки, и температура спала. Он проделал утреннюю разминку, а после сказал, что ему нужно позвонить в несколько мест. — За счет вызываемых абонентов, — заметил Виктор. Друзья у мсье имелись по всему миру, и в Каракасе тоже, поэтому я не сомневалась, что экономку он подыщет за пару дней. От этой мысли дом словно посветлел, а тут еще мне удалось найти на кухне продукты, которых хватило для приготовления завтрака из фруктов и тостов. Однако после завтрака мсье объявил, что они с Виктором решили провести день на пляже, а вечером отправиться в Сан-Паулу на балет. — Уложите, пожалуйста, наши сумки, — сказал мсье. К моему удивлению, именно Виктор заметил, как я огорчилась. Он обнял меня рукой за плечи. Был так добр, что набросал маленькую карту, которая показывала расположение городских рынков и аптеки, где можно было купить таблетки от мигрени, — свои я забыла дома. И особо подчеркнул, что много денег носить с собой не стоит. За этим советом последовал длинный рассказ о малолетнем воре с длинными ногтями. Они уехали, я постирала постельное белье, развесила его по ветвям росших во дворе гранатов. Вернулись они через три дня. Мсье выглядел очень уставшим, не похожим на себя. Он сообщил, что нам придется провести в Каракасе еще неделю, столько времени потребуется, чтобы уладить все дела Виктора. Мысль о второй неделе страшно расстроила меня, однако мсье сказал, что и в самом деле нуждается в моей помощи. Я продолжала приводить дом в порядок и стряпать. В послеполуденные часы, когда Виктор спал, мсье увозили на машине в оперный театр — ему хотелось поработать с местными танцовщиками. Каждый вечер он приводил в дом учеников, юношей и девушек, они сидели в гостиной, болтая и смеясь. Виктора их гомон только радовал. Особенно привязался он к танцовщику по имени Давида, очень смуглому красивому молодому человеку. По вечерам они вместе отправлялись на прогулки. А позже, когда мсье уже спал, Виктор и Давида уютно устраивались на кушетке и смотрели видео. (Фильмы были просто ужасные. Я, проходя мимо телевизора, напускала на себя суровый вид, но, должна признаться, время от времени тайком подглядывала за тем, что творилось на экране.) Время шло быстро, да и разлука с Томом угнетала меня не так сильно, как я ожидала. В конце второй недели, незадолго до запланированного нами отъезда, мы трое — мсье, Виктор и я — оказались дома одни. Мсье так и не подыскал новую экономку, я нервничала все сильнее, думая, что он забыл о своем обещании. Я начинала опасаться немыслимого — того, что мне, быть может, придется уйти от него. И спать легла с ужасной мигренью. На следующий вечер я готовила местное блюдо, эмпанадас, а Виктор объяснял мне все тонкости — как поджаривать кукурузную муку, чем приправлять фасоль. Он только что принял целую кучу таблеток и сидел теперь посреди гостиной, управляя мной издали. Несмотря на очевидный урон, нанесенный болезнью его организму, Виктор оставался вполне энергичным, к тому же большую часть послеполуденных часов он проспал. После ужина мужчины пили вино, потчевали друг друга всякими историями, причем мсье показался мне погруженным в себя более обычного. Я уже заметила, что его лекарства почти подошли к концу, а отыскать другую причину сумрачности, которая одолевала его, не смогла. Он стоял у окна, разминаясь, положив лоб на колено. Потом снял ногу с подоконника, скрестил руки, прижав ладони локтями к ребрам. И вдруг начал, по какой-то причине, вспоминать, как давным-давно получил письмо из России, от знакомой. Рассказ у него получился длинный и подробный, мсье говорил, глядя в окно, и в конце концов Виктор перебил его: — Надеюсь, ты не переключился на женщин, Руди? — Нет, конечно. — Смотри не разочаруй меня. — Виктор налил себе еще стакан вина, закашлялся и сказал. — Эта уж мне простуда. Похоже, я от нее по крайней мере до августа не избавлюсь. — Я могу продолжить? — спросил мсье. — О да, пожалуйста, продолжай, пожалуйста, пожалуйста. — Он умер. — Кто? — Ее отец. — О нет! Я не хочу снова слышать о смерти. — Погоди, — дрогнувшим голосом сказал мсье. — Когда он умер, у него на голове была шляпа. — У кого? — У Сергея! Он всегда носил шляпу, но никогда не надевал ее дома. В России это считается дурным тоном. — О! Так ведь все русские — дурные, разве нет? — Ты не слушаешь меня. — Разумеется, слушаю. — Тогда дай досказать! — Сцена в вашем распоряжении, — сказал Виктор и послал мсье воздушный поцелуй. — Так вот, — продолжал мсье, — он надел шляпу, потому что верил в скорую встречу с женой. — Но ты же говорил, что она уже умерла. — Во встречу на том свете, — пояснил мсье. — О боже, — сказал Виктор, — на том свете! — Его нашли дома, в шляпе. Он писал дочери. И просил передать мне привет. Но я не о том. Суть истории не в этом. В другом. Понимаешь, последнее, что он написал… — Что? — спросил Виктор. — Что он написал? Мсье ответил, запинаясь: — Какое бы одиночество ни испытывали мы в этом мире, оно наверняка объяснится, когда мы уже не будем одиноки. — А это что за херня? — спросил Виктор. — Это не херня, — сказал мсье. — Еще какая херня, — заявил Виктор. Они помолчали, Виктор опустил голову на грудь. Он походил на воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Взял со стола новую пачку сигарет, и, пока он возился с ее оберткой, пальцы его дрожали. Виктор вскрыл пачку, вытянул из нее сигарету, достал из нагрудного кармана рубашки зажигалку, щелкнул. — Зачем ты мне это рассказал? — спросил он. Мсье не ответил. — Зачем ты рассказал мне это, Руди? Виктор выругался, но тут мсье опустился на колени рядом с его креслом. Я никогда не видела, чтобы мсье стоял вот так перед кем-либо. Он положил руки на колени Виктора, прижался лбом к его согнутому локтю. Виктор молчал. Просто опустил ладонь на шею мсье. Я услышала приглушенный горловой звук и поняла, что мсье плачет. Виктор вгляделся в его затылок, начал говорить что-то о проплешине, но умолк и покрепче сжал шею мсье. Должно быть, Виктор вспомнил, что я на кухне, потому что взглянул в мою сторону, встретился со мной глазами. Я закрыла дверь — пусть побудут одни. Ни разу еще я не слышала, чтобы мсье так плакал. У меня от этого руки задрожали. Я спустилась во двор, где сох на веревке балетный костюм мсье. В окно мне были видны их силуэты. Они обнялись, и казалось, что там только один человек. Следующее утро было ясным, смог отсутствовал. Я полностью убралась в доме и стала ждать прихода молодого танцовщика, Давиды. Он пришел, обутый в сабо, поцеловал меня, здороваясь. Волосы его были красиво зачесаны назад. Он казался мне порядочным молодым человеком, поэтому я отвела его на кухню, поговорить. — Вы не смогли бы позаботиться о нем? — спросила я. — У меня есть двоюродный брат, он врач, — ответил Давида. — Нет, я думаю, что заботиться о нем следует вам, самому. — А кто мне будет платить? — Мсье заплатит, — сказала я. В следующие два дня я наготовила для Виктора и Давиды еды на целую неделю, втиснула ее в морозилку. Все было улажено: мсье пообещал платить Давиде, а в будущем отправить его в Парижский оперный театр, где он сможет учиться, развивать свои дарования. От Виктора мы все держали в секрете, однако я чувствовала: он знает, что происходит. Виктор бродил по дому в наушниках, которые ни к чему подключены не были. В наше последнее утро я уложила сумку мсье, договорилась о такси, которое отвезло бы нас в аэропорт. Ожидая его, мы долгое время просидели в гостиной. Виктор рассуждал о погоде, о том, как хорош этот день будет для пляжа. Сказал, что ждет не дождется возможности надеть новые плавки, которые он купил в Сан-Паулу. — Все подумают, что я винограду где-то наворовал, — сказал он. Когда подъехало такси, мсье и Виктор пожали в дверях руки друг другу, обнялись. Мсье направился к калитке. Виктор сунул руку в карман халата. Я услышала щелчок зажигалки. Мсье обернулся: — Кончал бы ты с этим. — С этим? — спросил Виктор и, затянувшись сигаретой, выпустил в воздух большое облако дыма. — Да. — Какого черта? — сказал Виктор. — Я еще и кашля-то настоящего не нажил. 4 Лондон, Брайтон. 1991 Умеренный тремор правой ноги при глубоком плие, сильный — левой. Слабые tibio talor и sub-talor на правой, сильные на левой. Резкое потрескивание в колене. Латеральное искривление бедра. Прогиб поясницы, преувеличенный наклон головы вперед. Полная утрата абриса в нижней точке плие. При занятиях у станка характерно белеют костяшки пальцев. На двенадцатом плие боль прекращается. При осмотре — сильная напряженность и сжатие четырехглавой мышцы левого бедра, умеренные правого. Острый износ менисков. Втирать арнику, чтобы уменьшить воспаление. Поперечное растирание и двадцатиминутное, самое малое, поглаживание. Удлинить четырехглавую, чтобы обеспечить ее гибкость. Прокачивание и расширение, вытягивание бедра, кручение торса, растяжка лопатки и т. д. Между репетициями и выступлениями бандаж. Для постоянного нажима на левое колено повязка восьмеркой, перекрестье сбоку. *** Я не знала, к кому обратиться. Не могла вспомнить никого, кто понял бы. После переезда в лондонский дом мсье знакомыми я почти не обзавелась. Со мной всегда был Том, но теперь он ушел. Все случилось так внезапно, точно вдруг налетел один из тех зимних дождей, что до костей пробирают нас холодом. Сегодня ты всем довольна, а завтра у тебя почву из-под ног выбивают. Я глядела вокруг и не признавала даже простейшие вещи: плиту, часы, подаренную мне Томом фарфоровую вазочку. Он оставил записку с объяснением своего поступка, но я не смогла заставить себя прочесть больше первых двух строк. Мне казалось, что он еще здесь, что, обернувшись, я увижу его в кресле читающим газету, увижу новую дырку в его носке. Однако он забрал с собой инструменты, чемоданчик. Я проплакала несколько часов. Он словно всю мою жизнь отправил без ужина в постель. В Вутене, когда я училась в школе, мне дали прозвище — Petit Oiseau<a l:href="#n_44" type="note">[44]</a>. Я была маленькая, тощая, взрослые вечно подшучивали над моим крючковатым носом. Я часто сидела и наблюдала за мамой, готовившей на кухне еду, мы обе искали прибежище в простоте рецептов и блюд. Но теперь заботиться мне было не о ком. Мсье отсутствовал, даже садовник куда-то исчез. В нашем с Томом жилище рядом с его кроватью стояла шкатулка. Том собирался уйти на покой и делал для мсье последнюю пару туфель. Поднести ее мсье он хотел в шкатулке красного дерева с привинченной к ней медной табличкой, на которой пока ничего обозначено не было. Я открыла шкатулку, вынула туфли и старательно искромсала их ножницами. Атлас режется легко, оставшиеся от туфель клочки я вернула в шкатулку. Я понимала, что с головой у меня беда, но махнула на это рукой. Мсье всегда держал в нижнем ящике стоявшего в его спальне комода некоторое количество денег. Выдавал их гостям, которым требовалось доехать до дому на такси, а наличные у них вышли. Я оставила ему записку о том, что взяла аванс в счет жалованья. Руки у меня дрожали. Я вызвала по обычному номеру такси прошлась по дому, проверяя, что свет везде погашен, окна заперты, а электрические приборы выключены. Вскоре у дома громко засигналила машина. Я сунула шкатулку Тома под мышку, включила охранную сигнализацию и вышла в парадную дверь. Водителя я узнала сразу — молодой человек с серьгой в ухе и козлиной бородкой. Он опустил в своем окошке стекло и спросил: — И кто у нас нынче пострадавший, а? И слегка удивился, когда я открыла дверцу, скользнула на заднее сиденье и поставила шкатулку на пол. Я часто провожала гостей мсье до машины, но редко пользовалась ею сама. Водитель изменил наклон зеркальца заднего вида, посмотрел на меня, потом повернулся на сиденье, сдвинул стеклянную перегородку. — Ковент-Гарден, — сказала я. — У вас, лапушка, все в порядке? Я достала из сумочки носовой платок с монограммой мсье, промокнула глаза и сказала водителю, что у меня все хорошо, мне всего лишь нужно как можно скорее попасть в Ковент-Гарден. — Сделаем, лапушка. Насчет «хорошо» вы уверены? Я пересела на другое сиденье — не из грубости, просто мне была невыносима мысль, что молодой водитель будет смотреть, как я плачу. Машину он вел быстро, но дорога показалась мне бесконечной. Было лето. Я видела на улицах девушек в крошечных юбочках, молодых людей в татуировках. Такси виляло из стороны в сторону. Шедшие за нами машины гудели, водители сердились, что мы их подрезаем. Какой-то мотоциклист даже стукнул по дверце. Когда мы добрались до Ковент-Гардена, счетчик показывал двузначную цифру. Я достаточно пришла в себя для того, чтобы попросить водителя подождать у фабрики. Он пожал плечами. Я вышла из машины и направилась к дверям фабрики, однако от мысли, что сейчас я увижу Тома, у меня подкосились ноги. В последний раз я чувствовала себя так много лет назад — в Париже, когда танцевала на школьном выпускном балу. Во что я обратилась? Мне шестьдесят лет, а я только что изрезала подарок, приготовленный моим мужем для мсье. Нет, подумала я, то, что со мной творится, это наверняка страшный сон. Я услышала вой сирены и, обернувшись, увидела полицейскую машину, требовавшую, чтобы такси уехало. Водитель указывал на меня. Все происходило слишком быстро. Я торопливо прошлась вдоль фабрики к окну Тома, поставила, не заглянув внутрь, шкатулку на подоконник, вернулась к такси и снова уселась в него. — Брайтон, — сказала я водителю. На лице его обозначилось удивление. — Брайтон? — переспросил он. За нами снова взвыла полицейская сирена. — Брайтон, у моря, — подтвердила я. — Вы, наверное, шутите, лапушка. Он медленно повел машину по улице. — Давайте я вас на Викторию отвезу, оттуда поедете поездом. Я открыла сумочку, протянула ему сто пятьдесят фунтов. Водитель присвистнул, погладил себя по бородке. Я добавила еще пятьдесят, он сдал машину к бордюру. В жизни не тратила столько денег без всякой на то нужды. — Все же на душе у вас малость неспокойно, а, лапушка? — Прошу вас, — ответила я самым строгим моим тоном. Он выпрямился, переговорил по радио с диспетчером, и через пятнадцать минут мы уже ехали по шоссе. Я опустила стекло и совершенно неожиданно успокоилась. Ветер заглушал шум крикетного матча, несшийся из приемника машины. Мне начинало казаться, что я по беспечности влезла в день, для меня совсем не предназначавшийся, и он скоро закончится. Вдоль всего променада Брайтона висели на фонарных столбах афиши мсье. На фотографии он выглядел молодым. Длинные волосы, лукавая улыбка. Мне захотелось подойти к афише и обнять его. Молодая женщина крепила степлером те из афиш, что успели сползти по столбам вниз. То было последнее выступление мсье в Англии, а по слухам, и просто последнее. Я попросила водителя найти приличный пансион с видом на море. Он остановил машину у старого викторианского дома, любезно вызвался зайти в него, выяснить, есть ли свободные комнаты. Приятно было видеть, что у некоторых молодых англичан все же сохранились представления о хороших манерах. Из пансиона водитель вышел, улыбаясь, подал мне руку, помог выбраться из такси и сказал, что готов вернуть мне часть денег. — Вы заплатили слишком много, дорогая. И я удивила даже себя, вложив в его ладонь еще одну двадцатифунтовую бумажку. — Я вот что сделаю: угощу мою хозяйку хорошим обедом, — сказал он. Погудел и уехал. Конечно, в том, что я опять залилась слезами, никакой его вины не было. Комната оказалась изысканной, с глядевшим на море венецианским окном. В волнах прибоя бегали, хохоча и пиная их ногами, дети, в каком-то далеком павильоне играл духовой оркестр. Но даже сущие мелочи напоминали мне о Томе: две односпальные кровати, нарядная ваза, изображавшая пирсы картина. У меня не было объяснения случившемуся. Все проведенные нами вместе годы Тома не радовало то, что ему приходится жить в доме мсье, однако комнаты наши мы обставили по его вкусу, и он к ним вроде бы привык. Наши с мсье поездки в другие страны, а их было несколько, Тома не смущали, как и то, что меня иногда вызывали в Париж, чтобы я ухаживала за мсье. Том говорил даже, что ему по душе оставаться одному, он мог в это время работать побольше. И пусть мы были, возможно, не так интимно близки, как другие супружеские пары, в нашей взаимной преданности я не усомнилась ни разу. Я постояла посреди комнаты. Быть может, единственным пригодным для описания моих эмоций словом было «саднит». Я чувствовала себя одной большой ссадиной. Я сдвинула шторы, легла на кровать и, хоть это не в моем характере, продолжала громко плакать, даже когда слышала топот других шагавших по коридору постояльцев. Проснулась я с мыслями не о Томе, а об афишах мсье, трепещущих на морском ветру. Танцевать в «Паване Мавра» мсье предстояло лишь следующим вечером. Я подумала, не сходить ли в его отель, не повидаться ли с ним, однако решила не усугублять трудности мсье моими. Меня сердило то, что писали о нем последнее время в газетах. Мсье беспокоит вросший ноготь, у него нелады с коленями, но газеты не говорят об этом ни слова. Когда во время одного спектакля у мсье свело судорогой мышцы ног, кое-кто из зрителей потребовал вернуть им деньги. В Уэмбли посреди его танца смолкла музыка, мсье, как писали в газетах, замер, дожидаясь, когда заиграет оркестр, но оркестр просто отсутствовал — музыка была записана на магнитофонную ленту. В Глазго никто не встретил его у служебного входа в театр и какой-то фотограф сделал снимки мсье — одинокого и подавленного, — что, конечно, ни в малой мере характеру его не отвечало. Кое-кто из постоянных поклонников мсье отказывался теперь ходить на его выступления, однако билеты все равно раскупались, овации не смолкали, пусть газеты и твердили, что зрители аплодируют прошлому мсье. Людям нравилось ехидно перешептываться за его спиной, но правда состояла в том, что мсье оставался таким же великим танцовщиком, каким был всегда. На следующее утро я решила, что, несмотря ни на что, проведу этот день наилучшим образом. Завтрак я заказала в одном из приморских ресторанчиков. Официант, молодой человек из Бургундии, лично сварил для меня крепкий кофе со сливками. И прошептал мне на ухо, что англичане, быть может, и помогли выиграть две мировые войны, но в кофейных зернах не смыслят ни аза. Я рассмеялась и стала заново обдумывать размер чаевых. У меня даже голова слегка закружилась при мысли о том, как быстро улетают мои деньги. Тем не менее я купила пляжную шляпу, взяла напрокат шезлонг, отнесла его на берег и надела, чтобы защитить глаза от солнца, шляпу. Ближе к полудню я обратила внимание на стоявшую у самой воды молодую женщину. Приподняв юбку, она пробовала пальцами ступни воду. Ноги у нее были длинные, прекрасные ноги. Она вошла в море почти по бедра. И, наклонившись, перебросила длинные, блестящие волосы через плечо и на несколько секунд опустила их концы в воду. А спустя недолгое время я, к большому моему удивлению, увидела появившегося рядом с ней мсье. И погадала, кем она может быть. Неподалеку от меня опустился на песок, скрестив ноги, Эмилио, тоже наблюдавший за этой парой. Я встала, чтобы уйти, однако Эмилио заметил меня и окликнул. Он вскочил на ноги, так что закачался длинный хвостик его волос, и, расцеловав меня, приветствуя, в обе щеки, выразил удовольствие от встречи со мной в Брайтоне. — О, я просто хотела посмотреть выступление мсье, — сказала я. — Хорошо, что хоть кто-то хочет, — ответил Эмилио. В этот миг и мсье заметил меня и махнул рукой, чтобы я подошла. Эмилио сказал чтото о короле, призывающем придворных, мне пришлось улыбнуться. Эмилио столько раз уходил от мсье, что тому пришлось обзавестись еще одним массажистом, который работал в промежутках между его уходами и возвращениями. Прикусив губу, я пошла к воде, к мсье, стоявшему рядом с молодой дамой. — Разрешите познакомить вас с Маргаритой, — сказал он. Я сообразила, что передо мной одна из балетных партнерш мсье. Она сдвинула солнечные очки с носа на лоб, улыбнулась. Прекрасные синие глаза. Я подумала, как, должно быть, рада она тому, что в столь юные годы танцует с мсье, достигшим заката своей карьеры, но ощутила и странную вспышку гнева на него, не спросившего о причине моего приезда в Брайтон. — Одиль поможет решить вашу проблему, — услышала я голос мсье. — О нет, — ответила молодая балерина. — Я что-нибудь придумаю. Дети строили у моря песочные замки, черпая морскую воду для рвов ботиночками. — Одиль не против, правда? Мсье смотрел на меня. Я сказала, что яркое солнце отвлекло мое внимание. Он вздохнул и объяснил — все довольно просто. Маргарита пригласила на сегодняшний спектакль нескольких родственников. Они едут сюда машиной из Лондона. У ее сестры ребенок полутора лет, а посидеть с ним некому. Я покивала, сказала: — Понятно. — Ну вот, — сказал мсье. — Все и решилось. Я вспыхнула, однако пролепетала, что сочту за честь помочь. — В шесть часов, — сказал мсье. Много лет назад мой дядя сказал мне, что, если бы я родилась птичкой, у меня всегда было бы сломано одно крыло. В тот вечер я приготовила еду на двенадцать человек, замечательно, хоть я и говорю это сама, вкусную. Исключение составляла только дядина порция — я напичкала в нее столько специй, что он весь вечер прокашлял, утирая слезы. Так вот, в тот миг мне захотелось поперчить еду мсье, сказать что-то такое, отчего он отпрянет и забрызжет слюной. Однако вид у него был совсем больной. Из-за бед с ногами и других его недомоганий он и ходил-то с трудом, и мне неприятно было думать, что ему придется выйти на сцену расстроенным. — Буду рада помочь, — сказала я. Мсье кивнул и заковылял, уходя от меня, по пляжу. Молодая балерина обернулась, улыбнулась, поблагодарила меня. Мсье свистнул Эмилио, и тот последовал за ним. Вода плеснула мне на ноги, я почувствовала: приближается приступ мигрени. Перейдя променад, я нырнула в кафе, попросила принести мне стакан воды, чтобы запить таблетки. И лишь несколько мгновений спустя поняла, что заказала еще и кусок торта «Баттенберг», который так нравился Тому. Не притронувшись к торту, я вернулась в мою комнату. Разбудили меня крики чаек. Часы показывали почти шесть. Я поспешила в отель, протиснулась сквозь толпу поклонников, ожидавших мсье в вестибюле. Подошла к стойке портье, и меня после нескольких телефонных звонков направили на самый верхний этаж. Очевидно, произошла какая-то ошибка, потому что, легко стукнув в дверь, я услышала голос мсье, громкий и раздраженный: «Что?» Дверь открыл Эмилио, я увидела лежавшего на массажном столе мсье. Эмилио был в тонких резиновых перчатках. Даже издали я заметила волдыри на теле мсье и пятна крови на бумажной скатерти стола, у ступней. Я пролепетала извинения, повернулась, дверь быстро захлопнулась. Я услышала, как мсье выругался. — Запри дверь! — крикнул он. Спустившись в вестибюль, я выяснила, где находится номер молодой балерины. Ребенок спал, бутылочки с молоком стояли наготове, по столу была разложена сменная одежда, в номере имелась даже коляска, значит, если ребенок проснется, я смогу укачать его. Я попрощалась с родственниками балерины и устроилась в кресле. Отельные номера всегда внушали мне отвращение. Телевизор я смотреть не хотела, радио слушать тоже. И поймала себя на мыслях о Томе, об искромсанных мной туфлях, о том, что он мог почувствовать, открыв шкатулку. Сдержать слезы было невозможно. Чувствуя, что на меня накатывает клаустрофобия, я завернула ребенка в тонкое одеяло, уложила в коляску и отвезла на лифте вниз. Снаружи было еще светло. По променаду во множестве прогуливались молодые влюбленные, вдоль береговой линии стояли столики предсказателей судьбы. Кое-кто из гулявших останавливался и умильно ворковал, глядя на ребенка в коляске, но, когда меня спросили, как его зовут, я сообразила, что имя мне неизвестно. И поспешила дальше, продолжая думать о Томе. Я была уверена, что других женщин у него нет, хоть его прежняя домохозяйка все еще присылала ему открытки на Рождество. Спиртное тоже было ни при чем. Наверное, существует другое объяснение. Жаль, что я не взяла с собой его письмо, и, возможно, думала я, мои действия были чрезмерно поспешными. Тут я услышала разносившуюся по променаду грязную ругань. А подняв взгляд, обнаружила всего в нескольких ярдах от себя компанию подпиравших стену юных хулиганов. Головы у всех были обриты, каждый в подтяжках цветов британского флага и красных полуботинках. Мне захотелось развернуть коляску и возвратиться в отель, однако я боялась, что хулиганы заметят мой испуг и попытаются отнять у меня сумочку. И я пошла вперед. Удивительно, но они вроде бы не обратили на меня особого внимания. На небе уже засветились редкие звезды, море темнело. Ребенок проснулся и заплакал. Я постаралась успокоить его, и ко времени, когда он заснул снова, уже стемнело. Оглянувшись, я увидела, как один из бритоголовых приплясывает у фонарного столба. Он полез в задний карман, в руке его блеснул нож, которым он начал срезать афишу мсье. При этом он выкрикивал ужасные слова о гомосексуалистах, а дружки его гоготали и подталкивали один другого. У меня забилось сердце. Я огляделась в поисках людей, которых встречала здесь днем, — мужчин в канотье, средних лет женщин в сандалиях — и не обнаружила никого. О возвращении с коляской в город по галечному пляжу нечего было и думать, для этого мне пришлось бы затаскивать ее вверх по множеству ступеней. Оставалось только одно — возвращаться тем же путем. Ноги мои подрагивали, во рту пересохло, но я старалась катить коляску ровно и даже напевала ребенку песенки. Бритоголовые немного расступились, пропуская меня. Но тот, что сорвал афишу, теперь подпрыгивал на месте, лупя себя по заду фотографией мсье. Я едва не взорвалась, хоть колени у меня и подгибались. И все же толкала коляску вперед, пока ее колеса не увязли в выбоине. Мне удалось рывком освободить их, однако сама я при этом споткнулась и упала, сильно ссаднив колено. Бритоголовый загоготал и бросил изорванную афишу под коляску. Я увидела лицо мсье, спокойное, счастливое. Пока я с трудом поднималась на ноги, один из хулиганов обозвал меня особенно гнусным словом. Я задрожала, но все-таки подняла афишу с земли и положила в коляску рядом с ребенком. А потом побежала по променаду прочь от кричавших мне вслед бритоголовых. И остановилась, лишь когда их грязная ругань стихла вдали. Прислонилась к ограде и постаралась успокоить дитя, которое теперь уже вопило, громко и надрывно. В этот миг я поняла, что ненавижу моего мужа Тома, сильнее, чем любого другого человека из встреченных мной в жизни. Спустя два дня я, вернувшись в Лондон, обнаружила его в нашей квартире — дремлющим в кресле, сложив на коленях ладони. Вид у него был самый жалкий. Грязная, вся в пятнах рубашка, запах пива. Оставив его без внимания, я начала переодеваться на ночь и присела, чтобы стянуть с себя колготки, на край кровати. Том наполовину проснулся, огляделся кругом, не понимая, похоже, где он. Однако, увидев мое ободранное, рассеченное колено, выпрямился. Он ничего не сказал, просто ушел в ванную и вернулся с влажной тряпочкой. Сел рядом со мной, приподнял подол моей ночной сорочки и принялся омывать рану. От уже образовавшегося на ней струпа отвалилось несколько мелких кусочков. — Что случилось, любовь моя? — спросил он. Я не ответила — легла, накрылась почти с головой одеялом и отвернулась к стене. Рану, которую он попытался очистить, жгло. Немного позже я услышала, как Том роется в шкафчике ванной, потом копошится на кухне. В спальню он вернулся, неся что-то, издававшее запах горячего компресса. Я притворилась спящей, а он приподнял одеяло и намазал мое колено чем-то едким. И я вспомнила слова, с которыми мсье обратился ко мне сразу после своего пятидесятилетия, — разглядывая фотографию, на которой он стоял один посреди сцены, вызванный публикой из-за кулис, усталый, мсье пробормотал: «Когда-нибудь этот жуткий миг станет сладчайшим воспоминанием». Обработав колено, Том аккуратно вернул одеяло на прежнее место, похлопал ладонью по краю моей кровати. Он пожелал мне спокойной ночи, шепотом, но я не шелохнулась. Лежала и слушала, как он снимает рубашку, полуботинки, как забирается в свою постель. К запаху припарки начал примешиваться запах его носков. И тогда я улыбнулась, сказав себе, что как бы там ни было, а носки ему постирать надо. *** Rond de jambe par terre<a l:href="#n_45" type="note">[45]</a>, чтобы выяснить диапазон движения суставов. Сильно ограниченный. Беспорядочное покачивание. Прыжок отзывается резкой болью, кости зажаты. Левая ступня почти не способна проезжаться по полу. Прикосновение к плюснам вызывает острую боль, даже когда нога жестко зафиксирована. Главное — добиться, чтобы плюсны расправились веером, могли покручиваться из стороны в сторону, — мягкое поглаживание между костями стоп. Проколоть и выдавить кровавые мозоли, немедленно удалить волдырь между вторым и третьим пальцами левой ноги. Книга четвертая Уфа, Ленинград, 1987 5 ноября 1987 Мысли о самолете, который приземлится на следующей неделе. Опустится на лед и заскользит, уже безопасно. Его могут арестовать при пересадке в Ленинграде. Илья уверяет, что никаких козней ожидать не следует, но я не уверена. Они способны забрать его и посадить на семь лет, кто может им помешать? Проснулась вся в поту. Позавтракав, влезла в пальто и пошла в универмаг на Красина. Все уже укутались в теплое. Ходили слухи, что в универмаг завезли гриль-тостеры, ничего подобного. После полудня Нурия показала мне картинку, которую нарисовала для Рудика, — вороны над Белой и однаединственная белоснежная чайка, летящая над обрывом. Она завернула картинку в плотную упаковочную бумагу, сказала, что подберет ленточку, чтобы ее перевязать. Нурие не удается сдерживать волнение, но в ее возрасте это вряд ли удивительно. Волнение, равное, я полагаю, моей нервозности. Спать дочка легла пораньше, мы слышали, как она вертится в постели. Я зашла в комнату мамы, попробовала сообщить ей, что через несколько дней приедет Рудик. На миг глаза мамы вспыхнули, повлажнели, словно говоря: «Как же это может быть?» Потом веки ее затрепетали и сомкнулись. Как мирно она спит и как ужасно мучается, просыпаясь. Врач дал ей около пары месяцев. Но что толку в паре месяцев, если ей не для чего жить, да по-настоящему нет и тела, в котором она могла бы прожить их? Сознание ее продолжает угасать. Илья сказал — может быть, мама дотянула до этого времени ради того, чтобы увидеть Рудика? А после спросил, не прожила ли и я на свете достаточно лет, чтобы научиться прощать? Прощать? Какое это имеет значение? Существует много чего и попроще, и поважнее — мыла нигде не достать и унитаз у нас подтекает. 6 ноября Столько всего переделать надо: поставить заплатку на скатерть, помыть подоконники, закрепить ножки стола, отпустить подол платья Нурии, прокипятить мамину ночную рубашку. Оперный театр попросил Илью взять на себя выполнение всякой случайной работы. Это хорошая новость. Денег побольше будет. 7 ноября День Революции. В Уфе метель. Холод удерживает нас в четырех стенах. На кладбище метровый снег, а Илья не может выйти, чтобы привести в порядок могилу отца. Виза на сорок восемь часов — это хуже, чем вообще не дать Рудику никакого времени. Один только перелет займет целый день. 8 ноября Наблюдала за мамиными губами. Пыталась прочесть ее мысли. Возможно, Илья и прав, последние годы она держалась, чтобы еще раз увидеть его. Но тридцать лет одним махом не перечеркнешь. И думать глупо. Мы слышали, в гостинице «Россия» для него готовят особый номер. Говорят, у них есть холодильники, в которых можно замораживать кубики льда. Кому они нужны? После полудня снегопад стих. Дошла до универмага — ночных рубашек нет, однако вторая попытка прокипятить мамину оказалась более успешной. Обнаружила в глубине комода старую, в помидорных пятнах, оставшихся после лечения лишая. Она все сохранила, даже полуботинки Рудика. Носки ободраны, задники смяты — он всегда затискивал в них ступни, не развязывая шнурков. 9 ноября Даже детский стишок, прочитанный сегодня в школе, показался мне имеющим второй смысл: «If you can't find your way back, why did you leave in the first place?» [ «Если не знаешь назад пути, зачем же было вперед идти?»] Поискали на рынке сахар. Нурия предложила отдать за него любимое серебряное ожерелье, которое мы достали к пятнадцатому дню ее рождения. Но сахара не нашлось. Она расплакалась. Что делать? Зарплату Ильи задержали уже на две недели. Чем мне пироги сластить? Может, на рынке случится чудо: в последнюю минуту прикатят грузовики с сахаром, селедкой, осетриной — и мы будем пировать в белом шатре, пить шампанское под музыку оркестра? Ха! По крайней мере, Илье удалось найти детали, необходимые для починок в уборной. 10 ноября Видела за мечетью подростков в кожаных куртках. Волосы нестриженые, на рукавах какие-то эмблемы. Нурия говорит, что не знает, кто они. Что такое происходит в Москве или Ленинграде, представить еще можно, но здесь? Многие рассуждают о новой оттепели, но неужели они не знают, что каждая оттепель сопровождается страшной вонищей? 11 ноября Илья говорит, ему очень трудно следить за собой, не проговориться никому в Оперном. Старые работники театра годами не осмеливались произнести имя Рудика. А некоторые из танцовщиков слышали о нем только плохое. По словам Ильи, те, что помоложе, страшные бунтари. Узнав о его приезде, они могут попытаться устроить в аэропорту торжественную встречу. Нурия считает часы, оставшиеся до его возвращения. Для нее дни тянутся слишком медленно. Она все меняет наряды и разглядывает себя в зеркале. У нее есть фотография Рудика, снятая, когда он был подростком. Надеюсь, она не ужаснется, увидев его. Хорошие новости: Илья достал сегодня вечером пол кило сахара, а в магазины завезли из каких-то колхозов свеклу. Еще не все потеряно. 12 ноября Теперь уж он наверняка прилетел! Ночью, в Ленинград, самолет на Уфу вылетает только ранним утром, придется ему сидеть там. Мы ждали звонка, его не было. Илья то и дело поднимал трубку, чтобы проверить, есть ли сигнал, смогут ли нас соединить. А я была уверена — Рудик позвонит, когда трубка будет в руке Ильи. Заснуть не смогла. Мама выглядит возбужденной, может быть, она и понимает, что происходит. Конечно, если бы я ей не сказала, было бы хуже. Если бы только она могла говорить. Какая жестокая судьба. У нас столько вопросов. Прилетел ли он в одиночку? Много ли наслушался гадостей о себе? Сохранились ли у него в Ленинграде знакомые? Получил ли он разрешение погулять по городу? Писали ли в газетах о его приезде? У меня на руке появилась сыпь, похожая на мамины лишаи. Теперь я испытываю такой страх, что мне его и сравнить-то не с чем, даже успех моего обеда меня больше не волнует. Илья покончил с последним ремонтом, нашел где-то кумыс, у нас будет что выпить. Ночь и утро 12–13 ноября Ночь медленно переходила в день. Показалось серое небо, в окна лупил ветер. Снег налепился на ветровое стекло машины, которую нам выделили для поездки в аэропорт. Зайти в нашу квартиру шофер отказался, Илья отнес ему чашку горячего чая. В благодарность шофер почистил стекло «дворниками». Лицо у него было красное, гладко выбритое, суровое. (Он подозрительно походил на того, кто управлял машиной «Школы вождения».) Нурия волновалась из-за своих обгрызенных ногтей. Я разрешила ей немного подкрасить губы, иначе она могла закатить истерику. Мы влезли в пальто. Мама наши приготовления проспала, пришла Миляуша, чтобы присматривать за ней. Я смотрела на маму и гадала, есть ли у нее хоть какая-то мысль о том, что возвращается ее сын, проживший за границей больше лет, чем ему было, когда он нас покинул. Стоит Рудику сделать один неверный шаг, они наверняка бросят его в тюрьму, и он проведет там семь лет. 13 ноября Я купила прекрасные розы, но ко времени нашего приезда в аэропорт они поникли от холода. Все равно что держать в руке деньги и смотреть, как они обесцениваются. Нас отвели в комнату ожидания, маленькую, серую, с тремя стульями, окном, столом и серебряной пепельницей. Там нас дожидались трое чиновников. Под их жесткими взглядами розы поникли еще сильнее. А меня вдруг затопила уверенность, что я не обязана просить прощения ни за что из сделанного в прошлом Рудиком — ведь не я же это сделала. Я гневно уставилась на них, и они вроде как смягчились. Даже сигарету Илье предложили. Небо расчистилось, мы увидели птичий косяк и приняли его за самолет. Я так занервничала, что у меня желудок свело. Косяк разделился на две стаи — одна полетела на юг, другая на север. А несколько мгновений спустя показался самолет. Накренился и исчез из виду на посадочной полосе. Нас отвели из комнаты ожидания в зал для прибывающих. Там вдоль стены стояла охрана, двадцать человек с автоматами. Нурия прошептала: «Дядя Рудик». восемь тридцать Я задержала дыхание на целых пятнадцать, уверена, минут, которые потребовались ему, чтобы выйти через сдвижные двери. И как скакнуло мое сердце! Рудик был в пальто из неизвестного мне материала, цветастом шарфе и черном берете. Его улыбка напомнила мне, каким он был в молодости. Чемодан в руке. Рудик поставил его на пол, раскинул руки. Как вообще можно было ненавидеть его? Нурия подлетела к нему первой. Рудик поднял ее в воздух, закружился. Обнимая ее одной рукой, он подошел ко мне, дважды поцеловал. Сзади к нам подобрался фотограф, блеснула вспышка. Рудик прошептал: это фотограф из ТАСС, он будет таскаться за нами весь день. И добавил: «Не обращай на него внимания, он осел». Я засмеялась. Рудик вернулся, настоящий Рудик, мой любимый брат, а не тот, кого они лепили из бесконечного вранья. Глядя мне в глаза, он подержал в ладонях мое лицо, потом взял у меня розы, сказал, что они чудесные. Стянул с моей головы платок, и мне стало ужасно стыдно за мою седину. Он еще раз поцеловал меня и сказал, что я прекрасно выгляжу. Сам он выглядел с близкого расстоянии сильно изнуренным, глубокие складки на лице, морщины у глаз. И чуть более худым, чем я ожидала. Он снова оторвал Нурию от земли, сжал ладонями, покружил, и мне вдруг стало казаться, что все хорошо. «Я дома», — сказал Рудик. Его сопровождал здоровенный испанец, Эмилио, бывший, по словам брата, и телохранителем, и своего рода медиком. Огромный, с мягкими руками и добрыми глазами. Волосы его были зачесаны назад и собраны в хвостик, заткнутый под воротник пальто. Илью Рудик увидел впервые. «Добро пожаловать в Уфу», — сказал Илья. Рудик бросил на него быстрый взгляд, но тут же улыбнулся. Рядом с нами уже переминались двое служащих французского посольства. Как странно было мне слышать Рудика, говорившего на французском, точно на родном языке, впрочем, обратившись ко мне, он перешел на татарский. Ему хотелось немедленно увидеть маму, но я сказала, что она еще спит, что доктор советовал не затягивать их встречу, чтобы не утомить ее. «Спит? — переспросил он. И посмотрел на свои замечательные часы: — Но у меня в запасе всего полдня, даже меньше». девять тридцать Разногласия наши уладили чиновники, сказавшие, что сначала он должен вселиться в «Россию». Нурия, Илья и я дошли с ним и телохранителем до черного ЗИЛа. Мы были раздавлены. На миг я подумала — не извиниться ли мне за них, поскупившихся на западный лимузин, но удержалась, хоть меня и душил гнев. Рудик сел у окна, держа Нурию за руку. Она рассказывала о книге, которую сейчас читала. Похоже, ему было интересно, он даже задавал вопросы насчет сюжета. Он еще раз взглянул на часы, потом сорвал их с руки и сунул в ладонь Нурии. Часы были двойные — кроме стрелок, время показывал экранчик. Рудик сказал Нурие: подари их своему мальчику. Она покраснела, покосилась на отца. «Можно я их себе оставлю, дядя Рудик?» Он ответил — конечно, и Нурия опустила голову ему на плечо. Машина ехала, он смотрел в окно. «Смотри-ка, улицы заасфальтировали». Многие места он не узнавал, но, когда видел знакомые, говорил что-нибудь вроде: «Я залез на этот забор, когда мне было семь лет». Мы проехали пруд, по льду которого он катался на коньках. Рудик указал мне на флаги: «Помнишь?» У него на шее висели крошечные наушники, и, когда я спросила о них, Рудик достал из кармана самый маленький магнитофончик, какой я когда-нибудь видела. Он надел на меня наушники, нажал на кнопку, и воздух наполнился музыкой Скрябина. Рудик пообещал оставить эту машинку мне, когда уедет. Прошептал, что она будет нужна ему до конца дня, чтобы заглушать голос фотографа из ТАСС, задающего дурацкие вопросы. Потом похлопал меня по ладони и сказал: «Я так нервничаю. Ты можешь поверить, что я нервничаю?» Голос его звучал как-то по-особому. «Что заставляет его нервничать? — подумала я. — Боязнь ареста, встреча с мамой или просто пребывание здесь?» Тут он повернулся к Илье и стал рассказывать о самолете, на котором летел из Ленинграда, о его креслах, положение которых не желало фиксироваться. И столик, скачал он, все время падал мне на колени. десять пятнадцать ЗИЛ остановился перед гостиницей. Французы выскочили из своей машины, подбежали к нашей, чтобы поприветствовать нас. Телохранитель все время держался поближе к Рудику. А Илья казался чем-то подавленным. Он сказал, что в доме еще кое-что не доделано, наверное, будет лучше, если он поедет туда и все подготовит. А попозже приедет за нами на трамвае. Рудик во второй раз пожал Илье руку. Мы поднялись в номер. Огромный, но без холодильника. Рудик бросил розы на кровать, они упали грудой. Он прошелся по номеру, заглянул за шторы, даже за рамы картин. Развинтил телефонный аппарат, снова собрал его. И, пожав плечами, сказал какие-то слова о том, что его всю жизнь прослушивали, велика ли разница. КГБ это делает или ЦРУ? Потом положил чемодан на кровать и отпер его ключиком. Чемодан содержал не одежду, как я ожидала, а совершенно невероятное количество духов, шарфов, ювелирных шкатулочек, брошек, все ужасно красивое. Нурия вцепилась в руку Рудика, прижалась щекой к его плечу. «Мне разрешили взять с собой только один чемодан, — сказал он, — да еще в аэропорту они свою долю урвали». Нурия начала по одной доставать вещи, выкладывать их на кровать. О духах Рудик знал все: где их изготовили, кто какими душится, кто их составил, из чего, кто поставляет. «Вот этими пользуется Джекки О», — сказал он. У него даже для мамы был флакончик, особый подарок женщины из Нью-Йорка, обвитый чудесными лентами. И флакон «Шанели» для меня. Мы с Нурией побрызгали ими себе на запястья. Тут Рудик хлопнул в ладоши, призвав нас к молчанию, вынул из чемодана шкатулочку и протянул мне. Внутри лежали самые роскошные бусы, какие я когда-либо видела, из бриллиантов и сапфиров. Первая мысль: «Где же их прятать-то?» Рудик велел мне надеть их и носить с гордостью. Тяжелые, они холодили мне шею. Конечно, бусы стоили ему огромных денег. Рудик расцеловал меня в щеки и сказал, что на меня приятно смотреть. десять сорок пять Я предложила ему отдохнуть перед свиданием с мамой, но Рудик ответил: «Зачем? — И рассмеялся: — Успею еще отоспаться в аду, там времени много будет». Если домой ехать пока нельзя, сказал он, покатаемся по городу, посмотрим на него. В вестибюле гостиницы произошел еще один долгий спор насчет утвержденного графика и маршрута, но в конце концов было решено — мы можем поездить пару часов, однако с сопровождением. И мы медленно покатили по снегу. Оперный театр был закрыт: наш старый дом на улице Зенцова давным-давно снесли: зал на Карла Маркса оказался запертым, а дорога к татарскому кладбищу — непроезжей. Машина остановилась у подножия холма, в сотне метров от входа. Рудик попросил шофера найти для него валенки. Шофер сказал, что у него только одни и есть — те, что на нем. Рудик заглянул через спинку сиденья: «Давайте эти». И протянул шоферу несколько долларов. Валенки оказались Рудику велики, однако Нурия отдала ему свои шерстяные носки. Телохранитель хотел отправиться с ним, но Рудик сердито сказал: «Я пойду один, Эмилио». Мы наблюдали, сидя в машине, как Рудик одолевает сугробы, как перелезает через железную изгородь и скрывается за скатом холма. Только верхушки кладбищенских деревьев и возвышались над снегом. Мы ждали. Никто не произнес ни слова. На стеклах машины скапливался снег. Когда Рудик наконец вернулся, пробившись сквозь множество снежных наносов, я увидела, что и рукава его пальто, и колени брюк совсем промокли. Он сказал, что сумел веткой расчистить от снега надгробие отца. Я не сомневаюсь, что он несколько раз падал. Еще Рудик сказал, что пытался расслышать стук идущих через Белую поездов, но не смог. Мы уехали. Как ярок был свет! Снег отражал его со всех сторон от нас. Брехавшие у фабрики бездомные собаки внезапно умолкли, и на миг наступила полная тишина. двенадцать пятнадцать Телохранитель достал из кармана пузырек с таблетками, Рудик проглотил три, не запивая. Он сказал, что у него грипп, а это лекарство прочищает мозги. Нурия заявила, что тоже, кажется, простудилась, однако Рудик не дал ей таблеток, сказав, что они слишком сильны для нее. На железнодорожном вокзале мы купили семечек. «Я их сто лет не пробовал». Он разгрыз парочку, выплюнул шелуху, а все остальное выбросил. Мы притормозили у прежнего дома Сергея и Анны. «Я думал, что, может, увижу Юлю в ленинградском аэропорту, — сказал Рудик. — Наверное, она умерла». Я сказала, что ничего о ней не слыхала. Рудик ответил, что получал от нее письма, но столько лет назад, что бумага уже успела пожелтеть. двенадцать тридцать Дома нас поджидали двое французов. Сидевший за обеденным столом Илья встал, чтобы пожать Рудику руку, это было их третье рукопожатие. Илья посмотрел ему в глаза, но Рудик этого не заметил. «Слишком много народу!» Он ударил себя по груди кулаками в перчатках и разразился грязной татарской бранью. А следом начал ругаться с французами. Он хотел, чтобы его оставили в покое. Я набралась храбрости, успокоила его и проводила французов до двери. Он поблагодарил меня, извинился за крик, но прибавил, что это же ослы и ничего больше, что всю жизнь его окружают ревущие ослы. Рудику не терпелось увидеть маму, но сначала я должна была рассказать ему обо всех наших трудностях, о том, что она не говорит и почти не видит, что может впадать в забытье и снова выходить из него. По-моему, он меня не слушал. До нас доносились голоса препиравшихся у дома чиновников, французских и русских. Рудик боялся, что они настоят на своем присутствии в квартире, и потому взял стул и просунул его ножку сквозь ручку двери. И велел телохранителю стоять у нее. Как мы все нервничали! Рудик снял пальто, яркий шарф, набросил его на вешалку для шляп и вошел в комнату мамы. Она спала. Он подтянул кресло к ее кровати, наклонился, поцеловал маму. Она не шелохнулась. Рудик умоляюще взглянул на меня, он не знал, что делать дальше. Я поднесла к маминому рту стакан с водой, ее язык сдвинулся к губам. Рудик положил ей на шею прекрасное ожерелье. Мама пошевелилась, но глаз не открыла. Рудик сжал ладони, и мне показалось, что он вдруг постарел лет на семь. Он зашептал ей в ухо: «Мама. Это я. Рудик». Я попросила его дать ей время, в конце концов она очнется, просто нужно потерпеть. двенадцать сорок пять Я решила оставить его с мамой. А выходя, увидела, как он стягивает с шеи наушники, словно желая заглушить все, что скажет ему мама. Я постояла в двери. Он продолжал шептать, однако слов я различить не смогла. Мне даже показалось, что Рудик говорит на иностранном языке. час тридцать Рудик вышел из маминой комнаты. Глаза в красных ободках. «Эмилио», — позвал он телохранителя. И сказал, что Эмилио — массажист, но немного разбирается и в лекарствах, может быть, ему удастся как-то улучшить самочувствие мамы. Дурацкие западные идеи, подумала я, как может его лекарство быть лучше тех, что мы уже даем ей? Пока этот огромный мужчина шел к маминой комнате, я его просто возненавидела. Какое он имеет право лезть в наши дела? Я зашипела на Рудика, однако он не обратил на меня внимания и закрыл мамину дверь. два часа Телохранитель вышел. Улыбнулся мне, заговорил на ломаном английском, который невозможно было понять. Кончилось тем, что он начал водить руками по воздуху. Мне показалось, он пытался сказать, что мама была когда-то очень красивой женщиной. И я сразу изменила мнение о нем, несмотря на его конский хвостик. Он поел того, что мы выставили на стол, не одну порцию съел, помычал, давая понять, что все очень вкусно. А затем тихо сидел до конца дня. два тридцать Я вошла. Мама была в сознании. Полностью открытые и словно испуганные глаза. Рудик склонялся над ней, в его глазах стояли слезы. Он говорил что-то, переходя с русского на татарский и обратно. Мамины губы шевелились, но разобрать хотя бы слово было невозможно. Рудик взял меня за руку. «Скажи ей, что это я, Тамара, — попросил он. — Она знает твой голос. Она все еще не признала меня». Я наклонялась к маме, сказала: «Это Рудик вернулся, чтобы увидеть тебя». Что-то блеснуло в ее глазах, но поняла ли она меня, я не знала. «Буду сидеть здесь, пока она меня не узнает, — сказал Рудик. — С места не сойду». Я попросила его выйти, съесть что-нибудь, мы же приготовили праздничный обед, но он ответил, что не голоден. Я попросила еще раз. «Нет!» — крикнул он. И тогда я сделала то, чего никогда не забуду. Ударила Рудика по лицу. Голова его дернулась в сторону и не вернулась обратно, он уставился в стену. Удар был таким сильным, что у меня заныла ладонь. Рудик медленно обернулся ко мне, посмотрел в глаза. И снова склонился к маме. «Я сяду за твой стол, Тамара, когда буду готов». Я закрыла дверь. Ужасное чувство владело мной, когда я вошла в гостиную. Нурия смотрела на свои новые часы, а те пикали и пикали. Остановить их она не могла. два сорок пять Илья еще раз пополнил тарелку телохранителя. Они выпили кумыса. Телохранитель показал Илье занятную игру. Он выдергивал из головы волос и закрывал глаза, а Илья закладывал его между страницами книги. И телохранитель принимался, не открывая глаз, прощупывать пальцами книгу, легко касаясь страниц. Это был старый трюк массажистов, помогавший ему управлять нажимом пальцев. Телохранитель наловчился в нем до того, что мог нащупать волос сквозь восемь страниц. Снег бил в окно. три часа Я наложила для Рудика полную тарелку — солонина, капустный салат, яйца вкрутую. Дверь скрипела, пока я ее открывала. Я удивилась, увидев, как он улыбнулся мне. Похоже, он забыл о моей пощечине. Между нами снова установились добрые отношения, какой-то мостик перекинулся через разделившее нас расстояние. Есть Рудик не стал, но тарелку держал так, точно вот-вот начнет. Он подвинулся в кресле, освободив место для меня, я втиснулась туда. Мы смотрели на мамины едва-едва двигавшиеся губы. На ее разбросанные по подушке волосы. «Она повторяет твое имя», — сказала я. «Что?» — отозвался он. Я сказала еще раз: «Она повторяет твое имя». Рудик долгое время промолчал, а потом с силой закивал: «Да, она повторяет мое имя». И вдруг залепетал чтото о флагах на берегу, о радио, о том, как слушал ребенком музыку. Я ничего не поняла: чушь какая-то. Я сжала его руку. Кресло было слишком тесным для нас двоих. три тридцать Я оставила Рудика в маминой комнате. Телохранитель по-прежнему играл с книгой, прощупывая ее страницы. Он попросил у меня еще кусок пирога. четыре Рудик вышел от мамы. Вид у него был решительный, но лицо никаких чувств не выдавало. Он кивнул Нурие с Ильей, подошел к окну. Раздвинул шторы, за которыми сидели в машинах чиновники. Рудик повернулся к нам. Подал какой-то сигнал телохранителю. Уверена, он только притворялся счастливым. Телохранитель открыл чемодан Рудика, и тот достал последние подарки — новые драгоценности, косметику, шоколад. Потом похлопал ладонью о ладонь, словно согревая их, хотя в квартире было тепло. «Ладно», — сказал он. Сунул руку в карман и бросил на стол пачку рублей. Очень толстую. Никто не шевельнулся. Снаружи засигналили машины. Самолет на Ленинград улетал уже скоро. Снег так и продолжал валить. У двери Рудик натянул на голову берет, обнял Нурию, в последний раз пожал руку Илье. Я подошла, встала рядом с ним на пороге. «Она меня не узнала», — сказал Рудик. Я прошептала ему на ухо: «Конечно, узнала». И мы стали повторять: «Нет, не узнала». — «Да, узнала». Рудик посмотрел мне и лицо, криво улыбнулся. «Щеку все еще жжет», — сказал он, и на миг мне показалось, что Рудик вернет мне пощечину, но нет, не вернул. Обмотал шею шарфом, повернулся к нам спиной и пошел к машине. А мы остались наедине с нашими новыми сокровищами. *** — Юля, милая, дай-ка я догадаюсь, пианино у тебя все еще нет? Одолев пять лестничных маршей, он немного запыхался. Я ахнула, вот уж не думала, что меня, в моем-то возрасте, еще можно так удивить. Он улыбнулся собственной шутке, представил своего спутника, Эмилио, извинился за поздний визит. Сказал, что ему страшно неудобно — явился без подарков, — но он уже все раздал. Я обняла его, стоявшего на пороге, вглядываясь в темноту квартиры. — Все та же Юля, — сказал Руди. — Столько книг, что обоев не видно. — Как ты меня отыскал? — У меня свои каналы. Электричество во всем нашем доме опять отключили Я зажгла две свечи, стало посветлее. Эмилио, стоя у двери, стряхивал снег с плеч. Я предложила ему войти, удивив его тем, что он назвал моим идеальным испанским. Я объяснила, что этот язык составляет изрядную часть моей жизни, он подошел к полкам с книгами и принялся их разглядывать. Затянув потуже поясок халата, я зашла за разделявшую комнату ширму. Коля спал. Я разбудила его, он было заворчал, но затем сел, выпрямившись. — Кто? — переспросил он и выскочил, встрепанный, из постели. — Тащи на стол всю еду, какая есть, — прошептала я. В ванной я подрумянила щеки костяшками пальцев, — посмотрела на себя в зеркало и рассмеялась. Призраки моей жизни выступали из темноты, чтобы поприветствовать меня, женщину шестидесяти двух лет. — Поспеши, — крикнул Руди. — У меня всего около часу. Коля выставил на стол булку хлеба, остатки огуречного салата. И уже успел открыть бутылку водки, хотя стоявшие рядом с ней стопки были еще пусты. Крошечные язычки свечей нервно подрагивали в темноте. — Ты оказал нам большую честь, — сказала я. Руди махнул рукой. — Меня тащили на ужин во французское посольство, — сказал он, — но они мне надоели. — Так, значит, тебе разрешили вернуться? — На двое суток, повидать маму. Просто мой рейс задержали. Через несколько часов вылетаю из Пулково. — Через несколько часов? — Я даже в Кировском побывать не сумел. Они спланировали мой визит так, что театр оказался закрытым. — А твоя мама? — спросила я. — Как она? Руди улыбнулся, но не ответил. Зубы у него все еще были поразительно белыми, словно спорившими с остальным его лицом. Мы помолчали немного, он оглядывал комнату. Казалось, Руди ждал, что из мрака покажутся еще какие-то люди. А потом вдруг сжал мои ладони и сказал: — Ты, Юля, не утратила ни крупинки былой красоты. — Прошу прощения? — Ни на день ни постарела. — А ты, — ответила я, — как был вруном, так и остался. — Нет-нет-нет, — упорствовал он. — Ты по-прежнему красавица. — Я старуха, Руди. В платочке хожу. Он взял бутылку, наполнил три стопочки и, взглянув на Колю, спросил, не слишком ли тот молод, чтобы пить водку. Коля молодым аллюром полетел к буфету за четвертой стопкой. — Твой сын? — шепотом спросил Руди. — В некотором смысле, — ответила я. — Ты снова вышла замуж? Я поколебалась, потом покачала головой. Мы с Колей пережили долгие годы бедности и лишений. Мое переводческое умение никуда не делось, но было настолько же хорошим, насколько и бесполезным: спрос на зарубежную литературу упал, а многие издательства попросту закрылись. Я ощущала себя стоявшей на пороге новой жизни, но уже лишившейся половины прежних сил. И начала подрабатывать, ради куска хлеба, уборщицей. Зато Коля, к радости моей, рос и обратился в достойного юношу — высокого, темноволосого, погруженного в себя. Семнадцатилетний, он давно забросил шахматы, решим стать художником, — начал с пейзажей, основательных и реалистичных, но теперь отошел от них, отдав предпочтение размытым, лишенным четких очертаний изображениям. Коля считал, что любые перемены должны иметь причину, иначе утратится уважение к прошлому, он стремился усвоить традицию, чтобы затем найти нечто новое. Сделал серию портретов Ленина — молоком. Они были столь же историчными, сколь и пародийными, увидеть что-либо на этих листах можно было, лишь поднеся к ним свечу или спичку. Ни одного портрета Коля не продал, просто сложил их под свою кровать, а любимым у него стал тот, что был ненароком оставлен рядом с трубой отопления, проявившей на бумаге нос — и ничего больше. Над своей кроватью Коля написал на обоях цитату из Фонтанеля, почерпнутую им в одной моей старой книге: «Найти философский камень, конечно, нельзя, но поиски его — дело доброе». Что меня пугало, так это грозивший Коле скорый призыв на военную службу. Мысль о нем была ужасна — война могла закрыть для мальчика все пути, как когда-то несколько войн закрыли все пути для моих родителей. Я часто просыпалась ночами в поту, увидев во сне, как мой сын сворачивает с висящим на груди автоматом за угол в афганской деревне. Коля, впрочем, полагал, что сумеет перехитрить систему, говорил, что, сдавая на анализ мочу, проткнет палец иголкой и накапает в пробирку крови. Если в моче окажется избыток белка, он сможет увильнуть от армии. Мне часто казалось, что Коля каким-то образом унаследовал дух моего отца, хотя внешне, разумеется, ничем на него не походил. Лишь упорством, умом и характером. Его интересовала история моей семьи, он находил в ней созвучие собственной судьбе, а в моих ответах на вопросы Коли неизбежно должен был всплывать — и всплывал — Руди. Я вгляделась в лицо Коли, пытаясь понять, какое впечатление производит на него этот визит, однако оно оставалось, как это ни странно, невозмутимым. Эмилио, заметила я, снял с полки перевод Сервантеса. Но читать его не стал — вместо этого он с закрытыми глазами прощупывал страницу за страницей, словно пытаясь угадать слова. Руди объяснил, что в наше отсутствие Эмилио положил в книгу волос и теперь ищет его, таково было излюбленное времяпрепровождение спутника Руди. — Меня окружают сплошные сумасшедшие, — добавил он. И протянул руку к бутылке водки, чтобы еще раз наполнить две наши стопки. Улыбнулся мне в недолгом, неуверенном молчании. Прошла четверть века, наша разница в возрасте стала не столь заметной, зато теперь нас разделила тонкая завеса неловкости. И разговор, хоть он и казался нам безнадежным, мы вели сквозь нее. Руди склонился вперед, упершись локтями в колени и положив подбородок на ладони, в глазах его поблескивало знакомое мне по прежним годам удовольствие. — Расскажи мне все, — попросил он. И поднял стопку к губам, ожидая моего ответа, а я начала разматывать то, что казалось мне смотанным в плотный клубок, — моя квартира, мой развод, моя улица. — Ты по-прежнему переводишь? — От случая к случаю, — ответила я, — но говорить об этом мне неохота. Я бы лучше послушала о твоих обстоятельствах. — Ну, о моих обстоятельствах и так все знают и вечно толкуют их вкривь и вкось. — И ты тоже? — Да, и я тоже. Хотя я делаю это намеренно. — Намеренно? — Конечно, потому меня никто и не знает. Выглядело все так, точно мы с ним играли в причудливый вариант шахмат — старались потерять все фигуры, пока не останется только король, а после опрокинуть его на доску и сказать: «Ну вот, доска твоя, теперь объясни, как мне удалось проиграть». Тут послышалось что-то вроде глухого удара, электричество включилось, комнату залил яркий свет. — Выключи, пожалуйста, — сказал Руди, — я предпочитаю свечи. Эмилио уже добрался до середины книги. Руди громко попросил: — Лекарство, будь добр. Эмилио закрыл книгу, вынул из кармана пузырек, бросил его на колени Руди. Тот быстро, одну за другой, проглотил четыре таблетки. Лоб Руди покрывала пленка пота, которую он смахнул ладонью. Интересно, подумала я, что обнаруживают пальцы Эмилио — в другие, разумеется, дни — под кожей Руди? — Ты еще выступаешь? — спросила я. — Да меня и похоронят танцующим, — ответил он. Я поневоле поверила ему — когда-нибудь скелет Руди выкопают из земли и увидят, что его кости приняли положение, какое принимали в прыжке, — а может быть, даже в поклоне, после которого он произнес бы, выпрямившись: «Спасибо, спасибо, прошу вас, позвольте мне сделать это еще раз». Руди понятия не имел, чем смог бы заняться, уйдя со сцены, ну разве что хореографией. Он снялся на Западе в нескольких фильмах, однако, сказал Руди, все это ерунда, да помимо прочего, и тело его создано не для экрана, а для сцены, он нуждается в публике. «В публике, это же надо», — подумала я. — Ага! — вдруг воскликнул Руди. После чего полез в карман, вытащил бумажник и бросил его через стол Коле. Деньги в бумажнике отсутствовали, но сам он был очень красив, да еще и окантован золотом. — Американская змеиная кожа, — сказал Руди. Коля уставился на бумажник: — Это мне? Руди сцепил на затылке ладони, кивнул. На краткий миг меня вновь обуяла ревнивость моих молодых лет. Мне захотелось отвести Руди в сторонку и сказать ему: не выпендривайся, ты ведешь себя, как избалованный мальчишка на его собственном нескончаемом дне рождения. Возможно, впрочем, у того, что он отдал бумажник моему сыну, была и основательная причина. Мне пришло в голову, что Руди хочется покинуть страну с пустыми руками — в точности так, как он покинул ее в прошлый раз. Коля начал перебирать пустые отделения бумажника, и Руди весело хлопнул его по плечу. Наблюдая за ними, я чувствовала, как острый нож пронзает меня между ребер и втыкается в сердце. Эмилио, продолжавший поиски волоска, понемногу начинал клевать носом. Я подошла к окну. Снаружи тьма замела город, снег несся так, точно ветер спустил его с цепи. Внизу на улице стояли три машины. Я развела шторы пошире, увидела чей-то темный силуэт, затем посверк фотовспышки. Фотограф. Инстинктивно отвернувшись, я задернула шторы. — Как же они позволили тебе вернуться? — Раиса Горбачева, — ответил Руди. — Ты с ней знаком? Он покачал головой — нет. — И все же она добилась для тебя визы? Руди помолчал, а затем произнес нечто странное: — Каждый из нас сам платит за свой распад. Я не знала, что на это ответить, не понимала, пожаловался он на судьбу или просто выпалил, что в голову взбрело. Чуть не рассмеялась. Но невозможно же было сердиться на него за то, что он стал тем, кем стал. Что-то в нем делало людей свободными от оков этого мира, подстрекало махнуть на все рукой. Даже Коля начал пододвигать свой стул поближе к столу. Мы налили себе еще немного водки, коротко поговорили о патефоне моего отца, об уроках мамы, о первой после приезда Руди в Ленинград ночи, о его выступлениях в Кировском. Он сказал, что однажды встретил Розу-Марию, но потом потерял ее из виду. В разговоре нашем присутствовала некая подержанность, мы словно повторяли уже сказанное нами, но и это не имело значения: нежность, которую я испытывала к Руди за его появление, искупала все. Мы молча выпили друг за друга. Руди бросил взгляд на запястье, как будто ожидая увидеть там часы, однако оно было голым. — Эмилио, — громко позвал он, — который час? Испанец мгновенно проснулся. — Нам пора, — сообщил он и захлопнул книгу. — Еще пара минут, — сказал Руди. — Нет, нам правда пора. — Пара минут! — рявкнул Руди. Эмилио всплеснул руками — жест, который он наверняка перенял у Руди. — Ладно, — сказал он, — но на самолет мы опоздаем. И вернул Сервантеса на полку. А мне представился день в будущем, холодный и дождливый, когда мы с Колей снимем эту книгу с полки и станем поглаживать страницу за страницей в поисках крошечного утолщения. Руди, совершенно спокойный, опустился на стул и через минуту снова стал центром общего внимания. После чего быстро встал: — Мои водители внизу. Решат еще, что я опять переметнулся. Он надел пальто, повернулся ко мне на каблуках: — Ты можешь в это поверить? — Во что? — После стольких-то лет, — сказал Руди. Он аккуратно накрутил на бутылку водки колпачок и уставился в стол, словно собираясь с силами, чтобы сказать что-то. Шагнул ко мне, взял меня за плечи, покусал губы и прошептал: — Знаешь, мама меня не узнала. — Что? — Она не узнала меня. Я вспомнила рассказ отца о лагере и пуле, вспомнила, как он сказал, что от себя нам не уйти. Подумала — не пересказать ли эту историю Руди, однако он уже обмотал шею шарфом и готов был уйти. — Разумеется, узнала, — сказала я. — С чего бы это? — спросил он. Мне хотелось дать ему идеальный ответ, вернуть его на землю, увидеть еще одну пробиравшую меня дрожью улыбку, еще раз поразиться, но Руди уже поворачивал ручку двери. Я подошла, обняла его. Он взял мое лицо в ладони, поцеловал в обе щеки. — Подожди, — сказала я. И, отойдя к буфету, достала принадлежавшее маме фарфоровое блюдечко. Подняла крышку шкатулки. Блюдечко было таким холодным, таким хрупким. Я протянула его Руди. — Твоя мама показывала мне его много лет назад, — сказал он. — Оно твое. — Я не могу его взять. — Бери, — сказала я. — Прошу тебя. — Сохрани его для Коли. — Коля уже был его владельцем. Руди ослепил меня улыбкой, взял блюдечко. — Входит и выходит, — произнес он. Эмилио, поблагодарив нас за гостеприимство, ушел вниз, предупредить водителей. Руди стал медленно спускаться следом, колени плохо слушались его. Я стояла с Колей у железных перил, мы вместе смотрели, как уходит Руди. — Так это он? — спросил Коля. — Он. — Ничего особенного, правда? — О, не уверена, — ответила я. И Руди, словно услышав меня, остановился на освещенной площадке третьего этажа, перебросил через плечо хвост шарфа и, прижимая к груди фарфоровое блюдечко, описал на бетонном полу совершенный пируэт. А затем, медленно сойдя по мусору и битым бутылкам на вторую площадку, снова остановился под аркой света и, пристукнув подошвами по бетону, крутнулся еще раз. Никаких сожалений. Коля обнял меня за плечи, и я подумала: «Пусть эта радость доживет до утра». В вестибюле Руди проделал последний пируэт и исчез. Продажа с аукциона. Коллекция Рудольфа Нуриева, январь и ноябрь 1995, Нью-Йорк и Лондон Лот 1088: Шесть пар балетных туфель Начальная цена: 2300–3000 долларов Продано за: 44 648 долларов Покупатель: мистер и миссис Альберт Коэн Лот 48: Костюм принца Зигфрида, третий акт «Лебединого озера», 1963 Начальная цена: 3000–5000 долларов Продано за: 29 900 долларов Покупатель: Неизвестен Лот 147: Сэр Джошуа Рейнольдс, «Портрет Джорджа Таунсенда, лорда де Феррарс» Начальная цена: 350 000–450 000 долларов Продано за: 772 500 долларов (аукционный рекорд этого художника) Покупатель: Частное лицо Лот 1134: Французский орехового дерева стол из монастырской трапезной Начальная цена: 22 500-30 000 долларов Продано за: 47 327 долларов Покупатель: продано по телефону Лот 146: Иоганн Генрих Фюзели, член Королевской академии. «Сатана, напуганный прикосновением копья Итуриэля» Начальная цена: 500 000–700 000 долларов Продано за: 761 500 долларов Покупатель: Неизвестен Лот 1356: Приписывается Теодору Жерико, «Homme nu a mi corps» («Мужчина, обнаженный по пояс») Начальная цена: 60 000-80 000 долларов Продано за: 53 578 долларов Покупатель: продано по телефону Лот 728: Длинный платок джамавар, Кашмир, конец 19 века Начальная цена: 800—1500 долларов Продано за: 5319 долларов Покупатель: Р. Ратнавке Лот 1274: Дореволюционное русское фарфоровое блюдечко в дубовой шкатулке (шкатулка повреждена) Начальная цена: 2000 долларов Продано за: 2750 долларов Покупатель: Николай Маренёв Лот 118: Феликс Буасселье, «Пастух, рыдающий на могиле комара» Начальная цена: 40 000—60 000 долларов Продано за: 189 500 долларов Покупатель: Частное лицо Все лоты проданы. Благодарности Я изменил в этом романе многие имена и названия мест, чтобы оградить от беспокойства людей, еще живущих, и сделать более выпуклыми персонажей, придуманных мной. В некоторых случаях я соединял в одном действующем лице две или более исторические фигуры или распределял черты одного человека между двумя или большим числом персонажей. Некоторые сказанные известными людьми фразы цитируются точно, другие просто придуманы. Для большей понятности я не всегда использовал распространенные в России уменьшительные или ласкательные имена. Готовясь к написанию этой книги, я получил возможность прочитать многое: беллетристику, не беллетристику, работы журналистов, стихи, интернетовские материалы однако совершенно бесценным представляется мне «Нуриев» Дайаны Солуэй, книга, остававшаяся, пока я писал роман, основополагающей биографией Рудольфа Нуриева. Тем, кого интересует его биография, я порекомендовал бы также работы Джулии Кавана и написанную ею биографию Нуриева. Другие книги и источники, в том числе и фильмы, слишком многочисленны, чтобы перечислять их здесь, однако я должен особенно поблагодарить персонал Нью-Йоркской публичной библиотеки, управляющий ее совершенно замечательными поисковыми системами. Огромную благодарность приношу я и Американо-ирландскому историческому обществу, в особенности доктору Кевину Кэхиллу, Кристоферу Кэхиллу и Биллу Коберту. Существует множество людей, которых я обязан поблагодарить за их доброту, готовность помочь и понимание, это Роман Герасимов, который был в России моим переводчиком, Кэтлин Келлер, Тим Кипп, Джон и Беверли Бергер, Джон Горман, Джер Донован, Айрин Кендалл, Джош Кендалл, Джоан Акочелла, Лайза Гонзалец, Эрролл Торан, Ди-Си; Ник Терлиззи, Чарли Орр, Дэмон Тестани, Мэри Парвин, Марина Ставиская, Джейсон Бузас, Джако и Элизабет Грут, Франсуаза Триффо, Бриджит Семплер, Томас Юберергофф, Колм Тойбин, Крис Келли, Эмили Табурин, Алона Кимчи, Том Келли, Джимми Смоллхорн, Майкл Йосселл, Радик Кудояров, Николай Коршун, Илья Кузнецов и его друзья из Кировского, Галина Бельская, Янни Коцонис и Мирна Блумберг. В особенном долгу я перед издательствами «Феникс Хауз» и «Метрополитен Букс», перед «Вайли Эдженси» и, конечно, перед Мэгги Мак-Кернан, Ривой Хочерман и Сарой Чалфан. Благодарность не будет полной, если я не скажу огромное спасибо членам моей семьи: Аллисон, Изабелле и Джону-Майклу — и всей нашей родне по обеим сторонам океана.