ЦИКЛ «НОЧЬ» Е. АНДЖЕЕВСКОГО: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ
реклама
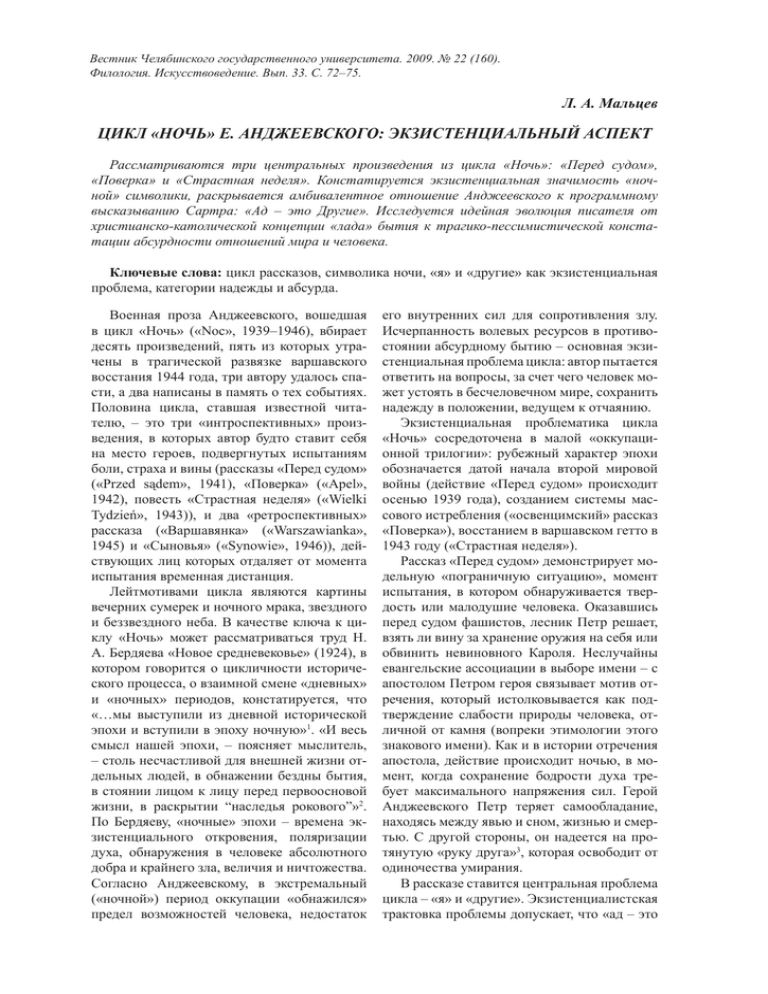
Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 22 (160). Филология. Искусствоведение. Вып. 33. С. 72–75. Л. А. Мальцев ЦИКЛ «НОЧЬ» Е. АНДЖЕЕВСКОГО: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Рассматриваются три центральных произведения из цикла «Ночь»: «Перед судом», «Поверка» и «Страстная неделя». Констатируется экзистенциальная значимость «ноч� ной» символики, раскрывается амбивалентное отношение Анджеевского к программному высказыванию Сартра: «Ад – это Другие». Исследуется идейная эволюция писателя от христианско-католической концепции «лада» бытия к трагико-пессимистической конста� тации абсурдности отношений мира и человека. Ключевые слова: цикл рассказов, символика ночи, «я» и «другие» как экзистенциальная проблема, категории надежды и абсурда. Военная проза Анджеевского, вошедшая в цикл «Ночь» («Noc», 1939–1946), вбирает десять произведений, пять из которых утрачены в трагической развязке варшавского восстания 1944 года, три автору удалось спасти, а два написаны в память о тех событиях. Половина цикла, ставшая известной читателю, – это три «интроспективных» произведения, в которых автор будто ставит себя на место героев, подвергнутых испытаниям боли, страха и вины (рассказы «Перед судом» («Przed sądem», 1941), «Поверка» («Apel», 1942), повесть «Страстная неделя» («Wielki Tydzień», 1943)), и два «ретроспективных» рассказа («Варшавянка» («Warszawianka», 1945) и «Сыновья» («Synowie», 1946)), действующих лиц которых отдаляет от момента испытания временная дистанция. Лейтмотивами цикла являются картины вечерних сумерек и ночного мрака, звездного и беззвездного неба. В качестве ключа к циклу «Ночь» может рассматриваться труд Н. А. Бердяева «Новое средневековье» (1924), в котором говорится о цикличности исторического процесса, о взаимной смене «дневных» и «ночных» периодов, констатируется, что «…мы выступили из дневной исторической эпохи и вступили в эпоху ночную»1. «И весь смысл нашей эпохи, – поясняет мыслитель, – столь несчастливой для внешней жизни отдельных людей, в обнажении бездны бытия, в стоянии лицом к лицу перед первоосновой жизни, в раскрытии “наследья рокового”»2. По Бердяеву, «ночные» эпохи – времена экзистенциального откровения, поляризации духа, обнаружения в человеке абсолютного добра и крайнего зла, величия и ничтожества. Согласно Анджеевскому, в экстремальный («ночной») период оккупации «обнажился» предел возможностей человека, недостаток его внутренних сил для сопротивления злу. Исчерпанность волевых ресурсов в противостоянии абсурдному бытию – основная экзистенциальная проблема цикла: автор пытается ответить на вопросы, за счет чего человек может устоять в бесчеловечном мире, сохранить надежду в положении, ведущем к отчаянию. Экзистенциальная проблематика цикла «Ночь» сосредоточена в малой «оккупационной трилогии»: рубежный характер эпохи обозначается датой начала второй мировой войны (действие «Перед судом» происходит осенью 1939 года), созданием системы массового истребления («освенцимский» рассказ «Поверка»), восстанием в варшавском гетто в 1943 году («Страстная неделя»). Рассказ «Перед судом» демонстрирует модельную «пограничную ситуацию», момент испытания, в котором обнаруживается твердость или малодушие человека. Оказавшись перед судом фашистов, лесник Петр решает, взять ли вину за хранение оружия на себя или обвинить невиновного Кароля. Неслучайны евангельские ассоциации в выборе имени – с апостолом Петром героя связывает мотив отречения, который истолковывается как подтверждение слабости природы человека, отличной от камня (вопреки этимологии этого знакового имени). Как и в истории отречения апостола, действие происходит ночью, в момент, когда сохранение бодрости духа требует максимального напряжения сил. Герой Анджеевского Петр теряет самообладание, находясь между явью и сном, жизнью и смертью. С другой стороны, он надеется на протянутую «руку друга»3, которая освободит от одиночества умирания. В рассказе ставится центральная проблема цикла – «я» и «другие». Экзистенциалистская трактовка проблемы допускает, что «ад – это Цикл «Ночь» Е. Анджеевского: экзистенциальный аспект Другие» , и именно к этой точке зрения склоняется до момента испытания Петр. В рассказе Анджеевского проблема «я» – «другие» находит решение в столкновении разных точек зрения: с одной стороны, Петра, которому был свойствен отшельнический образ жизни при минимальном участии в судьбе «других» (Петр «боится» зависимости от кого-либо), а с другой стороны, Кароля, не мыслящего себя без заботы о ближних (о больной матери). Между сценами доноса и очной ставки героев передается сон Петра, в котором он спорит с Каролем о роли «другого». Петр говорит, что сам он «не важен», «никому не нужен», приближаясь к солипсизму в «перевернутом» виде самоуничижения. Кароль, исходя из ответственной взаимозависимости, полагает, что «важно быть необходимым другому человеку» и «еще важнее, чтобы кто-то другой был необходим»5. Слабость и малодушие Петра, его предательство, вынужденное обстоятельствами, и отзывчивость Кароля, готовность протянуть руку помощи, нежелание отвечать злом на зло, определяет однозначное решение экзистенциальной проблемы: оно в отрицании индивидуалистической самодостаточности, в сознании того, что только солидарность «я» и «другого», готовность в критический момент протянуть руку помощи, может стать источником твердости духа и надежды на спасение. Рассказ «Поверка» воспроизводит модель «я» – «другой», созданную в первом произведении цикла. Как и Петр, Стась Карбовский оказывается перед выбором: проявить малодушие, исполняя волю истязателей, или пожертвовать жизнью. Описания «пограничных» состояний Карбовского и его «предшественника» Петра практически тождественны друг другу: «Стась чувствовал себя так, словно перестал принадлежать себе. Что-то в нем перевернулось и переломилось. И лишь инстинктивно и очень смутно он отдавал порою себе отчет, что какая-то неведомая сила начинает отрывать его от жизни и утягивает за собой в мертвый мрак» (382)6; «Он [лесник Петр. – Л. М.] уже не принадлежал себе. И, чувствуя себя какой-то момент скорее умершим, чем живущим, погрузился сразу в ужас последней секунды сознания, в почти нечеловеческое одиночество, проникающее сквозь смерть, в молчание и темноту»7. Перед угрозой «потери себя» Стась и Петр находят «руку друга» – соответственно актера Трояновского 4 73 и Кароля. Оба доказывают делом, что «другой» может оказаться не воплощением ада (вопреки тезису пьесы «За закрытыми дверями»), а союзником, другом, готовым ответить добром на зло и спасти от падения. «Эхом» слова Трояновского «Друг…», адресованного Стасю, является в «Поверке» реплика «Kamerade…», принадлежащая Шредеру, надзирателю, который в глубине души сочувствует узникам Освенцима. Согласно авторской концепции, это знак того, что императив солидарности не перестает быть общезначимым и распространяется на представителей враждебных друг другу народов – немцев и поляков. Однако, по Анджеевскому, трагедия Освенцима скорее подтверждает, чем опровергает тезис Сартра. «Другие» – это и надзиратели с чудовищной жестокостью, и их жертвы, «жуткие призраки, которых согнали сюда, чтобы они свидетельствовали о ничтожности существа, называемого человеком» (400). Если герой «Перед судом» страдает в одиночестве, то истязания в Освенциме становятся предметом всеобщего наблюдения и вызывают цепную реакцию, оказывая деморализующее воздействие на потенциальных жертв. Так, перед глазами Карбовского стоит образ «барабанщика» Вацека Завадского в предсмертной агонии, под этим навязчивым впечатлением узник теряет бодрость духа и становится, в итоге, орудием надзирателя Крейцмана, избивая Трояновского. Рассказ «Перед судом» сводится к диалогу сознаний Петра и Кароля, «Поверка» имеет полифоническую природу: авторская интроспекция переходит от одного сознания к другому: от Карбовского – к Трояновскому, затем к Смоле и Ольшановскому… Поведение ряда персонажей показано с точки зрения извне (Павловский, Сливиньский, Ваховяк). Учитывая характерологическую дифференциацию сознаний, применяя методы «явного» или «тайного» психологизма, автор «Поверки» переходит от полифонизма к симфонизму: мысли и чувства персонажей сводятся к общему сознанию психофизической «границы», за которой человек перестает быть собой и становится «другим», худшим, чем до того. Как и Тадеуш Боровский в известных циклах «освенцимских» рассказов «Прощание с Марией» и «Каменный мир», Анджеевский в «Поверке» скептически оценивает потенци- 74 ал сопротивляемости человека концлагерной системе. Амбивалентная концепция рассказа «Поверка» предполагает, что в «других» надо видеть дружелюбие и отзывчивость, но факт существования Освенцима объективно свидетельствует правоту Сартра в том, что «ад – это Другие». Позиция Анджеевского все же оставляет место для надежды, тогда как герой-рассказчик Боровского отрицает надежду, считая ее источником зла8. Амбивалентная концепция Анджеевского отражается в сомнениях философствующего героя Трояновского, который формулирует основной тезис рассказа. С одной стороны, герой верит в очищающую силу страдания, следуя традиции веры в воскресение Христа, но, с другой, он не может теологически оправдать или хоть как-то объяснить «безграничную чудовищность» зла в Освенциме. Моралистическая диалектика души в духе героев Толстого оборачивается трагедией вопросов без ответа: «“Страдание в порядке вещей этого мира, – думает Трояновский. – Я могу быть собою, страдая. Могу быть собой, умирая. А это чтото значит, это надежда. Это может быть победой. А зло?”. Ответа в себе он не находил. Вопрос камнем падал в пропасть, и из глубины не долетало никакого отголоска» (386). Повесть «Страстная неделя» – переходное произведение Анджеевского от жизнеутверждающего христианского оптимизма довоенных лет («другие» как «ближние») к экзистенциальному пессимизму и трагизму («ад – это Другие»). «Модельный» мотив спасительного рукопожатия, реализуемый в рассказах «Перед судом» и «Поверка», в «Страстной неделе», как правило, оборачивается условным жестом. Сердечность и дружелюбие – не более чем форма, ритуал, вынужденная игра, за которой скрывается равнодушие и страх. В итоге, «другие» перестают быть «ближними» и становятся «дальними», чужими». Восстание евреев гетто Анджеевский называет «обреченным на одиночество», «самым трагическим восстанием из тех, какие происходили в ту пору в защиту жизни и свободы» (407). Одиночество означает бесправность и беззащитность «безоружных, со всех сторон осажденных людей, единственных в мире, кого судьба отторгла от попираемого, но все же существующего всеобщего братства» (414). Исходное «различие судеб», контраст жизни в пределах нормы и существования на «пороге» смерти, проявляется при встрече Яна Л. А. Мальцев Малецкого и Ирены Лильен. Недопонимание людей, в прошлом связанных дружбой и почти любовью, проясняется авторским комментарием: «…а ведь известно, какая пропасть разверзается меж людьми счастливыми и людьми страдающими» (405). Опыт «ночной» эпохи, в глазах Анджеевского, доказывает, что экстремальные ситуации часто вызывают не сострадание и взаимопомощь, а обратные явления – равнодушие и одиночество. По Шестову: «Любить страдальцев, особенно безнадежных страдальцев, прямо невозможно, и кто утверждает противное, тот заведомо лжет»9. Эта мысль, казавшаяся парадоксальной в начале XX века, в трагическом опыте «времен презрения» получает практическое выражение. На подвиг способны лишь избранные – неслучайно Шестов приводит пример Христа, единственного утешителя «трудящихся и обремененных», неслучаен и символический смысл Страстной недели: отречься от жизни и стать на сторону осужденных – значит пойти на Голгофу, разделив судьбу Христа. Нерешительности Малецкого противостоит однозначный выбор и героическая смерть его младшего брата Юлека, сознающего, что вмешательство его и горсточки добровольцев не изменит исход неравного боя, но послужит «манифестацией» «обычной солидарности» (465), деятельного сочувствия героям гетто. Выбирая между возможностью «отсидеться», сохранив себе жизнь, и героической смертью, Юлек, Влодек и другие ценой собственной жизни подают погибающим знак надежды, протягивают руку помощи. Но жест традиционной солидарности и дружелюбия «тонет» в равнодушии большинства, скрытой или явной неприязни к жертвам. В «Поверке» Трояновский, а в «Страстной неделе» Ирена формулирует главный экзистенциальный вопрос цикла «Ночь»: о безмерности зла и страданий, искупление которых личным подвигом и жертвой представляется невозможным. Анджеевский подчеркивает, что суть вопроса не сводится к страданиям еврейского народа, в вопросе о страдании «нет ни эллина, ни иудея», беды военного лихолетья обрушились на головы и поляков, и евреев, и многих других. Автор подмечает сходство судеб Ирены Лильен и Анны Малецкой, чтобы сделать почти наглядным контраст их экзистенциальных позиций. Ирена считает, что только бунт против бессмысленного ми- Цикл «Ночь» Е. Анджеевского: экзистенциальный аспект ропорядка вернет человеку утраченные честь и достоинство, католичка Анна верит «в невозможное» – в то, что страдания обнаружат недоступный человеческому пониманию свет истины (знаковый нюанс диалога: Анна стоит на коленях, противополагая бунту Ирены смирение): «А когда гибнут тысячи лучших из лучших [говорит Ирена. – Л. М.], которые могли бы еще столько дать людям, столько доброго сделать, в этом тоже есть смысл? Какой? Ну, скажите, какой?» – «Не знаю, – сказала она [Анна. – Л. М.] минуту спустя. – Я не могу на это ответить. Однако верю, что миром правит порядок и ничего не может происходить без причины» (463). Ирена в разных формулировках повторяет один и тот же вопрос («Зачем?», «Ну и какой в этом смысл?», «Ну, скажите, какой?»), на него однозначно отвечает Анна. В сознании Ирены, Анны и многих других людей, в авторском сознании, этот вопрос – не просто нерешенный, но застывший, «окаменевший», и потому особенно болезненный. Ирена и Анна олицетворяют разность атеистической и теистической экзистенциальных позиций. Героини задают вопросы с кардинально различной интонацией: ожесточение Ирены смягчается молитвенным спокойствием Анны. В приведенном фрагменте очевидна полифоническая специфика произведения. Коллизии разности «интонаций», характерных для теистического и атеистического сознания, не в состоянии разрешить автор. Очередность проанализированных рассказов и повести из цикла «Ночь» не сводится к простому хроникальному воспроизведению оккупационных событий. Также это не по- 75 следовательная реализация художественнофилософской сверхзадачи, казалось бы, характерной для Анджеевского как «католического» прозаика – полемики с философскими тезисами художественного творчества Сартра. Три рассмотренных текста обнаруживают эволюцию польского писателя: от христианской заповеди любви к «ближнему» как надежной опоры – к трагедии отчужденности и, как следствие, констатации абсурдности бытия. Примечания Бердяев, Н. А. Новое средневековье // Бердяев, Н. А. Философия творчества, культуры и искусства : в 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 408. 2 Там же. С. 409. 3 Andrzejewski, J. Noc. Kraków, 1954. S. 14. Перевод здесь и во всем тексте статьи Л. М. 4 Сартр, Ж. П. За закрытыми дверями // Сартр, Ж. П. Пьесы : в 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 556. 5 Andrzejewski, J. Op. cit. S. 21. 6 Цитируется здесь и далее по изданию: Анджеевский, Е. Соч. : в 2 т. М., 1990. Т. 1 – с указанием страниц в тексте. 7 Andrzejewski, J. Op. cit. S. 14. 8 Рассказчик Боровского утверждает: во имя надежды в бесчеловечных условиях концлагеря человек способен на подлость, предательство, преступление (см. рассказ «Мы из Аушвица»). 9 Шестов, Л. И. Апофеоз беспочвенности. Опыт адогматического мышления. Л., 1991. С. 167. 1
