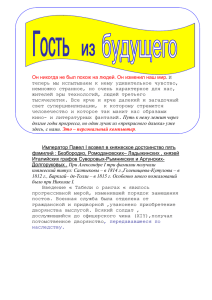Шуйский филиал Н - Ивановский государственный университет
реклама
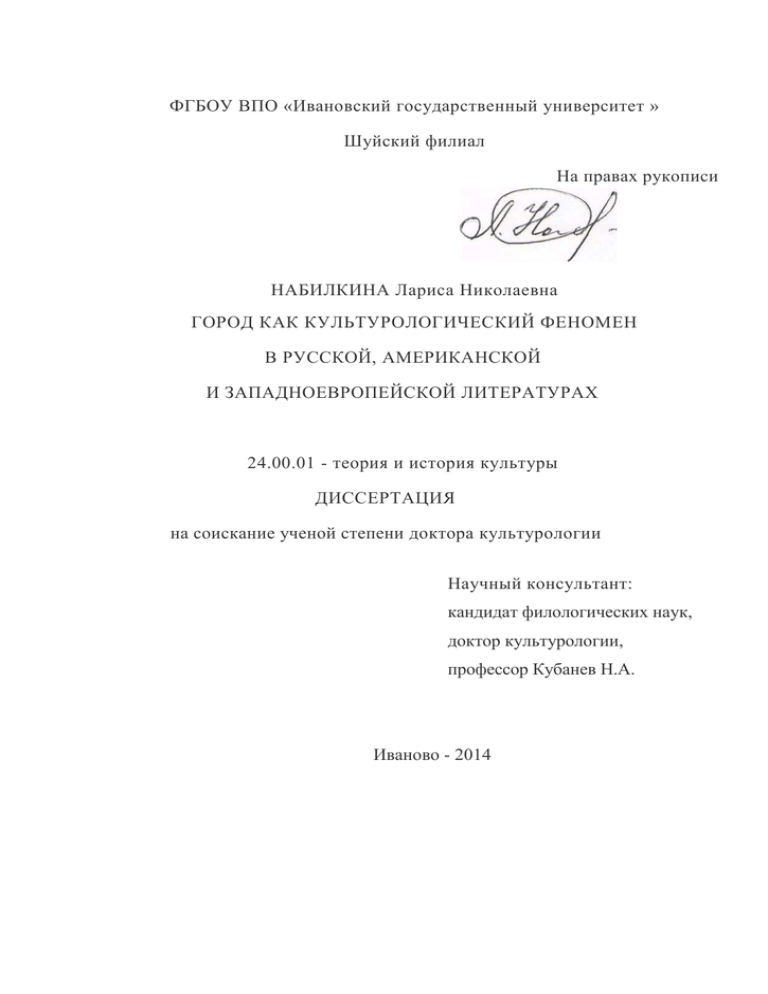
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет » Шуйский филиал На правах рукописи НАБИЛКИНА Лариса Николаевна ГОРОД КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В РУССКОЙ, АМЕРИКАНСКОЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ 24.00.01 - теория и история культуры ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора культурологии Научный консультант: кандидат филологических наук, доктор культурологии, профессор Кубанев Н.А. Иваново - 2014 Содержание Введение ………………………………………………………………… 4 Глава I. Город глазами писателей-публицистов ………………… 24 1.1. Культурно-исторические представления В.Л. Глазычева о городе 24 1.2. «Москва и москвичи» В.А. Гиляровского………………………… 31 1.3. Лондон в изображении Питера Акройда ………………………….. 36 1.4. История Парижа – история Франции (по книге А. Хорна «Тайны Парижа. Ключ к истории города») …………………………………….. 44 Выводы по главе I…………………………………………………… 51 Глава II. Культурологический образ города в русской литературе 53 2.1. Город как культурологический феномен………………………… 53 2.2. История русского мегаполиса ……………………………………... 59 2.3. Москва и Петербург Петра Великого……………………………… 68 2.4. Трагедия «маленького» человека в большом городе…………… 78 2.5. Город Мастера ……………………………………………………… 83 2.6.Культурологический образ Москвы – дегуманизированный и гуманистический ………………………………………………………… 90 2.7. «Городские повести» Юрия Трифонова …………………………... 102 Выводы по главе II………………………………………………………. 111 Глава III. Культурологический образ города в американской литературе ………………………………………………………………. 114 3.1. Образ Нью-Йорка: гуманистический и отчужденный.………. 114 3.2. Утраченные надежды: Нью-Йорк в восприятии Ф.С. Фицджеральда и Генри Миллера………………………………… 121 3.3. Город больших возможностей: Нью-Йорк в восприятии Джона Дос Пассоса ……………………………………………………………… 135 3.4. В поисках «другой» Америки ……………………………………… 145 3.5.Американские города глазами Ильи Эренбурга и Виктора 2 Некрасова ………………………………………………………………... 150 3.6. Имагология и межкультурная коммуникация как выражение междисциплинарного подхода к изучению образа США в контексте диалога культур………………………………………………………….. 157 Выводы по главе III……………………………………………………… 168 Глава IV. Образ города в западноевропейской литературе…….. 172 4.1. Париж в зеркале мировой литературы ……………………………. 172 4.2. Город как мозаика (по роману Дж. Джойса «Улисс») …………… 206 4.3. Травелог – культурологическая основа образа города …………... 218 4.4. Малые города глазами писателей …………………………………. 242 4.5. Город как художественный текст …………………………………. 261 Выводы по главе IV…………………………………………………….. 269 Заключение …………………………………………………………… 271 Библиография ………………………………………………………… 292 3 Введение Актуальность исследования. Город с древнейших времен привлекал внимание исследователей. Еще Аристотель изучал в своих трудах «Политика», «Афинская политика», «Этика» влияние городов, в том числе и городов-государств на развитие человеческого бытия, в которых он видел высшую форму общения граждан. О городах писали Платон, Т. Мор, Т. Кампанелла, М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев. Город возник на заре человеческой цивилизации как успешная попытка защитить человека от внешних врагов. Города включали в себя и прилегающие территории с жителями, которые не жили в городах, но в любой момент могли укрыться за его стенами. По мнению ряда ученых (Рыбаков Б.А., Тихомиров М.Н., Третьяков П.Н., Маслов В.Г., Крылов Г.А.), русское слово «город» произошло от глагола «огораживать». Типичным примером городов-государств были Афины, Рим, Карфаген. Постепенно города породили свою специфическую культуру, отличающуюся от культуры сельских жителей. Но, по мере развития цивилизации, города превратились из блага в источник опасности. Так думает определенный ряд ученых и мастеров литературы (Ж. Бодриар, Н.Н. Моисеев, Г. Миллер, Ф.С. Фицджеральд, А. Белый). Проследить трансформацию городов входит в нашу задачу. Один из основоположников культурологии и геополитики Н.Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа» (1868) обосновал теорию культурно-исторических типов человечества. Согласно этой теории, цивилизации бывают положительно-деятельными и отрицательными. Наряду с созидательными типами цивилизаций, существуют цивилизации разрушительные, деструктивные. К ним можно отнести, в соответствии с концепцией Н.Я. Данилевского, такие культурно-исторические типы, как империя Чингис-хана, гуннов, викингов. В своем развитии города прошли ряд этапов: античный город, средневековый город, современный город. Этапы развития города имеют свои 4 особенности. Так, античные города возникают на территории Древней Греции. Это были города-полисы. «Полис» в переводе с греческого означает «город», «государство», «гражданская община». Так как города беспрерывно воевали друг с другом, они имели, в первую очередь, военное значение и строились по типу – «верхний город», или «акрополь», где находилась «верхушка» города, и «нижний город», где жило все остальное население. Говоря о средневековом городе, следует отметить, что в Западной Европе первые города развивались на основе римских в X – XI веках. Это были Венеция, Неаполь, Генуя. Позднее расцвет городов пришелся на Англию (Лондон), Францию (Париж), еще раньше приморский город Марсель. В Священной Римской Империи (Германия) – Кельн, Любек, Гамбург, Нюрнберг–население городов состояло в основном из ремесленников, которые формировались за счет бежавших от своих хозяев крестьян или купцов. По закону, если крестьянин проживал в городе один год и один день, он становился свободным гражданином. Характерно для средневековых городов было местное самоуправление, получавшее особый статус от властей (короля или епископа). Горожане отстаивали свое независимое положение в вооруженной борьбе с феодалами, претендовавшими на власть в городе, а в Лондоне борьба велась даже с королем. До сих пор королева просит разрешения у лорда-мэра Лондона на право находиться в Сити. Русский город несколько отличался от западноевропейского города. Основу города составляло «городище». Как правило, города закладывались князем. Так, на основе Ладоги было заложено «Рюриково городище». Новгород, Псков, Смоленск были заложены «гражданским сообществом». Современный город – сложная, многофункциональная, поликультурная система, связанная с фазами развития города – живого организма. Как и все организмы, город в своем развитии проходит этапы рождения, интенсивного развития, стагнации, умирания. Современный город тесно связан с цивилизацией. По числу жителей города могут быть «малыми» – от 50 тысяч – и крупными – от миллиона и выше. Особую роль в развитии цивилизации 5 играют города-миллионники. Город может иметь города-спутники, которые создают городские агломерации. В свою очередь эти агломерации создают мегаполисы, которые являются центрами развития цивилизации. Город и цивилизация – однокоренные слова в переводе с латинского и английского (“civis – civil – city– civilization”)1. Город – это цивилизационная модель. Поэтому изучение города может помочь в изучении многих проблем цивилизации, в изучении всего культурного пространства нашей планеты. Образ города может носить разносторонний, многоплановый характер. Он может быть исторический, архитектурный, градостроительный, литературный и т.д.Этот образ может носить характер текста. И если город формирует свой неповторимый, уникальный образ, то рассматриваемый в настоящей работе образ города может включать эти образы, создавать единство пространства и времени, создавать архетип. Это культурологический образ. Культурологический образ города предоставляет возможность взглянуть на город как на пространство и время и как на«городскую среду»–место проживания жителей-горожан с их заботами и судьбами, с их укладом и образом жизни. Культурологический образ позволяет взглянуть на город в его исторической ретроспективе и перспективе. Изучение образа города вносит свой вклад и в национальную культуру. Но есть города, которые по своему значению выходят за национальные историко-культурные рамки. Это мегаполисы, сквозь призму которых мы воспринимаем всю страну и ее жителей в целом, хотя при этом и понимаем, что судить о народе по мегаполису нельзя, что, таким образом, мы искажаем объективность восприятия действительности. И все-таки суть нации скрывается в этих городах. Это мировые центры – Москва, Санкт-Петербург, Париж, Нью-Йорк. Без этих городов трудно представить развитие всей страны, ее народа, понять образ жизни и менталитет ее жителей. «Чужая» культура, жизнь «иной» страны обычно входит в наше сознание через литературное произведение, через художественные книги, 1 Фасмер М. Этимологический словарь. М.: Прогресс, 1986. Т.1 С.89. 6 путевые очерки, травелоги. Особенно это характерно для «закрытого» общества, в котором жили мы долгие годы. Сейчас наше общество открыто. Мы вольны путешествовать по всему миру, знакомиться с «другой» культурой лично, а не через посредников. Тем не менее очень важно посмотреть на мир глазами другого человека, особенно умудренного писателя. Поэтому из всего многообразия образов«чужих» стран и городов, мы выбрали художественное восприятие образа города, восприятие его писателями, которые смотрят на мир немного другими глазами. Это касается и наших «родных» городов. В этом заключается актуальность работы. Степень разработанности научной проблемы. Обращение к городу, его культурологическому образу произошло не случайно. Интерес к этой проблеме обострился в начале ХХ века, когда города-мегаполисы стали играть исключительно важную роль в жизни человека, в истории страны. Это было в первую очередь связано с развитием капиталистических отношений, породивших специфические черты городской среды. В культурологическое исследование городского пространства внесли большой вклад А.Е. Левинтов, современные А.Э. Гутнов, ученые В.Л. Глазычев, Л.Б. Коган, М.С. Каган, В.М. Долгий, А.Г. Левинсон, А.А. Сванидзе, Н.С. Галушкина, Б.В. Марков, В.Н. Топоров, А.С. Степанова. Так, еще в 1971 году В.М. Долгий и А.Г. Левинсон поставили вопрос о необходимости культурологического изучения города2. А.А. Гутнов и Л.Б. Коган показали, что без понимания особого менталитета горожан, их образа жизни, их норм и ценностей невозможно ни планирование города, ни его управление 3. В.Л. Глазычев утверждал, что после того, как Поль Гоген и Тур Хейердал тщетно пытались найти «естественную» жизнь на Таити и Соломоновых островах, цивилизованный мир понял, что иного мира, кроме 2 Долгий, В.М., Левинсон, А.Г. Архаическая культура и город [Текст] / В.М. Долгий, А.Г. Левинсон // Вопросы философии. – 1971. - № 7. С.84-95. 3 Коган, Л.Б. Города и люди [Текст] / Л.Б. Коган. – М.: Ладья, 1993. 7 как мира городской культуры ему не дано4.Он внес выдающийся вклад в изучение феномена города и городской среды. В своей трилогии «Архитектура», «Урбанистика» и «Город без границ» (2010) В.Л. Глазычев доказал, что город и городскую среду нужно рассматривать как единое целое, что город напрямую связан с историей развития человечества, с историей развития цивилизации. А.Е. Левинтов продолжил мысль Л.Б. Когана и А.Э. Гутнова о том, что у нас нет общетеоретического и методологического представления о городе, урбанизация должна изучаться как закономерный исторический процесс5. А.А. Сванидзе подчеркнул неразрывную связь общества с развитием городов, с развитием городской цивилизации6. Немалый диссертации вклад «Город в изучение как темы объект внесла автор культурологического кандидатской значения» Н.С. Галушина, которая в своей работе не только дала систематизированный обзор вклада предшественников в урбанистику и культурологию, но и определила историко-культурологические типы городов.7В своей работе автор не только проследила этапы формирования научной школы культурологии города, но и дала анализ основным теоретико-методологическим подходам к культурологическому образу города, выявила основные типы городов, определила их культурно-исторические типы. Останавливаясь на работах начала века, она обращает внимание на сборник «Большие города, их общественное, политическое и экономическое значение»(1905), раскрывающий самые разнообразные стороны жизни города. Для 20-х годов прошлого века характерны работы, посвященные истории города. Среди авторов ,работающих в данном направлении, можно выделить Н.П. Анцифирова,К. Бюхера,Г. Зиммеля. 4 Глазычев, В.Л. Городская среда. Технология развития[Текст] / В.Л. Глазычев. – М.: Ладья, 1995 Глазычев, В.Л. Образы пространства: проблемы изучения[Текст] / В.Л. Глазычев. – М., 1978. 5 Левинтов, А.Е. Городская цивилизация: методология, теория, практика[Текст] / А.Е. Левинтов. – М., 1991. 6 Сванидзе, А.А. Город и цивилизация [Текст] / А.А. Сванидзе. – М., 1999. 7 Галушкина, Н.С. Город как объект культурологического значения [Текст]: автореф. дис… канд.культурологии / Н.С. Галушкина. – М., 1998. 8 Однако в конце 1920-х – начале 30-х годов целостное изучение городского пространства в нашей стране было свернуто. Начался период противопоставления«социалистического» города «капиталистическому», хотя по сути эти два явления были очень похожи, порождали одни и те же проблемы. На этот период приходится известная дискуссия «Советская литература и Дос Пассос» (1933), посвященная не столько литературе, сколько идеологическим вопросам градостроения и образу жизни горожан. Анализу города в культурологических и урбанистических концепциях 1920 – 1930-х годов посвящены работы А.С. Степановой. Позднее появляются работы, стремящиеся преодолеть узкую, «технологическую» и «социологическую» направленность, рассмотреть город в его целостности, в культурологическом аспекте. В начале 90-х годов прошлого века появились работы, непосредственно посвященные культурологии города. Такие работы лучше всего давали представление о городе как социокультурном явлении, рассматривали город и горожан как единое целое. Среди диссертаций выделяется работа Л.Б. Борисковой «Петербург начала ХХ века».В ней автор ставит вопрос огороде как тексте. Эта проблема начала изучаться в современном виде с 1992 года, когда М.С. Уваров положил начало конференциям под общим названием «Метафизика Петербурга», собрав для этой цели ученых самого разного профиля. Л.Б. Борискова справедливо утверждает, что научный анализ города и городского пространства диктуется, прежде всего, требованием изучения национальной культуры. В различные исторические периоды возникает потребность изучения различных образов, которые создает город. Образ города фиксируется в текстах художественных произведений и изобразительном искусстве отечественных авторов. В этом отношении чрезвычайно ценны работы Ю.М. Лотмана и М.М. Бахтина, которые открыли изучение города как текста. 9 Среди работ по культурологии города выделяется небольшая по объему, но очень емкая самостоятельная статья Л.Е. Трушиной дисциплина»8. Автор «Культурология работы отмечает, города что как город представляет собой зеркало, отражающее и фокусирующее все основные культурные процессы, происходящие в обществе. Поэтому, устанавливая статус культурологии города, надо рассматривать образ города как систему, ибо город –это живой организм, а не просто скопление отдельных элементов. Определяя культурологию города, необходимо выявить его жизненный центр, его «душу». Важным моментом исследования городского пространства является необходимость изучения города как текста. Эта мысль перекликается с воззрениями автора диссертации «Культурно-образовательный потенциал городского пространства» Р.Ю. Порозова, который раскрыл образовательный потенциал города и охарактеризовал город как социокультурный феномен. 9 Автор обращается к опыту представителей тартуско-московской семиотической школы, предлагающих рассматривать город и городское пространство как знаковую систему, как текст. Р.Ю. Порозов уточняет, какие элементы нуждаются в изучении :не только физические объекты, но и нематериальные, составляющие «городской словарь»,сохраняющие культурную память, «память места» и генерирующие новую. О важности изучения города как текста говорит в своей статье«Культурология, город и культуротуризм: конкретизация пространства» О. Кириллова10.Она пишет, что, отталкиваясь от «петербургского текста», от исследований М.С. Уварова, в России, Украине и Ближнем зарубежье начали возникать центры изучения городов. При этом она отмечает большую комплексность и меньшую 8 Трушина, Л.Е. Культурология города как самостоятельная дисциплина [Текст] / Л.Е. Трушина // Формирование дисциплинарного пространства культурологии. – СПб., 2001. 9 Порозов, Р.Ю. Культурно-образовательный потенциал городского пространства[Текст]: автореф. дис…канд. культурологии / Р.Ю. Порозов. – Челябинск, 2009. 10 Кириллова, О.С. Культурология, город и культуротуризм: конкретизация пространства // 60 параллель. – 2010. - №3. 10 «текстологичность» этого изучения, которое сосредотачивает свое внимание на специфике исследуемого региона, а не только отдельного города. «Культурология города» уже превратилась в отдельную научную дисциплину. Среди ученых, занимающихся проблемой городов, можно выделить авторов докторских диссертаций А.Ю. Агееву, Ю.А. Грибер, В.А. Есокова, Г.М. Казакову, Е.А. Николаеву, И.А. Скрипачеву, Л.П. Попову, С.Б. Смирнова. Так, И.А. Скрипачева в своей диссертации «Современный город как культурная система» осветила проблемы монопрофильного города, подчеркнув, что в этих городах, не имеющих исторически сложившегося исторического прошлого, как в старинных русских городах, важна толерантность по отношению к «другому». Большой интерес представляет собой диссертация С.Б. Смирнова «Взаимодействие Москвы и Петербурга в развитии культуры России в 18 – 20 вв.». Б.С. Смирнов рассматривает взаимодействие двух культурных столиц как единую метастолицу, во многом определившую развитие культуры России. Он дает обстоятельный обзор работ, посвященных этой теме, называя имена К.Г. Исупова, Н.П. Анцифирова, создателя школы культурологической урбанистики, авторов тартуско-московской школы семиотики Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, выдающегося культуролога и филолога Д.С. Лихачева и предшественников, многих других. подчеркнувших, Он что высоко «душа» оценивает Москвы и вклад «гений» Петербурга определили культурный диалог между столицами, повлиявший на все развитие культурной жизни России 11. Вопросам цветовых доминант европейских городов посвящена докторская диссертация и книга «Цветовые репрезентации социального пространства европейского города» 11 Ю.А. Грибер. В области цвета Смирнов, С.Б. Взаимодействие Москвы и Петербурга в развитии культуры России в 18-20вв [Текст]/ С.Б. Смирнов. – М., 2008. 11 плодотворно работает Н.В. Серов, на работы которого опиралась в своем исследовании Ю.А. Грибер. Заметным событием в изучении города стала международная конференция Общества по изучению культуры США, проведенная на базе факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова «Город и урбанизм» (2010) под руководством Я.Н. Засурского. Ведущие филологи и культурологи приняли участие в обсуждении проблем больших и малых городов России и США. Среди докладов можно выделить доклады В.Г. Прозорова «Четыре города Пола Остера: городское пространство как художественный конструкт», Т.Н. Комаровской «Трагедия маленького городка», Л.Г. Михайловой «Против неба на земле: эволюция города». Особенно близка нам тема, заявленная в докладе Т.Н. Беловой «Художественные аспекты изображения Санкт- Петербурга в американских романах В. Набокова». Символика цвета Петербурга, «радужных» воспоминаний напоминает нам определение цвета, данное Н.В. Серовым: «Цвет – характеристический образ сублимированной совокупности предметов»12. Среди зарубежных исследователей можно выделить «классиков» – Ж. Бодриара, М. Вебера, А. Тойнби, О. Шпенглера, которые не только осветили проблему города, но и показали его роль в развитии икрушении современной цивилизации.«Закат Европы» О. Шпенглера и«Город» М. Вебера вышли почти одновременно в 20-е годы ХХ века. Несколько позднее вышли работы А. Тойнби, в том числе и «Постижение истории». В них поставлены вопросы взаимосвязи города и цивилизациии и сделан вывод, что западной цивилизации, как и западному городу, грозит гибель. Для того, чтобы город погиб, достаточно отключить его от энергоснабжения. Город – это продукт цивилизации, и его, несомненно, ждет гибель. Западная цивилизация, клонящаяся к упадку, поглотила космос античных городов-государств. Тем не менее А. Тойнби хочет быть гражданином мирового города, то есть цивилизации. 12 Существенный вклад в тему изучения городов внес Серов, Н.В. Цвет культуры. Психология, культурология, физиология [Текст] / Н.В. Серов. – М.:Речь, 2004. 12 французский философ и социолог Жан Бодриар. Особенно известна его лекция, прочитанная во Французском Университетском Колледже при МГУ«Город и ненависть» (2006). В ней речь идет не только об экологических проблемах, но и о том, что города порождают ненависть и агрессию. Город – это кристаллизация злой воли. Мегаполисы губят естественность человека, приучают его жить в тепличной, искусственной атмосфере. По мнению Ж. Бодриара, культура превращается в производство отходов, каждое новое культурное достижение порождает бесплодную землю. Сама цивилизация производит отходы не только материальные, но и интеллектуальные в виде людей, строит города и мегаполисы в виде ненужных, холостых механизмов. Следует сказать, что взгляды и суждения Бодриара весьма созвучны мнению американского писателя Генри Миллера, который еще в 30-е годы ХХ века выразил подобные мысли. Особенно это касается Нью-Йорка, который Бодриар назвал «апокалиптически» «идеальным настроенных эпицентром ученых конца следует мира». отнести К числу русского исследователя Н.Н. Моисеева и религиозного философа П.А. Сорокина, чьи пессимистические взгляды на город во многом справедливы. Однако, несмотря на все мрачные прогнозы футуристов, нет никаких серьезных оснований пророчить городу и всей цивилизации гибель. Человечество достаточно разумно, чтобы избежать подобной печальной участи, но задуматься все же стоит. Эти пророчества – предупреждения о возможной катастрофе. В 2000 году вышла книга П. Акройда «Лондон. Биография»13. Хотя это чисто литературный, а не научный труд, в нем выдвигается концепция изучения города сквозь призму восприятия «визионеров» (visioners), то есть людей, живших в Лондоне и хорошо знавших жизнь своего времени. В их число вошли самые выдающиеся представители своего времени: Т. Мор, В. Шекспир, У. Блейк, Ч. Диккенс, О. Уайльд, Т.С. Элиот - через «видение» которых мы наблюдаем за жизнью простых лондонцев и самого города. Нам 13 Акройд, П. Лондон. Биография [Текст] / П. Акройд. – М.: Из-во Ольги Морозовой, 2007. 13 близка эта концепция, имы пытаемся отразить ее в нашем исследовании. Но, выдвигая новую концепцию «визионеров», П. Акройд не порывает и со «старой» концепций, выдвинутой Д.Джойсом – «изучение города как тела». П. Акройд явился и автором «историко-топографических» книг, предваряющих данную концепцию – «Лондон» и «Темза». В числе «провинциальных» исследователей выделяются имена Ю.А. Иванова, автора работы «Местные власти, церковь и общество», и Ю.А. Курдина– «Под стягом всемилостивого Спаса», которые в своих многочисленных трудах исследовали не только метафизику «малых городов», но и их взаимодействие с церковью, их роль в общей судьбе России. В 2009 году защищена кандидатская диссертация М.Л. Паламарчука «Город как социокультурный феномен»14. В ней автор указывает на важность изучения «семантической конструкции, возникающей в сознании индивида, или совокупности впечатлений о городе». Эта «совокупность впечатлений» близка вводимому нами термину «имагология города». В научной разработке этого направления мы опираемся на труды выдающихся отечественных ученых– Ю.М. Лотмана, Л.Н. Гумилёва и М.М. Бахтина, В.Л. Глазычева, а также зарубежных – А. Тойнби, Ж. Бодриара, О. Шпенглера, М. Вебера, П. Акройда, А. Хорна. Имагология – наука молодая. Она зародилась во Франции в конце 19 века применительно к компаративистике. Однако в русскую литературоведческую науку и культурологию она вошла в девяностые годы прошлого века. Но это вовсе не означает, что имагология родилась на пустом месте. Ее начало путешествием» заложили (1768) и Лоренс Стерн своим Николай Карамзин «Сентиментальным «Письмами русского путешественника» (1791-1794). Это травелоги, не просто путевые заметки, а совершенно новый художественно-документальный жанр, окрашенный философскими размышлениями и образом самого«Путешественника». Если 14 Паламарчук, М.Л. Город как социокультурный феномен [Текст]:автореф. дисс. канд. философии/М.Л. Паламарчук. – Архангельск,2009. 14 до этого на первый план выступало изображение окружающего мира, быта и нравов, то Стерн и Карамзин подчеркнули личное отношение к этому миру самого путешественника, самого героя, его личное восприятие событий, фактов и самой окружающей действительности. При этом герои Стерна и Карамзина близки, но не тождественны самим писателям. Авторы травелогов заложили традицию соотнесения окружающего мира, нравов и обычаев других народов со своими соотечественниками, «чужих» стран и городов со «своими»,выразили свое собственное отношение к этому миру. Имагология тесно связана с литературоведением, культурологией, лингвострановедением, страноведением и межкультурной коммуникацией. Ее основная задача – создать благоприятный имидж страны, народа, города, пропустить изображаемое через призму воспринимающего этот образ человека. Е.В. Папилова, автор статьи «Имагология как гуманитарная дисциплина», посвященной имагологии, полагает, что в художественном произведении главную роль в создании «чужой» страны, «чужого» национального менталитета играют персонажи-иностранцы как носители «чужой» культуры и собственно «чужого» менталитета, «чужого» национального характера.15 Нечто похожее происходит с восприятием «чужого» города, «чужой страны», «иного» народа. Имагология города включает в себя восприятие того или иного художника: отрицательное или положительное, дегуманизированное или гуманистическое. Любое восприятие субъективно, но не лишено определенной доли объективного. Имагология города наиболее субъективна. Один и тот же город может представляться совершенно по-разному различным художникам слова: от мрачного и депрессивного до лучезарного и радостного. Именно так и представлен город в настоящем исследовании. В качестве отправной точки мы взяли изображение городов- мегаполисов в публицистике, представленное П. Акройдом, А. Хорном, В. 15 Папилова, Е.В. Имагология как гуманитарная дисциплина. [Текст]/ Е.В. Папилова. Вестник Московского гуманитарного университета. Филологические науки. –№4.- 2011. 15 Л. Глазычевым, Лондона, В.А. Гиляровским. Парижа художественных и Москвы, произведениях, с Они их представили точки разумеется, зрения, свое восприятие объективно. изображения В городов оказывается преимущественно субъективным, поскольку в них более выражена концептуальная точка зрения. К таким имагологическим образам относятся произведения А. Пушкина и А. Белого о Петербурге, Б. Ямпольского и И. Шмелева о Москве, Ф.С. Фицджеральда и Г. Миллера о Нью-Йорке, Э. Хемингуэя и Э.М. Ремарка о Париже, Дж. Джойса о Дублине и т.д. Восприятие города «своими» и «чужими»– важнейшая часть имагологии города. Но «чужое» восприятие часто становится «своим», входит в сознание читателя как объективно-субъективный образ реального мира. Насколько объективен может быть город в восприятии того или иного писателя? Это во многом зависит от самого автора, от его настроения или мировоззрения, от авторской точки зрения на изображаемый объект. Имагология города формирует и читательское отношение к городу, поскольку может вызвать любовь или иное чувство, преодолеть стереотип или укрепить его. Таким образом, имагологическое восприятие имеет существенное значение для предпринятого исследования. Теоретико-методологические положения диссертации. В согласии с заданной тематикой диссертационной работы нами конкретизирован понятийный аппарат в использовании таких терминов, как «город», «культура»,«цивилизация», «имагология», «архетип», «хронотоп», «межкультурная коммуникация», «диалог культур» с релевантным ограничением их семантики. Город – населенный пункт крупного размера, жители которого не занимались производством сельхозпродуктов. Признаком города является рынок, куда свозят свою продукцию жители окрестных населенных пунктов. Еще одним непременным признаком города являлась стена или ограда. По мере укрупнения городов и их значения в жизни людей в ХХ веке в оборот 16 вошло слово «мегаполис». Город служит центром развития культуры и цивилизации. Культура. Из всех многочисленных определений слова «культура» нам ближе всего определение С.Г. Тер-Минасовой: «Культура – это совокупность результатов деятельности человека в производственной, общественной и духовной жизни»16. Цивилизация. Существует несколько подходов к цивилизационному развитию. Согласно О. Шпенглеру, культура противопоставляется цивилизации. У культуры есть«душа», а единственным носителем культуры являются сельские жители, которые при этом испытывают давление цивилизации, несущей гибель культуре, поскольку цивилизация выхолащивает душу культуры, заменяя ее подчинением бездушной власти рассудка. Близка к работе О. Шпенглера, но менее радикальна концепция А. Тойнби, по мнению которого цивилизация – это завершающий этап развития культуры, проходящий несколько циклов – генезис, развитие, надлом и разложение. В период второго этапа цивилизации зарождаются и развиваются «большие города». В последнее время все большее распространение получает гипотеза С. Хантингтона о «столкновении цивилизаций». Согласно этой концепции, близкие по духу цивилизации сближаются, а противоположные отталкиваются. В основе цивилизации лежит религия, поэтому человечество ждет смертельная борьба между двумя основными мировыми конфессиями – христианством и исламом. Исходя из теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского, русские ученые К.Н. Леонтьев, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин выводят концепцию «православной цивилизации». Диалог культур. Теорию диалога культур разработал выдающийся филолог и культуролог М.М. Бахтин. Согласно его теории, человек – это уникальное явление культуры, вступающей во взаимодействие с другими 16 Тер-Минасова,С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.:Слово,2000.С.13. 17 людьми – культурами. По Бахтину, диалог возникает только тогда, когда взаимодействуют по меньшей мере две культуры – два человека. Велика в диалоге роль понимания одной культуры другой, роль толерантности. На основе диалога культур развивается теория познания «другого». Познание «чужого – другого –иного» ведет к самопознанию, к национальной самобытности и одновременно к чувству уважения к другим народам и их культурам. Культура только тогда готова к взаимодействию, когда она поднимается до уровня понимания другой культуры. Теорию диалога культур продолжил развивать и совершенствовать В.С. Библер. Он пришел к осознанию, что человек образованный– это, прежде всего, человек культуры, и только с таким можно вступать в диалог, преодолевая «загадочность» каждой культуры, заключенную в индивидуальной личности. Архетип – часто повторяющиеся образы, мотивы, сюжеты в литературных произведениях, сознательное или бессознательное проявление мифологических мотивов. Исследователь литературного архетипа А.Ю. Большакова считает архетипом сквозную модель, проходящую через все произведение. По А.Ф. Лосеву, это может быть модель, образец, принцип, все то, что К.Г. Юнг называл «содержанием коллективного бессознательного», «общечеловеческим мотивом». Хронотоп– совмещение в одной временной и пространственной точке событий и человека. Хронотоп, благодаря работам М.М. Бахтина, стал ведущим литературным приемом в русской и зарубежной литературе. Но еще до исследований русского ученого хронотоп активно применялся в романе Д. Джойса «Улисс». Межкультурная коммуникация – предполагает общение между культурами, между представителями различных носителей культуры. Имеет междисциплинарный характер. Особенно широко применяется в культурологии и литературоведении. Межкультурная коммуникация служит базовой основой для диалога культур, играет большую роль в деле 18 взаимопонимания между народами, в укреплении доверия и дружбы между различными этносами. Объект исследования – город как феномен культуры и цивилизации. Предмет исследования – культурологический образ города в русской, американской и западноевропейской литературах. Цель исследования – рассмотреть культурологический феномен города в русской, американской и западноевропейской художественной литературе, показать имагологическое восприятие отдельных писателей и поэтов в зависимости от их авторской точки зрения, рассмотреть роль травелогов в восприятии «своих» и «чужих» городов, определить их место в диалоге культур. Цель определяет и задачи исследования. К задачам диссертации относятся: - дать культурологический анализ имагологического подхода при изображении города; - рассмотреть различия в изображении города «своей» и «чужой» культурой; - сопоставить основные культурно-исторические и художественные тенденции в освещении образа города как модели цивилизации; - дать сравнительный анализ ведущих принципов создания образа города в мировой художественной культуре; - провести семантический анализ культурологических образов основных городов-мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка, Парижа, Дублина; - проанализировать особенности городской среды и городского пространства «больших» и «малых» городов; - выявить специфику создания образа городов ведущими деятелями художественной литературы. Гипотеза исследования заключается в том, чтобы показать, как воспринимается культурологический образ города в зависимости от имагологической точки зрения художников слова, как их мироощущение 19 влияет на дихотомический образ (гуманистический и дегуманизированный) города, как формируется культурологический феномен города и городской среды в творческой лаборатории писателя в зависимости от его мировоззренческого концепта, как прослеживается культурно-историческая связь города с развитием цивилизации, как отражается мировоззренческое видение писателя в его изображении города. Методами исследования явились сравнительно-сопоставительный, системный, типологический, биографический. При этом в научный оборот вводятся культурологический и имагологический подходы, позволяющие приблизиться к решению проблем дихотомического образа города, субъективного и объективного восприятия города в зависимости от точки зрения писателей, воспринимающих этот образ. Теоретическая основа исследования базируется на трудах отечественных и зарубежных ученых и мыслителей, начиная с Аристотеля и кончая Ю.М. Лотманом и М.М. Бахтиным. Кроме того, основой исследования послужили труды современных ученых, таких как М. Вебер, Ж. Бодриар, Я.Н. Засурский, В.Л. Глазычев. Методологической основой исследования явились труды Д.С. Лихачева, Г.Д. Гачева, В.П. Океанского, Б.А. Гиленсона, Н.А. Кубанева, П. Акройда, А. Хорна. Настоящая работа носит междисциплинарный характер, основанный на базовых принципах культурологии и сравнительного литературоведения. Научная новизна исследования заключается в следующем: 1.Исследован культурологический феномен города, выраженный в художественной форме. 2. В научный оборот введено понятие «имагология города» и исследованы составляющие этого понятия. 3. Исследовано творчество писателей-урбанистов, отразивших в своем творчестве образ города. 20 4. Определены специфические черты горожан и городской среды, получившие отражение в художественной литературе. 5. Отражены формы и приемы создания образа города и городской среды в пространстве и времени. 6. Исследован дихотомический образ города (дегуманизированный и гуманистический) в произведениях писателей-урбанистов. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что впервые в школу культурологических исследований внесено такое теоретическое направление как имагология города, как изучение образа города через литературный текст, через творчество ведущих писателей мировой литературы. Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее положения, результаты и выводы могут быть использованы в общих лекционных курсах и семинарах по культурологии и литературоведению, по урбанистике и специфике текста. На защиту выносятся следующие положения: 1. Имагологический образ города играет важнейшую роль в формировании отношения писателя и читателя к этому городу, в разрушении или укреплении стереотипического восприятия города и горожан, в развитии диалога культур. 2. Художественная литература играет большую роль в формировании культурологического образа города и городской среды, в отражении духагорода, образа жизни его жителей. 3. Мы постигаем «чужую» страну,«чужие» города, «чужую» ментальность и национальную специфику характеров в основном через художественную литературу, путевые очерки, травелоги. В них же отражаются национальные особенности, менталитет самого автора. 4. Через книги находит свое выражение национальный образ города. 5. Литературный текст способствует восприятию образа города. 21 6. Создавая «русский» образ города, русские писатели вносят обширный вклад в «диалог культур», вносят свой вклад в русскую национальную ментальность, помогают осознать свою собственную национальную идентичность. 7. Дихотомический образ города (дегуманизированный и гуманистический) выражает мировоззрение и мировосприятие художника, отражает его озабоченность судьбами людей, живущих в городах, показывает его отношение к существующей цивилизации. Апробация работы. Основные положения диссертации были заслушаны и получили одобрение на международных конференциях и семинарах: «По следам Хемингуэя: Русский Париж»//«Актуальные проблемы американистики» (Н. Новгород, ННГУ, 2003); «Тема истеблишмента в американской литературе: от критики к апологетике»//«Консерватизм и либерализм в литературе США» (Москва, МГУ, 2005); «Консервативные ценности в романе Д. О’Хары «Дело Локвудов»//«Слово и/или как власть: автор и авторитет в американской культурной традиции» (Москва, ОИКСМГУ, 2005); «Омуты и мели модернизма. Хаос и космос Джеймса Джойса»// «Классические и неклассические модели мира в отечественной и зарубежной литературе» (Воронеж, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом) РАН, 2006); «Русский образ Британии»//«Британия: история, культура, образование» (Ярославль, 2008); «Образ Нью-Йорка в восприятии русских и американских писателей»//«Город и урбанизм в американской культуре» (Москва, МГУ – ОИКС, 2011); «История города – история цивилизации»//«Рождение культурологии в России» (Шуя, 2013); «Город «больших возможностей» в изображении Джона Дос Пассоса»// «Ценности американской культуры вчера и сегодня» (МГУ, 2013); «Город как литературный текст»// «International Conference on European Science and Technology» (Munich, Germany, 2012); «Современные подходы к изучению города как культурологического феномена»// «Science, Technology and Higher Education» (Westwood, Canada, 2013). 22 На всероссийских научных конференциях: «История города: Арзамас» // «А.П. Гайдар и круг детского и юношеского чтения» (Арзамас, 2011), а также на региональных и вузовских конференциях. Основное содержание диссертации изложено в 15 публикациях в рецензируемых сборниках, рекомендованных ВАК МО и Н РФ. Соответствие диссертации паспорту научных специальностей. Работа соответствует специальности 24.00.01. – «Теория и история культуры» и выполнена в соответствии с пунктом № 6 шифра специальностей ВАК Минобрнауки РФ «Культура и цивилизация в их историческом развитии». Структура диссертационного исследования связана с решением поставленных задач: работа состоит из введения, четырех глав, каждая из которых делится на параграфы, заключения и библиографии, насчитывающей 404 наименования, в том числе 39 – на английском языке. 23 ГЛАВА II. Город глазами писателей-публицистов 1.1. Культурно-исторические представления В.Л. Глазычева о городе В фундаментальном труде «Город без границ» (2010) крупный культуролог и архитектор В.Л. Глазычев осмысляет феномен города как пространства, регулируемого городом. Для этого он проводит культурноисторический анализ образования и развития города на территории обжитого человеком пространства, делая обширный экскурс в историю. Начинает он с России. Он опровергает утверждение, что скандинавы называли область, заселенную славянами, «страной городов», внося в название «гардарика» свой смысл: не «городов», а «гардов», то есть «усадеб». В.Л. Глазычев поясняет, что крупных городов было два: Киев и Новгород. Все остальное пространство было занято княжескими «усадьбами», расположенными между необъятных лесов, в которых добывалась пушнина, и полей с подсечным земледелием. Путь «из варяг в греки» сформировал цепь городов-крепостей, контролирующих поставки главного богатства Руси – пушнины в Византию и Персию. Возникают города Псков и Тверь. Земледельчество, не нарушаемое набегами половцев и прочих «степняков», в отличие от киевских и черниговских земель, приводит к возникновению Владимиро-Суздальского княжества, обеспечивавшего поставки хлеба. Новгород, чисто теоретически, мог возглавить Русь, но внутренние распри и гордыня боярской республики помешали это сделать. Постепенно на первый план выходит Москва, которая сосредоточила в своих руках право собирать дань для Золотой Орды. Победа на Куликовом поле была победой скорее политической, чем стратегической. Это была победа лишь над одним из «темников» - Мамаем. Великий хан Тохтамыш вскоре сжег Москву и заставил Дмитрия Донского бежать из города. На деле, сам того не подозревая, Москву спас среднеазиатский хан Тимур, разбив Тохтамыша. Но за несколько поколений 24 русские люди настолько привыкли выплачивать Золотой Орде дань, что отказ Московского великого князя выплачивать ее слабеющему золотоордынскому хану ничего не изменил в положении русских удельных князей, да и всего русского народа. Теперь они выплачивали дань Московскому князю. Таким образом, было подведено надежное основание для самодержавия, в том числе и финансовое. Разгром Казанского и Астраханского ханств не только отодвинул угрозу исламской экспансии, но и присоединил к московскому государству обширные земли. Бегство русских от всякой власти происходило по двум направлениям: на Север и на Юг. Таким образом, возникли «гарнизонные города» – Ливны, Курск, Царицын, Саратов. Часть бежавших крестьян, ставших казаками, использовалась для покорения новых земель, как это сделали Строгановы, наняв отряд Ермака для покорения Сибири. Так, возникают Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут. Завоевание Крыма привело к образованию трех новых губерний: Таврической, Херсонской и Екатеринославской. Стремление России продвигаться в Среднюю Азию привело к возникновению Оренбурга, как одного из форпостов империи. Раздел Польши расширил границы России, добавив ряд новых губерний. Но из многочисленных русских городов лишь два – Петербург и Одесса – строились и развивались по европейскому образцу. Вокруг крупнейших городов бурно развивалось дачное строительство. Освоению новых земель, в частности на Алтае, в Приморье и в Южной Сибири, способствовала Столыпинская реформа, в результате которой произошел «раскол» крестьянской общины. Столыпинские реформы привели к возникновению крупных «хуторских» или «кулацких» хозяйств. Маломощное сельское хозяйство общины, с ежегодным переделом земли и, следовательно, отсутствием удобрений (кто же захочет удобрять «чужую» землю), тормозило и все производственные силы России. Развитие России было прервано Первой мировой войной и Революцией. 25 Исторические исследования показывают, что протогород представлял собой территорию, обнесенную общей стеной, из-за которой люди выходили в светлое время суток для производства каких-либо сельскохозяйственных работ. Город в подлинном смысле этого слова археологи обнаружили лишь в Древнем Египте. По сути дела, город представлял собой крепость, окруженную усадьбами, домами и прочими постройками. Даже в Древнем Египте город являлся окружением вокруг дворцового комплекса фараона или главы нома (номарха) – своеобразного региона, на которые делилось государство. Протогорода складывались еще вокруг крупного храмового комплекса. Города соединяли дороги. Особенно важную роль дороги играли в Древнем Риме. Их отличало отменное качество. Римские дороги сохранились даже спустя тысячелетия, например, в Великобритании. Строительство дорог сопровождалось интенсивным освоением прилегающих территорий. Римляне унаследовали достижения греков, персов и египтян. У греков они заимствовали определенные требования к комфорту (по замечанию У. Черчилля, англичане достигли такого уровня лишь во второй половине ХХ века), у персов – систему дорог и управление территориями через сатрапов (у римлян – прокураторов, не вмешивавших без надобности в дела местного управления, как, например, в Иудее). Однако римские архитекторы внесли в строительство города свои новшества, главным из которых было то, что римский город первоначально напоминал военный лагерь, дороги к которому переходили в главные улицы города. Нашествие варваров привело к тому, то в Европе города были почти полностью разрушены. Хранителями урбанистики стали монастыри. Города стали возрождаться лишь с развитием торговли и ремесленничества. Но власти города стали вступать в конфликт с феодальными правителями, отстаивая свое самоуправление. К началу ХХ века существенную помощь в развитии городов и близлежащих территорий сыграли 26 строительство железных дорог и автомобилизация. Впереди всех оказались Соединенные Штаты с их развитой сетью железных и шоссейных дорог. Огромную роль дороги сыграли в развитии пригородов. Развитию пригородов, или «субурбии», способствовало и получение населением ипотечного кредита на 20-30 лет. Так, например, в США быстрый рост черного населения в городах привел к тому, что зажиточные люди стали переселяться в пригороды. Нечто подобное мы наблюдали и в Великобритании до 70-х годов прошлого века. В.Л. Глазычев очень обеспокоен проблемами управления, экологии и стиранием границ между городским и сельским населением, проблемами агломерации городов. О сельском населении можно говорить, имея в виду Африку и Азию, но никак не Европу и США. Говоря о России, следует заметить, что, несмотря на еще довольно большое число сел и аулов, жизнь там все больше урбанизируется. Постепенно все острее становится вопрос о взаимоотношениях центрального правительства и местных властей. Власти Парижа, Большого Лондона или Нью-Йорка никак не могут найти консенсус в этом вопросе. Мы, со своей стороны, добавим, что эта же проблема касается и Москвы. Что касается проблем агломерации, то В.Л. Глазычев ссылается на работу И.В. Стародубровской и М. Славгородской «Международный опыт управления агломерацией». Далее он дает характеристику крупнейшим городам мира. Мы же остановимся на Нью-Йорке, так как он является частью нашего исследования. В.Л. Глазычев подчеркивает уникальность этого города, поскольку территория «метро» Нью-Йорка охватывает и территорию еще трех штатов Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута. Но борьба за границы Нью-Йорка, а следовательно за его управление, продолжались вплоть до 1921 года, хотя они были установлены еще в 1884 году. Отношения между горожанами и городом довольно сложные и запутанные, так же как и система управления. Все это накладывается на проблему оттока наиболее зажиточного населения в пригороды, в города-спутники. 27 Говоря об инфраструктуре города, В.Л. Глазычев ставит вопрос о его обороне, водоснабжении и экологии, относя их к наиболее сложным. Он приводит слова Аристотеля, который считал, что для горожан наиболее удобно, когда дома выстраиваются вдоль улиц, однако для оборонительных целей удобнее, когда дома расположены хаотично и чужеземные войска плохо ориентируются в городе. Важным считалось наличие крепостных стен, а также застав на подъезде к городу. Террористическая угроза сделала вопрос о заставах весьма актуальным и в наше время. Вопрос водоснабжения города издревле считается наиболее важным. Еще римляне уделяли ему основное внимание, несмотря на всю трудоемкость строительства акведуков. После того как треть жителей Москвы погибла в результате эпидемии чумы в 1771 году, на средства казны был построен Мытищинский водовод, подававший воду в фонтаны в центре города. Не менее важной являлась проблема удаления продуктов жизнедеятельности города. Впервые в Древнем Риме были построены клоаки – подземные каменные галереи для удаления нечистот. Гигантские усилия, потраченные на сооружение клоак, обеспечивались тотальной мобилизацией всего населения Рима. По прошествии столетий ничего подобного не происходило по всему цивилизованному миру. В Лондоне общая канализация была построена лишь в 1875 году, а Париж до начала ХХ века жил с выгребными ямами и бочками золотарей. В Москве проблема канализации начала решаться тоже в конце XIX века. В начале ХХ века были отведены места для нескольких организованных свалок. В XVIII-XIX веках пришел черед вопросам благоустройства. В Лондоне знаменитый Гайд-парк начал функционировать с 1733 года. В Париже Венсенский и Булонский леса были благоустроены в середине XIX, тогда же был образован Центральный парк в Нью-Йорке. Не отставали от европейских столиц Петербург и Москва. Первым бульваром стала «Невская перспектива» в Петербурге. Вслед за Петербургом в Москве были организованы Александровский сад, парки на Воробьевых горах и в Сокольниках, появились 28 и первые бульвары. Зажглись и первые газовые, а затем и электрические фонари. Улицы были замощены сначала булыжником, а затем гранитной брусчаткой и асфальтом. В благоустроенном городе были важны вопросы общественного питания и культурного досуга. Если до этого горожане довольствовались препровождением времени в харчевнях, кабачках и прочих малокультурных местах, то ныне верхние слои населения уже нуждались во всевозможных ассамблеях, вокзалах и балах. Особенно в вечернее время в связи с удлинением рабочего дня на фабриках, мастерских и прочих местах заработка. XIX век с его дидактикой привел к открытию народных библиотек и музеев, к развитию массовых видов спорта. В конце XIX – начале ХХ века, когда за организацию досуга взялись бизнесмены, появились целые городки развлечений, и первым стал Кони-Айленд близ Нью-Йорка. В Советской России нечто подобное пытались реализовать в Парке культуры и отдыха им. А.М. Горького на месте старой свалки между Крымским мостом и Нескучным садом. С легкой руки Уолта Диснея городки развлечений стали устраиваться по всему миру. Носителем особой субкультуры являлся двор. От «большого мира» дворовое пространство отделяла подворотня. Своеобразной «школой жизни» двор стал для ребят подросткового возраста. Двор жил по своим законам, которым подчинялись и местные уголовные авторитеты. Как правило, небольшие конфликты гасились внутри двора, без привлечения властей в лице участкового милиционера. Двор считался безопасной и в то же время «ничейной» территорией. Социальная инфраструктура города изучена достаточно глубоко, начиная с древнегреческих городов. Одними из первых ученых, которые изучали проблемы социальной инфраструктуры, были Платон и Аристотель. Они разделяли граждан на определенные слои, каждый из которых должен был жить в «своем» районе. 29 Что касается Москвы, то это был типичный столичный город, который был полностью предназначен для обслуживания «государя». От Кремля шли улицы, заселенные «челядью» и боярские усадьбы, также направленные для обслуживания своего господина и двора. Стрельцы, живущие с семьями и занимающиеся хозяйственными делами и незаконной торговлей, постоянно служили объектом жалоб со стороны купцов и ремесленников. Новая столица – Санкт-Петербург – превратилась в придворночиновный мир со своей иерархией. Москва же, освобожденная от внимания первых лиц государства, стала культивировать новую культуру – сплав патриархальных традиций с новой университетской образованностью. Манифест о вольности дворянства привел к тому, что Москва пустела летом и наполнялась жизнью зимой, когда из многочисленных дворянских усадеб туда съезжалась «знать». Положение кардинально изменилось после отмены крепостного права и обнищания дворянских усадеб, лишенных дармовых крепостных рук. В Москву стали переезжать помещики с крупными деньгами, полученными за землю, что привело к быстрому развитию торговли, индустрии развлечений, в том числе театров и ресторанного дела. Нечто подобное происходит и в других крупных городах. Мозаичная структура города с разбросанными дворянскими усадьбами и многочисленными бедными домишками уступает место новому городу с деловым центром и фабричными районами трех типов: один с малоэтажными домами в окружении садов, другой – по примеру стрелецких поселений – с прямыми улицами и доходными домами с семейными квартирами, третий, созданный по типу московской Хитровки – района, заселенного люмпенами и прочим асоциальным элементом. Далее В.Л. Глазычев делится своими размышлениями о создании «smart city» – «умного города», о трудностях, лежащих на пути такого проекта. Основываясь на опыте США, он рассматривает две противоположности развития городов – Питтсбург и Детройт, говоря о том, что это города 30 антиподы. Питтсбург – самый привлекательный для жизни и инвестиций город, а Детройт – город-призрак. Заканчивается книга в пессимистическом ключе. В.Л. Глазычев говорит о недостатках городского планирования, в частности о планировании Москвы и других российских городов. Путь к «умному городу» далек [Глазычев 2011]. 1.2. «Москва и москвичи» В.А. Гиляровского Наверное, никто так красочно не изобразил Москву, как дядя Гиляй – Владимир Алексеевич Гиляровский. Его книга «Москва и москвичи» выдержала десятки изданий и остается любимым и правдивейшим произведением о Москве. Ей предпослано предисловие Константина Паустовского, замечательного русского писателя, который выразил дух этой книги, подчеркнув, что это свидетельство эпохи, написанное не равнодушным человеком, не сторонним наблюдателем, а живейшим участником всех событий, зафиксированных в ней. Гиляровский – был не только превосходным журналистом, но и человеком, отличающимся феноменальной памятью, и великолепным рассказчиком, который смог передать дух времени, выразить характер изображаемой эпохи. Он – Очевидец с большой буквы, чьи свидетельства о старой Москве – бесценны. Гиляровский приехал в Москву в октябре 1873 года, застав купеческую Москву в период ее расцвета. Но даже тогда ему бросилась в глаза разница в образе жизни бедных и богатых. Бедные ели объедки из мусорных баков, богатые – кулебяку в 12 ярусов, рябчиков и дупелей, двухаршинных стерлядей. Нищий люд группировался вокруг Хитровки, вокруг которой размещались «малины» и притоны. В кабаках, которые негласно делились на разряды, обитали «свои» посетители: в «Пересыльном» собирались бездомные, нищие и барышники, в «Сибири» – крупные воры и скупщики краденного, в «Обратнике» - вернувшиеся или бежавшие с каторги или из ссылки. Трактир «Каторга» служил местом буйного веселья и разврата для 31 всех преступников и нищих. «Хитровка» напоминала почему-то Гиляровскому Лондон, возможно, из-за пестроты населения и размеров, а возможно, из-за слов Ленина, которые он произнес, увидев контраст между Вест и Ист-эндом: «Две нации». Клубы Москвы находились на Большой Дмитровке, раньше так и называвшейся – «Клубная». Там располагались три клуба – Английский, Дворянский и Купеческий. Каждый из клубов отличался отличной кухней: стерляжья уха, балык в рассоле, банкетная телятина, расстегаи из стерляди и налимьей печенки. Вот далеко не полный перечень блюд Купеческого клуба. После обильного обеда завсегдатаи усаживались играть в карты или отправлялись догуливать в ресторан «Яр». Одним из самых знаменитых клубов был «Охотничий». Поначалу он представлял почтенное заведение, жившее только за счет членских взносов, но их оказалось мало, и тогда основным источником доходов стала азартная игра – «железка». Клуб буквально «пух от денег» до тех пор, пока его не закрыли. Самым почтенным и респектабельным был Английский клуб с мраморными львами перед входом. Члены клуба были под стать этим львам. Это, как пишет Гиляровский, был клуб Фамусовых, Скалозубов, Репетиловых и Чацких. Каждый член клуба был достоин пера Грибоедова или Пушкина. Клуб посещали А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, создатель крымских виноградников князь Голицын, а Л.Н. Толстой проиграл там тысячу рублей на бильярде (сумма по тем временам неслыханная). Почетным старшиной клуба состоял генерал-губернатор князь Долгоруков. Неотъемлемой частью клуба, кроме глубоких кожаных кресел и великолепного винного погреба, был зал для азартных игр, где сначала играли «по маленькой», а после революции 1905 года «по-крупному». В советское время во дворце разместился Музей революции. Интересен рассказ Гиляровского о московских банях. Их в Москве было около 600. Но самые известные были Сандуны. Это был действительно храм 32 Гигиены. В банях работали «мальчики» и парильщики, не получавшие зарплаты, а жившие только на чаевые, половину из которых они вынуждены были отдавать начальству. В отведенные дни в банях мылись солдаты за две копейки, а веник стоил копейку. На этом владельцы бань получали огромные барыши. Лубянская площадь. Дом страхового общество «Россия» - где до сих пор размещается знаменитая спецслужба. На Лубянской площади продавались дрова, сено, и она была центральной базой извозчиков. Охотный ряд. Он получил свое название оттого, что в нем разрешалось торговать дичью. Еще в конце позапрошлого века там можно было видеть охотников, обвешанных зайцами, дикими утками, тетеревами. Охотный ряд весь состоял из лавок и «обжорок», где можно было купить и «первоклассный товар», и товар попроще и подешевле, и просто «тухлятину». В лавках продавали паленых поросят для жарки, и «белых» поросят в ваннах, наполненных ледяной водой, для заливного; на крюках висели розовые тушки барашков, телят, поенных молоком, а под потолком висели различные окорока – вареные, копченые, провесные. Главными покупателями были повара из лучших ресторанов и трактиров, а также повара из «лучших» домов. Беднота покупала товар попроще – ребра, требуху и дешевую баранину-ордынку. В Охотном ряду стоял и известный трактир Егорова с двумя залами. В зале первого этажа – «Низке» стояла огромная печь, в которой с утра до позднего вечера пеклись очень вкусные блины, которые с различными начинками – с белужиной или осетриной, с «пылу с жару» подавались посетителям. В зале второго этажа – для «чистой публики» подавались различные рыбные блюда – селянка из стерляди и прочие деликатесы, блины в счет не шли. Обжорный переулок тянулся к Моховой и Манежу. Здесь было царство «обжорок», где продавали продукты, которые в другом месте продать было невозможно. Это были и своеобразные столовые. В них можно было купить за 33 три копейки щи без мяса, а за пятак – лапшу, жареную или тушеную картошку. Но в Москве был и магазин, который сам был похож на музей – это был магазин Елисеева. В конце 1890-х годов миллионер Елисеев, у которого уже был роскошный магазин в Петербурге, купил дом на Тверской и затеял там перестройку. Перестройка была столь секретной, что москвичи сгорали от любопытства. Наконец, дом открылся. «Магазин Елисеева и погреб русских и иностранных вин» – значилось на вывеске. По случаю открытия был устроен торжественный молебен с приглашением архиепископа и был сервирован завтрак. Гиляровский пишет, что это действительно был праздник чревоугодия: окорока разных видов – вестфальские, провесные, вареные и копченые, нарезанные тонкими, как бумага, ломтями. В серебряных ведрах посреди колотого льда стояла икра: севрюжья, осетровая, белужья. Казалось, что крупные остендские устрицы дышат на слое снега, покрывавшего блюда. Паюсная икра стояла огромными глыбами на столе. Запивалась все это изобилие редкостными винами. Про этот невиданный завтрак долго еще судачили москвичи… Наш рассказ о еде был бы неполным, если бы мы не коснулись московских трактиров и ресторанов. Трактир Тестова, Егорова, Гурина. Первейшим и знаменитейшим был трактир Тестова. Славился этот трактир «русским столом» и «гурьевской кашей», поесть которую приезжали из Петербурга даже великие князья. Среди постоянных посетителей трактира был миллионер Чижов, отличавшийся «раблезианскими» обедами. Вот как описывает Гиляровский меню такого обеда: «порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянка рыбная или селянка из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо, неизменно, сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом – огромной кулебякой с начинкой в 34 двенадцать ярусов, где было все, начиная от налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле» [Гиляровский 1979, 267]. Поистине удивительно, как мог осилить такой обед один человек. Но вот перед нами счет из трактира Тестова, отличающийся от счета господина Чижова разве что набором водок и вин. «Моментально на столе выстроились холодная смирновка на льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Леве № 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое принесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцом, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой» [там же, 269]. И это не считая балыка, белорыбицы, жареного поросенка «по-расплюевски», селянки с осетриной и стерлядью, лососины и спаржи с маслом. Вот как Гиляровский едал со своим тремя товарищами… Еще один трактир русской, вернее сибирской, кухни был на Варварке. Там подавали только пельмени. Запомнился один обед, устроенный для золотопромышленников из Сибири. «Обед в стане Ермака Тимофеевича», когда было изготовлено 2500 пельменей с разными начинками из мяса, рыбы, фруктов. А «хлебали» их из серебряных тарелок деревянными ложками. Трактир был украшен русскими вышитыми полотенцами, стол сервировался старинной серебряной посудой. А вот вина, хотя и были французскими, именовались по-старинному: фалернское, фряжское, мальвазия. Таким образом, мы видим, с каким мастерством и вкусом описывает современную ему Москву Гиляровский. Из мелких, казалось бы, незначительных бытовых деталей складывается привлекательный образ города, в который хочется вернуться еще не раз. 35 1.3. Лондон в изображении Питера Акройда Питер Акройд (Peter Ackroyd) практически все свое литературное творчество обращался к биографиям. Он посвятил свой роман «Большой лондонский пожар» (1982) Ч. Диккенсу, «Завещание Оскара Уайлда» (1993) – биографии знаменитого поэта, а также написал биографии Т.С. Элиота, У. Блейка, У. Шекспира. Написал он и биографию Лондона, видя в нем не просто город, а живое существо, где население Лондона – тело, голова – Иисус Христос. Его переулки и улицы – вены и капилляры, а парки – легкие. И сам Лондон – темно-красный, как человеческое тело без кожи, а по замечанию хирурга У. Гарвея, шланги пожарных выталкивают воду толчками, подобно артериям. «Так бьется жаркое сердце Лондона», – восклицает Акройд [Acroyd 2012, 1]. Питер Акройд был не первым писателем, кто сравнил город с живым существом. В этой связи достаточно вспомнить М. Горького, его памфлет «Город Желтого Дьявола» (1906) и Дж. Джойса «Улисс» (1921). Но он был первым, кто сравнил Лондон с человеком и чудищем одновременно, и столь красочно. Повествование Акройда перемежается цитатами «визионеров» – известных людей, живших в Лондоне и писавших о Лондоне. Так, рассказывая о доисторическом Лондоне, Акройд приводит легенду, взятую из «Истории Британии» Д. Мильтона, согласно которой основателем города был правнук полумифического Энея Брут, основавший Новую Трою. Говоря о происхождении имени «Лондон», Акройд пишет, что это название произошло от имени «Луд», короля, правившего Лондоном до пришествия римлян. Как бы то ни было, Лондон всегда был главным городом страны, кто бы ни правил ею. Так, Лондон был главным торговым городом при римлянах и оставался таким при всех последующих правителях. Лондон всегда отличали сложные отношения с королевской властью. Сохраняя самостоятельность, он все же не мог игнорировать власть короля. 36 Это касается всех верховных правителей Британии, начиная с Альфреда Великого. Лондон имел свою армию, своих олдерменов, но все-таки подчинялся королевским указам. Вильгельм Завоеватель вынужден был построить несколько опорных пунктов для того, чтобы контролировать город. Древнейшее сооружение – Белая Башня, от которой пошел весь Тауэр. Белая Башня считалась «угрозой и вызовом свободе лондонцев». Борьба между королевской властью и городом привела к тому, что Вильгельм вынужден был издать «Хартию», согласно которой лондонцам разрешалось жить по законам, которые устанавливал сам город. Но следует признать, что главной силой, которой подчинялся город, была Церковь. Именно власть Церкви была определяющей, и строительство церквей и монастырей приветствовалось лондонцами. Убийство Фомы Лондонского – архиепископа Кентерберийского Томаса Беккета вызвало возмущение жителей города. В отместку Генрих II обложил Лондон дополнительными налогами, что показало, как небезопасно ссориться с королевской властью. При Тюдорах город разрастался. Акройд пишет, что рост являлся непременным атрибутом города. Еще одним атрибутом Лондона являлась грязь. Грязь сопровождала лондонцев повсюду. Угольная пыль, исходящая из труб каминов, буквально пропитывала все вокруг. Реформация Генриха VIII усугубила картину. Весь город был в руинах от разрушенных католических церквей и монастырей. Между тем, росло и богатство отдельных групп населения. Люди уже не довольствовались деревянной и глиняной посудой. На смену ей пришли оловянные вилки и тарелки. Соломенные крыши были заменены на черепицу. Новые здания росли как на дрожжах. Постепенно Лондон стал признанной столицей единого английского государства. Торговля и ремесленничество распределялось по «кланам». Перепродажей поношенной одежды занимались евреи, пекарями были шотландцы, подсобными рабочими – ирландцы. В то время как более квалифицированными строителями или «кирпичниками» были коренные 37 лондонцы. Торговля также распределялась по выходцам из регионов: молочники были из Уэльса, торговцы льняным товаром – из Манчестера и т.д. «Разгороженность» была свойственна всей торгово-ремесленной жизни Лондона. Лондон не без оснований называют городом-театром. Многочисленные балаганные представления – непременная характеристика города. День казни – праздник города. Для населения Лондона казнь – это незабываемое зрелище, привлекающее многочисленных зрителей. На пути приговоренных к смерти лежал приход святого Джайлса. Именно у церкви Сент-Джайлс выпивали «последнюю кружку» идущие на виселицу. У этого прихода сосредотачивалась и «нищая братия». В елизаветинскую эпоху в Лондоне стали появляться первые стационарные театры. Конечно, этому способствовала творческая деятельность двух великих драматургов – Кристофера Марло и Уильяма Шекспира. Вначале театры строились вне города – «Театр» в полях Шордича, в котором ставились «Доктор Фауст» Марло и «Гамлет» Шекспира, затем был построен театр «Куртина», переименованный позднее в «Зеленый занавес». Но и в самом городе появились театры – шекспировский «Глобус», «Лебедь», «Фортуна». Но лондонцы не довольствовались одними театрами, в городе продолжали устраиваться петушиные бои, травля собаками медведей и быков, а на подмостках театров проходили выступления акробатов. Издавна основной цвет Лондона – красный. Черепица римского Лондона была красной, в красные одежды одевались и чиновники Лондона, в красный цвет были окрашены некоторые учреждения города, позднее телефонные будки и автобусы стали красного цвета. А еще цвет пожара – красный. Пожары сопровождали лондонскую жизнь с глубокой древности. Этому способствовали и скученность строений, покрытых в основном соломой, и узость улиц, и наличие очагов с открытым огнем. Хотя Великий лондонский пожар и считается самым разрушительным, но пожары в Лондоне случались постоянно. 38 «Лондон – город, вечно преследуемый роком», – пишет Акройд. [Acroyd 2012, 173]. Пожару 1666 года предшествовала чума. Чума также считалась неотъемлемой болезнью Лондона. Эпидемия чумы 1348 года уничтожила 40 процентов жителей города. Последний раз чума унесла с собой более 30 тысяч лондонцев. Это случилось в 1603, в год смерти Елизаветы I. Новая эпидемия чумы разразилась в конце 1664 года. Причиной ее стало нашествие черных крыс. Болезнь не отступала до 1666 года, то есть до Великого пожара. Первого сентября 1666 года ранним утром начался пожар. Говорят, что пожар начался в доме королевского пекаря на Пудинг-лейн, но следствие, проведенное после пожара, не подтвердило это. Пожар начался как бы сам собой и ниоткуда. Он бушевал три дня, и практически весь Лондон выгорел. Это было ужасное зрелище. Пожар был предопределен, ибо весь август стояла страшная жара и солома на крышах домов чрезвычайно высохла, как и сами дома, построенные из дерева. Но пожар принес Лондону и положительные результаты. Во-первых, он остановил чуму. Во-вторых, он буквально расчистил город и позволил на месте пожарища возвести новый Лондон. По приказу короля Карла II постройки возводились только из кирпича и камня. Улицы делались достаточно широкими, чтобы огонь не перебросился на противоположную сторону. Частные дома возводились на собственные деньги их владельцев, общественные сооружения – за счет казны. За два года было построено 3000 домов, что было невероятно быстро. Возведение некоторых из них началось буквально в день, когда кончился пожар. Одними из первых строений, появившихся после пожара, были тюрьмы. По свидетельству европейцев, Лондон был действительно городом тюрем. Следовательно, в Лондоне совершалось множество преступлений. О самых известных преступниках и преступлениях и повествует Акройд. Одной из криминальных загадок является имя Джека Потрошителя, совершавшего убийства публичных женщин с августа по ноябрь 1888. Первоначально в 39 течение нескольких сот лет порядок в городе обеспечивали «стражи». Но эти стражи несли службу каждый в своем районе. Общенациональную полицию ввел министр внутренних дел Роберт Пиль. В 1829 году был открыт Скотленд Ярд – управление новой полиции Великобритании. С тех пор всех полицейских зовут «бобби», производное от имени Роберт. Их вооружение состояло из дубинки с железным шариком и внушало уважение всем нарушителям порядка. Другим названием Лондона был «город виселиц». Многочисленные виселицы наводняли город и служили средством развлечения толпы. Акройд пишет, что «город притягивает как магнит» [Acroyd 2012, 257]. Это действительно так. Но Лондон вытягивает из людей жизнь. По числу самоубийств город занимает одно из первых мест в Европе. Он приводит карикатуру, на которой изображены два человека. Один – изможденный и потерянный бредет из Лондона; другой – полный жизненных сил и энергии направляется в город и спрашивает первого: «Правда, что в Лондоне мостовые вымощены золотом?». Как питались лондонцы? Достаточно разнообразно. Они всегда имели пристрастие к мясу во всех его видах и проявлениях. Говядина, свинина и баранина всегда были в изобилии. Мясо было доступно не всем, а только зажиточным лондонцам. Бедняки ели в основном хлеб. Причем, нехватка хлеба довольно часто вызывала голодную смерть. Средний ежедневный заработок разнорабочего составлял шесть пенсов, в то время как пирог с мясом стоил – семь. Довольно часто можно было увидеть бедняков, сидящих вокруг решетки с раскаленным углем и жарящих на ней ломти хлеба. Так появились первые «тосты», пища бедняков. Распространенным видом мяса была дичь, благо в окрестностях Лондона она водилась в избытке. Оленина, кабанятина, куропатки, дрозды были обычной пищей для зажиточных лондонцев. Овощи были не в почете, хотя «спелая спаржа с курицей» часто продавалась прямо на улице. Дешевой пищей считались «дары моря» – устрицы, крабы, миноги, угри. 40 Издавна в Лондоне существовали «пункты общественного питания» харчевни. Они представляли собой довольно затрапезное зрелище, но популярное среди всех слоев населения. В них подавались жареные каплуны, оленина, лебеди, осетры, не считая различных видов мяса – типа ягнятины и «требухи» – почек, рубца, запеченных и вареных голов. Ростбиф и устрицы считались знаком общественного статуса. С XVII века в Лондоне появились «кофейни». Первая кофейня была открыта в 1652 году. В «Топографии Лондона» приводится «меню» таких кофеен: «Турецкий напиток – кофе, другой напиток – чай, третий напиток – шоколад – чрезвычайно сытный» [Acroyd 2012,271]. Во второй половине XIX века различные «chop-houses» («котлетная») и «beef-houses» («бифштексная») уступают место «Dining-halls» первым ресторанам. Если «dining -halls» существовали при гостиницах и новых отелях, то «refreshment-rooms» («буфеты») – при железнодорожных вокзалах. Постепенно в рестораны стали допускать женщин и в них зазвучала музыка. Но большинство этих заведений не могло похвастаться качеством еды. Лишь рестораны в Сохо выдерживали достойный уровень пищи, видимо сказывалось влияние кухни других стран – в первую очередь, французской и итальянской, а также китайской. С XIX века в Лондоне появляются заведения с «быстрой едой» – провозвестники современной fast-food – «Сэндвич-хаусы». В них, кроме сэндвичей, продавались «fish & chips», печеная картошка, можно было выпить чашку чая или кофе. Питейные заведения заполонили весь Лондон. Простолюдины пили в неумеренном количестве пиво или эль, люди побогаче – виски и вино. Но и те, и другие пили джин. Джин буквально захлестнул город. На «базе» питейных заведений возникли лондонские клубы. Они выросли из харчевен и кофе-хаусов. Первоначально в этих заведениях собирались люди «по интересам», а также представители разных профессий для встреч со своими клиентами. Затем эти люди стали объединяться и организовывать свои собственные «ведомственные» заведения. Слово 41 «клаббинг» появилось еще в XVII веке. Правда, исследователь ничего не говорит об аристократических клубах, расположенных на улицах Pall-Mall и St. James, но нетрудно предположить, что их происхождение то же. «То, что огромный город пожрал, то он должен неизбежно извергнуть в виде отбросов и экскрементов», – пишет Акройд. [Acroyd 2012, 288]. Состояние городских свалок и канализации всегда было огромной проблемой для Лондона. В римские времена эта проблема не выходила за рамки других городов, во времена англо-саксов на нее просто не обращали внимания. Но, по мере развития цивилизации, она превратилась в острейший вопрос. В 1349 году Эдуард III обратился к мэру Лондона с письмом, в котором он указывал на недопустимое количество нечистот в городе. Мэрия отозвалась на это послание строительством первой общественной уборной на Лондонском мосту через Темзу. По сути дела, практически все отхожие места располагались по берегам рек и речек, так как они представлялись, как тогда думали, идеальной природной канализацией. Это продолжалось до тех пор, пока воды Темзы не приобрели кофейный цвет. Вода в Темзе стала источником холеры. Только тогда в середине XIX века в Лондоне появилась первая канализация. В своей книге Акройд затрагивает практически каждую деталь лондонской жизни: как выглядит Лондон днем и ночью, лондонские туманы, освещение Лондона и т.д. Но, даже фиксируя неприглядные черты Лондона, Акройд не перестает им восхищаться. Он приводит цитаты из Вордсворта, Диккенса, Свифта, Ван Гога, которые отзываются о городе с восхищением. Панорама Лондона действительно завораживает. Можно часами ходить по лондонским паркам, находить зеленые уголки в самых застроенных районах города и встречать там птиц и зверушек. Но что тревожит Акройда, так это лондонская толпа. «Город – это одна исполинская людская масса», – пишет он. [Acroyd 2012, 373]. Постоянное движение людей будоражит человека. Человек в толпе приобретает несвойственные ему качества. Он становится агрессивен и безответственен. 42 Толпа провоцирует и расовые беспорядки. На свойства толпы указывали еще Горький («Моб») и Ризмен («Толпа одиноких»). Тоска и скука – вот главные катализаторы толпы. Именно они провоцируют толпу на агрессию. «Город в буквальном смысле – гиблое место», – признает Акройд. [Там же, 374]. Вот как он характеризует Лондон викторианской эпохи, когда, казалось бы, Англия и ее столица достигли пика своего расцвета и могущества: «К середине 1840-х годов Лондон приобрел славу величайшего города на земле, имперской столицы, международного центра торговли и финансов, широчайшего мирового рынка, куда стекался весь свет» [там же, 483]. Но что происходит с толпой, его населяющей: «На многих уличных сценках горожане выглядят одинокими и заброшенными, опустив головы, они бредут по многолюдным мостовым, покорно неся свою ношу. В этом еще один парадокс викторианского Лондона. В массе они кажутся полными энергии и жизненной силы, но по отдельности они исполнены тревоги и уныния» [там же, 492-493]. Акройд подчеркивает органичность Лондона. В нем все взаимосвязано. Ист-энд и Вест-энд дополняют дуг друга. Лондонская беднота и приезжие иммигранты. Каждый из этих социальных и расовых слоев находят в Лондоне свое место. Но постепенно лондонские социальные слои выравниваются. Это видно на примере Ист-энда. Это место, где были лишь рабочие кварталы, превратилось в район, застроенный добротными коттеджами с маленьким двориком и гаражом, где живут те же рабочие. Но их достаток неизмеримо вырос. Теперь Ист-энд напоминает пригороды Лондона, куда после Второй мировой войны устремились многие лондонцы. Ист-энд являл собой один их первых центров коммунистического мира. Там часто бывали коммунистические вожди – Ленин, Троцкий, Литвинов. Хочется добавить, что именно там Ленин сказал свои знаменитые слова: «Две нации», имея в виду, бедных и богатых, населяющих Лондон. Теперь это вполне «буржуазный» район, в котором стирается грань между «двумя 43 нациями». Конечно, Вест-энд отличается от Ист-энда. Особенно Сити. Лондон держится на деньгах. На Сити держится Англия. Возрождение Лондона произошло после Второй мировой войны. Именно она вернула лондонцам сплоченность и уверенность в себе. Именно она вернула лондонцам – Заботу. И в первую очередь, заботу о детях. Акройд пишет, что обнаружен камень, который Кристофер Рен положил в основание Собора Святого Павла после великого пожара. На нем имеется надпись на латыни: «Resurgam» – «Снова восстану». Так и Лондон был восстановлен после бомбежек Второй мировой войны. Жители многочисленных, самых разных районов зовут себя «лондонцами». Сама история называет их так. Их притягивает слава и могущество Лондона. Хочется закончить этот пассаж словами великолепного перевода, выполненного В. Бабковым и Л. Мотылевым: «Лондон не имеет границ. Это бесконечный Лондон». 1.4. История Парижа – история Франции (по книге А. Хорна «Тайны Парижа. Ключ к истории города») Если Питер Акройд сравнивал Лондон с юношей, свободно раскинувшим руки, то Алистер Хорн сравнил Париж с обольстительной, но своенравной женщиной. Если Акройд подчеркивал мужское начало в Лондоне, то Хорн – женское в Париже. В книге «Тайны Парижа. Ключ к истории города» (в оригинале «Семь веков Парижа») английский исследователь освещает не только историю Парижа, но и всей Франции, тесно увязывая ее с историй Англии. Вероятно, чтобы избежать упреков в том, что историю Парижа рассказывает англичанин, книге предпослано предисловие Мориса Дрюона, наверное, самого блестящего знатока Франции и самого Парижа. По преданию, Париж основал Парис, сын Приама, выходец из мифологической Трои, виновник 44 Троянской войны, соблазнивший прекрасную Елену. Менее романтичные и более практичные историки относят основание Парижа к более позднему времени: ко времени завоевания Галлии и временам Юлия Цезаря. В 358 году император Юлий II основал Лютецию – римскую колонию на острове Ситэ. Остров Ситэ представлял собой естественную крепость посредине полноводной и глубокой Секваны – Сены, удобной транспортной артерии, через которую проходили торговые пути. Поэтому Париж стал торговым центром для всей Западной Европы. После того, как римляне оставили Париж, на него стали надвигаться варвары – вандалы, франки, авары, гунны. К этому времени относится удивительное предсказание Святой Женевьевы, о том, что гунны не войдут в Париж. Как бы то ни было, Париж не избежал завоевания. Вместо Атилы пришли франки. Король франков Хлодвиг утвердил за Парижем звание столицы. Париж в то время, как пишет Хорн, был грязным городком с жалкими лачугами, как и Лондон, страдающий от пожаров. В VIII веке Париж едва не подвергся завоеванию войск ислама, а в IX – был разграблен викингами. Париж еще долгие годы оставался заштатным городом, так что жена короля Генриха I Анна, дочь Ярослава Мудрого, жаловалась в письмах к отцу на варварскую жизнь в этом ужасном городе. Наконец, в 1163 году началось строительство собора Нотр-Дам, ставшего центром города, от которого начинались все дороги. По замыслу архитектора, собор должен был олицетворять корабль, возвышающийся над Сеной, и соответствовать девизу Лютеции: «Колеблется, но не тонет». В правление Людовика VI священнослужитель Пьер Абеляр основал школу, из которой вырос Парижский университет – знаменитая Сорбонна. Абеляр прославился не только основанием университета, но и своей романтической любовью к Элоизе. Но подлинный расцвет Парижа произошел при Филиппе II Августе. Филипп приказал обнести город каменной крепостной стеной, сделав его неприступным для врага. Как мы уже говорили, 45 история Франции тесно увязана с историей Англии. По сути дела, это была одна страна, раздираемая противоречиями и битвами за территории и престол. Король Филипп сначала дружил с Ричардом Львиное сердце и даже участвовал вместе с ним в Крестовом походе. Но затем рассорился и стал поддерживать брата Ричарда – Иоанна (принца Джона). Король Ричард, почувствовав себя оскорбленным, начал войну с Филиппом, но в этой войне погиб. Вскоре Филипп поссорился и с Иоанном. Решающая битва произошла в 2014 году при Бувине, когда Иоанн сам вторгся во Францию. В ней Филипп нанес сокрушительное поражение англичанам. После своей блистательной победы Франция получила Анжу, Бретань и Пуату, Филипп больше не воевал и все силы отдавал реконструкции Парижа. Реконструкцию Парижа продолжил Людовик IX Святой. При нем был достроен собор Нотр-Дам, основаны первый лечебный приют и библиотека. Вообще при Людовике IX наблюдается расцвет философской мысли. Выкупив у короля Иерусалима «терновый венец» - одну из основных христианских святынь, Людовик сделал Париж центром христианства. Для хранения «венца» была построена одна из красивейших часовен – Сент-Шапель. Но относительно спокойную жизнь парижан нарушали студенты Сорбонны. Причем своим буйством они терроризировали весь город. Жизнь студентов Латинского квартала была действительно не легка. Лекции начинались в пять часов утра. Студенты вели нищенское существование, а еще им надо было оплачивать своих профессоров, не получавших регулярного жалования от государства. Драки с горожанами возникали постоянно и велись крайне ожесточенно. В 1270 году Людовик Святой умер от чумы во время очередного крестового похода. Через 15 лет его сменил на троне Филипп IV Красивый. Его правление отмечено расправой с Орденом тамплиеров, погрузившей Париж в ужас. Филипп Красивый отличался расточительностью и постоянно нуждался в деньгах. Видимо, это послужило главной причиной нападок на тамплиеров – его основных кредиторов. Филипп затеял перестройку 46 Королевского дворца на острове Ситэ, но не завершил ее. Согласно проклятию Великого магистра Ордена Жака де Моле, он умер в 1314 году. Следующая реконструкция Парижа связана с именем Kарла V. Он укрепил и продолжил стены Парижа, окружив ими предместья, и перебрался в укрепленный Лувр. В это время Париж страдал от засилья бродяг и нищих, превратившихся в настоящих разбойников, обосновавшихся вокруг Двора Чудес, который столь красочно изобразил Виктор Гюго. Следующая эпоха развития Парижа связана с именем Людовика XI, одного из самых прославленных и коварных королей Франции. В период его правления страна, несмотря на невероятные трудности, расширялась. К Франции были присоединены провинции Мэн, Анжу, Прованс и Бургундия, в основном благодаря удачным брачным союзам. Но «король-скряга», хотя и значительно укрепил саму Францию, мало внимания и денег тратил на свою столицу. В эпоху Ренессанса преобразился Лувр. Спроектированный архитектором Пьером Леско и скульптором Жаном Гужоном, Лувр превратился в подлинный шедевр и сокровищницу мирового искусства, особенно когда король Франциск привез после смерти Леонардо да Винчи его знаменитую «Джоконду». Париж оставался грязным городом в период религиозных войн, сотрясавших Европу и Францию. Кульминацией борьбы между католиками и протестантами стала Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 года, когда в Париже произошло избиение гугенотов, собравшихся там по случаю свадьбы Генриха Наваррского. Впоследствии именно Генрих Наваррский и стал французским королем, сменив веру и произнеся знаменитую фразу: «Париж стоит мессы». В течение многих лет Париж оставался затрапезным средневековым городом, полным грязи и болезней. Одной из самых страшных болезней была чума, свирепствовавшая по всей Европе. Подлинное возрождение города 47 произошло при Генрихе Наваррском, взошедшем на престол под именем Генриха IV. Прежде всего, Генрих снес все средневековые кварталы – источник грязи и эпидемий. Затем он достроил Новый мост, начатый еще Генрихом III и сохранившийся до наших дней, затем он соединил Лувр и дворец Тюильри. Как сказал Хорн, за свои 16 лет правления он сделал больше, чем любой другой властитель, до него или после. После смерти Генриха на трон вступил его малолетний сын Людовик XIII, хорошо известный нам по книгам и фильмам о трех мушкетерах. Но в отличие от своего отца, он не испытывал привязанности к Парижу. Вместо него любовь к городу питал первый министр герцог де Ришелье. Он выстроил для себя великолепный дворец Пале-Рояль, который был настолько хорош и вызывал такую зависть подросшего короля, что герцогу ничего не оставалось, как подарить его монарху. Ришелье создал Французскую академию по защите французского языка, что свидетельствует о существовании проблемы «чистоты языка» в далеком прошлом. За свои тридцать лет царствования Людовик никак не проявил себя ни в архитектурном, ни в градостроительном плане. Первые годы царствования Людовика XIV, «Короля-Солнца», отмечены борьбой с Фрондой во главе с принцем Конде. Фрондеры состояли в основном из парижан, во все времена отличавшихся буйным нравом и склонностью к беспорядкам. Людовик XIV настолько ненавидел Париж и воспоминания о Фронде, что перенес свою резиденцию 6 мая 1682 года в Версаль, в 20 километрах от Лувра. Людовик мало заботился о Париже, но зато о Париже позаботился главный суперинтендант финансов Кольбер. К тому времени стены Парижа утратили свое значение и были снесены. На их месте были проложены Большие бульвары – великолепное место для прогулок, до сих пор остающееся любимым местом парижан. Был построен Дом инвалидов – ставший пристанищем для солдат, изувеченных в войнах. А вот Лувр после 48 отъезда короля запустел. В нем даже разместили зернохранилище и типографию. Следующая масштабная перестройка Парижа произошла только при Наполеоне Бонапарте. Но Наполеону не хватило решимости в борьбе с парижской администрацией. Насколько он был храбр и решителен в битвах, настолько он был нерешителен в деле общения с городскими чиновниками. Большинство проектов Наполеона так и остались незаконченными. Из всех своих величественных замыслов, он реализовал лишь строительство Вандомской колонны из бронзы захваченных у противника пушек и заложил основание Триумфальной арки, которая была открыта лишь в 1836 году при последнем короле Луи-Филиппе. Хотя и сделано было немало. Была проложена улица Риволи, одна из самых богатых улиц Парижа. Была открыта постоянная художественная галерея в Лувре. Наполеону удалось обеспечить парижан свежей водой, но он не сумел решить вопрос с освещением города. По словам Хорна, весь Париж напоминал одну огромную стройплощадку. Что касается населения Парижа, оно устало от бесконечных войн, поэтому с радостью встретило казаков, вступивших в Париж после разгрома Наполеона. Современный Париж обязан своим обликом Наполеону III и префекту барону Осману. Именно они превратили Париж в современный город, снеся только в центральной его части 20000 зданий и построив 40000 новых. Барон Осман действовал решительно и бескомпромиссно. Он получил 2 млн. франков на реконструкцию улиц и 26 млн. на реконструкцию обветшавшего Лувра. Он снес целый район у Собора Нотр-Дам, населенный бродягами и прочим парижским отрепьем, ликвидировал он и хаотичные постройки между Лувром и Тюильри. При Османе Елисейские поля превратились в самый фешенебельный проспект Парижа. Важной составной частью города стало строительство многоквартирных домов и устройство канализации. Осман, уничтожив узкие и кривые улочки Парижа, проложил прямые и широкие проспекты, уничтожив таким образом основу для возведения 49 баррикад, на что обратила внимание королева Виктория, сказав, что улицы Парижа засыпаны щебнем для того, чтобы лишить беспокойных парижан булыжников и сделать их удобными для обстрела из пушек. Осман вновь разделил Париж на город бедных и богатых. Дальнейшая реконструкция города привела к тому, что повышение арендной платы вынудила представителей богемы перебраться из Латинского квартала на Монмартр, который в ту пору еще сохранял остатки сельского пейзажа. Именно туда стали переселяться художники и литераторы. После Османа перестройка продолжилась, но в гораздо меньших масштабах. Были проведены, так сказать, точечные изменения, как строительство Эйфелевой башни, которая, несмотря на гневные протесты ее недоброжелателей, стала символом Парижа, или возведение одного из красивейших мостов – моста Александра III, который заложили президент Франции Феликс Фор и русский царь Николай II. А. Хорн прослеживает историю Парижа и парижан, начиная со дня основания и до эпохи де Голля. Заканчивает он свою книгу описанием кладбища Пер-Лашез, где нашли свое земное пристанище многие известные люди Франции. Но, прослеживая историю Парижа, мы наблюдаем и историю всей Франции, ибо эти две истории неразделимы, так же как Париж и парижане. Парижане всегда отличались строптивым нравом и склонностью к бунтарству. Но, несмотря на это, город привлекает к себе атмосферой дружественности и гостеприимства. Сохраняет свою актуальность выражение «Увидеть Париж и умереть» [Хорн 2011]. 50 Выводы по главе I 1) Писатели документально-публицистического направления изображают город объективно, вносят в свое видение города минимум субъективного. Это позволяет создать наиболее реальный образ города. 2) Писатели-публицисты создают гуманистический портрет города, исследуя его историко-культурные составляющие, создавая благоприятный имидж города. 3) Гораздо привлекательнее культурологический образ Парижа. Париж – город, о котором написано больше, чем о любом другом городе мира. О Париже писали Хемингуэй и Виктор Некрасов, Бальзак и Генри Миллер, Илья Эренбург и Алексей Толстой, Виктор Гюго и Эрих Мария Ремарк. Этот город стал родным и узнаваемым даже для тех, кто никогда его не видел. Париж – живое существо, наделенное душой. Он, то холоден и мрачен, как в творчестве Генри Миллера, то радостен и приветлив, как у Эрнеста Хемингуэя, то притягателен и обманчив, как у Оноре де Бальзака, то радушен и привлекателен, как у Александра Дюма. 4) Парижская тема присутствует практически у всех писателей, даже тогда, когда сам Париж в них отсутствует. Так было с романом Г. Флобера «Госпожа Бовари». Париж является героем произведения, ибо он присутствует в мечтах Эммы Бовари, являясь незримым действующим лицом книги. 5) Парижская тема тесно переплетается с темой урбанистической. Эта тема стала особенно актуальна в литературе XIX века, когда в нее вошла тема буржуазии. Невозможно рассказывать о взаимоотношениях людей, об условиях их жизни, не затрагивая тему города, не передавая его дух, атмосферу, тех тончайших связей, соединяющих его жителей с городом. Город становится живым существом, которое влияет на живущих в нем людей, выделяя в них лучшее и худшее. 51 6) Прослеживая историю Парижа, мы прослеживаем не только историю города, но и историю жизни людей, историю их взаимоотношений, историю их мировосприятия. 7) XIX век – век расцвета буржуазных отношений, век становления буржуазии, век массового переселения крестьян в город. Это и век развития капиталистических отношений, век усиления эксплуатации «маленького человека» со стороны «сильных мира сего». Этот век породил литературу критического реализма, направленную на разоблачение хищнических отношений между людьми. Но это и век сильных личностей, амбициозных честолюбцев, единственной целью которых было завоевать свое место под солнцем, пробиться в круг избранных. Это и век наступления «третьего сословия». Необходимо проследить, как все эти процессы отразила мировая и французская литература, и как они отражаются в образе Парижа. 8) История Парижа начинается с романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Именно в нем мы находим описание древнего Парижа. Для писателей XIX века характерно подробное, детальное изображение реального мира, будь то природа или город. Поэтому Гюго тщательно рисует Париж, до мельчайших подробностей изображая все уголки этого великого города. 52 Глава II. Культурологический образ города в русской литературе 2.1. Город как культурологический феномен Как известно, переход человечества к городской культуре произошел в VII веке до Р.Х. в Восточном Средиземноморье. Именно там мы находим истоки современной цивилизации. Восточное Средиземноморье – самое благоприятное место для развития человечества. Средняя годовая температура там – 23 градуса по Цельсию – признана самой комфортной для человека. Впоследствии человеческая культура распространилась в близлежащие области, а затем и по всему миру. Государства начали складываться вокруг городов. Нам хорошо известны города-полисы Древней Греции и их роль в формировании человеческой культуры. Затем пришла oчередь Древнего Рима, который распространил городскую культуру на все завоеванные им провинции. Но далеко не все народы любили города. Кочевые племена, составившие империю Чингисхана, или племена англов и саксов, завоевавших Британию, разрушали города, считая их рассадником порока. Как бы то ни было, города развивались, и без них трудно вообразить историю человечества. Как заметил Ф. Бродель, оценивая роль городов в истории Европы, «город – новая судьба мира, он беспрестанно вершит жизнь людей, открывая двери того, что мы зовем историей» [Бродель 1986, 509]. Город формирует свою собственную культуру. Повышенный интерес к городу, к городской жизни обозначился еще в XIX – начале XX века. В середине прошлого века сформировалась специальная наука – «урбанистика». Эта наука занялась исследованием проблем, связанных с географическим, демографическим, социологическим, архитектурным, историческим положением города. Однако урбанистика оказалась не в состоянии ответить на все социально-культурные вопросы, возникающие в связи с понятием «город». Вот почему урбанистика вошла в тесный контакт с культурологией. 53 Если урбанистика занималась «предметным» изучением города и городской жизни, то культурология рассматривала эту проблему в целом, в социальнокультурном ракурсе. Изучение города с культурологических позиций предполагает его исследование как феномен, в совокупности всех его проявлений, как целое. Культурологический подход позволяет рассматривать город в его ипостасях: древний город, средневековый город, современный город. На Руси древние города связаны с северной славянской культурой. Первые города возникают на пути «из варяг в греки» и связаны с образованием Новгорода Великого и Пскова. Древнерусская эпоха послужила развитию древнерусского государства, укреплению его внутренних и внешних связей. Древнерусский город являл пример и древней демократии. В Новгороде было место для сбора горожан, служившее местом для решения насущных городских проблем. Но распространенное мнение, что вече объединяло всех жителей города, является ошибочным. На вече могло уместиться не более 50 человек, так что это собрание предназначалось лишь избранным. Есть существенное отличие между терминами «город» и «городище». Городище – это предвестник города, его укрепленная часть. После того, как в город назначался князь или посадник, для него строили Кремль. Возле Кремля продолжал строиться город. Есть еще обстоятельство, которое отличает древнерусский город от городов Западной Европы. Город, имевший окончание «бург», не подчинялся местным правителям – князю, графу или шерифу – только королю. Показательно, что Великий Новгород также не имел князя. Горожане «приглашали» князя, заключая с ним своеобразный контракт. В случае нарушения этого контракта или ввиду недовольства жителей города, князь изгонялся. Так произошло и с Александром Невским вскоре после его победы над шведами. 54 Интересно отметить, что в скандинавском языке существовало слово “gardar”, образованное от русского «град». Новгородскую Русь скандинавы называли «гардарикой» – «страной городов». Это является подтверждением тому, что Русь изначально имела города, а вовсе не была окраиной цивилизации. Постепенно на Руси начинает формироваться «городская культура». В город потянулись жители окрестных деревень, формируя цех ремесленников, мастеровых, обслуги. Наиболее расторопные выбились в «гости» – торговый люд – купцов. Набирает силу процесс урбанизации. «Культура города» является особой категорией, обозначающей созданную людьми искусственную среду обитания, включающую в себя такие компоненты, как традиции, нормы и ценности, образ жизни, менталитет. Выделяется три типа городской культуры. Первый тип возник в древности и объединял традиционную городскую культуру периода доиндустриального общества. Второй тип связан с индустриализацией. В Западной Европе точкой отсчета является 1688 года – период «Славной революции» и окончательной победы буржуазии. В России – период, последовавший за отменой крепостного права. Второй этап связан с резкой урбанизацией, с ростом численности в городах, с притоком сельских жителей. Третий этап знаменует победу урбанистической культуры, вернее урбанистической цивилизации, и характерен для постиндустриального общества, который в США и Западной Европе наступил во второй половине ХХ века, а в России – в конце века прошлого и начале века нынешнего. Но ростки урбанистической цивилизации мы находим еще в конце 20-х – 30-е годы ХХ века. Наиболее полно и ярко этот процесс нашел отражение в произведениях западных писателей – Ж.П. Сартра и Г. Миллера, а первым писателем, выразившим угрозу наступления урбанистической цивилизации в своем творчестве, был Максим Горький. Особую категорию представляют «мигранты». Как правило, их привлекают очень большие города: Лондон, Париж, Нью-Йорк или Москва. 55 Там им легче всего найти работу. Там они востребованы. Было бы куда легче решить проблему мигрантов, если бы жители больших городов согласны были выполнять ту работу, которую они выполняли 20-30 лет назад. Сейчас им такая работа кажется непрестижной, тяжелой. Проблему решают мигранты: они согласны на любую работу и за меньшие деньги. Они, как правило, образуют землячества и живут компактно в городах Западной Европы и США. В Москве таких районов, где бы представители иного народа жили бы обособленно, нет. Но это вовсе не значит, что мигранты ассимилируются с местным населением. Они превращают отдельные общежития, рынки и просто здания в свои «независимые» территории, куда нет доступа даже полиции. И в этом состоит немалая опасность. Это, прежде всего, касается представителей народов Юго-Восточной Азии и арабского мира. Там они устанавливают свои законы, живут по своим обычаям. Государство и местные власти борются с нелегальной эмиграцией, но как-то очень вяло. Это попустительство властей может дорого обойтись и государству, и государствообразующему народу, не говоря уже о глубинных городских традициях, «душе города». При неконтролируемой миграции события могут развиваться по «хазарскому варианту». В результате смешения несмешиваемых культур мы получим город-химеру, а позднее и народхимеру. А это уже очень опасное состояние… Горожане всегда свысока относились к сельским жителям, «деревенщине». Однако среди горожан во второй половине ХХ века отмечается «рурализация», то есть стремление приобрести недвижимость за городом, в сельской местности. Но этот процесс в Западной Европе, особенно в Англии, коренным образом отличается от России. Если в Англии, где 80% населения живет в городах, иметь загородный дом означает приобщиться к избранным, то в России этот процесс до недавнего времени был связан с чисто практическими интересами: получить дополнительную возможность обеспечения себя продуктами питания. В Англии владение землей означает высшую роскошь и ценность, а единственные траты, на которые англичане не 56 жалеют денег, – обустройство собственного дома. Непременным условием существования дома является собственный садик. На этом участке земли не выращивают огурцы, помидоры или картошку, только – цветы или другую декоративную зелень. Сад в представлении англичанина – это зеленый газон, на котором стоит, в лучшем случае, набор для барбекю. С недавних пор эта тенденция наметилась и в России. По мере роста благосостояния русские также предпочитают на природе «отдыхать». Но в последнее время с Запада к нам «перебралась» еще одна тенденция – «дауншифтерство». Это, как правило, вполне состоявшиеся в городе люди, с неплохим материальным достатком, которые бросают престижную работу и карьеру и переходят на, так называемый, более низкий уровень жизни. Такое поветрие началось на Западе и распространилось на нашу страну. Наиболее яркий пример «дауншифтерства» – Герман Стерлигов. Горожан можно разделить на три категории: «старые» горожане, несколько поколений которых прожили в городе; горожане в первом поколении и вчерашние жители деревень, совсем недавно переехавшие в город. Как правило, именно от первой категории идут собственно городские традиции, и они определяют лицо города. Что касается лиц третьей категории, именно они являются носителями деревенского уклада жизни. Причем в худшем понимании этого слова. Они демонстративно не хотят соблюдать и уважать традиции города, не привыкнув к городскому укладу жизни. Еще одним отличием горожанина от сельского жителя являются развлечения. Профессор Е. Дуков в своем интервью «От Рима до дискотеки», данном А. Константинову замечает, что еще Аристотель противопоставил «развлекающегося» жителя полиса «неотесанному» крестьянину. Главное качество горожанина, как считал великий мудрец, остроумие и утонченность, в то время как сельского труженика отличают серьезность и неспособность понять тонкую шутку. То есть урбанизация – это не просто переселение людей из деревни в город, это процесс трансформации личности человека, 57 наделение его качественно новыми свойствами. Макс Вебер определял город как «рыночное поселение», а это означает, что поведение горожан диктует рынок. В нем отсутствует сакральное начало, а присутствует свобода выбора, в том числе и развлечений. Концепция времени у горожан тоже отличается от понятия сельского жителя. У сельского труженика понятие свободного времени практически отсутствует. Оно определяется надобностью: рано ложиться и рано вставать. Это наложило свой отпечаток и на семейную жизнь, семейные ценности. Для крестьян характерны ранние браки. У них развлечения существуют лишь в ранней молодости, до брака. Парень приводит в дом жену-труженицу, жену-помощницу по быту. В городе же развлечения четко отделены от работы и занимают гораздо более важное место в жизни. Сельские жители едут в город не в последнюю очередь от скуки сельской жизни. Вот почему «развлечениями» занята более возрастная категория жителей. Для горожан характерна более ранняя половая жизнь и более позднее вступление в брак. Русская молодежь переняла у западной обычай иметь «гёл-» или «бойфрэнда». Такие отношения ни к чему не обязывают партнера. Брак заключается обычно после 30, после чего «заводятся» дети. Такая практика не только разрушает традиционные устои русской семьи, но и отрицательно сказывается на детях. Поэтому мы видим большое количество мам, больше похожих на бабушек, в городах Западной Европы и США. Видимо, скоро мы увидим такую же картину в городах России. Продолжая тему развлечений и возвращаясь к статье А. Константинова «От Рима до дискотеки», скажем, что дискотека – это пляшущая толпа одиноких. Здесь мы обращаемся к очень важной теме – одиночества в толпе, одиночества в городе. В деревне одиночества практически нет. Даже будучи один, человек связан с огромным внешним миром, с природой тысячью незримых нитей. В городе одиночество ощущается по-другому. Даже на дискотеке человек остается одинок. Как замечает А. Константинов, «Дискотечные танцы – это танцы в одиночку… В этом измененном 58 пространстве-времени человек получает возможность спрятаться в толпе, «быть собой». То есть осмыслить и ощутить свое я. Здесь господствует автокоммуникация – общение индивидуальность как раз с и самим собой. рождается в А таком человек как пространстве самоопределения» [Константинов 2010, 2]. В этом интервью за верным посылом следует ложное утверждение. Человек развивается только в обществе. Вне общества человек развивался бы как животное и никакого «самоопределения» не наступило бы. Дискотека – это одна из форм ухода от общества. Попытка «скрыться в толпе». Но это только один взгляд на современную дискотеку, так сказать, пессимистический. Другой взгляд – дискотека – это модернизированные танцы. Действительно, на дискотеку можно прийти с друзьями или одному, но встретить там друга или подругу и уйти вместе… Точно так же и город. Его можно рассматривать с точки зрения отчуждения, а можно – гуманистически. «Душа города» раскрывается в зависимости от взгляда автора на окружающую действительность [Набилкина 2011, 353-355]. 2.2. История русского мегаполиса Киев, Москва, Петербург – три города, неразрывно связанные с историей нашей страны. К ним следует прибавить и Новгород Великий или, как его называли, «господин Великий Новгород», основанный выходцем из южной Дании князем Рюриком. Он был приглашен славянами – жителями Ладоги со словами: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Приходи и владей нами». Эта фраза, которая больше тысячи лет довлела над умами россиян, кажется нам весьма сомнительной, ибо в те далекие времена был обычай приглашать князя на «владение» тем или иным местом, как в настоящее время приглашают «внешнего управляющего», с которым заключают контракт «на управление». Точно так же, как «умелый администратор», и был приглашен Рюрик. Кстати, эта ложно понятая фраза, 59 дала основание западным историографам перевести слово «славяне» как «рабы» (от латинского «clave»), а не «славный», как считал Н.М. Карамзин. Дружина Рюрика состояла из «варягов», или «викингов». Но кто такие викинги? Норманны, русы или даны - история до сих пор не может ответить на этот вопрос. Норманны – «люди севера», варяги или викинги – скорее не этническая принадлежность, а социальная общность, связанная общим ремеслом – грабить и убивать. Русы, или руссы, – название северного племени варягов. Даны – жители Скандинавии. Кстати, по внешнему виду славяне очень напоминали варягов – такие же рослые, светловолосые, с голубыми глазами. Внешность славян изменилась только после татаро-монгольского нашествия – завоеватели сильно разбавили славянскую кровь. В «Повести временных лет» так говорится о призвании варягов на княжество: «Поищем себе князя, который управлял бы нами и судил по праву. И пошли искать к варягам, к руси, ибо так звались те варяги – русь, как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие готы, эти же – так» [Се повести временных лет 1993, 49]. Мы не будем оспаривать слова летописи, но наша точка зрения высказана выше. Но летопись прямо отвечает на один очень важный вопрос: «Кто такие русы?». Так что выведение этого названия от речки Рось на границе Скифии не имеет под собой реальных доказательств. Утвердившись в Новгороде, Рюрик стал распространять свое влияние на юг. По легенде, донесенной до нас летописцем Нестором в «Повести временных лет», место для основания Киева выбрал сам Андрей Первозванный. Дойдя до гор на берегу Борисфена-Днепра, он сказал сопровождавшим его ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия» [Повесть временных лет 1994, 45]. Как и предсказывал апостол Андрей, на этом самом месте князь Кий и основал город. В 879 году Рюрик умер, и его место занял родственник Олег. Но его отношения с новгородцами не сложились, и он был вынужден оставить Новгород, взяв с собой сына Рюрика Игоря. Это еще раз подтверждает нашу версию о «контракте» и «нанятом» князе: жители Новгорода могли сместить 60 князя, если он по тем или иным причинам переставал их удовлетворять, как это позднее произошло с Александром Невским. Отправившись в Киев, где уже правили дружинники Рюрика, он обманом захватил власть в городе. После этого в Киеве утвердилась целая династия Рюриковичей – Игорь, Святослав, Владимир, Ярослав, – вписавшая не одну славную строку в историю славян. С принятием христианства Киев сыграл особую роль в объединении славян и превращении их в единый народ. Киевская Русь времен князя Владимира представляла мощное государство со своими геополитическими особенностями. Оно лежало на пути «из варяг в греки» и испытывало сильнейшее влияние и тех, и других. Владимир был язычник. Его дружина, так сказать, «ближний круг», была весьма пестрой по этническому составу. Основу ее составляли викинги. В свою очередь, викинги, как уже было отмечено, представляли не народность, а социальную общность, объединенную общим ремеслом и образом жизни. Это были выходцы из разных народов и племен, в основном из Скандинавии. Их основное занятие была война и грабительские набеги на соседей. Недаром их называли «бич Божий». Викинги были и варяги, и русы, и даны, и северные славяне. На своих лодьях-драккарах они прошли через всю Европу до Константинополя и наводили ужас на все народы, включая бриттов и франков. Они захватили Лондон и Париж. Они почитали разных богов: от Одина и Тора до Перуна, Велеса и Сварога. Несмотря на кажущееся единство и могущество, Киевская Русь стояла на грани распада, подобно некогда грозной Хазарии, ибо и этнически, и религиозно она была слишком разобщена и превращалась в этническую химеру. В поисках единого бога Владимир обратился сначала к культу Перуна, но в глазах многочисленных языческих этносов, населяющих Русь, Перун не был предпочтительнее старых богов и был отвергнут. Таким образом, для укрепления державы Владимиру пришлось выбирать одну из трех мировых 61 религий: христианство, ислам или иудаизм. Создатель романа-реконструкции «Илья – богатырь» Б. Алмазов пишет: «Ошибка в выборе веры грозила гражданской войной и полным развалом государства – пострашнее развала общества в Хазарии» [Алмазов 2005, 18]. Несколько лет князь Владимир примерял новую веру к Руси. Иудаизм был отвергнут практически сразу, ибо перед глазами князя стоял печальный опыт Хазарии, где верхушка общества, его властные структуры исповедовали именно эту религию, а большинство населения были либо христианами, либо мусульманами. Христианство западноевропейского толка означало полное подчинение Римскому Папе и рыцарям-крестоносцам, которые видели в славянах только объект подчинения и уничтожения (как это уже случилось с пруссами), а не равных себе братьевхристиан. Оставались либо ислам, либо, так называемая, «греческая вера» – христианство неустрашимого византийского толка. Ислам воина Владимира своей привлекал свирепого воинственностью и и строгим порядком. Но весь предыдущий опыт и образ жизни князя противился принятию мусульманства. Долгие годы язычества уже приучили князя к многодневным пиршествам и застольям, также как и любовным утехам, а ислам требовал отказа от вина. Лучше всего Владимиру и его подданным подходила «греческая вера», да и в Киеве уже много лет жили в пещерах многочисленные монахи-отшельники, а среди киевлян с каждым днем становилось все больше христиан, получивших веру от византийцев. Поэтому обращение к Царьграду – Константинополю отвечало как потребностям самого князя и княжеской дружины, так и самих киевлян. В отличие от Хазарии, где верхушка общества исповедовала иудаизм, а основное население принадлежало к другим конфессиям, старшая дружина князя, состоящая из варягов-руссов, приняла христианство и тем самым сплотилась со славянами. По мнению Б. Алмазова, выраженному в художественной форме, «с крещения исчезает племенное различие между степняками и киевлянами, ибо в то время вопрос, какой ты веры, означал – и кто ты, и с кем ты?» [Алмазов 2005, 129]. С принятием христианства уходят в 62 прошлое и языческие имена, типа Фарлафа или Первуши, на смену им приходят Федоры, Петры и прочие имена христианских святых. Христианство сплачивало многочисленные славянские племена древлян, полян, кривичей, радимичей, дреговичей с финно-угорскими племенами - меря, морома, вятичами и степными народами – половцами и печенегами, восточными тюрками и хазарами. Новая религия несла и новую мораль, основанную на любви к ближнему, а не на ненависти и вражде к «иному – чужому», создавая новое государство с единой верой и верховной властью – Русь. Таким образом, новое христианское государство вливалось в русло христианской цивилизации, утрачивало свою варяжскую деструктивную основу, особенно ярко проявившую себя при первых русских князьях Олеге, Игоре и Святославе, которые отличались особой воинственностью и кровожадностью. Вот как, опираясь на древние летописи, описывает их грабительские походы на Константинополь первый русский историограф Н.М. Карамзин в «Истории государства российского»: «Они плавали в крови несчастных, терзали пленников, бросали живых и мертвых в море. Так некогда поступали гунны и народы германские в областях империи, так, в сие же самое время, норманны, единоземцы Олеговы свирепствовали в Западной Европе. Война дает право ныне убивать неприятелей вооруженных, тогда была она правом злодействовать в земле их и хвалиться злодеяниями. [Карамзин 2000, 48]. Недаром древний летописец сравнивает Олега и его сородичей с представителями других деструктивных империй – гуннов и норманнов, ибо языческая Русь являла собой тот же пример. Став христианином, Владимир неузнаваемо преобразился. Из свирепого язычника он превратился в добродетельного мужа и мудрого правителя. Мудрость отца перешла к сыну Ярославу, получившему прозвание Мудрый и значительно укрепившему русское государство, продолжив созидательную политику своего отца князя Владимира. Он во многом укрепил геополитическое положение Руси, особенно ее внешнеполитические связи, выдав своих дочерей за иноземных владык. 63 «Матерью городов русских» назвал Олег Киев. И действительно, он блистал на протяжении IX-XI веков в созвездии русских городов. Но в XII веке с нашествием татаро-монголов слава Киева гаснет, и постепенно на небосклоне загорается новая звезда – Москва. Москва была образована на месте села Кучково и получила название от реки Москвы. Происхождение этого слова явно не славянское, финноугорское. Как указывается в «Неофициальной истории России», «ва» – означает «вода», а «Моск» – требует уточнения. По мнению ряда ученых, «Москва» означает «топкая, болотистая, мокрая». Первое упоминание о Москве мы находим в Ипатьевской летописи в связи с тем, что шестой сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий призвал в свою вотчину Москву своего союзника князя Святослава и дал в его честь 28 марта 1147 года «обед силен» [Неофициальная история России 2006, 39]. «Само слово «город», или «град», означало в Древней Руси «прочно огороженное, укрепленное место, военное поселение». В центре города строилась цитадель – детинец, с середины XIV века называемый Кремлем. Такой «детинец», превращающий село в город, и был заложен над Москвойрекой, на одном из семи холмов – Боровицком, где стоял густой сосновый бор» [Там же, 47]. После 1453 года Москва стала центром не только русских земель, но и всего православного мира. После брака Ивана III с греческой царевной Софьей к этому явились серьезные предпосылки. Константинополь-Царьград был захвачен турками, а Рим был под властью католической церкви. Единственной православной столицей оставалась Москва, поскольку Киев после разорения его татаро-монголами утратил свое значение как христианского центра, к тому же он находился под властью Речи Посполитой. В этой геополитической ситуации один из самых образованных людей своего времени инок Псковского Елезаровского монастыря Филофей начал обширнейшую переписку с жившим в Пскове царским дьяком Михаилом Мунехиным. В своем третье послании, написанном в 1523 году, которое было 64 передано государю московскому Ивану III, он обосновал свою концепцию превращения Москвы в Третий Рим. «Все христианские царства пришли к концу, и сошлись в едином царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, и это – Российское царство; ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать. Христианские царства затоплены неверными, и только одного государя нашего царство одно благодатью Христовой стоит» [Неофициальная история России 2006, 84]. Для превращения Московского княжества в православное царство, в наследника Византии, были предприняты следующие шаги: в 1472 племянница последнего византийского императора выходит замуж за московского Великого князя, в 1454 году московское княжество берет себе в качестве государственного герба герб Византии – двуглавого орла, в 1497 году утверждается герб Москвы – Георгий Победоносец на груди двуглавого орла, в 1495 году завершается строительство московского Кремля. И наконец, уже при Иване Грозном происходит знаменательное событие – венчание на царство в 1547 году, а в 1589 году Русь обретает своего Патриарха. Таким образом, Москва получила все права быть объединительницей не только всех русских земель, но и всех православных славян. Попытки объединить все православные народы вокруг Москвы предпринимались неоднократно, но как-то не очень настойчиво. При Иване Грозном Русь едва преодолела раздробленность и боярскую вольницу. К тому же, молодой царь Иван был вынужден вести тяжелую борьбу с Казанским ханством, отражая исламскую экспансию. После смерти Ивана IV последовала смута, и Руси было не до сплочения христиан. Еще одна попытка была сделана при Алексее Михайловиче Тишайшем и патриархе Никоне, когда произошла сверка церковных книг для того, чтобы устранить разночтения. Эта попытка вызвала Раскол внутри самой русской церкви. Еще одна попытка была сделана уже в наше время при И.В. Сталине, но она тоже потерпела неудачу. 65 Тем не менее, в глазах славян, и тем более в глазах всего православного мира, Москва всегда была центром истинной веры и средоточием суверенной политики, не зависимой ни от Рима, ни от Стамбула, а позднее ни от Лондона и Вашингтона. «Эти события означают, что говорить о развитии византийской идеи после падения Константинополя невозможно без точного понимания того, что отныне византизм стал государственной идеологией Московской Руси, оправдывающей ее внешнюю и внутреннюю политику» [Малер 2005, 136]. И все же в истории России был период, когда она отказалась и от идеи Третьего Рима, и от Церкви, и от своей столицы – Москвы. Это было переломное время – эпоха Петра Первого. «Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и сильной рукой написал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу», – сетовал великий русский мыслитель П.Я. Чаадаев [Чаадаев 1989, 14]. Но давайте разберемся, почему «царь-реформатор» решил осуществить столь крутые меры, изменив историю России. С первых лет своей жизни Петр видел засилье бояр и власть стрельцов. Его первые детские впечатления связаны со стрелецкими бунтами и чудовищным страхом. Затем бегство из Москвы в Троице-Сергиеву лавру. Первое Великое Посольство и вновь стрелецкий бунт. Казни около Кремля. Бунт Церкви против его реформ. Заговор церковников против Петра во главе с царевичем Алексеем. Церковь, Москва и русская косность объединились для Петра в одно целое. Отсюда идет его желание – бежать из Москвы, отрешиться от прошлого и утвердить будущее. И как некогда Москва в глазах Киева представлялась «у черта на куличках (кулишках)», на сей раз там же строилась на невских болотах новая столица – Петербург. В топонимике Москвы до сих пор сохранились «болотные» названия – Болотная площадь и церковь на «кулишках». После взятия у шведов невского устья Петр самолично обследовал эти места и выбрал чрезвычайно удобное с геополитической точки зрения и 66 чрезвычайно неудобное в градостроительном смысле место для строительства нового города – топкие, изрезанные протоками берега Невы. «С Петра начинается санкт-петербургский период русской истории, в котором застает нас тысячелетие русского государства. Разрыв с народом, движение России по пути западной цивилизации под воздействием иного просветительского начала, измена прежним основам жизни, поклонение внешней силе, внешней правде; одним соловом – вся ложь, все насилие дела Петрова, – вот чем окрещен был городок Петербурх при своем основании. Вот что легло во главу угла при созидании новой столицы», – писал в своей книге «Петербург и Москва» известный славянофил И.С. Аксаков. [Аксаков 1963, 16]. Личность Петра до сих пор вызывает противоречивые споры у ученых и самых разных людей. Такие же споры вызывают и разговоры о значении Москвы и Петербурга. Был ли прав Петр, основав город там, где финские колдуны и чародеи предрекали, что «Петербургу пусту быть». Ведь вопреки всему он стал одним из самых красивых городов мира. Наверное, ни один город не собрал столько отрицательной энергии, как Петербург. Соперничество между двумя столицами не прекращается и поныне. Вот как отозвался о Петербурге и роли Петра известный религиозный философ А. Малер в своей книге «Духовная миссия Третьего Рима» (2005), рассуждая об исторической преемственности государственных символов России: «Знамена Московской Руси – темно-красные, багряные, или, по-другому, пурпурные. Петр I, ненавидящий Москву и Церковь, отказался от такого знамени и ввел полуголландский триколор, ставший символом русского самоотрицания» [Малер 2005, 192]. Как бы то ни было, историческая справедливость восторжествовала, когда в 1918 году большевики, может быть и не по своей воле, перенесли в Москву столицу нового русского государства, а Петербург и Петр были воспеты великим Пушкиным. 67 Таким образом, мы рассмотрели, какую огромную роль сыграло становление крупных русских городов в истории нашей страны и в формировании ее культурологического облика в целом [Набилкина 2012, 371376]. 2.3. Москва и Петербург Петра Великого Москва времен Петра Первого изображена в одноименном романе Алексея Толстого. Ее изображение дается в нескольких планах: как первопрестольный град, как средоточие боярской власти, как Кукуй – Немецкая слобода, как город, в котором молодой царь Петр хочет, но не может «расправить крылья» под звон «сорока сороков» и неусыпным взором Патриарха и Боярской Думы. Москва-столица показана глазами двух крепостных. Москва поражает приезжих шумом, толкотней, людскою массой: «Гогот, хохот. свист… Переехали мост через Яузу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками меж зубцов. В Мясницких низеньких воротах – крик, ругань, давка, – каждому надобно проскочить первому, бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом» [Толстой 1981, 30-31]. Писатель разворачивает перед читателем всю панораму Москвы, показывая ее с разных сторон. «За воротами Земляного вала ухабистая дорога пошла кружить по улицам, мимо высоких и узких, в два жилья, бревенчатых изб. Везде – кучи золы, падаль, битые горшки, сплошное тряпье – все выкидывалось на улицу» [там же, 32]. Неуютно чувствуют себя приезжие в этом людском аду: «Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку, - как только жив остался! Выехали на Мясницкую… Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам: ох, ты!» [там же, 68 33]. Так и вспоминаются поговорки: «Москва бьет с носка» и «Москва слезам не верит». Москва мало похожа на стольный город: «Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых лавчонок перегибались, кричали купчишки, ловили за полы, с прохожих рвали шапки, – зазывали к себе. За высокими заборами каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки. Церквей тысячи. И большие пятиглавые, и маленькие – на перекрестках – чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные нищие трясут лохмотьями, хватают за ноги, гнусавя, заголяют тело в крови и дряни… Прохожим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то – калач закушу… Тучи галок над церквушками…» [Толстой 1981, 31]. Возникает ощущение, что это не столица русской земли, а восточный базар. Если бы не православные церкви, то ощущение было бы полным. Разве это «Святая Русь?». Создавая запоминающийся образ Москвы, Толстой развенчивает именно Церковь. В глазах писателя Церковь – не хранительница русского духа, русского самосознания, а воплощение всего мрачного, безалаберного, косного. И «страшноглазые попы» вполне соответствуют и кучам золы на улицах, и купчишкам, ловящим покупателей за полы, и нищим, протягивающим свои культи, и тучам галок, роем закрывающим небо. C запруженных народом улиц мы переносимся в чинные покои умирающего царя. Но и здесь мы видим жарко горящие свечи и темные лики святых: «В низкой, жарко натопленной палате, лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем: райских птиц, завитки трав. Под темными ликами образов, на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич» [Толстой 1981, 33]. Уходит эпоха. Уходит стародавняя Русь. Наступает новая эпоха, эпоха Петра. 69 «Мужик с поротой задницей ковырял кое-как постылую землю. Посадский человек от нестерпимых даней и поборов выл на холодном дворе. Стонало все мелкое купечество. Худел мелкопоместный дворянин. Истощалась земля… Торговлишка плохая. Своему много не продашь, свой – гол. За границу много не повезешь, – не на чем. Моря чужие. Все торги с заграницей прибрали к рукам иноземцы…. Что за Россия, заклятая страна, – когда же ты с места сдвинешься?» [там же, 62-63]. Страна, погибающая от нищеты, ждала перемен. И перемены эти были связаны с новым царем. А что Петр? На кого и на что опереться молодому холерику? На государственную машину, состоящую из приказов, дьяков и стрельцов? Толстой рисует нам картину одного из приказов: «В сводчатых палатах Дворцового приказа – жара, духота – топор вешай. За длинными столами писцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. В чернилах – мухи. На губы, на мокрые носы липнут мухи. Дьяк наелся пирогов, сидит на лавке, в дремоте» [там же, 85]. Нет, на приказы опираться нельзя – погубят любое дело. Может быть, на стрельцов? Но и на них нет никакой надежды: восставали не раз, держась за старое. Да и сестрица Софья имеет в стрельцах сильную поддержку. Остаются Боярская Дума и Патриарх. Вот как описывает заседание Боярской Думы Толстой: «В паникадилах горели свечи. Бояре сидели по скамьям… Легко стало боярам. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу» [там же, 113]. А решали они вопрос серьезный: где взять денег на новое войско для похода против Турции. «В этот день боярская Дума окончательно ничего не приговорила…», – пишет Толстой [Толстой 1981, 114]. Конечно, надо сделать поправку на время, в которое создавал свой роман Алексей Толстой. Время Сталина, который восхищался двумя русскими царями – Иваном Грозным и Петром I. Оба царя вели борьбу с боярской вольницей, как сам Сталин вел борьбу с ленинской «гвардией», со старыми большевиками. Изобразить бояр в карикатурном виде – была задача политическая. Может, дело было не так, и бояре не только «пускали злого духа в шубу», но и решали важные государственные дела без 70 спешки, как и подобает мудрым государственным деятелям. Но что молодому Петру было трудно опираться на знатные роды – не вызывает сомнений. «Патриарха ввели под руки. Благословляя старую царицу с братом и бояр, сурово совал в губы костяшками схимничьей руки. Царя Петра все еще не было. Иоаким сел на жесткий стул с высокой спинкой и низко склонился – клобук закрыл ему лицо…Жар шел от синей муравленой печи, пахло ладаном и воском. Было первым и важнейшим делом – так сидеть в благолепном молчании, хранить чин и обычай. Об эту незыблемость пусть разбиваются людские волны – суета сует. Довольно искушений и новшеств. Оплот России здесь, - пусть победнее будем, да истинны… А в остальном бог поможет…» [Толстой 1981, 184-185]. Снова духота, жар, косность. Нет, и на патриарха нет надежды. Оставалось одно – иноземцы. Вот на них-то и остановил свой выбор Петр. На Кукуе, в Немецкой слободе все было по-другому. И водяная мельница, которая делает несколько дел сразу, и зрительная труба, через которую видишь и море, и горы, диковинный музыкальный ящик, и даже младенец в спирту. Иная необычная атмосфера привлекла молодого царя. И Россия, по воле Петра, повернула в сторону Запада. Историки спорят о том, не поспешил ли Петр, утратив свой «русский путь». Но могла ли Россия оставаться в окружении врагов, продолжать влачить жалкую долю третьесортной страны, раздираемой иноземцами? Петербург вырастал из Потешной крепости – Прешбурга. Построенный по планам Франца Лефорта и Симона Зоммера, он являл неприступную крепость. Недаром закладка Петербурга началась со строительства Петропавловской крепости. Да и строительство гвардии, взамен ненадежных стрельцов, началось с потешных полков – Преображенского и Семеновского. А Москва продолжала хранить верность старому укладу. На этот раз мы видим ее глазами князя Романа: «У Спасских ворот, в глубоком рву, где надо льдом торчали кое-где сгнившие сваи, Роман Борисович увидел десятка два саней, покрытых рогожками. Понуро стояли худые лошаденки. Мужик на 71 откосе лениво выкапывал пешней примерзший труп стрельца. День был серый. Снег – серый. По Красной площади, по навозным ухабам, брели сермяжные люди, повесив голову. Часы на башне захрипели (а, бывало, били звонко). Скучно стало Роману Борисовичу. Возок проехал по ветхому мосту у Спасских ворот. В Кремле, как на базаре, ходили в шапках. У изгрызанной лошадьми коновязи стояли простые сани… Стеснилось сердце у Романа Борисовича» [Толстой 1981, 318]. Как мало это похоже на столицу. Толстой несколько раз дает читателю описание Кремля. И каждый раз подчеркивает одну и ту же сцену: серые тучи и труп. «По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы – по два столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами» [там же, 43]. И пусть мы видим эту картину уже не глазами князя, а простых крепостных, дворовых, пейзаж от этого не меняется. Патриархальная Москва никак не годилась для Петра. Надо было строить новую столицу. На Руси закладывалась новая социальная общность «птенцов гнезда Петрова». Эта общность складывалась из людей дерзких, смелых, предприимчивых. Из людей, так необходимых новой России. А таким людям была нужна и новая столица. «Россия – золотое дно – лежала под великой тиной… Если не новый царь поднимет жизнь, так кто же?» [там же, 175]. На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. [Пушкин 1988, 1, 83]. Эти строки знакомы нам с детства. Великий Пушкин с детальной точностью рисует нам открывающийся перед Петром пейзаж. Действительно, 72 в устье Невы были лишь бедные рыбачьи хижины – «приют убогого чухонца», да мшистые, топкие острова, на одном из которых была заложена Петропавловская крепость. Легенда гласит, что Петр штыком сам вырезал из дерна крест и на этом месте был срублен из бревен первый форпост России на Балтийском море. Строительство Петербурга шло в чудовищных условиях. Тысячи и тысячи крестьян со всех губерний России легли в болотистую землю. Может быть, поэтому лапландские колдуны предвещали городу скорую гибель. Сам Петр приезжал в город собственного имени довольно редко; всеми работами руководил Александр Данилович Меншиков. Но как бы то ни было: Прошло сто лет, и юный град, Полнощных стран краса и диво, Из тьмы лесов, из топи блат Вознесся пышно, горделиво; ХХХ По оживленным берегам Громады стройные теснятся Дворцов и башен; корабли Толпой со всех концов земли К богатым пристаням стремятся; В гранит оделася Нева; Мосты повисли над водами; Темно-зелеными садами Ее покрылись острова, И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова. [Пушкин 1988, 1, 85-86]. Далее идет поэтическое объяснение в любви великого поэта городу. Наверное, никто не выразил так сильно свою любовь к «Петра творенью», как 73 это сделал Пушкин. Как ни парадоксально, в нашей литературе, почему-то, сложилось скорее негативное, чем позитивное отношение к этому поистине сказочному по красоте городу – Северной Венеции. Возьмем, к примеру, самый известный роман о Петербурге Андрея Белого с одноименным названием. «В самой острой форме роман «Петербург» противостоит «Медному всаднику» Пушкина и одновременно продолжает и развивает его идеи. Не случайно, Белый, сам поэт, отвечает Пушкину прозаическим произведением», – заявил в предисловии к роману Д.С. Лихачев. [Белый 1981, 3]. «Петербург» пронизан духом Петра Великого. Образ Петра связан в романе двояко: с «Медным всадником» и «Незнакомцем». «С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как бросил коня на финляндский серый гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа – Россия» [Белый 1984, 98]. Россия неразрывно связана с именем Петра. Но эта связь неустойчива. Петр воздвиг Петербург по примеру западных городов – рационально. Но проектировали Петербург иностранцы. Если верить легендам, то многие проектировщики и архитекторы Петербурга были масонами и значительное количество зданий носят на себе масонские знаки. Петербург не похож на остальные русские города. И это подчеркивает Белый: «Что есть русская империя?» – задает вопрос автор. И отвечает: «Русская Империя наша есть географическое единство… Русская Империя наша состоит из множества городов: столичных, губернских, уездных, заштатных; и далее: из первопрестольного града и матери градов русских. Град первопрестольный – Москва; и мать градов русских есть Киев» [Белый 1981, 5]. Город пронизан проспектами, прямыми улицами, кубами зданий. И самый важный – Невский проспект. «Невский проспект – немаловажный проспект в сем не русском – столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную 74 кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург» [Белый 1981, 6]. Петербург стоит между Востоком и Западом, вернее он сам и Восток, и Запад. Точно так же и Петр соединил в себе и Восток, и Запад. С присущим Востоку жестоким деспотизмом, он повернул Россию к Западу. Но поворот этот оказался незавершенным, незаконченным. «Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву два задних», – утверждает Белый [Белый 1984, 98]. Однако положение это неустойчиво: конь вот - вот рухнет в бездну. Почему же Петербургу, да и всей России, грозит гибель? Андрей Белый связывает это с Петром I. Кто такой «незнакомец», разгуливающий по Петербургу? То ли это восставший из мертвых сам Петр, то ли это сам Дьявол. Истина как всегда лежит где-то рядом. «Летучим Голландцем» называет Петра писатель. А ведь матросы этого корабля – мертвецы. Андрей Белый, вернее Николай Васильевич Бугаев, был сыном профессора математики, и, видимо, поэтому Петербург в его глазах – сочетание линий, квадратов, параллелепипедов, треугольников и кубов. «А там были – линии, Нева, острова. Верно в те далекие дни, как вставали из мшистых болот и высокие крыши, и мачты, и шпицы, проницая зубцами своими промозглый, зеленоватый туман», – так видится город Белому [Белый 1981, 16]. Несмотря на всю реальность, Петербург эфемерен, соткан из облаков и туманов. И живут там люди-призраки, пирующие в «адских кабачках». «На теневых своих парусах полетел к Петербургу оттуда Летучий Голландец из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли и назвать островами волну набегающих облаков; адские огоньки кабачков двухсотлетие зажигал отсюда Голландец, а народ православный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую заразу… Поотплывали темные тени. Адские кабачки же остались. С призраком долгие годы бражничал православный народ: род ублюдочный пошел с островов – ни люди, ни тени, - оседая на грани двух друг другу чужих миров» [Белый 1981, 75 16]. Мало кто из русских писателей так уничижительно отзывался о русском народе. В 1922 году Белый значительно переработал роман, сократив его примерно на треть и убрав наиболее одиозные замечания о русском народе (читай – пролетариате), что было вызвано, по-видимому, «политической целесообразностью» после прихода к власти большевиков. Незнакомец идет по Васильевскому острову. И снова здесь все напоминает о Петербурге Петра. Здесь живут петербуржцы с зелеными, бледными лицами. Живут они в огромных серых домах с черными, грязноватыми лестницами и дверями, дверями, дверями. Жители островов живут на Линиях. «Линии! Только в вас и осталась память петровского Петербурга. Параллельные линии на болотах провел Петр; линии те обросли то гранитом, то каменным, а то деревянным забориком… Лишь здесь, меж громадами, остались петровские домики; вон – бревенчатый; вон – зеленый; вот – синий, с ярко-красной вывеской «Столовая»… Оттуда вонзается Петербург и проспектными стрелами, и ватагою каменных великанов; ватага та великанов бесстыдно и нагло скоро уже похоронит на чердаках и в подвалах всю островную бедноту. Оттуда вставал Петербург; из волны облаков запылали там здания; там, казалось, парил кто-то злобный, холодный; оттуда, из воющего хаоса, уставился кто-то каменным взглядом, в туман выдавался черепом и ушами» [Белый 1984, 19-20]. Далее Белый прямо-таки обрушивается на жителей островов, предупреждая Россию об их опасности. Он провидчески чувствовал ту трагическую роль, которую сыграют петербуржцы в судьбе России. Но кто такие жители островов, «островитяне», как их называет Белый? Ведь это потомки тех неведомых строителей Петербурга, чьи кости гнили в его болотах. И «адские кабачки», которые заманивали людей – порождение Петра, который, возможно, таким способом пытался отвлечь рабочих от дум об их печальной участи. Петр – восточный деспот, который сам рубил топором головы своим подданным. Россия – страна, привыкшая к «твердой руке», к деспотизму. 76 Через «азиатчину» Петра связан с ним заглавный персонаж Аполлон Аполлонович Аблеухов – потомок мурзы Аб-Лая, а теперь сенатор и глава Учреждения. В нем Россия вновь соединяется с Востоком и Западом. Аполлон – имя западное, Аб-Лай – восточное. «Желтая опасность» угрожает России. Но, с другой стороны, Россия – наследница империи Чингисхана, как Аблеухов – его потомок. Русский геополитик П.Н. Савицкий считал татаромонгольское иго не столько несчастьем, сколько благом, ибо оно сплотило Русь, объединило этносы, проживающие на территории Руси, в единый русский народ, возвысило Московское княжество, превратив Русь в Россию. По мнению Савицкого, нет России европейской, как и нет России азиатской. Есть единая Россия – евразийская. Доминирующий цвет романа – желтый, цвет «желтой опасности». Создается впечатление, что ты читаешь не роман столетней давности, а исследование Сэмюэля Хантингтона о противостоянии христианства и ислама, о противоборстве Востока и Запада. Город в романе персонифицирован: «Хмурился Летний сад». Даже в нем создается ощущение холода, смерти: «Летние статуи поукрывались под досками; серые доски являли в длину свою поставленный гроб; гробы обстали дорожки; в них ютились нимфы и сатиры, чтобы снегом, дождем и морозом не изгрызал их зуб времени, потому время точит на все железный свой зуб: а железный зуб равномерно изгложет и тело, и душу, и даже самые камни… Сам Петр насадил этот сад…» [Белый 1984, 144]. В романе обречено на гибель все, что связано с именем Петра. И неважно, от чего произойдет эта гибель: от революции или от терроризма, от бомбы, заключенной в коробку сардин. Холодом и смертью веет от романа. Как была «унижена» Москва в романе «Петр Первый», так и «унижен» Петербург в романе Белого. Этот роман содержит больше вопросов, чем ответов. Андрей Белый – писатель-модернист. Идеи модернизма носятся в воздухе, поэтому роман «Петербург» создается практически одновременно с «Улиссом» Д. Джойса. Эти романы похожи даже по стилистическим приемам: 77 та же игра с цветом, со словами, с образами. Так же географически четко и достоверно прописан сам город. Тот же философский подтекст. Речь идет не о контактном сближении, а о типологическом. Недаром замечательный знаток и русской, и зарубежной литературы В.В. Набоков сравнивал эти два романа. «Петербург в «Петербурге» Белого не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, то есть весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе и именно благодаря этому роман Белого приобретает актуальнейшее значение», – писал Д.С. Лихачев. [Белый 1981, 4]. Но классик русской литературы был бы забыт, если бы не поисковая деятельность видного русского критика и исследователя литературы Л.К. Долгополова. Именно он вернул писателя из литературного забытья. Таким образом, мы показали, как похоже раскрывают тему города два столь разных писателя – реалист А.Н. Толстой и модернист Андрей Белый [Набилкина 2012, 188-196]. 2.4. Трагедия «маленького» человека в большом городе Трагедия «маленького» человека в «большом» городе долгое время была центральной в мировой, особенно в русской литературе. Первыми, кто затронули эту тему, были А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Великий русский поэт первым противопоставил «маленького» человека Евгения с его наивной и простой любовью величественному владыке царю Петру. Трагедия Евгения разыгрывается на фоне не менее величественного города – города Петербурга. Впоследствии царь Петр явился героем многих произведений, также как и его памятник, но первым, кто обратил внимание на причудливость этого монумента, был Пушкин. Памятник этот насыщен масонской символикой, как и многие другие творения петербургских архитекторов и скульпторов. Наверняка, поэт знал об этом, а так как он сам был мистиком, это обстоятельство не могло пройти без его внимания. 78 В обстоятельной статье, посвященной замыслу поэмы «Медный всадник», Н.В. Измайлов передает рассказ о видении некоего майора Батурина, явившегося в приемную князя А.Н. Голицина и поведавшего ему свою историю. Кстати сказать, сам Голицын был масоном. Перед нашествием Наполеона майору приснился дивный сон. Во сне ему явился Петр Великий на коне и сказал: «Что вы сделали с Россией?» Но пока его памятник стоит на месте, с Россией ничего не произойдет. После этого рассказа Александр I отменил свое распоряжение о переносе памятника в более безопасное место. Петербург всегда оставался мистическим местом, порождающим многочисленные мифы. «Медный всадник» – один из них. Широко известен рассказ самого Павла I о странном видении. Будто он шел по набережной Петербурга, когда его догнала огромная фигура в плаще. Павел узнал в незнакомце своего великого предка. «Бедный, бедный Павел», – произнесла фигура. Вскоре Павел I был задушен заговорщиками. Пушкин живо интересовался жизнью и деятельностью Петра. Несколько раз приступал к «Истории Петра», но не смог завершить ее. После его смерти Жуковский пытался напечатать отрывки из «Истории», собрав их воедино. Но ему было «высочайше» отказано из-за «неприличных» замечаний, касательно фигуры Петра, сделанных Пушкиным. Что касается «Медного всадника», то и он при жизни Пушкина не увидел свет из-за многочисленных «поправок», сделанных Николаем I. Как бы то ни было, личность Петра привлекала внимание Пушкина и являлась предметом его творческих намерений. С 1820 года в творчество Пушкина входит новая тема – тема «ничтожных героев». Типичным примером является Иван Петрович Белкин – ничем не примечательный человек, мелкий помещик, бывший гусарский офицер, поселившийся в своем имении и изнывающий там от скуки. Таким «ничтожным героем» является и Евгений. Он где-то служит, живет в затрапезном уголке и мечтает жениться на простой, скромной девушке. Но в 79 одно мгновенье его мечты о счастье разбиваются в прах. Причина тому наводнение в Петербурге. Потрясенный гибелью своей возлюбленной, Евгений винит в ее смерти «кумира на бронзовом коне» и, сойдя с ума, бросает ему обвинительные слова. Если Петр ассоциируется с величественным Петербургом, то Евгений – с маленьким домиком в Коломне, ставшим его могилой. Для приверженцев царя-реформатора Петербург явился олицетворением «новой России». Для них возведение «Северной Пальмиры» оправдано, несмотря ни на какие жертвы. Хотя Пушкин по-человечески сострадает своему «ничтожному герою», его симпатии на стороне Петра, поэтому он показывает, как нелеп и жалок Евгений после брошенного Петру вызова. Это не гордый Дон Гуан перед Командором, а ничтожный жалкий беглец, ужаснувшийся своей дерзости. На смену Пушкину пришел Н.В. Гоголь. Его критика Петербурга стала еще более резкой. Для него этот город – воплощение обмана. Рисуя Невский проспект, он рисует всю построенную по ранжиру Россию. Россия для него одна сплошная лестница чинов, лестница, ведущая на «свой» этаж. Гоголь изображает Невский проспект в разное время суток. Каждый раз он заполнен разными сословиями: нищие, гувернеры, курьеры и, наконец, чиновники: титулярные и надворные советники, губернские и коллежские секретари и регистраторы. Вот о таком чиновнике и повествует рассказ «Шинель». Акакий Акакиевич Башмачкин обязан своим именем отцу – Акакию. Из всех нелепейших имен, полагавшихся младенцу по святцам, его мать выбрала наименее нелепое – имя отца. Внешностью он обладал зауряднейшею: «низкого роста, рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным» [Гоголь 1977, 263]. Дослужился Башмачкин к пятидесяти годам до титулярного советника, но доверяли ему одно только «переписывание». Делал, однако, он это отменно и 80 даже находил в своей работе особый смак. «Вряд ли можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью» [там же, 265-266]. Одно обстоятельство начало огорчать его с некоторых пор: его шинель. Сукно на шинели истерлось донельзя. Он хотел перелицевать шинель. Но вердикт портного Петровича был суров и окончателен: нельзя. После приговора Петровича начались долгие и мучительные раздумья Акакия Акакиевича: как выкроить на новую шинель. Наконец, он решился и вместе с Петровичем приступил к поискам сукна и прочей фурнитуры для вожделенной шинели: «Купили сукна очень хорошего – и немудрено. Потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавку применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо нее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали всегда можно было принять за куницу» [Гоголь 1977, 269]. Гоголь просто таки «живописует» процесс покупки всего необходимого для «строительства» шинели. И сукно-то самое лучшее, и кошка-то лучше куницы, и коленкор-то лучше шелка. И вот, наконец, шинель готова. В «Шинели» нет широкой панорамы Петербурга, но весь чиновный Петербург как на ладони. Изображение лестницы – непременный рефрен рассказа. Вот Башмачкин поднимается по черной лестнице к Петровичу на четвертый этаж, а вот он поднимается по парадной лестнице с фонарем к чиновнику, который устроил чаепитие, на второй. Башмачкин идет к чиновнику, который живет в «лучшей части города», по улицам, сначала пустынным, с редкими фонарями, а затем по улицам, которые сделались шире и освещались лучше. На них появились прохожие с бобровыми воротниками, и даже дамы. Придя к чиновнику, он вновь увидел шинели с бобровыми воротниками и даже с бархатными отворотами. Конечно, на их фоне его 81 шинель с кошкой явно проигрывала, но все ее очень хвалили, и от этого Акакий Акакиевич пришел в очень возбужденное состояние, а два бокала шампанского привели его почти в эйфорическое настроение. Но вот пришла пора возвращаться домой. «Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже – масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею» [Гоголь 1977, 280]. Гоголь с небывалым искусством нагнетает мрачную атмосферу. Это уже не блистательный Невский проспект, а какая-то глушь, недостойная великого города. Здесь-то, у Калинкина моста, и отобрали шинель у бедного Башмачкина. Потрясенный таким злодеянием, он стал добиваться справедливости и даже осмелился надоедать своей ничтожной просьбой некоему «значительному лицу», однако безрезультатно. В конечном итоге он, то ли от огорчения, то ли оттого, что простудился без шинели, умер. «И, Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было» [Гоголь 1977, 287]. «Вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели». Эти слова подчеркивают значимость этого, казалось бы, проходного рассказа. «Ничтожные герои» одержали верх над князьями и прочими аристократами, над «романтическими героями», которые властвовали в литературе до этого. Гоголь, с его язвительностью, вскрыл язвы и пороки российского общества и самого блистательного русского города – Петербурга. На смену ему пришла целая плеяда писателей во главе с М.Е. Салтыковым-Щедриным, который своим «Городом Глуповым» продолжил гоголевские традиции. 82 2.5. Город Мастера Роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», наверное, самый загадочный в русской литературе. Задуманный в 1929 году, в самый разгар строительства социализма, когда вся советская литература славила «стройки коммунизма» и прославляла строителей «нового светлого социалистического завтра», роман буквально «выламывался» из советской литературы, впрочем, как и все творчество настоящего русского писателя. Чего только стоит его «Собачье сердце». Да и «Белая гвардия», и пьеса «Дни Турбиных» мало походили на произведения советского художника слова. Если бы не явное покровительство Сталина, Булгакову вряд ли удалось избежать ГУЛага. А тут еще роман о похождении Сатаны в Москве, и явный намек на Иисуса Христа, выведенного под именем Иешуа Га-Ноцри. Роман был чрезвычайно дорог Булгакову. Он очень тщательно работал над ним. Осталось восемь полноценных редакций романа, и каждая не уступает окончательному варианту. Среди многочисленных названий нет одного, хотя оно напрашивается и есть в тексте романа – «Евангелие от Сатаны». Некоторые литературоведы считают именно Сатану, а не Мастера или Маргариту, главным героем романа. Сатана приходит в Москву, чтобы посмотреть, как изменились люди за две тысячи лет со дня рождения Христа и изменились ли вообще. Вывод Воланда, под таким именем он фигурирует в романе, неутешителен: «они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… ну легкомысленны… ну, что ж, и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… квартирный вопрос только испортил их» [Булгаков 1987, 101]. Таким образом, Москва и москвичи также являются героями романа. И героями немаловажными. Прием, когда Город и горожане становятся героями произведения, далеко не нов в литературе. Впервые «колорит места и времени» был обоснован Виктором Гюго в предисловии к драме «Кромвель» (1827). Данный прием усиливал правдивость детали в 83 произведении. Видный литературовед и культуролог М.М. Бахтин ввел в научный оборот понятие «хронотоп», подчеркивающий взаимосвязь времени и пространства. С тех пор данный прием занял одно из ведущих мест в литературе. Париж для многих писателей стал местом сосредоточения событий и героев. Нечто подобное произошло и с другими писателями. Петербург для Достоевского, Лондон для Диккенса, Прага для Кафки, вымышленные места – округ Йокнопатофа для Фолкнера, Уайнсбург для Шервуда Андерсона, Зенит для Льюса, Гиббсвилл для Джона О’Хары, хутор Татарский для Шолохова стали той «маленькой почтовой маркой», тем «космосом романиста», на который указывал Уильям Фолкнер. Таким местом стала для Булгакова Москва. Но не вся Москва, а Москва, ограниченная с одной стороны Тверской, а с другой – Кропоткинской набережной, Садовым и Бульварным кольцом. Давайте, как в романе Джойса, пройдем по булгаковскому маршруту. Роман начинается сценой на Патриарших прудах: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина» [Булгаков 1987, 3]. Это были председатель правления МАССОЛИТа Берлиоз и поэт Иван Бездомный. Именно здесь состоялась их беседа об Иисусе Христе с «иностранцем» – Воландом – Сатаной, здесь «Аннушка разлила масло». И здесь произошел трагический инцидент, положивший начало всем странным случаям в Москве: «Трамвай накрыл Берлиоза. И под решетку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной. Это была отрезанная голова Берлиоза» [там же, 37]. Едва оправившись от этого ужасного зрелища, Иван Бездомный пустился в погоню за «иностранцем», видя в нем главного виновника смерти Берлиоза: «Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спиридоновке. Сколько Иван не прибавлял шагу, расстояние между преследуемыми и им ничуть не сокращалось. И не успел поэт опомниться, как после тихой Спиридоновки очутился у Никитских ворот, где его положение 84 ухудшилось. Тут была толчея. Иван налетел на кой-кого из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка к тому же решила применить излюбленный бандитский прием – уходить врассыпную. Иван увидел серый берет в гуще в начале большой Никитской или Герцена… И двадцати минут не прошло , как после Никитских ворот Иван Николаевич был ослеплен огнями Арбатской площади… Опять освещенная магистраль – улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженка и еще переулок, унылый, гадкий и скупо освещенный» [Булгаков 1987, 40-41]. «Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара… резною чугунной решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепное отделение летнего ресторана с парусиновым тентом. Дом назывался «Домом Грибоедова». [там же, 43]. Сейчас это здание Литературного института. Наконец, «Нехорошая квартира – Большая садовая, 10, №. 50, (Садовая, 303-бис): «в большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице». «Надо сказать, что квартира эта – № 50 – давно пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией…; из этой квартиры люди начали бесследно исчезать», – замечает автор. [там же, 60]. Подобный намек более чем красноречив. Слишком много квартир, из которых бесследно начали исчезать люди, стало в Москве в 30-е годы. Арбат… Именно над Арбатом и его переулками летала на «щетке» Маргарита: «Третий переулок вел прямо к Арбату. … Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном лете, у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат, она немного промахнулась и плечом ударилась в какой-то освещенный диск, на котором была нарисована стрела… Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и 85 вливались в огненные пасти ночных магазинов… Она пересекла Арбат, поднялась немного повыше, к четвертым этажам, и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами» [Булгаков 1987, 188-189]. Это, несомненно, театр Вахтангова. «По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в земной черноте, вспыхнуло новое озеро электрического света и подвалилось под ноги летящей… – Города.! Города! – прокричала Маргарита» [там же, 194]. Москва выглядит прекрасным городом ночью, когда не видно ни коммунальных квартир, ни обшарпанных стен, ни людской сутолоки. Но не одна Москва является героем романа, но и москвичи. В большинстве они ютятся в тесноте квартир, когда-то принадлежащих одной семье и впоследствии разделенных на десятки маленьких комнатушек с одной единственной огромной кухней и туалетом. Это обстоятельство и породило печальное замечание Воланда, что «квартирный вопрос» испортил нравы москвичей. Давайте посмотрим, как же они жили… В основном население Москвы состояло из жителей окрестных деревень и приезжих, согнанных в столицу Гражданской войной и начинавшейся «индустриализацией». «Новое» население столичного города и принесло с собой дух «общежития», дух «коммунальности», а следовательно, кухонные склоки, подслушивание и зависть. Об этом периоде жизни москвичей без прикрас рассказал Б. Ямпольский в романе «Арбат, режимная улица». Но и роман Булгакова добавляет в этот портрет немало свежих красок: «В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз» [Булгаков 1987, 41]. Следует добавить, что ванная комната тоже была одна, и пользовались ею по очереди, причем, как и все «общественные места», считалась «ничьей» и поэтому не убиралась, а если и убиралась, то крайне плохо. «На Ивана 86 пахнуло влажным теплом, и при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот в этой ванне стояла голая гражданка в мыле и с мочалкой в руках… Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич. Но признаться в этом он не пожелал и, воскликнув укоризненно: «Ах, развратница!..» – тут же зачем-то очутился в кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами не вытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и в паутине висела забытая икона…» [там же, 42]. Вот в подобной обстановке и жило большинство москвичей. Но не все москвичи жили так… Были и москвичи, которые ходили в «Варьете» (ныне сад «Аквариум»), «отоваривались» в «Торгсине на Смоленском» (ныне «Гастроном № 2») и обедали в лучших ресторанах. Вот как описывает Булгаков «Торгсин»: «Сотни штук ситца богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой потрепанной туфле, а левую – в новой сверкающей лодочке, которой они топали озабоченно о коврик. Где-то за углом пели и играли патефоны» [Булгаков 1987, 38]. «Торгсины» сменили «Березки», и избранные москвичи вновь покупали там дефицитные товары, а на входе по-прежнему стоял швейцар и проверял, есть ли у входящих валюта. А другие москвичи имели возможность «откушать» «балычок особенный» и «филейчик из рябчиков». Маргарита живет вдвоем с мужем в прекрасном особняке, где они занимают целый этаж, а талантливейший Мастер ютится в подвале… Две Москвы существовали одновременно в разных плоскостях. Москва сравнивается с библейским Ершалаимом. Почему это происходит? Работая над романом, Булгаков немало времени и труда 87 посвятил изучению Иерусалима, историческому и топографическому. Изучая Иерусалим, Булгаков как бы давал освещение и истории человечества в ее исторической перспективе, вернее в ретроспективе. Давая описание толпы, с любопытством наблюдающей за казнью над Иешуа, писатель дает нам описание толпы, жаждущей бесплатных нарядов и духов «из Парижа». И делает вывод: ничего не изменилось за две тысячи лет. Не изменился и режим личной власти. Эта параллель была более чем опасна… В статье И.Л. Галинской «Ершалаим и его окрестности» мы узнаем, на какие источники опирался Булгаков при изображении Иерусалима. Конечно же, писатель не мог изобразить столицу Иудеи «топографически точно», вопреки мнению ряда исследователей, ибо ни карт города, ни достоверных сведений о расположении многих объектов не сохранилось. Как известно, Иерусалим был полностью уничтожен римлянами в 70 году н.э. во время Иудейской войны. Но Булгаков максимально достоверно воспроизвел описание города, исходя из многих исторических источников, в том числе преподавателя Оксфордского университета А. Эдершейма «Жизнь и время Иисуса Мессии», Г. Гретца «Истории евреев», А. Ревиля «Иисус Назарянин», «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона – самого авторитетного и популярного издания царской России. Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат ненавидит Ершалаим. Причину его ненависти установить трудно. Разве можно ненавидеть столь прекрасный город с его садами, дворцами, мостами и прочими красотами, столь наглядно выписанными Булгаковым. Может быть, эта ненависть связана с запахом розового масла, от которого постоянно болит голова у прокуратора. А может быть, он ненавидит это город из-за людей, живущих в нем. Ведь не пройдет и четырех десятков лет, и римляне сожгут город по причине восстания евреев, таких покорных и смиренных на вид, но дышащих ненавистью внутри. Понтий Пилат не может не ощущать этой ненависти, как не может не чувствовать запах розового масла, вызывающего у прокуратора нестерпимую головную боль. А может быть, эта ненависть порождена 88 чувством непреходящей вины за то, что в скором времени ему предстоит обречь на мучительную казнь праведника? Как бы то ни было, мы видим перед собой великолепный город, залитый праздничными огнями, с окнами, ярко освещенными пламенем светильников, и людьми, сидящими за нарядно убранным «столом, на котором лежало мясо козленка и стояли чаши с вином меж блюд с горькими травами». Но даже Иуда старается побыстрее выбраться из этого праздничного города и чувствует облегчение, вырвавшись из «душного города» и почувствовав «одуряющий запах весенней ночи». Так и Маргарита покидает Москву и летит по ночному весеннему небу, ощущая рвущую душу свободу. События, описанные в романе, совершаются в пасхальную неделю. Именно в это время происходит прощание героев с Москвой: «Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекой город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря» [Булгаков 1987, 302]. Именно тогда происходит перевоплощение героев, и они приобретают свой истинный облик. Один из исследователей темы города в творчестве Булгакова В.Н. Топоров предложил два образа города – город «прославленный» и город «проклятый». Москва и Ершалаим объединяют оба начала. Величие обоих городов – несомненно, но и их «проклятость» налицо. В обоих городах творится История, и оба этих города становятся ареной жизненной драмы героев [ Набилкина 2013, 197-203 ]. 89 2.6. Культурологический образ Москвы – дегуманизированный и гуманистический Несмотря на то, что Москва является одним из красивейших городов мира и удобнейшим для проживания, в художественной литературе ее образ далек от положительного. Он стоит в одном ряду с городами, негативные образы которых запечатлели в художественной прозе ведущие писатели современности. Кто будет спорить, что Париж – прекрасный город? Но под пером Генри Миллера это чудовищный город, также как и Нью-Йорк. Кто спорит, что Дублин благороден и гостеприимен? Но эта мысль исчезает под пером Джеймса Джойса. Кто подвергает сомнению привлекательность Берлина? Но в романах Ремарка он производит холодное, мрачное впечатление. Эту цепь негативного восприятия величественных городовмегаполисов можно продолжать достаточно долго. Как известно, тенденция отчужденного, дегуманизированного восприятия городов пошла от Э. Верхарна и его поэтического сборника «Города-спруты» (1895). Ее подхватил М. Горький с его неприятием городов. Апофеозом неприятия стал памфлет «Город Желтого дьявола» (1906-1907), создающий до предела отталкивающий образ Нью-Йорка. Город как культурологический феномен создавался Д. Джойсом и Дос Пассосом в их романах «Улисс» и «Манхэттэн». Приблизительно в это же время в русской литературе появился роман «Москва» Андрея Белого. Роману «Москва» предшествовал роман «Петербург», созданный в той же деструктивной манере. Оба города в романах обречены на гибель. Если гибель Петербурга предопределена его геометрическим расположением, его правильными улицами и устремленными к центру проспектами, его «иностранностью», то Москва гибнет от паучьих сетей, опутавших ее, от жирующих монстров, гуляющих по Кузнецкому, Столешникову и Пассажу. В Москве есть красивые, широкие улицы с яркими вывесками, сияющей огнями рекламой. Но не они определяют облик этого 90 города. Москва пронизана сетью переулков, которые подобно метастазам, проникли во все ее уголки. Москва гибнет оттого, что профессорский город попал, как в жернова, к торжествующему мещанству. Между тем, Белый не может реально объяснить причину гибели этих городов, надвигающую на них катастрофу. Ведь не революция и не Мировая война виновницы их гибели. Эти мегаполисы обречены, потому что они деструктивны по самой своей природе. «Дома, домы, домики, просто домчёнки и даже домченочки… Тянулся шершавый забор, полусломанный; в слом же глядели трухлявые и излыселые земли; зудел свои песни зловещий мухач; и рос дудочник; пусто плешивилась пустошь; … снова щербастый заборик, с домишкой; хозяин заохрил его: желтышел на пропёке; в воротах – пространство воняющего двора с желклой травкой; дом белый, с замаранным входом, подушками в окнах… Брошенный в лоб Табачихинский переулок таков, граждане! Таким был и остался; нет, желтенький дом – разобрали на топку» [Белый 1993, 23-24]. Вот пассаж, который определяет истинный облик Москвы. Это город переулков. И в центре сидит паук: «Вот «Москва» переулков! Она же – Москва; точно есть паучиная; в центре паук повисающий, – Грибиков; жалким кащеем бессмертным; кругом – жужель мух из паучника; та паутина сплетений тишайшими сплетнями переплетала сеть нервов, и жутями, мглой, мараморохом в центре сознанья являла одни лишь «пепёшки» и «пшишки»… Москва переулков, подобных описанному, в то недавнее время была воплощенной «пепёшкою», опухолью, переплетенной сплошной переулочной сетью» [там же, 166]. В первой четверти 20 века было модно экспериментировать со словами русского языка, придумывая новые и обыгрывая старые. Будучи модернистом, а точнее символистом, Андрей Белый проводил много экспериментов с языком, что придавало роману особый колорит, хотя и усложняло его понимание. 91 В Табачихинском переулке в небольшом, старом домике живет «знаменитый профессор» Иван Иванович Коробков, воюет с мухами и плохо спит по ночам. Иван Иванович – член многочисленных академий и профессор Оксфордского университета – краса и гордость русской науки. А вот в доме с креслами с «золочеными львиными лапочками» и «гладким атласом сидений», живет пройдоха и прощелыга, миллионер фон Мандро, глава «Дома Мандро». Как это напоминает сегодняшнюю действительность, когда профессора получают гроши, а нувориши купаются в роскоши. Белый противопоставляет Москву замшелую, грязную, косную Москве аристократической, богатой и наглой. И неизвестно, какая Москва ему ближе. По его мнению, ни в той, ни в другой человеку жить нельзя. «Они отворили раздранную дверь, из которой полезло мочало; попали в кухню, где баба лицом источала своим прованское масло и где таракашки быстрели, усатясь над краном; тут салился противень. Дом людовал, тараканил, дымил и скрипел; стекла мыли; и пол был заволглый, прикрытый дорожкой коврика с пятнами всяких присох» [Белый 1993, 47], – создает малопривлекательный образ старого московского дома и его обитателей Белый. А вот другая Москва: «Уже издали двигались, перегоняя друг друга, – с Петровки, с Мясницкой, с Арбата, с Пречистенки, Сретенки, - к месту, где все разливалось огнями, где мгла лиловатая, – таяла в свет, где отчетливая таратора пролеток взрезалась бензинными урчами. Ясный Кузнецкий! …Здесь квадратные, черные автомобили, зажатые током пролеток, стеснивши разлив, разрываются громко бензинными фырчами, не продвигаясь, стоят, разверзая огромные очи на белую палочку городового, давая дорогу – все тем же: кокоткам, купцам, спекулянтам, гулякам, порядочным дамам, актрисам, студентам. Не улица – ясный алмазник. А угол – букет цветов. [Белый 1993, 87]. Если в первом пассаже читатель наблюдает унылое, серое существование, то во втором – бьющую во все стороны, насыщенную жизнь. 92 Почему коренной москвич, сын профессора Московского университета, нарисовал такой образ своего родного города. Создание негативного образа «первой столицы» еще можно объяснить неприязнью москвичей к петербуржцам, но такой отталкивающий образ Москвы, на первый взгляд, трудно объяснить. Как, к примеру, прокомментировать такой пассаж: «Грибиков будет беззвучно из ночи смотреть, ожидая каких-то негласных свиданий, быть может – старуху, которая кувердилась чепцом из линялых кретончиков в черненькой кофте своей желтоглазой, которая к вечеру, подраспухая, становится очень огромной старухою, вяжущей тысяченитийный и роковой свой чулок. Та старуха – Москва» [там же, 48-49]. Читаешь, и на ум приходят мифические парки, вяжущие бесконечную нить человечества: неловкое движение рукой – то ли намеренное, то ли случайное, и обрывается жизнь человека, города, целого государства. И кто такой Грибиков? Почему именно он несет гибель городу? Почему он паук, плетущий свою зловещую паутину, в которую попадают все: и профессор Коробков, и Мандро, и все жители Москвы от купцов до студентов и аристократов? Почему именно он ждет встречи с легендарной старухой? Роман полон мистики. Его невозможно воспринимать реально. Идеи носятся в воздухе. Если допустить, что Андрей Белый во время проживания в Германии был знаком с творчеством Кафки, с его романом «Замок», то можно объяснить этот фантасмагорический роман сном. Тогда все встает на свои места. Но это не «сон золотой», о котором писал поэт. Это скорее – кошмар! Вообще роман задает загадок больше, чем дает ответов. На фоне гибнущей Москвы совсем по-другому воспринимаются описания природы. Это как глоток свежего воздуха в душной атмосфере человеческого паноптикума. Возьмем, к примеру, изображение Табачихинского переулка зимой: «Вот и стала Москва-река. Салом омутилась, полуспособная течь: пропустила ледишко: и стала всей массой своей: ледостаем блистающим. Зимами весело! Крыты окошки домов Табачихинского переулка сплошной леденицею: массою валит охлопковый 93 снег: обрастают прохожие им; лют-морозец обтрескивает все заборики, все подворотенки, крыши, подкидывая вертоснежину, щупая девушек, больно ущемливая большой обкладывается палец снежайшими ноги; и дымочком морховатыми подкудрины синий щепастый трубы; заборик; сгребается с крыш; снег отхлопывает от угольного пятиэтажного дома на весь табачихинский переулок: под хлопищем – сходбище желтых и рыжих тулупов – Стужайло пришел: холодай холодаевич» [Белый 1993, 80]. Следует сказать, что Андрей Белый оказал большое влияние на русский язык своей вычурной манерой, создавая экспрессивную картину обыденного, внося многоцветные краски в привычную картину. Сейчас мало кто из писателей и поэтов выражается столь причудливым языком. Столь же проникновенно выражает свои мысли А.И. Солженицын, продолжая эксперимент Белого. Как-то переводчик на чешский Т. Ржезач спросил писателя, что такое «ветрожог», на что тот ответил, что переводчик должен придумать значение сам. Так же у Белого: за причудливой вязью слов создается ощущение, и это ощущение каждый воспринимает по-разному. И такие пассажи о временах года раскиданы по всему тексту романа. Говоря о традициях и преемственности, следует сказать, что у Белого очень сильны гоголевские традиции, на что обращает внимание автор очень глубокого предисловия к роману «Москва» С.И. Тимина. Москва видится Белому в образе коня с «ланьими глазами». Так и Гоголь видел в России «птицу тройку»: но куда мчится эта тройка и кого везет – пройдоху Чичикова, видимо, – это противоречие не давало покоя и Белому. Еще одним светлым пятном служат описания церквей: «Москва! Разбросалась высокими, малыми, средними, золотоглавыми или бесколонными витоглавыми церковками очень разных эпох; под пылищи небесные встали – зеленые, красные, плоские, низкие или высокие крыши оштукатуренных, или глазурью одетых иль просто одетых в лохмотья опавшей известки домин, домков, домиков… – Люлюхинский и Табачихинский с первым, вторым, третьим, пятым, четвертым, шестым и 94 седьмым Гнилозубовыми переулками» [Белый 1993, 24-25]. Церкви неотделимы от этих «поленовских двориков», придающих Москве уют и своеобразие, но никак не вяжущихся с образом столицы. Любой большой художник – провидец. Роман был закончен в июле 1930 года перед началом грандиозной реконструкции Москвы, когда были уничтожены и церковки, и поленовские дворики, и многочисленные московские переулки. И как апофеоз варварского разрушения – был взорван Храм Христа Спасителя, и на его месте появился бассейн с хлоркой, вместо планируемого грандиозного Дворца Советов. Почти через сто лет академик Н.Н. Моисеев выпустит книгу «Судьба цивилизации. Путь разума», где осветит пути развития человечества, в том числе и роль мегаполисов в судьбе человека. Он придет к выводу, что бездумный рост городов грозит человечеству гибелью. Неужели Андрей Белый своим романом «Москва» предвосхитил гибель «хомо сапиенс» в больших городах? Неужели писатель в последний раз предупреждает читателя своей чистой нотой картин природы о приближающемся Апокалипсисе? Видимо, это так, так как нельзя всерьез рассматривать причину гибели Москвы и Петербурга от невнятно прописанной революции или Мировой войны. Другие, внеличные, сверхъестественные силы витают над городами. Недаром Белый заявляет: «Москва над Тартаром». Еще более неприглядной Москва предстает в повести Бориса Ямпольского «Арбат, режимная улица». Книга написана в промежуток между смертью Сталина и смертью самого Ямпольского в 1972 году. Более точно время ее написания установить довольно затруднительно, если не учитывать того обстоятельства, что в ней слились и Кафка, и Сартр, и Хемингуэй, и Камю. Эти книги советский читатель открыл для себя в короткое время хрущевской «оттепели», когда над страной немного приподнялся «железный занавес» и советский читатель был «допущен» к мировой литературе. 95 Книга производит ошеломляюще-гнетущее впечатление. Это уже не советская, а русская литература с влиянием Достоевского и Гоголя. Москва в ней неразрывно связана с образом Сталина. Книга впервые вышла в 1988 году в журнале «Знамя» под заголовком «Московская улица» и обрела свое нынешнее название лишь почти через десять лет, когда она вышла в издательстве «Вагриус». Книга открывается с описания Арбата и прилегающих переулков и переулочков, без которых немыслима старая Москва. Но в эту благостную картину вдруг врывается тревожная нота: «…старый Арбат жил не видной глазу, скрытной, режимной жизнью, где каждый дом, каждый подъезд, каждое окно заинвентариризовано, за всеми следят, всех курируют» [Ямпольский 1997, 20]. В этой строке режет ухо суконное слово, которое и произнести-то трудно – «заинвентаризировано», и этот отечественный «новояз» настраивает читателя на определенный «режимно-канцелярский» лад. Говорят, по Арбату ездил на «ближнюю» дачу Сталин. И день, и ночь в любую погоду стояли вдоль Арбата сотрудники спецслужб, в одинаковых пальто и костюмах – «молчаливая цепочка на Арбате». Далее следует описание огромной коммунальной квартиры и ее обитателей. Доминирует в квартире – Свизляк, который «задавил» всех соседей, в том числе и «тихую и незаметную» Розалию Марковну, которая была в прошлом знаменитой террористкой и даже «раз метала бомбу под карету кровавого губернатора». «Свизляк» - просто сочетание фонем. Но это сочетание производит омерзительное, отталкивающее впечатление. «Те смутные, темные, ледяные дни страха, мертвые дни моей жизни, в расцвете моих молодых, в тридцатипятилетнем возрасте», – отчаянно признается герой. [Ямпольский 1997, 54]. Герой обозначен буквой К. Это говорит о явном влиянии Кафки, на что уже обратил внимание автор вступительной статьи «Система удушья» В. Приходько. Но в повести ощущается не только влияние «Процесса», но и влияние «Замка». Власть бюрократии, аппарата, власть «папки» с неведомыми данными – вот 96 подлинная власть государственной машины. Но в повести слышны и ноты Ж.П. Сартра, его романа «Тоска». «Густая серая тоска сочилась беспрерывно и во сне заполняла всего», – делится своими ощущениями автор-герой [там же, 61]. Но это не та тоска, которую испытывает герой французского писателя. Та тоска идет от бессмысленности жизни, от глобального одиночества, от безысходности экзистенции, когда вокруг тебя нет живых людей – одни мертвецы, которые кажутся лишь себе живыми. Эта тоска идет оттого, что кажется, что тебя вотвот схватят, предъявят какую-нибудь красную книжечку и уведут во мрак, в небытие с допросами и пытками. И эта тоска весь мир окрашивает в серые, угрюмые тона: «Дома на противоположной стороне улицы всплывали, как клякса на промокашке, и вся жизнь казалась тоскливым негативом» [там же, 62]. Ледяным холодом веет от дома, от квартиры, которые герой не выбирает, а приходит туда по ордеру, по разнарядке, как фронтовик: «А тогда замерзший, заматерелый дом встретил нас молчанием. Мы шли длинным пустым коридором, кто-то за дверьми в комнатах возился. Оказывается, это шуршали мыши». [Ямпольский 1997, 63]. Писатель олицетворяет дом, и кажется, что он живой и дышит. «Мы пришли в пустую кухню с огромной, как волейбольная площадка, плитой. Домоуправша открыла плечом дверь в крохотный, темный затхлый коридор, потом еще одну дверь, как в стенной шкаф. И мы вошли в узкую, вытянутую кишкой комнату, серую, потерянную, с каменным холодом и плесенью всех военных зим», – продолжает автор [там же, 64]. «У меня было ощущение, будто я вошел в ледяной морг, где лежал труп времени», – окончательно подводит итог своим ощущениям герой [там же, 64]. Создается впечатление, что дом этот стоит в ледяной пустыне, а ведь он расположился в самом центре Москвы с окошками «на самую шумную в городе площадь». И так же как у Андрея Белого, от чувства полнейшего омертвения, ледяного отчаяния нас спасает природа: «Я посмотрел в окно, там стоял снежный тополь, и на какую-то секунду, пролетело и коснулось, и 97 вольно дохнуло на меня давнее, праздничное детское чувство зимнего рассвета, снежного чуда, чистого белого праздника» [там же, 66]. Природа то вступает в противоречие со сталинской Москвой, то полностью подчиняется ей, отвечает внутренним чувствам героя. Вот К. читает газету: «Арест группы врачей-вредителей». Этому заголовку полностью соответствует природа: «Это был один из тех коротких, серых, жутких дней, какие бывают в декабре – январе, почти не день, а так – клочок дневного света, словно солнцу, небу надоело светить, радоваться и ликовать, и само время на миг смежило глаза, предоставляя людям думать, что они продолжают жить» [Ямпольский 1997, 77]. Но вот К. встречается с девушкой, и все в мире преображается: «Как все просто и хорошо, если вокруг только снег», – думает герой. [там же, 79]. И вдруг радостное ощущение проходит, герою кажется, что за ним следят и собираются арестовать. Тут же картина зимнего утра меняется до неузнаваемости: «И этот день, и яркое, с утра красное зимнее солнце, и розовые полосы на снегу, и белейшие березы, и легкий, пушистый искрящийся снежок, и звуки сочные – все окрасилось в этот серый, мутный, тошнотворный цвет страха и ожидания. Цвет одиночества» [Ямпольский 1997, 80]. Герой К., как в романах Кафки, испытывает ничем не объяснимое чувство вины, но необъяснимое оно лишь на первый взгляд. Вся страна переживала это самое чувство, и, в первую очередь, интеллигенция. «Все время как-то беспокойно, отчего-то тревожно, чувствуешь вину без вины виноватого и ждешь наказания. Наказание неминуемо. Рано или поздно оно придет. Каждое утро – только отсрочка» [там же, 105]. Особенно покафкиански выполнен эпизод с допросом у батальонного комиссара: бессмысленный и ничем не заканчивающийся. Комиссар вышел и не вернулся. Не дождавшись комиссара, К. просто встал и ушел… И только церковь вносит успокоение в душу К.: «Я свернул в темный и пустой Борисоглебский переулок. В церкви Бориса и Глеба шла служба. В мутном свете переулочных фонарей все притихло…Ах, какая снежная 98 глухомань!» [там же, 175-176]. Но вид церкви ненадолго вносит успокоение в душу героя. Чувство страха, безысходности и глубокого одиночества сопровождает К. постоянно. И город этому способствует: «Казалось, сам город, этот древний город, существующий века, приспособился: он стал сумрачным, его вымирающие к десяти часам вечера улицы, мрачные, с оранжевыми муляжами витрин, тускло освещенные кино с одной и той же по всему городу единственной кинокартиной «Чижик», стенды с серыми, похожими друг на друга газетами, тысячи и тысячи раз повторяющийся один и тот же каменный портрет, мертвеющий, затухающий, как у бесконечно больного человека, пульс, приводит в отчаяние» [там же, 184]. Далее следует сцена, наполняющая героя еще большей тоской: «Ночь давит, гнетет, и каменные дома давят и гнетут, и впереди кто-то прячется за выступами и ждет; весь город кажется одной серой, сплошной громадой, из которой никуда нельзя удрать… это налетает, как вихрь. Пустота, оглушительная пустота. Будто из города выкачали воздух, и улица безмолвно и нечаянно уходила вдаль, и дома стояли, как театральная декорация после окончания спектакля, никому не интересная и не нужная… А когда я вышел в центр, меня охватило странное чувство иллюзорности, неправдоподобия и одновременно уже раз где-то виденного, не понятого, не прочувствованного до конца, жуткое чувство, что я не надышался, не выжил все это, а оно уже не нужное мне, в покойницком свете люминисцентных ламп… независимо от меня и не для меня» [Ямпольский 1997, 185]. Только сумасшедший может жить в этом мертвом городе, всего боясь и шарахаясь от первого встречного… Подобные пассажи выстраиваются в бесконечную линию. Вот еще один такой же пассаж: «Я вышел на Кузнецкий мост. Сейчас он был мертв, тяжелые дома с кариатидами нависали над узким ущельем улицы и давили меня, и лишь легкие, изящные куклы в высоких зеркальных витринах Дома моделей легкомысленно оживляли грустную кладбищенско-пустынную улицу, говоря о тщете этой жизни и превращении всего на свете в конце концов в кукольную комедию» [там же, 195]. Роман (или, скорее, повесть по всем жанровым 99 признакам) целиком написан в дегуманизированном стиле отчуждения. Ямпольский решительно отчуждает себя и от сталинской Москвы, и от самого ужасающего режима, где живыми являются только куклы на Доме моделей. Отчужденность чувствуется в каждом слове этого пассажа: «Я пошел по чужой и ненужной мне улице, мимо чужих и ненужных домов, куда-то в даль, ничего не обещающую. Все дома были похожи друг на друга, серые, тошные, и запах исходил от них казарменный, помойный. И только в одном доме на высоком этаже светилось единственное окно, как воспаленный глаз. И казалось, он следил за мной, куда я, туда и он, и некуда было деться от него, ни во тьму, ни в тень, ни за угол. Он проглядывал эту матерую, эту пропащую ночь там, на окраине, где я был не нужен, случаен, неприемлем» [Ямпольский 1997, 80]. Ямпольский оставляет своего героя, а по сути и своего alter ego, наедине с сумрачной, жуткой Москвой, которая могла родиться в сознании, а вернее в подсознании К. Наверное, Ямпольский всю свою жизнь носил этот образ вместе с «неизвестной, неузнанной, упрятанной где-то в серой именной папке» виной, и эти образы отравляли ему всю жизнь. Трудно себе представить большого писателя, который выдавал в свет какие-то проходные книги, типа «Дорога испытаний» и «Мальчик с Голубиной улицы», а свое заглавное произведение «писал в стол», без надежды когда-нибудь увидеть его напечатанным. Тем не менее, мы имеем возможность держать в руках этот труд – о городе и эпохе – и размышлять о трагической судьбе его создателя. Но неужели во всей русской литературе не нашлось писателя, кто бы описал Москву, как она того заслуживает, в светлых тонах? Неужели для всех художников слова она представала в мрачном свете? Конечно же, нет. В радостных красках предстает Москва в творчестве писателя-эмигранта Ивана Сергеевича Шмелева. Вот перед нами рассказ «Москва». Он весь пронизан солнцем, радостью, счастьем. Детские воспоминания о Москве праздничны. Кремль – центр Москвы. Он не пробуждает никаких негативных чувств и эмоций, как, например, у Алексея Толстого в романе «Петр Первый»: 100 «Дубовые ворота в башне всегда открыты – и день, и ночь. Гулко гремит под сводами тележка, и вот он священный Кремль, светлый и тихий-тихий весь в воздухе. Никто не сторожит его. Смотрят орлы на башнях. Тихий дворец, весь розовый, с отблесками от стекол, с солнца. Справа – обрыв, в решетки крестики древней церковки, куполки, зубчики стен кремлевских. Москва и даль» [Шмелев 1989, 245]. Приезжие смотрят на Замоскворечье, соборы, богомольцев. Душу наполняет светлая радость. «Якиманка стоит пустая, светлая от домов и солнца» [там же, 244]. У соборов со всей России собираются богомольцы. Хороши московские соборы: Успенский, Благовещенский, Архангельский. А Иван Великий – «такой великий, больно закинуть голову» [там же, 242]. «Богомольцы все движутся. Пахнет дорогой, пылью. Видны леса. Солнце уже печет, небо голубовато-дымно. Там, далеко за ним, – радостное, чего не знаю, – Преподобный. Церкви всегда открыты. И все поют. Господи, как чудесно!..» [там же, 248]. А вот выдержка из повести «Лето Господне». Повесть эта состоит из небольших рассказов, посвященных жизни России. Один так и называется – «Москва». Мы смотрим на Москву и в распахнутые окна галдарейки, и через разноцветные стекла – голубые, пунцовые, золотые: «Золотая Москва всех лучше», – восторженно восклицает писатель [там же, 607]. Примечателен в этом рассказе образ «отца». Этот подрядчик, казалось бы, далек от поэзии, но он, любуясь с Воробьевых гор раскинувшейся под ним Москвой, что-то шепчет. Оказывается, он шепчет стихи Пушкина, посвященные второй столице, самому русскому из русских городов: «А теперь, на Воробьевке, на высоте, над раскинувшейся в тумане красавицей Москвой нашей, вдруг начал сказывать…– как же хорошо сказывал! С такой лаской и радостью, что в груди у меня забилось, и в глазах стало горячо» [Шмелев 1989, 611]. И читателю передается ощущение тихой грусти и одновременно радости, праздничности, чего-то неповторимого: «Долго стояли мы у окон 101 галдарейки и любовались Москвой. Светилась она в тумане, широкая, покойная, чуть вдруг всплеснет сверканьем. Так бы и смотрел, смотрел… не нагляделся бы» [Шмелев 1989, 613]. И пусть картины Москвы окрашены ностальгией писателя-эмигранта, все же они разительно отличаются от «мертвых» образов Москвы писателей, создающих свои произведения в дегуманизированном стиле. Вообще, Шмелев – один из самых русских писателей, писателей-патриотов, под пером которых восставала Русь-Россия в благолепии и чистоте. Это была та самая Святая Русь, о которой мечтала русская консервативная интеллигенция. Нет плохих городов, тем более городов прославленных, но есть их авторское видение, есть особенный угол зрения художника, из-под которого он смотрит на тот или иной город. И от этого зависит, насколько светлым или мрачным будет его образ. Москва испытала на себе и то, и другое. Но, несмотря на неоднозначность художественного восприятия мастеров слова, Москва остается «матушкой» для всех русских людей, для всего русского народа [Набилкина 2013, 387-395]. 2.7. «Городские повести» Юрия Трифонова Одной из неотъемлемых сторон культурологического образа города является городская среда. Ю. Трифонов как никто мог передать эту самую городскую среду, дух города, его ни с чем не сравнимый аромат. Его повести – «Другая жизнь», «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание» повествуют о конце 60-70-х годах прошлого века, о так называемом «брежневском застое», когда, казалось бы, все шло своим чередом и все было «хорошо»: никого не сажали в тюрьмы, как при Сталине, не было никаких «шараханий» и никто не давил бульдозером картины непонятного содержания, как при Хрущеве, но страна постепенно превращалась в гнилое болото. 102 Герои Трифонова, вернее персонажи, ибо героями их назвать не поворачивается язык, простые москвичи, не очень удачливые, вечно спешащие, вечно занятые повседневными хлопотами, но такие милые и родные, до боли знакомые всем нам. Открывается цикл повестью «Обмен» (1969). Мы узнаем, что мать героя повести Дмитриева тяжело заболела и его жена надумала с ней «съехаться», чтобы не терять квартиру после ее смерти. События в повести разворачиваются в конце 60-х годов прошлого века, и ни о какой «приватизации» еще не слышали. Оказывается, чтобы объединить две квартиры, в то время надо было собрать кучу справок, ходить в ЖЭК и к нотариусу и проделать еще немыслимое количество операций чуть ли не детективного характера. Читатель погружается в тонкости «обмена» тех лет и начинает понимать слова Воланда, что москвичи, в общем-то, «люди как люди», но вот «квартирный вопрос их испортил». Мы попадаем в атмосферу быта того времени, узнаем, что Дмитриев и его жена Лена «спали на широкой тахте чехословацкого производства», что эту тахту они удачно купили три года назад, и она служила предметом зависти всех знакомых, что они являются обладателями «дубового, с резными украшениями» буфета, доставшегося Лене от бабушки. Итак, мы погружаемся в шестидесятые годы, когда все было дефицитом. Дмитриев, в конечном итоге, обменял квартиру. Он потолстел, обрюзг, превратился в какого-то старика. Он больше не вспоминает о романе с его сотрудницей Таней и вполне доволен своей теперешней жизнью. А его мать умерла, и его жена Лена очень довольна, что успела обменять квартиру на Профсоюзной улице до ее смерти. Такой вот незамысловатый сюжет. Продолжается цикл повестью «Предварительные итоги» (1970). Герой повести – переводчик с подстрочника – переводит объемистую поэму в тысячу строк некоего Мансура, которая должна выйти на его родине, в Минске, и, конечно же, непременно в Москве. Этот труд до предела надоел 103 герою, но Мансур платит ему «хорошие деньги», и поэтому тот вынужден при адской жаре, с больным сердцем работать «до упаду». Размышления и воспоминания героя о своей жизни и передает автор. Сам себя герой называет «литературным пролетарием из неудачников, но сумевшим устроиться». Так, почти с первых страниц мы сталкивается с трифоновским юмором, граничившим с сатирой, с насмешкой над своими героями-обывателями. Но от этого стиль писателя только выигрывает. Герой думает о непростых отношениях с женой Ритой, с сыном Кириллом, о запутанных взаимоотношениях с некими Рафиком и Гартвигом, в последнего, как он подозревает, влюблена его жена. Его терзают угрызения совести, оттого что они не взяли назад домработницу Нюру, которая заболела и вряд ли теперь сможет помогать по дому. Все это и составляет смысл «предварительных итогов» героя. Весь цикл называют «городские» или «московские» повести. Почему? Да, потому что главным Героем является Москва. С упоминания Москвы начинается и заканчивается повесть «Предварительные итоги», а сами герои этой и других повестей являются горожанами. В повести мелькают московские названия – Хорошево-Мневники, ГУМ, «улица, которая сейчас не существует», «дом, крепкий, пятиэтажный, построенный в стиле дешевого модерна начала века». В предыдущей повести «Обмен» мы видим Москву с окраины, белеющую «громадными домами на горизонте». И все это придает атмосфере повести особый колорит, узнаваемость, ощущение правды, погружает нас в атмосферу городской, «всамделишной» жизни. Вот герои повести сидят на кухне однокомнатной квартиры Ларисы в «доме-башне у Сокола» и пьют кофе из «болгарских чашечек», и сразу же проникаешься уютом и духом дома. Упоминание, что даже кофе, который в шестидесятыесемидесятые годы был редкостью в провинции, где пили в основном чай, говорит о том, что кухня была любимым местом в СССР, которая служила местом самых доверительных разговоров от политики до самых интимных тайн ее обитателей. 104 Вот герой повести получает вызов к следователю. Этот эпизод напоминает нам Кафку, его роман «Процесс». Получив этот вызов, герой лихорадочно начинает выискивать у себя вину, за которую ему пришлось бы расплачиваться. Ведь он типичный рефлексирующий интеллигент. Так никогда бы не поступил житель села. У селянина конкретно-предметное мышление, и в том числе и этим он отличается от горожанина, и опять же поэтому герой повести близок городскому читателю. Трифонов уловил еще в конце 60-х годов то, чего не было раньше. Все мы дружно что-то строили, куда-то неудержимо шли. Но нам не приходилось «карабкаться», как это приходится делать герою повести. И то были уже первые ростки «застоя», который стал проникать в людские души. Эта тенденция нашла продолжение в его следующих повестях. Повесть заканчивается, как она и начиналась, темой Москвы. Москва, с ее промозглой, холодной осенью, вступает в конфликт с «тропической» погодой в южной республике. Но этот холод действует целительно на героя. Сменив жару на холод, он чувствует себя гораздо лучше, и у него есть шанс и на оздоровление душевное. Третья повесть данного цикла «Долгое прощание» (1971) повествует о судьбе пары, то ли супружеской, то ли, как сейчас принято говорить, находящейся в гражданском браке – актрисы Лялечки и журналиста Гриши Реброва. Повесть открывается воспоминанием о месте, «где сейчас стоит восьмиэтажный дом, в первом этаже которого помещается магазин «Мясо». Раньше, чтобы купить мясо, надо было «ехать далеко – трамваем до Ваганьковского рынка», а теперь такая необходимость отпала, и стало очень удобно. «Но сейчас, к сожалению, они там не живут» [Трифонов 1979, 286]. Ребров «мается» в Москве. Нет ни «хорошей», постоянной работы, ни денег, ни признания. Он даже хочет уехать в Барнаул, где ему обещают место в газете. Еще есть очень непростые отношения с Лялечкой, которые длятся уже пять лет, и никак не закончатся. И вот, когда Ребров в очередной раз находился в чисто интеллигентском «минорном» настроении, то есть когда от 105 ощущения радости от разговора с главным режиссером вдруг перейдя к «унынию», «брел по улице: от Пушкинской площади к Трубной, оттуда по Неглинной опять на Пушкинскую» [там же, 356], он встретил своего друга, с которым учился в школе, инвалида войны Толю Щекина. Ребров любил встречать Толю, может быть потому, что «один вид этого человека, который прекратил всякие попытки подняться выше нулевой отметки, улучшал настроение» [там же]. Толя не умел, а может быть, и не хотел «карабкаться» в отличие от Реброва. Но вот почему тот разговаривает с Ребровым покровительственно, «свысока», Ребров понять не мог. В лирической прозе нет и не может быть назидательного авторского сознания, читатель должен сделать выводы сам. Но это вовсе не исключает ни авторского отношения к происходящему, ни авторской точки зрения. Поэтому Трифонов не объясняет причину покровительственного отношения инвалида войны, ведущего очень скромный образ жизни, к человеку, добивающемуся всеми правдами и неправдами «места под солнцем». Вот почему подспудно Ребров вспоминает свой собственный дом, «с полуколоннами, львиными облупленными мордами», и происшествие в «марочном магазине на Кузнецком», когда в драке с тремя парнями он «отстоял» свои только что купленные марки. Ведь тогда он не «карабкался», а честно отстаивал свое достоинство и был горд этим. Наконец, Ребров уезжает из Москвы в Сибирь, и там-то он и добивается успеха. Последние страницы повести мы читаем глазами Ляли. Она давно рассталась с Ребровым, полна всевозможных мелочных забот, замужем за военным, кандидатом наук (что было весьма престижным в те времена), и только ее охватывает грусть, когда она на трамвае проезжает мимо все того же восьмиэтажного дома с магазином «Мясо» на первом этаже. А Ребров вернулся в Москву, процветает, дважды женился, неплохо зарабатывает сценариями, живет где-то на Юго-Западе… «А Москва катит все дальше…» [Трифонов 1979, 378]. Эти строки напоминают нам слова пророка Екклезиаста, взятые Э. Хемингуэем в качестве 106 эпиграфа в свой роман «И восходит солнце». На белом свете все приходит и все проходит, «а Земля пребывает вовеки». Так и Москва пребывает вовеки, не обращая внимания на мелочные заботы москвичей, становясь все краше и краше, разрастаясь ввысь и вширь. Завершается цикл повестью «Другая жизнь» (1975), наверное, наиболее зрелой и философской. Женщина бальзаковского возраста Ольга Васильевна размышляет о своей жизни. Размышляет она в процессе «молчаливого монолога», не предназначенного внешнему слушателю. Молчаливый монолог - один из признаков лирического романа, давно вошедший в западную литературу, но малоизвестный в литературе русской, тем более советской. В лирическом романе нет автора, осуждающего героя, герой всегда вызывает симпатию читателя, будь он трижды неправ. Поэтому мы с сочувствием относимся к героине. У нее недавно умер муж, и она вспоминает, каким он был, как они жили. Сергей был не очень талантливым историком, не очень хорошим мужем и другом, не очень уживчивым на работе и в семье. К тому же он изменял ей с коллегой по работе и взял деньги в кассе взаимопомощи, которые пришлось после его смерти отдавать жене. Так что Ольга Васильевна буднично грустит о покойном муже, но уже «утешается» в объятиях другого. Она вспоминает еще недавнюю молодость и страстные ласки, которым они предавались с будущим мужем, себя, такую сексуальную и сильную, такую знающую себе цену, такую манящую и готовую к «другой», счастливой жизни. Повесть напоминает рассказы Э. Хемингуэя: настолько она наполнена бытовыми подробностями, недосказанностью, невысказанными чувствами. Хемингуэй даже упоминается на страницах повести, а его стиль чувствуется на каждом шагу. Вот, к примеру, случайно выбранный отрывок: «Будильник позвонит в семь. Еще полтора часа она будет лежать, погруженная в забытье – не в забытье сна, а в забытье исчезнувшей жизни, – потом медленно встанет, наденет стеганный нейлоновый халатик, Сережин подарок ко дню рождения, а 107 то без халата, в одной рубашке, нечесаная, теперь она не следит за собой, побредет на кухню и поставит на плиту чайник, кастрюльку с водой для каши и другую для яиц, вынет из холодильника творог, кефир, чтобы, пока они с Иринкой моются и одеваются, творог и кефир немного согрелись в теплом воздухе кухни. Включит репродуктор, который стоит на верху буфета. И все время, что бы ни делала, о чем бы ни думала, она будет чувствовать пустоту и холод за спиной» [Трифонов 1979, 15]. В повести все наполнено аллегориями и аллюзиями. Юрий Трифонов был сыном высокопоставленного советского руководителя, репрессированного при Сталине. Он жил в привилегированном «доме на Набережной», и поэтому даже малейшие детали той жизни не могли пройти мимо писателя. Так, описывая институтские интриги, Ольга Васильевна вспоминает некоего Шарипова, «железного малыша», который мастерски умел их плести. Это явный намек на «мастера интриги» «железного Шурика» – одного из главных заговорщиков против Хрущева, бывшего «комсомольца», бывшего шефа КГБ, а впоследствии шефа советских профсоюзов Шелепина. А вот главный намек на «брежневский застой». Ольга Васильевна едет с «группой товарищей» на институтском автобусе за грибами и теряется в лесу вместе с мужем. Несмотря на отчаянные поиски шоссе, они все глубже и глубже углубляются в лес. Наконец, они встречают женщину, которая обещает вывести их на шоссе. Они долго идут по лесу и выходят не на шоссе, а к болоту. Женщина протягивает руку и, указывая на заросли осоки, говорит: «Это шоссе. Вон стоит ваш автобус» [Трифонов 1979, 155]. Оказывается, эта женщина из сумасшедшего дома, который они встретили по пути. Неясно, то ли это воспоминания, то ли сон, морок. Так и в реальной действительности: нас уверяли, что мы идем правильной дорогой к светлому будущему, на самом деле мы шли в «болото». Упоминание сумасшедшего дома тоже не случайно. Ведь в брежневские времена сталинский ГУЛАГ был заменен на психиатрическую больницу. 108 В повести нет масштабного описания города, но город изображается как бы изнутри, посредством убранства квартир, изображения домов, улиц, отдельных зданий. Вот описание дома и квартиры матери Ольги Васильевны на Сущевской: «Квартира родителей была небольшая, удобная, прихожая была в красивых, карминного цвета, венгерских обоях, в большой комнате обои были под дерево. Здесь Георгий Максимович со вкусом расставил обломки своей антикварной мебели, развесил разные полочки, расставил этажерки и все, что в старом доме казалось хламом, здесь приобрело особый, дорогой и старинный вид» [Трифонов 1979, 86]. Описание квартиры родителей Ольги Васильевны несет очень большой сокровенный смысл. Все эти этажерки, антикварная мебель и картины, развешенные на стенах, говорят о стабильности, о традициях семьи и о былой, «другой» жизни. Об этом же говорит и фотография Георгия Максимовича в старой блузе художника. Сергей с Ольгой Васильевной пришли к родителям занять денег на поездку в Париж. И Париж здесь играет особую роль. Это как глоток свежего воздуха в душной атмосфере семидесятых. Парижские названия улиц – рю де Муфтар, Вожирар звучат музыкой в устах старого художника. Вся обстановка квартиры, солидная и богатая, сама фигура Георгия Максимовича в окружении картин и наброска самого Модильяни вступает в противоречие с надрывными разговорами о покупке «большого» телевизора вместо старого с допотопной линзой, со шлепаньем ног свекрови. Мы уже говорили, что повесть пронизана недосказанностью. Трифонов, описывая квартиру Георгия Максимовича, не упоминает имени Шагала, а просто говорит, что это был приятель из Витебска. Может быть, потому что это были семидесятые годы – время массового выезда евреев из СССР, и открыто упоминать имя Шагала было попросту невозможно по цензурным соображениям. Но все, что связано с этой квартирой, и была «другая жизнь», в которую так стремятся герои повести. Но эта «другая жизнь» неразрывно связана с Москвой. И поэтому никуда не едет Сережа, а Ольга Васильевна смотрит на Москву в объятиях 109 другого человека, и эта «другая жизнь была вокруг, была неисчерпаема, как этот холодный простор, как этот город без края, меркнущий в ожидании вечера» [там же,157]. Юрий Трифонов относится к тем писателям, которые стояли у истоков «урбанистической прозы». В отличие от «деревенщиков», они не поднимали «грандиозных» тем, их проза не открывала читателю необъятный мир русской деревни, не поражала новизной. Вроде бы, они погружались в мелкотемье, в «бытовуху», в мир простых житейских проблем. Но за всем этим стояло философское осмысление судеб всей советской интеллигенции. Решался вопрос, что случилось с русской творческой мыслью, как из великого русского интеллигента получился приспособленец и обыватель. Эти проблемы решались на фоне города – Москвы. Побочно, мы видим, как меняется Москва, как из новостроек вырастает новая столица, как она переходит «через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон» [Трифонов 1979, 378]. Не будучи явным диссидентом, Трифонов, однако, вызывал подозрения власти. Печатаясь легально, он все-таки перешел черту, отделяющую «советских писателей» от «писателей советской эпохи». От официозной повести «Студенты» до «Московских повестей» – «дистанция огромного размера». Таким образом, мы видим, как реализуется урбанистическая тема в прозе Юрия Трифонова. Духом города пронизано все писательское повествование. Город становится не просто сюжетным фоном, а подлинным героем произведений. 110 Выводы по главе II 1) Изучение города с культурологических позиций представляет его исследование как феномен, в совокупности всех его проявлений, как целое. Культурологический подход позволяет рассматривать город во всех его ипостасях как социокультурный объект, как исторический, цивилизационный, архитектурный и т.д. 2) Русский город возникает как поселение свободных горожан, а не как место правящего лица. 3) Русский город возникает и развивается по мере развития культуры и перехода ее в цивилизацию. 4) Русские города Киев и Москва носят сакральный характер, являясь выражением русской души, в то же время Петербург является выражением «нового духа Европы» - внешне привлекательным, но внутренне холодным. 5) Москва и Петербург служат ярким примером имагологического подхода к изображению реального мира. В имагологическом подходе в полной мере выражается авторская позиция, отражается субъективное видение писателем реальной действительности. 6) В городе проявляются специфические отличия между горожанами и сельскими жителями в их образе жизни, отношении к свободному времени, менталитете и т.д. 7) Город возник вместе с потребительским обществом, когда человек перестал довольствоваться необходимым и стал приобретать излишнее. Человек, владеющий каким-либо имуществом, должен был защитить себя и свое достояние от посягательства внешнего врага. Таким образом, основная функция города была защитительной. Постепенно вокруг города стало складываться предместье, состоящее из сельских жителей, которые всегда могли укрыться от врага за крепкими крепостными стенами, окружающими город. Непременной частью города был рынок, куда горожане и сельские 111 жители свозили излишки своей продукции. Вначале город нес сугубо положительную функцию. Он защищал, в нем было гораздо спокойнее и безопаснее жить, он давал возможность жителям, и не только горожанам, сбывать свою продукцию. Демократия – власть народа – зародилась как раз в городах. С течением времени в городах стала формироваться городская среда, свой образ жизни, отличающийся от жизни сельских жителей. Отличительной особенностью городского уклада стало обилие свободного времени, что привело к расцвету науки и искусств, а в целом культуры. Но, постепенно, город стал проявлять и негативные черты. Распад семейных и дружеских связей, растущее отчуждение людей, поклонение «золотому тельцу» – стали характерными чертами для больших и, в определенной степени, малых городов. Трагедия «маленького человека» в большом городе стала неотъемлемой частью мировой литературы. 8) Город всегда привлекал внимание мыслителей, писателей и поэтов. Аристотель и Платон были первыми исследователями городской среды. Позднее о городе писали Т. Мор и Т. Кампанелла. Интересно отметить, что в эпоху Ренессанса люди задумались об «идеальном городе», и их утопические идеи воплотились в книгах мудрейших из них. К сожалению, с течением времени город стал связываться с мрачными прогнозами. Его образ постепенно стал приобретать негативные, апокалиптические черты. Сложились два подхода к изображению города – гуманистический и дегуманизированный, отчужденный. Если при первом мир видится художнику светлым, с преобладанием теплых тонов, радостным и оптимистичным, то при втором – мрачным, холодным и враждебным. Первый подход мы встречаем у писателей, восприятие которых пронизано духом оптимизма, уверенностью в будущем. Второй появился в конце XIX – начале XX века, когда человечество начало терять свой оптимизм, а отдельный человек стал погружаться в самоизоляцию, одиночество, мрачное уныние. 9) Следует сказать, что тема «маленького человека в большом городе» волновала русских художников слова еще со времен Пушкина и 112 Гоголя. Судьбы Евгения и Акакия Акакиевича в чем-то удивительно схожи. Их трагедия происходит на улицах Петербурга, в общем-то, безопасного европейского города, но таящего под блестящей оболочкой скрытые угрозы. Как ни парадоксально, но в нашей отечественной литературе сложился скорее негативный, чем позитивный образ города. И это касается не одного Петербурга. 10) Никто не воспел Санкт-Петербург с такой поэтичностью, с таким вдохновением, как Пушкин. Но и он первым показал, как губит все надежды и чаяния молодого человека это «Петра творенье». То же происходит и с Москвой. Этот красивейший город Земли в произведениях писателей превращается в зловещую старуху, в скопище самых зловредных сил, в обитель страха. Такой образ мы видим в романах Белого, Булгакова, Алексея Толстого, Ямпольского. Только в произведениях Ивана Шмелева мы наблюдаем радостный, оптимистический образ Москвы. Нечто подобное происходит и с другими городами-мегаполисами. Особенно с Нью- Йорком. В романах Генри Миллера этот город особенно отвратителен. 113 Глава III. Культурологический образ города в американской литературе 3.1. Образ Нью-Йорка: гуманистический и отчужденный. В литературе и культуре имеются, по крайней мере, два подхода к изображению окружающего мира, окружающей действительности: гуманистический и дегуманизированный, отчужденный. Первый рисует мир в оптимистических, жизнерадостных тонах, второй – в холодных, мрачных красках. Первый подход мы встречаем у писателей, восприятие которых пронизано духом оптимизма, уверенности в будущем. Второй появился в ХХ веке, когда, по мнению отдельных мыслителей, в том числе и писателей, человечество стало терять свои гуманистические черты, а отдельный человек стал погружаться в самоизоляцию, одиночество, мрачное уныние. Эта тенденция стала проявляться в начале ХХ века, особенно в США, которые первыми стали интенсифицировать производство, применять конвейер, вводить стандартизацию во все области жизни. Первыми эту тенденцию уловили писатели. Но не американские, а русские. Рассмотрим два образа Нью-Йорка. Первый создан писателем-революционером Григорием Мачтетом, прибывшим в США в конце XIX века и выражавшим веру в демократическую, свободную Америку. Вот его рассказ «Нью-Йорк». Писатель доброжелательно описывает этот огромный город, подчеркивая силу жизни, кипящую на его улицах: «Описывать подробно Нью-Йорк я не буду, ни его широких улиц и проспектов, ни роскошных магазинов, ни дворцов, церквей, скверов и прочее… Скажу только, что впечатление, какое он производит на приезжего человека, никогда не изгладится [Мачтет 1958, 64]. Одним словом, русский писатель видит, что Нью-Йорк – это город для людей, для человека. Это город, где человек чувствует себя свободно и 114 комфортно. Отрывок, посвященный Нью-Йорку, яркий пример гуманистического изображения действительности. Вот еще пример гуманистического изображения Нью-Йорка и, что не менее важно, жителей города: «Не величие города, а люди привлекают меня. Их осанка пряма; их лица ясны и чисты. Они лишены раболепия и трусости тех людей, многие поколения которых склонялись под плетью» [New York American 1906, 4]. Что мы ощущаем, прочитав этот отрывок? Гордость за Нью-Йорк, гордость за его жителей. А теперь давайте выборочно прочтем еще один отрывок: «Это город, это – Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью, с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением» [Горький 1954, 8, 8-9]. Отличие этих двух отрывков разительное. Светлое, счастливое настроение первого отрывка сменилось темным и депрессивным. Дух свободы и умиротворения вытеснен атмосферой гнета и ужаса. «Великие здания, устремляющиеся в небо», «красоты Нью-Йорка» превратились в «тупые, тяжелые здания, лишенные желания быть красивыми». «Великолепное развитие торговли, промышленности и финансов» стало чудовищным пауком, затягивающим обитателей города в свою зловещую паутину. «Прямые люди с ясными светлыми лицами» переродились в безликих зомби, «темные куски пищи» для города-монстра. Почему произошла столь разительная трансформация города? Ведь оба описания принадлежат одному и тому же автору – Максиму Горькому. Исследователи творчества писателя по этому поводу выдвигали различные точки зрения, среди которых и личная обида. Негативные черты города, помноженные на гримасы капиталистической действительности, вызвали процесс отчуждения в западной литературе. Но, как уже было сказано выше, начал этот процесс отчуждения М. Горький своим памфлетом «Город Желтого Дьявола». Процесс отчуждения тесно связан с имагологией города. В имагологическом подходе к городу большую 115 роль играет авторская точка зрения, а не личное отношение к объекту. Именно в имагологическом ключе решает тему Нью-Йорка М. Горький. Вокруг имени Максима Горького до сих пор живо множество мифов. Один из них связан с якобы негативным отношением Горького к Америке. Кажется, что этот миф подтвержден самим творчеством великого пролетарского писателя. Пример тому – серия сатирических памфлетов об Америке, среди которых выделяется «Город Желтого Дьявола». В этом памфлете действительно создан фантасмагорический, отталкивающий образ американского города – Нью-Йорка. Это описание стало хрестоматийным и хорошо знакомо не только исследователям творчества Горького, но и всем американистам, пишущим об Америке. Более того, уродливое изображение Нью-Йорка превратилось в стереотип, в расхожий штамп, в метафору, на долгие годы определившие восприятие Нью-Йорка советскими писателями и журналистами. В памфлете перед читателем предстает мерзостная картина Нью-Йорка, созданная пером талантливого писателя и от этого еще более омерзительная: «Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа, – в желудок, который проглотил несколько миллионов людей и растирает, переваривает их. Улица – скользкое, алчное горло, по нему куда-то вглубь плывут темные куски пищи горла – живые люди» [Горький 1954, 9]. Стиль памфлета – натуралистический, гротескный, гиперболизированный. Основной художественный прием – повторение физиологических терминов, нагнетание мрачной натуралистической атмосферы. Город в изображении Горького предстает неким чудовищным монстром: «челюстью», «обжорой», «желудком», «горлом», «пауком». Этот монстр «проглатывает», «растирает», «душит», «сосет кровь и мозг», «пожирает мускулы и нервы». Писатель выстраивает стилистический ряд из существительных «пыль», «дым», «темнота», «туман», не несущих вне контекста негативных коннотаций, но, в сочетании с прилагательными «темный», «тяжелый», «черный», 116 «серый», «угрюмый», «мрачный», «мертвый», «зловещий», «гнилой», «душный», «грязный», «испачканный», создающих негативную ауру и до предела сгущающих отрицательные эмоции. При чтении «Города Желтого Дьявола» возникает закономерный вопрос: «Почему гуманист Горький создал столь мизантропическое произведение?» Как известно, М. Горький отправился в США весной 1906 года по заданию большевиков с целью пропаганды революционных идей, сбора средств для большевистских организаций и агитации против предоставления царскому правительству займа со стороны американской администрации на подавление революционного движения в России. Творчество Горького в Америке знали и любили. Об этом свидетельствует в частности тот факт, что американский «Клуб писателей» обратился к императору Николаю II с протестом против притеснений писателя властями. Казалось бы, все сулило Горькому успех. Америка радостно встретила его на своей земле. Ведущие американские издания посвятили Горькому и его «жене» Марии Андреевой первые полосы и привели восторженные высказывания писателя об Америке. А Горький действительно не скрывал восторга от встречи с Новым Светом. Квинтэссенцию первых американских впечатлений Горького выразила газета «Уорлд»: «Что за страна! Свободная, прекрасная и счастливая. Дай Бог России, когда-нибудь стать такой» [The World 1906,2]. И вдруг в мгновение ока все изменилось до неузнаваемости. Горький был выселен из нью-йорской гостиницы. Был отменен торжественный обед во главе с Марком Твеном. Газеты разразились гневными статьями. Причина такого радикального изменения отношения к Горькому заключалась в том, что М.Андреева не состояла с писателем в официальном браке. Для пуританской Америки такого нарушения приличий было больше чем достаточно, чтобы обвинить Горького в нарушении общественной нравственности и морали. (Справедливости ради надо признать, что подобного факта не потерпели бы и в советских гостиницах). Антигорьковская кампания в США больно ударила не только по личному самолюбию и престижу писателя, но и сорвала его 117 политическую миссию как большевистского агитатора. По мнению ряда американских исследователей жизни и творчества Горького, в частности А. Рейлли, такой поворот событий побудил его «создать злобную карикатуру своего негостеприимного хозяина – Нью-Йорка». Дело, конечно, не в личной обиде, не в антиамериканизме Горького (которого у него никогда не было). Дело в том, что русский писатель стоит у истоков нового стиля – отчуждения, алиенации. Американский исследователь С. Финкельстайн в своей работе «Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе» утверждал, что «стиль, вызванный к жизни отчуждением, отражает особую психологию, возникновение которой сопутствует социальному кризису» [Финкельстайн 1967, 184]. При этом стиле мир рисуется холодным, мрачным, враждебным. Задолго до американских писателей данный стиль стал использовать Горький. Дело в том, что писатель, будучи в Нью-Йорке, работал над произведением социалистического реализма – романом «Мать». Этот роман имеет свои особенности. Рисуя «нового человека», Максим Горький должен был показать «старый» мир, мир, лишенный радости жизни. Его описание «рабочей слободки» стилистически очень схоже с изображением Нью-Йорка в памфлете «Город Желтого Дьявола». На самом деле Горький восхищался Америкой. Об этом свидетельствуют его письма из-за океана к своему издателю Пятницкому: «Америка! Интересно здесь изумительно. И чертовски красиво, чего я не ожидал. Дня три тому назад мы ездили на автомобиле вокруг Нью-Йорка – я Вам скажу, такая милая, сильная красота на берегах Гудзона. Просто даже трогательно» [Горький 1954, 8, 419]. А вот другое письмо, к Амфитеатрову: «Ей-богу – это чудесная страна для человека, который может и хочет работать» [там же, 423]. Конечно, к дегуманизированному стилю отчуждения американские писатели могли прийти и без Горького. Эта связь может быть типологической, возникающей без непосредственного контакта, благодаря примату действительности. Но не исключено, что толчком к 118 дегуманизированному восприятию действительности послужил опубликованный в 1906 году в журнале «Эппэлтон» англоязычный «мягкий» вариант «Города Желтого Дьявола» – «Город Мамоны». Как бы то ни было, именно Горький первым изобразил Нью-Йорк в стиле отчуждения и положил начало подобному изображению для американских авторов. Через двадцать лет мы находим подобное изображение Нью-Йорка в замечательном романе Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». Здесь мы вновь сталкиваемся с дегуманизированного противопоставлением и гуманистического. двух Как изображений: известно, Нью-Йорк расположен на острове Манхэттен, и именно его изображает писатель: «И по мере того, как луна поднималась выше, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков – нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты» [Фицджеральд 1996, 218]. Почему проблема человека в городе возникла на рубеже XIX-XX веков в Европе и в Америке? В 1895 году в свет выходит поэтический сборник Э. Верхарна «Города-спруты». Он одним из первых заметил коварную сущность городов, как щупальцами обволакивающих своих жителей. Образ города занимает важное место в творчестве как реалистов, так и модернистов. Не явился исключением и У. Берроуз, американский писатель, представитель движения «битничества». В его романе «Голый завтрак» мы также встречаемся с Городом. Правда, в этом Городе вряд ли кто захочет жить. У. Берроуз рисует нам картину абстрактного Города. Ближе всего по стилю этот образ напоминает города Г. Миллера. В них человеческое одиночество и безысходность доведены до предела. Но, по сравнению с тем же Миллером, У. Берроуз не находит свежих красок, его урбанистический пейзаж вторичен: «Город окутывают кухонные запахи всех стран, дымка опиума и гашиша, красный смолистый дым яга, запах джунглей и соленой воды, гниющей реки и высохших испражнений, пота и гениталий. 119 Высокогорные флейты, джаз и би-боп, однострунные монгольские инструменты, цыганские ксилофоны, африканские барабаны, арабские волынки… Город охватывают эпидемии насилия, и брошенных на произвол судьбы мертвецов пожирают на улицах грифы. Мерцают в солнечных лучах альбиносы. На деревьях, апатично мастурбируя, сидят мальчики. Люди, пожираемые неизвестными болезнями, бросают на прохожих злобные, хитрые взгляды» [Берроуз 2000,48] . Своим творчеством У. Берроуз еще раз выразил протест художника против бесчеловечной цивилизации, которая, как известно, является предвестником конца культуры эпохи. Но сделал это на низком уровне. Он развенчал цивилизацию, в первую очередь западную, хотя в романе можно найти и намек на развенчание тоталитарной системы. Образ Нью-Йорка был бы до предела мрачен, если бы не русские писатели. В своих произведениях они не воспринимают Нью-Йорк, да и всю Америку трагично. Они открывают для себя Америку новую, лишенную мрачной окраски. Они пытаются отойти от образа, созданного Горьким и другими писателями, подхватившими стиль отчуждения. Они видят НьюЙорк, как и русские писатели прошлого, в жизнеутверждающих красках. Вот как описывает Нью-Йорк один из классиков советской литературы Валентин Катаев. Он ждет от Нью-Йорка чего-то мрачного, неожиданного. Тревожное ожидание подчеркивается фантасмагорическим изображением ночного Нью-Йорка: «Подо мной на страшной глубине плавал ночной Нью-Йорк, который, несмотря на весь свой блеск, был не в состоянии превратить ночь в день – настолько эта ночь была могущественно черна. И в этой темноте незнакомого континента, в его таинственной глубине меня напряженно и терпеливо ждал кто-то, желающий причинить мне ущерб. Мне – одинокому, внезапно заброшенному сюда выходцу из другого мира…» [Катаев 1981, 263]. Кажется, что в этом пассаже Катаев, как и подобает правоверному советскому писателю «отчуждает» себя от капиталистической 120 Америки, от погрязшего в паутине желтого Дьявола Нью-Йорка. Однако дальнейшие события этого не подтверждают. Катаев вдруг с удивлением обнаруживает, что в Америке все по-другому. Не так, как он ожидал. И негры там нисколько не чувствуют себя «униженными и оскорбленными», настолько образ негра с элегантным золотым кольцом на пальце разительно отличается от образа генерала «одного из высших рангов с заурядным генеральским лицом» [там же, 280]. И единственный «ущерб», который понес писатель – это 25 центов, которые он переплатил чистильщику обуви. Так ожидание неприятностей от встречи с Нью-Йорком перерастает в фарс. Окончательно клише о мрачности Нью-Йорка опровергает писательфронтовик Виктор Некрасов, автор знаменитой книги «В окопах Сталинграда»: «Разговоры о том, что они (небоскребы – Л.Н.) подавляют – ерунда, (гитлеровская имперская канцелярия в Берлине, несмотря на свои относительно скромные размеры, подавляла меня значительно больше), многие из них, постройки последних лет, очень легки (именно легки), воздушны, прозрачны. В них много стекла, они друг в друге очень забавно отражаются. А утром и вечером, освещенные косыми лучами солнца, просто красивы» [Некрасов 1991, 66-67]. Таким образом, мы познакомились с двумя взглядами на Нью-Йорк, на Америку: гуманистическим и отчужденным. Оба взгляда отражают мировидение и мироощущение художника, поставленную художественную задачу. И от того, каким является это ощущение и эта задача, зависит и образ Нью-Йорка [Набилкина 2011, 71-74]. 3.2. Утраченные надежды: Нью-Йорк в восприятии Ф.С. Фицджеральда и Генри Миллера Город часто отражает чувства людей, является выражением их внутреннего состояния, квинтэссенцией их переживаний. Так и Нью-Йорк 121 выразил чувства двух великих американских писателей – Фрэнсиса Cкотта Фицджеральда и Генри Миллера. Нью-Йорк выразил всю гамму чувств и переживаний Фицджеральда: от радости и юношеских ожиданий кумира золотой молодежи Америки, преуспевающего молодого писателя до разочарования и горечи постаревшего литератора. Эти разительные перемены уложились в одно десятилетие – от времен послевоенного «просперити» до Великого кризиса и Великой депрессии. Лучше всего Фицджеральд выразил перемену своих настроений в сборнике эссе «Крах» (The Crack Up). Но первые ростки тревоги проявились уже тогда, когда он только вступал в пору славы и признания, в рассказе «Первое мая». Казалось, что ничто не предвещает беды. Америка только еще вступала в эпоху благополучия и процветания. Но уже тогда у Фицджеральда проявилось его знаменитое «двойное видение» (double vision), когда за цветущим фасадом художник видел реальную картину неблагополучия. «Никогда еще великий город не был так великолепен, ибо победоносная война принесла с собой изобилие, и торговцы стекались сюда и с запада, и с юга, с чадами своими и домочадцами, дабы вкусить роскошь празднеств и изобилие уготовленных для всех развлечений, а заодно и купить для своих жен, дочерей и любовниц меха на зиму, и золотые побрякушки, и туфельки – либо из золотой парчи, либо шитые серебром и пестрыми шелками по розовому атласу» [Фицджеральд 1996, 3, 7]. И как нелепо выглядят на фоне этого великолепия две смерти: солдата, опоздавшего на этот праздник жизни, вернувшегося с войны слишком поздно, чтобы вкусить плоды победы, и смерть недавнего баловня судьбы, а сейчас раздавленного обстоятельствами выпускника Йельского университета. На улицах города разыгрывается трагедия. Двое солдат с тоской наблюдают за веселыми, богатыми выпускниками Йеля, проводившими свою ежегодную вечеринку. Они ввязываются в драку, и один из них выпадает из окна верхнего этажа и разбивается насмерть. Эта драка оказывается совершенно чужой и ненужной для них. Они попросту оказались 122 вовлеченными в нее под воздействием толпы, и один из них оказался случайной жертвой погрома. Другая смерть так же нелепа, как и первая. Блестящий выпускник университета Гордон Стеррет оказывается без гроша в кармане, да еще женатым на ловкой авантюристке. По сути дела, в этом нет никакой трагедии. Тысячи молодых людей оказываются без денег, женятся на нелюбимых и продолжают беззаботно жить. Но не так обстоит с Гордоном Стерретом. То, что для иных проходной эпизод, для него трагедия. Эта трагедия усугубляется общим настроем жизни, общим преуспеянием, на фоне которого его личная драма кажется еще беспросветнее. Гордону кажется, что он единственный неудачник на свете, и его нервы не выдерживают. Его противоположность Филип Дин – типичный средний студент, ничем не примечательный и заурядный, с равнодушием удачливого бизнесмена слушает рассказ Гордона о своих злоключениях, ему скучно и хочется побыстрее отделаться от докучливого просителя. Он чувствует свое превосходство, и ему даже приятно, что Гордон Стеррет, недавний любимец женщин, за которым бегали лучшие девушки университета и, в частности, Эдит Брейдин, оказался в столь незавидном положении. «Был полдень, и на углу Пятой авеню и Сорок четвертой улицы бурлила толпа. Веселое, богатое солнце било в толстые стекла витрин модных магазинов, покрывая недолговечной позолотой дамские сумочки, и нитки жемчуга на сером бархате футляров, пышные веера из разноцветных страусовых перьев, и кружево и шелк дорогих туалетов, и красивую стильную мебель рядом с плохими картинами в тщательно обставленном салоне декоратора», – живописует Фицджеральд богатства Нью-Йорка [Фицджеральд 1996, 3, 7]. Даже солнце у Фицджеральда «богатое» (rich), оно вполне соответствует общему тону жизни. «Девушки-работницы то парами, то небольшими стайками застревали у этих витрин, выбирая обстановку для своей будущей спальни. Они стояли, ослепленные великолепием этого выставленного напоказ жилья, где ничто не было забыто, вплоть до шелковой 123 мужской пижамы, по-домашнему разложенной поперек кровати. Наскоро позавтракав бутербродами и мороженым, они торчали у ювелирных магазинов, мысленно примеряя обручальные кольца и платиновые часики с браслетом, а затем устремлялись дальше и снова останавливались и разглядывали веера из страусовых и вечернее манто» [там же, 16]. И никто не мог поверить, что пройдет всего лишь несколько лет и эти стайки беззаботных девушек сменят угрюмые, мрачные «bread lines» – хлебные очереди за бесплатной похлебкой и куском хлеба, привозимые благотворительными организациями. В эссе «Отзвуки века джаза», написанном в ноябре 1931 года, Фицджеральд вспоминает: «То десятилетие, которое словно бы сознательно противилось тихому угасанию в собственной постели и предпочло ему эффектную смерть на глазах у всех в октябре 1929 года, началось примерно в дни майских демонстраций 1919» [там же, 367]. И хотя эти демонстрации были разогнаны полицией, Америка поняла, что ее участники – молодые солдаты – уже не пойдут на фронт, чтобы обогащать толстосумовмиллионеров, разжиревших на военных поставках. Теперь у солдат и их подросших подружек, которые во время войны были лишены развлечений, была одна цель: наверстать упущенную юность. «Всю страну охватила жажда наслаждений и погоня за удовольствиями… Слово «джаз», которое теперь никто не считает неприличным, означало сперва секс, затем стиль танца и, наконец, музыку», – писал Фицджеральд [Фицджеральд 1996, 1, 370]. Для того чтобы лучше понять это поколение, да и всю эпоху «века джаза», давайте проследим судьбу самого Фицджеральда. Он не попал на фронт, война кончилась, когда молодой выпускник Принстонского университета, уже надев офицерскую форму, ждал отправки в Европу. После неожиданного успеха его первого романа «По эту сторону рая», он оказался востребованным писателем. Фицджеральд стал писать рассказы о «золотой молодежи» для модных журналов и вскоре ощутил себя на гребне славы. Но его талант был намного глубже, чем те рамки, которые ему отводили. Его 124 серьезное писательское дарование проявилось в романе «Великий Гэтсби» (1925), в котором еще отчетливее наметилось ощущение беды, грозящей Америке. Несмотря на свой небольшой объем, «Великий Гэтсби» – роман многоплановый. Это роман и о «последнем романтике» Джее Гэтсби, и о его великой, всепоглощающей любви, и о тщетной попытке «вернуть прошлое», и о том, что богачи опасны, и простым людям следует держаться от них подальше, и о Великой войне, и о человеческой подлости и т.д. и т.п. И еще, и не в малой мере, это «роман воспитания», роман об утрате иллюзий. «Даже и тогда, когда Восток особенно привлекал меня, когда я особенно ясно отдавал себе отчет в его превосходстве над жиреющими от скуки, раскоряченными городишками за рекой Огайо, где досужие языки никому не дают пощады, кроме разве младенцев и дряхлых стариков, – даже и тогда в нем чудилось какое-то уродство», – вспоминал Ник Каррауэй – alter ego автора [там же, 428]. Нью-Йорк не оправдал ожиданий Ника Карруэя-Фицджеральда. «Понемногу я полюбил Нью-Йорк, пряный, дразнящий привкус его вечеров, непрестанное мельканье людей и машин, жадно впитываемое беспокойным взглядом. Мне нравилось слоняться по Пятой авеню, высматривать в толпе женщин с романтической внешностью и воображать: вот сейчас я войду в жизнь той или иной из них, и никто никогда не узнает и не осудит», – передает нам Фицджеральд мысли романтического юноши [Фицджеральд 1996, 1, 329]. Да, Нью-Йорк завораживает. Но он ловушка для провинциалов с Запада. И постепенно Нью-Йорк превращается из города надежд в «долину шлака». Ник Каррауэй ощущает это превращение не сразу, оно приходит к нему подспудно, исподволь: «А бывало, что в колдовских сумерках столицы меня вдруг охватывала тоска одиночества, и эту же тоску я угадывал в других – в бедных молодых клерках, топтавшихся у витрин, чтобы как-нибудь убить время до неуютного холостяцкого обеда в ресторане – молодых людях, здесь, в этой полумгле растрачивающих впустую лучшие мгновения вечера и жизни» [там же, 329]. 125 «Почти на полпути между Уэст-Эгом и Нью-Йорком шоссе подбегает к железной дороге и с четверть мили бежит с ней рядом, словно хочет обогнуть стороной угрюмый пустырь. Это настоящая Долина Шлака – призрачная нива, на которой шлак всходит, как пшеница, громоздится холмами, сопками, раскидывается причудливыми садами; перед нами возникают шлаковые дома, трубы, дым, поднимающийся к небу, и, наконец, если очень напряженно вглядеться, можно увидеть шлаковых серых человечков, которые словно расплываются в пыльном тумане», – так описывает мрачный урбанистический пейзаж Фицджеральд [там же, 311]. Почему же цветущий город превращается в Долину Шлака? Ведь до Великой депрессии еще далеко, на дворе только 1925 год, «век джаза» еще в самом расцвете, а Фицджеральда одолевают мрачные мысли. Дело в том, что писатель обостренно чувствовал атмосферу тревоги, захватывающей этот еще вполне благополучный мир. Еще в конце XIX века столпы американизма объявили об избранности американского общества. Была разработана «теория исключительности», согласно которой Новый Свет лишен пороков Старого. В нем нет и не может быть несчастных и страдающих. Новый Свет составляют только лишь счастливые люди, с надеждой и верой смотрящие в будущее. Американские города – счастливые города, а Нью-Йорк – самый счастливый из счастливейших. Да, тогда еще не существовало многих проблем: они еще впереди, но уже существовала проблема одиночества. Тема одиночества – ведущая тема американской литературы XX века. Одиночество в толпе, одиночество в городе. И выразителем ее стал Скотт Фицджеральд. «Уэст-Эгг я до сих пор часто вижу во сне. Это скорей не сон, а фантастическое видение, напоминающее ночные пейзажи Эль Греко: сотни домов банальной и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившиеся под хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна, а на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит женщина в белом вечернем платье. Она пьяна. Ее рука свесилась с носилок, и на пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В 126 сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому – это не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать», – заключает Фицджеральд [Фицджеральд 1996, 2, 428]. Этот пассаж выполнен в стиле отчуждения. Американский исследователь С. Финкельстайн в своей работе «Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе» утверждает, что «кризис ХХ века… знаменует собой новую эру, когда наряду с сочувственным изображением отчужденной личности другого человека, возникает литература, являющаяся выражением собственного отчуждения писателя» [Финкельстайн 1967, 176]. Далее Финкельстайн пишет, что «стиль, вызванный к жизни отчуждением, отражает особую социальному психологию, кризису». возникновение Характеризуя данное которой соответствует литературное течение, американский критик замечает, что «стиль отчуждения отражает страх, беспокойство самого наблюдателя, рисует внешний мир холодным, враждебным, непроницаемым» [Финкельстайн 1967, 182]. Стиль отчуждения, к которому прибегает Фицджеральд в ряде своих произведений, говорит об утрате иллюзий, которые столь свойственны молодости. У Фицджеральда эта утрата особенно зримо проявляется в изображении Нью-Йорка и других городов Америки и судьбы людей, связавших с ними жизнь. «Это было время, когда мои сверстники начали один за другим исчезать в темной пасти насилия. Один мой школьный товарищ убил на Лонг-Айленде жену, а затем покончил с собой; другой «случайно» упал с крыши небоскреба в Филадельфии, третий – уже не случайно с крыши небоскреба в Нью-Йорке. Одного прикончили в подпольном кабаке в Чикаго, другого избили до полусмерти в подпольном кабаке в Нью-Йорке, и домой, в Принстонский клуб, он дотащился лишь затем, чтобы тут же испустить дух; еще одному какой-то маньяк в сумасшедшем доме, куда того поместили, проломил топором череп. Обо всех этих катастрофах я узнавал не стороной – все это были мои друзья; мало того, эти катастрофы происходили не в годы нужды, а 127 в годы процветания» [Фицджеральд 1996, 2, 375]. Век джаза поражал своей противоречивостью: необузданным весельем и мрачными настроениями, это был «пир во время чумы». И особенно это было видно в городах, где как в зеркале отразились все лучшие и худшие черты того времени. Если «Отзвуки века джаза» отличаются пессимизмом и упадничеством, то эссе «Мой невозвратный город» (1932) напоминает «Праздник, который всегда с тобой» Э. Хемингуэя, наполненный легкой грустью о невозвратном прошлом. Это рассказ о Нью-Йорке, которого уже нет и никогда не будет. Это набор юношеских воспоминаний провинциала с Запада, который только открывал для себя этот город. Вначале он излучает тепло и надежду. Фицджеральд с восторгом и удивлением смотрит на все, что может предложить Нью-Йорк: на вознесшийся вверх небоскреб «Вулворт», на «блистательную выставку закусок» в ресторане «Лафайет», кафе на крыше отеля «Риц». «Нью-йоркский стиль жизни с его показным блеском я ценил больше, чем ценил его сам Нью-Йорк», – признавался Фицджеральд [Фицджеральд 1996, 3, 380]. Он вспоминает, как он сидел с однокашником по университету в его квартирке и как «жизнь дышала покоем и теплом». Это было одно из первых впечатлений от Нью-Йорка. Второе посещение Нью-Йорка было в 1919 году. Это было время, наполненное послевоенной атмосферой, вернее концом войны, когда первые солдаты, солдаты-победители возвращались из Европы. «Нью-Йорк блистал всеми красками жизни, словно в первый день творенья. Возвращавшиеся из Европы солдаты маршировали по Пятой авеню, и сюда, на Север и Восток, со всех концов страны устремлялись навстречу им девушки: американцы были величайшей нацией в мире, в воздухе пахло праздником», – вновь и вновь обращается к первым послевоенным дням Фицджеральд [там же, 361]. Писатель чувствует единение с городом, но одновременно, он чувствует и раздвоенность. Он вспоминает о роскошных вечерах, которые проводил в отеле «Плаза», и изысканных приемах в садах богачей, описание которых он вставит позднее в свой роман «Великий Гэтсби», о баре «Битмор», где он пил 128 с друзьями из Принстона и Йеля. И в то же самое время он вспоминает унылую комнатенку в Бронксе и потрепанные костюмы, едва прикрывающие бедность. В этом противоречии проявляется «двойное видение» (double vision) писателя – блеск и нищета его собственной жизни и города, в котором он находился. Он вспоминает, как возвращался один с веселого завтрака из печального кабака к себе домой, если это можно было назвать домом. «Прекрасные иллюзии, которые мне внушал Нью-Йорк, тускнели одна за другой», – сетует Фицджеральд [Фицджеральд 1996, 3, 382]. И все же писатель полюбил этот «невозвратимый» город. Полюбил со всей его безалаберностью и строгостью, со всем безрассудством молодости и умудренностью зрелых лет. Фицджеральд приезжал и покидал Нью-Йорк. И с каждым разом он становился роднее и ближе. «И в ту минуту я осознал навсегда, что Нью-Йорк – это мой дом, как бы часто я его ни покидал» [Фицжеральд 2001, 383]. В отличие от Фицджеральда, который приезжал в Нью-Йорк время от времени, Генри Миллер (1891-1980) родился в этом городе. Вначале НьюЙорк нравился будущему писателю. Он любил бродить по его улицам и складывать впечатления на «дно памяти». Миллер поступил в муниципальный колледж Нью-Йорка, но через два месяца его оттуда исключили ввиду его «несогласия с методами обучения». В нем рано начал вызревать бунтарь. Миллер уезжает из Нью-Йорка в Калифорнию и работает там на ранчо, пытаясь «порвать с городом». В Калифорнии он знакомится с анархисткой Эммой Голдмен, которая, по его собственным словам, «перевернула его жизнь». Из этого знакомства возникает стойкая нелюбовь к городу и его обитателям. По возращении в Нью-Йорк Миллер посещает курсы русской литературы и увлекается Достоевским, который открыл ему «русскую душу». В 1930 году Миллер, по совету своей второй жены Джун, уезжает в Париж, где пишет свою знаменитую трилогию «Тропик Рака» (1934), «Черная весна» (1935) и «Тропик Козерога» (1939). В это же время он пишет повесть- 129 травелог в виде эротических писем – «Нью-Йорк и обратно». Если «Тропик Рака» посвящен Парижу, то «Тропик Козерога» – Нью-Йорку. В романе он продолжает свою главную тему – тему тотального одиночества – в толпе, в городе, в стране. Если в «Тропике Рака» герой не назван, то в «Тропике Козерога» имя его известно – это сам Генри Миллер. В «Тропике Рака» он уже выразил свое отношение к Америке как вселенской угрозе, мировому злу. В «Тропике Козерога» Миллер продолжает подвергать собственную страну остракизму: «Мне приходилось бродить по улицам многих стран мира, но я нигде не чувствовал себя таким униженным и задавленным, как в Америке» [Миллер 2001, 13]. Далее он развивает свою мысль в присущей ему до предела циничной манере: «В моем представлении все улицы Америки соединены между собой, образуя один гигантский отстойник, отстойник духа, куда засасывается все, вплоть до нетленного говна» [там же, 13]. Автор ощущает себя единственным реальным бунтарем в этой стране иллюзорного счастья, богатства и преуспеяния, который жаждет видеть Америку поверженной в прах. Генри Миллер начинает свой душевный стриптиз, выворачивая себя наизнанку, демонстрируя всему миру сокровенные тайники своей души. В своем саморазоблачении (self-disclosure) писатель не знает меры. Апофеозом цинизма становится смерть приятеля Миллера Луки. Миллер стремится до предела развенчать человека, доказать, что тот не способен на возвышенные чувства, что эгоизм – единственное чувство, которое движет его душой и всеми поступками. Что это? Очередной эпатаж, маска, за которой скрывается боль за все человечество? Или такова действительная позиция самого писателя? Вопрос остается без ответа… Ненависть Генри Миллера к Америке воплощается в Нью-Йорке. «Ночами нью-йоркские улицы отображают распятие и смерть Христа. Когда на земле лежит снег, и вокруг стоит немыслимая тишина, от зловещих ньюйоркских зданий исходит музыка такого гнетущего отчаяния и страха, что съеживается плоть. Ни один камень в кладке не положен с любовью или благоговением; ни одна улица не проложена для танцев или веселья. Одно 130 присовокупляется к другому в безумной схватке ради наполнения желудка, и улицы дышат вонью пустых желудков, набитых и полупустых. Улицы дышат вонью голода, который не имеет ничего общего с любовью; они дышат вонью желудка ненасытного и продуктами желудка полупустого, каковые суть нуль и ничто» [Миллер 2001, 85-86]. Создается ощущение, что ты читаешь не книгу американского писателя, а памфлет знаменитого пролетарского – «Город Желтого Дьявола» Максима Горького. Правда, не исключено, что Генри Миллер был знаком с его «мягким» вариантом – «Городом Мамоны», напечатанном в журнале «Эппэлтон» на английском языке в 1906 году. Неприятие Нью-Йорка зрело у Миллера во время создания его предыдущего романа о Париже «Тропик Рака», то есть это не было случайно возникшим чувством, а вполне осознанным, последовательным ощущением. Париж в книге Миллера постоянно сравнивается с Нью-Йорком. Но, если к Парижу автор испытывает амбивалентные чувства, то Нью-Йорк вызывает у героя злобу и отвращение постоянно: «Когда я думаю об этом городе, где я родился и вырос, о Манхэттене, который воспел Уитмен, пламя дикой злобы облизывает мне кишки. Нью-Йорк! Эти белые тюрьмы, эти тротуары с копошащимися на них червями, … эти еврейчики, эти прокаженные. Эти бандиты, и надо всем этим – тоска, убийственная монотонность лиц, улиц, ног, домов, небоскребов, обедов, афиш, занятий, преступлений, любви… Целый город, возведенный над пропастью пустоты. Над пропастью бессмысленности. А Сорок вторая улица! Вершина мира – так ее называют нью-йоркцы. Где же тогда его подвал? Вы можете целыми днями ходить по Сорок второй с протянутой рукой, и они будут кидать вам в шапку горячие угольки. Бедные и богатые, они ходят здесь, задрав голову, рискуя сломать шею, и смотрят на свои великолепные белые тюрьмы. Они ходят точно слепые гуси, и прожекторы серебрят эти пустые лица пудрой восторга» [Миллер 2003, 110]. При этих строках вновь вспоминается Горький и его мнение о нью-йоркцах… 131 Миллер не ограничивается критикой Нью-Йорка, его неприязнь распространяется на всю Америку. В лучших традициях антиглобалистов XXI века звучат его слова, сказанные почти век назад и звучащие пророчески: «Америка – это воплощение гибели. Она утянет за собой весь мир в бездонную пропасть. Ничто не сможет спасти мир от этого отравляющего вируса» [Миллер 2003, 118]. Почему Америка вызывает такую неприязнь у Генри Миллера? Да потому, что она представляется писателю скопищем копошащихся червей, среди которых нет ни одного человеческого лица. И самое главное, сам Миллер ощущает себя внутри этой серой, копошащейся массы: «С высоты Эмпайр-Стейт-Билдинг я взирал как-то ночью на город, который я знал снизу; вон они в истинной перспективе, человекообразные муравьи, вместе с которыми я копошился, человекообразные вши, вместе с которыми я боролся. Спешат куда-то черепашьим шагом, все как один беззаветно исполняя свое микроскопическое предназначение. В порыве бесплодного отчаяния возвели они во славу и гордость свою это колоссальное сооружение. И от самого верхнего яруса этого колоссального сооружения протянули гирлянду клеток, в которых крохотные канарейки выводят свои незамысловатые трели. На предельной высоте своих честолюбивых устремлений заливаются они, эти шмакодявочки, во славу драгоценной жизни. Быть может, лет через сто, в такие клетки, думал я, насажают живых людей – беспечных дегенератов, чтобы пели они о грядущей жизни… Глядишь, через тысячу лет все станут дегенератами – что рабочие, что поэты, и снова все превратится в руины, как это уже не раз бывало» [Миллер 2001, 87-88]. И здесь Миллер обращается к Достоевскому, человеку, который так много писал об одиночестве в городе. Писал, сострадая «маленькому человеку». Сострадает ли человечеству Генри Миллер? Не знаем, во всяком случае, его творчество говорит об обратном. Но, видимо, если на страницах книг Миллера возникает фигура Достоевского, то тема «бедных людей» не оставляет писателя равнодушным. Вообще, «русская тема» красной нитью 132 проходит и через «Тропик Рака», и через «Тропик Козерога». Эта тема не сводится к одному Достоевскому. В «Тропике рака» она связана с двумя женскими образами – Тани и Маши. Портрет Маши попросту карикатурен, Тани – более реалистичен, но и по тому и другому трудно представить русского человека. Говоря о России, Миллер замечает, что в этой стране «не нужны печальные лица, там хотят, чтобы все были бодры, полны энтузиазма и жизнерадостности. Для меня это звучит так, будто речь шла об Америке». Действительно, провозглашая «культ оптимизма», советские идеологи, на словах осуждая США, во многом брали с них пример, в том числе и в пресловутом «хэппи-энд». Генри Миллер обуреваем гигантским замыслом «вытеснить Горацио Элджера из североамериканского сознания» [Миллер 2001, 41-42]. Это поистине грандиозный замысел, ибо, по мнению английских критиков, «романы успеха», в которых действовали энергичные, решительные герои прославляли американизм, «американскую мечту». Они прославляли Американца. Генри Миллер, напротив, намеренно принижает Американца. Он уверен, что такие люди как американцы, не могут добиться успеха в жизни. Эти люди внутренне несвободны, ибо живут в «тюрьмах». Они «маленькие», хотя и кажутся себе очень большими в своей гордыне. У них в душе «хаос». Они «мертвы», ибо живут в мертвых городах. Эта тема появилась еще в «Тропике Рака» и нашла продолжение в «Тропике Козерога» в описаниях Нью-Йорка. «Я сидел прикованный к своему письменному столу, и с быстротой молнии путешествовал по свету. И я узнал, что жизнь везде одна и та же – голод, унижение, порок, невежество, алчность, лихоимство, крючкотворство, пытки, деспотизм, ненависть человека к человеку; ярмо, уздечка, недоудок, шпоры, хлыст. Чем мельче калибр, тем хуже человеку. Люди ходили по улицам Нью-Йорка в этом омерзительном скотском снаряжении, презренные, низшие из низших, топтались, как кайры, как бараны, как дрессированные тюлени, как покорные ослы, как большие истуканы, как полоумные гориллы, 133 как тихопомешанные, ловящие слюнявым ртом болтающуюся приманку, и тьмы и тьмы их были готовы править миром, писать величайшую из книг» [Миллер 2001, 49]. Человек унижен в «Тропике Козерога» до предела. Но и сам Миллер на улицах Нью-Йорка – «суть нуль и ничто». Он кружит по этому «каменному лесу», в центре которого «мертвечина и хаос». Мы уже говорили, что Нью-Йорк постоянно сравнивается с Парижем. Но если даже парижские нищие «самые грязные и самые гордые в мире» [Миллер 2003, 80], то «Нью-Йорк даже богатому человеку внушает, что он здесь никто. Это холодный, блестящий, злой город. Его дома давят. … Колоссальный город. Странный. Непостижимый» [Миллер 2001, 82]. Но вот Миллер покидает Нью-Йорк и отправляется в Калифорнию, в городок Биг-Сур, где и пишет автобиографический роман с одноименным названием. Тональность романа абсолютно иная, чем в его предыдущих произведениях. Никакой грубости, ни единого ненормативного слова. «Здесь я обрету покой», – наконец говорит автор. Но на наш взгляд, если бы Генри Миллер не создал свои скандальные книги, а ограничился лишь романом «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха», мир вряд ли бы узнал имя выдающегося американского писателя – Генри Миллера. Мы познакомились с двумя образами Нью-Йорка, созданными одним из самых утонченных, элегантных писателей Америки Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом и «анфан террибль» Генри Миллером. У каждого из них свой Нью-Йорк. Они оба относятся к городу своеобразно и оба недолюбливают его. Для обоих Нью-Йорк – город «утраченных иллюзий». Но, почему-то, и тот и другой стремятся возвратиться в Нью-Йорк, в город, который привлекает и отталкивает, в город любви и ненависти [Набилкина 2012]. 134 3.3. Город больших возможностей: Нью-Йорк в восприятии Джона Дос Пассоса Джон Дос Пассос вошел в американскую и мировую литературу как художник с полным набором самых разнообразных качеств – экспериментатор, символист, модернист, коммунист, революционер, близкий друг Советского Союза. Настолько близкий, что в журнале «Знамя» (№№ 5-6, 1933) в двух номерах была проведена целая дискуссия – «Советская литература и Дос Пассос», в которой с жаром приняли участие ведущие советские литераторы и партийные функционеры от искусства. 1925 год был очень плодовитым для американской литературы. В этот год мир увидел три великих романа, посвященных Америке: «Американскую трагедию» Теодора Драйзера, «Великого Гэтсби» Скотта Фицджеральда и «Манхэттэн» Джона Дос Пассоса. Все они по-своему рассказали о своей стране и времени, в котором они жили. Но вывод, к которому пришли писатели, был один: в великой стране, в стране «больших возможностей», в стране «великой Американской мечты» счастье – очень редкая вещь, и счастливых людей встретить очень трудно. Все три романа повествуют о судьбе героев в американских городах: «Американская трагедия» – в глубинке, «Великий Гэтсби» - на окраине НьюЙорка Лонг Айленде, «Манхэттэн» – в деловой части Нью-Йорка, в его сердце. Как известно, Манхэттен – остров, который купили голландские поселенцы у индейцев за бусы и прочие стекляшки, стоимостью 24 доллара. С тех пор этот остров превратился в кипучую, полную жизни деловую часть «большого» Нью-Йорка – «Муравейника на Гудзоне». Но во времена Дос Пассоса это был просто город, с банками, китайскими прачечными, итальянскими ресторанами и забегаловками, жилыми кварталами и портом. Но уже тогда он начал превращаться в «манхэттэнский поток». Русский перевод – «Манхэттэн» не передает, как справедливо заметила автор наиболее 135 глубокой статьи о романе А. Степанова, динамизма названия. В то время как Дос Пассос самим заглавием подчеркивает пестрый калейдоскоп жизни: событий, лиц, меняющего городского пейзажа, запахов и цвета. Экспрессия романа тесно связана с развивающимся кинематографом. Унаследовав у русских кинематографистов С. Эйзенштейна и В. Пудовкина принцип монтажа, Дос Пассос удачно переносит его на бумагу, делая свои романы кинематографичными. Мелькают имена, лица, детали городской жизни. Как в киноленте, сменяются городские сцены. Но из сотни персонажей мы можем выделить главных действующих лиц, вокруг которых двигается повествование. Это юрист-неудачник Болдуин, актриса красавица Эллен Тэтчер и ее муж Джим Херфи. Их жизнь, полная взлетов и падений, происходит в Нью-Йорке, а точнее в Манхэттэне. Роман начинается с кинематографического клипа: море и чайки. Затем следует сцена, выполненная в дегуманизированном стиле отчуждения: «Держа корзину, точно ночную посудину, в отставленных руках, сиделка открыла дверь в большую, сухую, жаркую комнату с зелеными, выцветшими стенами. В воздухе, пропитанном запахами спирта и йодоформа, дрожал мучительный, слабый, унылый крик. Он доносился из ряда корзин, висевших вдоль стены. Поставив свою корзину на пол, поджав губы, сиделка заглянула в нее. Новорожденный ребенок слабо копошился в вате, точно комок земляных червей» [Дос Пассос 1992, 10]. С первых строк мы погружаемся в атмосферу обмана, несбывшихся иллюзий. Чудо природы – ребенок, напоминает комок земляных червей, а море загажено апельсиновыми корками и капустными листьями. «Америка – страна больших возможностей» – этот рефрен пронизывает вставную новеллу, предваряющую главу. Эта новелла дается на фоне грустных дум Джорджа Болдуина, размышляющего о том, надо ли было кончать университет, чтобы не иметь ни одного клиента. Другой рефрен связан с попыткой уехать из Нью-Йорка. Но город так просто не отпускает. Вот персонаж Дос Пассоса Гэс Мак-Нийл хочет уехать в 136 Северную Дакоту, в отдаленный штат, где ему обещают свободный участок земли. Происходит обмен мнениями между ним и владельцем небольшой закусочной. Хозяин закусочной тоже мечтает уехать из города. Их мысли совпадают. «Этот город – сущий ад», – говорит владелец пивной. После нескольких кружек пива, Гэс в приятном подпитии идет со своей тележкой, погруженный в думы о переезде. Дос Пассос выстраивает образный ряд, говорящий о надвигающейся беде: «Газовые фонари еще некоторое время дрожали на багрово-холодных улицах… Утро стало пасмурным. Свинцовые тучи собрались над городом» [Дос Пассос 1992, 49-50]. Гэс продолжает идти, не замечая приближающейся опасности. Вдруг он осознает, что оказался на рельсах: «Удар опрокидывает тележку. Вагоны, лошадь, зеленый флаг, красные дома кружатся и исчезают во мраке» [там же, 51]. Так писатель проводит мысль, что Нью-Йорк – «опасное» место для жизни. Причем Дос Пассос делает это кинематографически. Сцена с крушением тележки так и просится на экран, напоминая сцену с коляской из «Броненосца «Потемкин». Нью-Йорк объединяет разных людей. Один из проходных персонажей – Бэд. Мы видим Манхэттен его глазами, пропускаем город сквозь призму его ощущений. На Манхэттене живут не только богачи – там жили люди разных сословий, разного материального достатка. Вот две сценки, бросающиеся в глаза. Их разделяют несколько страниц, но разница огромна. «Эмиль зажег две горелки на столике для посуды и запах горячего хереса, сливок и омаров начал распространяться по комнате… Подав омары и наполнив бокалы, Эмиль прислонился к стене и провел рукой по влажным волосам. Глаза его остановились на пухлых плечах женщины, сидевшей впереди него… Человек с плешивой головой, сидевший рядом с ней, переплел свою ногу с ее ногой… «Но что случилось с прелестной Фифи?» – каркнул человек с бриллиантом, прожевывая омар», – рисует новую кинематографическую картину Дос Пассос [Дос Пассос 1992, 32]. Эта сцена дана в восприятии официанта Эмиля, который с завистью наблюдает за посетителями роскошного ресторана и представляет на их месте себя. Далее сцена продолжается. «Человек с 137 бриллиантом» отвлекается от своей спутницы и разговаривает с мужчиной. Речь идет о покупке недвижимости. В разговоре мелькают имена миллиардеров Астора, Вандербильта, Фиша. Вновь мы видим происходящее глазами Эмиля. Подают две бутылки дорогого шампанского «Моэ и Шандон». Эмиль выходит из отдельного кабинета: в его услугах больше не нуждаются. «Одна тарелка за другой скользит из жирных рук Бэда. Запах помоев и горячей мыльной пены. Взмах мочалкой, в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Колени промокли от разлитой воды, жир стекает по рукам, локти сведены судорогой» [там же, 45]. Это тоже Нью-Йорк, тоже Манхэттен. Но здесь властвуют другие запахи. Пахнет не духами и дорогим табаком, как в элитном ресторане, а помоями вперемешку с запахом солонины с бобами – типичной пищей бедняков. Но Бэд рад и этому кушанью. Его мутит от голода. Но в этот момент его глаза встречаются с глазами человека, похожего на агента полиции. Бэд, по-видимому, не в ладах с законом, поэтому он спешит убраться из заведения, сожалея о том, что не получил деньги за два часа тяжелой работы. «Он пошел по Бродвею мимо Линкольн-Сквера через площадь Колумба вниз, по направлению к центру, где толпа была гуще», – детально описывает его маршрут Дос Пассос. [там же, 46]. Каждому персонажу соответствует свой городской пейзаж. Безработный Бэд изображается на фоне сточных канав, пустырей, ржавых консервных банок. Джордж Болдуин, вначале адвокат-неудачник, а затем преуспевающий юрист изображен на фоне величественных зданий, серо-синеватого неба и хрупких веток деревьев. Эллен – на фоне ярких электрических реклам, садов, пахнущих орхидеями, где она танцует со своим возлюбленным в золотистозеленом платье, под рукоплескание миллионов поклонников. Джимми Херф – на фоне пропитанного дегтем щебня у кладбищенских ворот, закопченных рабочих, серых лавок гробовщиков и серых домов. Каждому персонажу соответствует свой запах и цвет. Херфу – запах чеснока и пота, горелого масла, пара и раскаленной краски. Эллен – свежий 138 запах моря и золотистый цвет. Бэду – запах помоев и дешевой еды. Гэсу – запах пива. Джо Харленду соответствует запах помойного ведра и гнилого дерева. Посетителям ресторана – запах омаров, хереса и сливок. Нью-Йорк, Манхэттен – «обманный» город. Он привлекает и губит. Привлекает своим динамизмом, своими кажущимися возможностями, своей атмосферой свободы. Примечателен разговор двух персонажей романа. «Я бы хотел чего-нибудь добиться. Это моя мечта. Европа прогнила и воняет. А в Америке молодой человек может выдвинуться. Происхождение роли не играет, образование не имеет значения. Все дело в том, чтобы выдвинуться», пылко говорит молодой иммигрант [Дос Пассос 1992, 26]. В другой сцене мы слышим разговор двух евреек – матери и дочери: «Я больше не еврейка! – внезапно взвизгнула молодая женщина. – Тут вам не Россия! Тут Нью-Йорк!» [там же, 27]. Дос Пассос создает удивительно насыщенный, калейдоскопический образ «большого города». Не скажем, что до него этот образ не создавал никто из писателей, но, используя приемы кинематографа, он сделал это впервые. Почему же Дос Пассос произвел такое впечатление на советскую литературу? Причин здесь несколько. Во-первых, он был близок своим революционным искусством «советскому эксперименту», причем эксперименту во всем: в социальных отношениях, в художественном плане, в разрушении норм традиционного реалистического романа, в обращении к новым формам отражения действительности. Во-вторых, он был близок новой советской власти по своему духу, духу писателя-революционера. В этот период коммунистические вожди активно нуждались и искали крупных писателей и деятелей искусства, и заполучить в свои ряды такого художника, как Дос Пассос была большая удача. В-третьих, не прошло и нескольких лет после создания «Манхэттэна», как он отправился в Советский Союз своими глазами убедиться в удаче «социалистического эксперимента». Негативное отношение к городу было не новым в мировой литературе. Оно началось с тех пор, как Э. Верхарн выпустил в 1895 году свой сборник 139 «Города-спруты». Русской литературе тоже было не чужды антиурбанистические настроения. Достаточно привести в пример роман Андрея Белого «Петербург», где так же, как у Дос Пассоса, прозвучал мотив «обманности», эфемерности города. Причем эти антиурбанистические настроения касались самых величественных, красивейших и попросту замечательных городов мира: Нью-Йорка и Санкт-Петербурга. Что касается восприятия Нью-Йорка русскими писателями, то это восприятие было диаметрально противоположным. Если Г. Мачтет искренне восхищался НьюЙорком, то антиурбанист Максим Горький обрушил на этот город всю силу своего сарказма в памфлете «Город Желтого Дьявола». Две противоположные тенденции пронизывают роман: уехать из НьюЙорка как можно дальше и не уезжать из Манхэттена ни за что. «Почему я влачу жалкое существование в этом сумасшедшем, эпилептическом городе?», – задает сакраментальный вопрос любовник Эллен Стэн [Дос Пассос 1992, 184]. «На кой черт люди живут в городах?» – задает не менее сакраментальный вопрос Херфи. Этот вопрос почти полностью совпадает со словами одного из героев Горького Коновалова, которому «тошно» в городе и тянет «на вольный воздух». «Напрасно ты, Максим, в городах трешься… Тухлая там жизнь. Ни воздуху, ни простору, ничего, что человеку надо», – говорит он [Горький 1990, 57]. «Я не уеду из Нью-Йорка, что бы ни случилось», – говорит одна из персонажей романа. «А я не знаю, что бы дала – лишь бы уехать из Нью-Йорка… Честное слово, если бы мне предложили петь в кино в самой глухой провинции, я бы согласилась», – говорит другая [Дос Пассос 1992, 248]. Эти тенденции борются в романе. В конечном итоге Джим Херфи решает уехать из Нью-Йорка. В заключительной сцене мы видим его бредущим по шоссе: «Он шагает мимо грязных пустырей, на которых дымятся кучи мусора. Солнце бросает красноватые лучи на ржавые котлы, скелеты грузовиков, куриные косточки фордов, бесформенные массы изъеденного ржой металла. Джимми ускоряет шаг, чтобы поскорей выбраться из облака вони. Он голоден. На больших 140 пальцах волдыри» [там же, 381]. Он видит грузовик, остановившийся у фургона-ресторана, где Джимми потратил последние 25 центов на завтрак. Происходит знаменательный диалог между ним и водителем грузовика: «Не подвезете ли вы меня? – спрашивает он шофера. - А вам далеко? - Не знаю ... Довольно далеко» [там же, 384]. На этом роман заканчивается. Дос Пассос продолжил тему Америки в своем дальнейшем творчестве. Он приступил к написанию широкого полотна – истории США, в которую вошли романы «42 параллель», «1919» и «Большие деньги». Эти романы уже не так калейдоскопичны, как «Манхэттэн». Видимо, Дос Пассос извлек урок из американской критики, в частности Э. Синклера, который заявил: «Вы испортили книгу той калейдоскопичностью формы, которую вы ей придали. Я убежден, что изложи вы просто и без обиняков весь тот юмор и страсть, которые заложены в «Манхэттене», вы создали бы великое произведение» [Засурский 1984, 295]. Но это частное мнение писателя. На самом деле «Манхэттен» явился новым словом в американской, но не в мировой литературе. Хотя кинематографические находки Дос Пассоса были ярки и оригинальны и нашли продолжение в его последующем творчестве: киноглаз, камера-обскура, монтаж. Именно экспериментальная форма романов Дос Пассоса, его революционное искусство и вызвало творческую дискуссию в СССР. Дискуссию открыл член оргбюро по подготовке съезда советских писателей, партийный функционер А. Лейтес, который в своем развернутом докладе сразу же расставил все акценты, охарактеризовав Дос Пассоса как несомненно революционного писателя, близкого друга Советского Союза, «как большого мастера в показе отдельных деталей», но «чрезвычайно беспомощного, когда ему приходится показывать коллектив» [Лейтес 1933, 159]. Далее он остановился на преодолении «джойсизма», на том влиянии, которое оказал Джойс на Дос Пассоса. Коснулся он и «изысканного», 141 «эстетского» Хемингуэя, оказавшегося во власти мелкобуржуазного индивидуализма и уподобившего солдат муравьям, беспомощно бегущим по полену, брошенному в пылающий костер. И о влиянии экзистенциализма, правда, не употребив это слово, видимо, еще не зная его. Завершая доклада, Лейтес заявил, что Дос Пассос – художник, который, несмотря на все мелкобуржуазные «выверты» – «свой», что мы не должны его терять и что «наша задача – помочь Дос Пассосу наиболее победоносно выйти из лабиринта своих образов» [там же, 157]. Дискуссию продолжил Вс. Вишневский, который в своем выступлении подхватил мысль Лейтеса о том, что Дос Пассос, как и другие представители мелкобуржуазной интеллигенции Запада, симпатизирует «пролетарскому коммунистическому движению» скорее пассивно, чем активно, и что надо способствовать радикализации этой интеллигенции. Затем он «защитил» Джойса, заметив, что без Джойса не было бы Дос Пассоса. «Что хорошо у Доса? То, что он ищет». Дискуссию продолжил переводчик Джойса и Дос Пассоса В. Стенич. Свое выступление он начал с творчества Д. Джойса. Именно Джойс проложил Дос Пассосу дорогу к принципиально новой форме его романов. В то время творческие споры еще были возможны, но уже тогда, в начале 1930 годов, надо было быть очень осторожным в оценках, особенно западных художников слова. Прежде всего, Стенич отделил Дос Пассоса от Джойса. Это было необходимо. Джойс, как и Дос Пассос, создал роман о городе. Но Джойс так усложнил свой роман, что многим он стал непонятен, и мало кто из советских писателей, тем более из руководства, прочел его. Дос Пассос же в своем романе «Манхэттен» выступил с критикой главного города Соединенных Штатов, показал его бесчеловечность и чуждость человеческой природе. По сути дела, Дос Пассос повторил в своем романе то, что показал в своем памфлете Горький. Но, отделив Дос Пассоса от Джойса и таким образом сняв с себя обвинения в «низкопоклонстве перед Западом», Стенич сказал главное: «Не учиться, игнорировать Джойса смешно, как смешно физику говорить 142 сейчас, что он желает работать без учета теории относительности Эйнштейна или без учета системы Коперника, – по системе Птоломея» [Стенич 1933, 151]. Стенич выделил слабую, на его взгляд, сторону романа: изобилие персонажей, которых очень трудно запомнить, а также его композицию, при которой читатель забывает про героя прежде, чем встретится с ним вновь. Но Дос Пассоса «нужно потерпеть», ибо он «воспринимается как советский писатель» [там же, 154]. Объявляя Дос Пассоса советским писателем, Стенич допускал распространенную в те годы ошибку: рассуждал о близости американской и советской культур. При этих условиях был велик соблазн объявить наши культуры типологически сходными, без учета глубинных различий в национальных характерах русских и американцев, опираясь лишь на внешнее сходство. В этом отношении ошибался не только Стенич, но и многие другие деятели, в том числе и руководство Советского Союза. Другой участник дискуссии, И. Сельвинский заявил, что, несмотря на «деструктивность композиции романов, Дос Пассос никак не может повлиять на строительный пафос советского писателя». Далее он обратил внимание на то, что советские писатели могут и должны учиться у Дос Пассоса, как облечь агитационный материал в привлекательную художественную форму, поскольку они все еще пользуются для этого «усадебной амфиладой». Затем слово взял авторитетный критик Б. Перцов. Он признал, что Дос Пассос оказывает влияние «на целую группу наших молодых прозаиков». Перцов заметил, что Дос Пассос близок советским писателем тем, что он является «революционным пессимистом в отношении капитализма». Завершил дискуссию все тот же А. Лейтес. В своем заключительном выступлении он обрушился на Вс. Вишневского за то, что тот призывал «учиться у Дос Пассоса», за то, что тот «слишком увлекается чтением Джойса, Пруста, Хемингуэя, отнимает у него (у Вишневского) возможность изучать более ценных, плодотворных для художника мастеров западной культуры» [Лейтес 1933, 161]. 143 Подобное выступление одного из функционеров коммунистической идеологии предвещало разгромные речи борцов с «низкопоклонством и космополитизмом» более позднего времени, хотя вскоре и некоторые участники дискуссии, как, например, Стенич, окажутся на Лубянке и сгинут в подвалах НКВД. Далее Лейтес отверг какоето ни было влияние Дос Пассоса на советских писателей и заявил, что Дос Пассос, «вырвавшись на широкий революционный простор, схватил в руки микроскоп Джойса» [там же, 163]. То есть, явно намекнул, что тот, кто пользуется приемами Джойса, никогда не постигнет широты революционных горизонтов в литературе. В конечном итоге, он сказал, что «Дос Пассос «представляет обозные настроения американского мелкобуржуазного интеллигента» [Лейтес 1933, 169]. Дискуссия, посвященная «диалогу культур», была плодотворна. Но отдельные выступления носили явно тенденциозный характер. Они предвещали огульное охаивание всей западной литературы и всего западного образа жизни. Такие, как Вс. Вишневский, получив нелицеприятный урок, поняли, что надо держать «нос по ветру» и уже не допускали отклонений «от генеральной линии партии». Впоследствии Вишневский «смело» ругал Михаила Булгакова и Торнтона Уайлдера за их абстрактный гуманизм и искажение «правды жизни». Что касается Джона Дос Пассоса, то советские писатели вскоре отвернулись от него, он перестал быть «своим». Уже его роман «Большие деньги», завершающий трилогию «США» был осужден советским литературным сообществом за отход от критических позиций и переход на сторону буржуазии. Хотя роман был объявлен «лучшим» Конгрессом американских писателей (1937). С тех пор Дос Пассос был на долгие годы забыт и советской критикой, и издательствами и упоминался лишь в негативном контексте. Лишь Я.Н. Засурский, с присущей ему честностью, посвятил писателю объективную главу в своей книге «Американская литература ХХ века». Возвращение писателя российскому читателю произошло только после «перестройки» в 90-е годы прошлого века [Набилкина, Кубанев 2013]. 144 3.4. В поисках «другой» Америки О. Генри (Уильям Сидней Портер) был одним из первых писателей в американской литературе, кто затронул тему «маленького человека в большом городе». Тему, которая уже век волновала русскую литературу. Он одним из первых бросил вызов «изысканной традиции» в литературе США, согласно которой Новый Свет лишен пороков Старого. В Новом Свете все счастливы, богаты и полны оптимизма. Нет, не совсем. Такой вывод может сделать читатель после прочтения рассказов О. Генри. Герои его произведений – простые американцы среднего класса, горожане, живущие в «большом городе». Когда-то они тоже надеялись на великое будущее, на успех и богатство. Хотя «великая американская мечта» прошла мимо них, но они не отчаиваются и довольствуются малым, в надежде, что когда-нибудь и в их двери постучится эта пресловутая Мечта. Откроем, наверное, самый известный рассказ О. Генри «Дары волхвов». Унылая меблированная комната за восемь долларов. Ящик для писем, «в щель которого не просунулось бы ни одно письмо» и «кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука». Все это складывается в картину если не ужасающей нищеты, то «пристойной бедности». Но двое, живущие в этой комнате, счастливы, оттого что любят друг друга. Любят той всепоглощающей любовью, когда хочется расстаться с самым дорогим, чтобы доставить близкому человеку радость. Но не все рассказы так оптимистичны, как «Дары волхвов». Вот перед нами другой рассказ «Меблированная комната». Этот рассказ напоминает нам «рассказы ужасов», настолько там сгущена атмосфера. Читатель видит перед собой комнату, наполненную призраками. Эта комната пропитала воздух своими ароматами, запахами, звуками, присутствием своих постояльцев. Даже «диван с точащими пружинами» кажется «отвратительным чудовищем, застывшим в уродливой предсмертной судороге». Сама меблированная комната кажется нам страдающим живым существом, израненным и 145 облезлым. Она вся пропахла ощущением смерти. И действительно, в этой комнате покончила самоубийством молодая девушка. Это почувствовал молодой человек, разыскивающий ее. Не в силах справиться с ощущением ужаса, ощущением безысходности, он тщательно затыкает все щели и включает газ. О. Генри один из первых создателей «городской новеллы». Из трехсот рассказов 140 он посвятил Нью-Йорку. Перед читателем раскинулся действительно «большой город», где живут миллионы «маленьких» жителей и очень небольшая кучка Гарун-аль-Рашидов. «Великий город Багдад-над-Подземкой переполнен калифами. В его дворцах, на его базарах, в чайханах и в переулках толпами скитаются Аль-Рашиды во всех обличьях, ищущих развлечений и жертв для своей необузданной щедрости» [О. Генри 2000, 397]. Вот они-то и являются вершителями судеб. Вот один такой Гарун-аль-Рашид устраивает «судьбу» своего сына путем пробки по дороге в театр, и читатель точно знает, где это произошло: «где Бродвей перекрещивается с Шестой авеню и Тридцать четвертой улицей», когда кэб с молодым Ричардом Рокволлом едет по маршруту - Сорок вторая улица – Бродвей – театр Уоллока. Другой – Акула Додсон вспоминает, как он застрелил своего напарника после ограбления почтового поезда и без колебаний обрекает своего старого приятеля на нищету, произнеся свою коронную фразу: «Боливар двоих не выдержит». Третий в «Истории калифа, пытавшегося облегчить свою совесть», «подойдя к дубовому буфету стоимостью в тысяча двести долларов, налил в стакан шотландского виски, добавил содовой воды и выпил» [там же, 9]. Далее излагается история в духе Горацио Элджера о бедном углекопе, который, экономя каждый цент, к 45 годам, благодаря беззаветному труду и экономии, стал миллионером и пожертвовал 200 тысяч долларов одному из лучших колледжей. Пожертвование было на научное оборудование, но так как этот колледж наукой не занимался, деньги были потрачены на клозеты, что в глазах 146 жертвователя было одним и тем же. Вскоре миллионеру надоела благотворительность и он начал отказывать всем просившим. Хотя О. Генри и называли великим «развлекателем и утешителем», но иногда сквозь маску комика проглядывал едкий и беспощадный сатирик. Вот два простака с Запада попадают в Нью-Йорк, где, как им кажется, Город станет их легкой добычей. Они знакомятся с «Дж. Пирпонтом Морганом», который рассказывает им, что хочет купить картину да Винчи за 75 тысяч долларов. К своей радости, они обнаруживают, что картина продается в маленькой лавке и стоит всего две тысячи. Ровно столько, сколько у них есть. Они тут же покупают картину и хотят перепродать ее Моргану и очень удивляются, когда узнают, что такие картины висят в каждом магазине и стоят всего три доллара с небольшим. А настоящий Дж. Пирпонт Морган уже два месяца путешествует по Европе. Рассказ называется «Младенцы в джунглях». Здесь мы вновь сталкиваемся с безобидным комиком, стремившимся превратить в шутку самые неприглядные вещи. А вот еще один Гарун-аль-Рашид только в женском обличье, переодетый и никем не узнанный, идет по Бродвею. На этот раз эта девушка – наследница крупного состояния и владелица особняка на одной из самых богатых улиц Нью-Йорка. Она переоделась в платье прислуги, но не утратила ни своей красоты, ни своего добропорядочного вида. Случайно она познакомилась с молодым человеком. Это бедный архитектор, скромный и трудолюбивый. Но у него есть маленькая слабость: он откладывает по доллару от своего заработка, чтобы раз в несколько недель надеть свой единственный выходной костюм и отправиться на Бродвей, чтобы окунуться в атмосферу роскоши и почувствовать себя богатым прожигателем жизни. Не подозревая, кто эта девушка на самом деле, молодой человек приглашает ее в роскошный ресторан и пускает ей пыль в глаза, рассказывая о своем праздном образе жизни и веселых забавах богачей. Простившись с ней, он возвращается в свою унылую сырую комнатку, вешает свой выходной костюм и возвращается к трудовым будням. А та возвращается к себе в роскошный 147 особняк и мечтательно рассказывает своей старшей сестре о том, что когданибудь они обе выйдут замуж, но она никогда не полюбит бездельника, даже если у него прекрасные синие глаза и он почтительно относится к бедным девушкам. Вот еще одна гримаса судьбы, на которые способен Нью-Йорк. Этот рассказ «Мишурный блеск», как и все рассказы О. Генри, назидателен, но далек от реальности. Ведь такие девушки существуют только в сказках и не дадут бедным молодым людям ни единого шанса, как не дали они его Джею Гэтсби. Скорее всего, молодого человека ждет судьба юноши из рассказа «Из любви к искусству». Он тоже притворяется. Притворяется, что он успешный художник и удачно продает свои картины. На самом деле он работает истопником в котельной. Но и его возлюбленная притворяется, что она работает учителем музыки в богатом доме. Истинное положение дел выясняется совершенно случайно, когда из прачечной послали за мазью от ожогов для одной из гладильщиц белья. Но это открытие не нарушает идиллию любви. Ведь все по плечу, «когда любишь». Квинтэссенция безумной жизни в Нью-Йорке выражена в рассказе «Роман биржевого маклера». Биржевой маклер забывает, что уже обвенчался со своей стенографисткой, и снова просит выйти за него замуж. Американская критика не сочла О. Генри серьезным писателем, несмотря на всю оригинальность его творчества. А ведь этот писатель был родоначальником «городской новеллы», и в ней крупнейший город США – Нью-Йорк описан с разных сторон, а нью-йоркцы показаны во всем многообразии жизненных ситуаций. Перед читателем проходят не только простые люди – продавщицы, служанки, клерки, неудачливые художники и бродяги, но и сильные мира сего – банкиры, крупные биржевые дельцы и миллионеры. Их всех объединяет Нью-Йорк. Именно Нью-Йорк является главным героем произведений О. Генри. Его новеллы пользовались огромной популярностью в России в 20-30 годы ХХ века. Русская критика лучше разглядела талант американского писателя. Серьезные литературоведы 148 А. Аникст, И. Левидова, А. Старцев, А.Б Эйхенбаум посвятили ему свои исследования. «Художником большого капиталистического города» назвал О. Генри А. Аникст [О. Генри 1977, 412]. Он замечает, что нью-йоркцы порой ждут милости с небес, не замечая, что сокровища лежат у них под ногами, в них самих. На это и указывает О. Генри. Писатель ищет «другую Америку». Америку не Акулы Додсона, а Америку простых американцев, тех, кому предназначены «дары волхвов», как Джим и Делла, или тех, кто «просто любит», как Джо и Дилия. О. Генри испытывал к Нью-Йорку амбивалентные чувства. С одной стороны, он любил этот город, полный жизни и энергии. С другой, он не может пройти мимо его холодности, безжалостности и негостеприимства. Разница между человеком природы, не испорченным цивилизацией, и «большим городом» показана в «Квадратуре круга». «Сэм Фолуэ прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв» [О. Генри 1977, 459]. Этот пассаж напоминает нам «Город Желтого Дьявола» М. Горького. Сэм Фолуэ прибыл в Нью-Йорк, чтобы убить своего кровного врага, но, раздавленный «большим городом», он растерялся. «Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обратилось к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак, и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества» [там же, 460]. И вот он, наконец, встречает своего заклятого врага. И тут происходит метаморфоза. Это единственное знакомое лицо, которое он видит, единственное из миллионов чужих лиц. И оно уже кажется ему родным. «Здорово, Кол! До чего же я рад тебя видеть! И на углу Бродвея, Пятой авеню и Двадцать третьей улицы кровные враги из Кэмберленда пожали друг другу руки» [О. Генри 1977, 461]. 149 Талант О. Генри признан русской критикой. Недаром О. Генри удостоился места в фундаментальном исследовании «История литературы США» под редакций Я.Н. Засурского [Засурский 2009]. 3.5. Американские города глазами Ильи Эренбурга и Виктора Некрасова Америка всегда привлекала внимание советских журналистов и писателей. Она получила освещение в публицистических произведениях С. Есенина «Железный Миргород» и В. Маяковского «Америка», травелоге Б. Пильняка «О’Кей, или Американский роман», И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка». Стоит сказать несколько слов о травелоге Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Это было наименее идеологизированное произведение об Америке, начиная с первых лет советской власти. Писатели попробовали взглянуть на Америку без идеологических шор, с позиций доброжелательности и объективности. Они попытались рассказать правду о заокеанской стране, не мажа ее черной краской. Через десять лет, в 1946 году, это же попытался сделать Илья Эренбург. Эренбург отправился в Соединенные Штаты летом 1946 года в составе небольшой делегации – Симонов, генерал Галактионов и сам писатель. О характере поездки мы узнаем из другого источника – из мемуаров К. Симонова «Глазами человека моего поколения». Симонов пишет, что этой поездке придавали особое значение: советским писателям следовало рассказать американцам о мирных намерениях СССР. Перед поездкой Симонова, как главу делегации, вызвал Молотов и беседовал с ним по поручению Сталина. Чтобы придать членам делегации как можно больше самостоятельности и независимости, их снабдили весьма крупной суммой в долларах. В 1946 году «холодная война» еще только начиналась. Хотя фултонская речь Черчилля уже была произнесена, но из памяти простых 150 американцев еще не выветрилась память о том, что русские были союзниками в борьбе против Гитлера, да и внесли немалый вклад в разгром Японии. Симонов показывает блестящее и остроумное поведение Эренбурга во время совместных выступлений перед американской аудиторией и вообще отзывается о своем товарище по делегации тепло и уважительно. Но Эренбург не был бы писателем и журналистом, если бы не рассказал советским читателям об Америке. Сделал он это в своем травелоге, назвав его просто: «В Америке». Вот как описывает Эренбург встречу с первым американским городом: «Внизу показался первый американский город – Бостон. Он как будто рвался к самолету своими небоскребами. Таких городов я прежде не видел, хотя исколесил всю Европу. «Новый Свет», – с гордостью сказал соседянки. Девушка принесла томатный сок и анкеты для приезжающих; в анкете имелась графа: какой вы расы – белый или цветной? Новый Свет был воистину новым…» [Эренбург 1954, 5, 666-667]. Что поразило советского журналиста? Во-первых, никогда не виданные небоскребы. Во-вторых, томатный сок. (О томатном соке писали еще Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке»). В-третьих, графа в анкете. Томатный сок тогда пили только в Америке. Ильф и Петров называли его «соком из помидоров», томатным – его назовут позднее. Что касается графы о расе, то члены делегации не посчитали нужным отвечать на «дурацкие» вопросы и были немедленно наказаны. Когда все пассажиры уже давно прошли паспортный контроль, они «все еще томились в маленькой комнате, а полицейские обсуждали, почему трое «красных» не хотят ответить – белые они или цветные» [там же, 667]. Вообще, расовой проблеме в этом сравнительно небольшом очерке уделяется много места. Нью-Йорк поразил Эренбурга не небоскребами, не рекламой, а тем, что его жители «куда-то несутся». Он тут же рассказывает анекдот про ньюйоркца, который вскакивает кровати, мчится в офис, покупает на бегу газету, вскакивает в лифт, поспешно приходит к себе в контору, садится в кресло, раскрывает газету и… тут же засыпает. 151 Как и подобает советскому журналисту, Эренбург останавливается на «контрастах Нью-Йорка»: на разноплеменном населении города, где представитель каждой нации живет в своем районе; на Пятой авеню с роскошными магазинами, где можно встретить супругу короля холодильников или жевательной резинки, «все в бобрах, осыпанную бриллиантами»; на Гарлеме, где негры ждут в очереди, пока стирается их единственная рубашка. Эренбург обращает внимание, что, несмотря на грязь на улицах НьюЙорка, сами жители одеты в чистую одежду, благодаря множеству прачечных. Писатель находит несколько теплых слов для Нью-Йорка и его небоскребов. То, что выглядело бы уродливо, говоря о пятиэтажном доме, выглядит иначе, когда речь идет о пятидесяти этажах. «Есть величие, и есть трагизм в этом нагромождении железобетона; оно передает жадность, лихорадку, размах, бесчеловечность империализма», – заключает автор [Эренбург, 1954, 5, 669]. Здесь он вступает, пусть и с оговорками, в полемику с устоявшимся в советской литературе образом Нью-Йорка, вылепленным М. Горьким, который прочно вошел в литературно-художественный оборот практически всех советских писателей и журналистов. Эренбург находит образ Нью-Йорка не омертвляющим, а оживляющим его, передающим его живые чувства: «Вечером кажется, что ты в глубокой долине, вокруг уступы гор, и на них огоньки бесчисленных саклей. Беспокойная красота!» [там же, 669]. Этот образ стал настолько запоминающим, что через десять лет его повторил другой советский писатель – Б. Полевой в своем очерке «Американские дневники»: «Ночью, когда гасли огни и лишь кое-где на большой высоте маячили два-три освещенных окна, казалось, что ты идешь по дну глубокого ущелья, а там, наверху, горят охотничьи или пастушьи костры» [Полевой 1956, 80]. Но, может быть, это схождение было чисто типологическим. 152 Эренбург рассказывает, что американцы мобильны, любят переезжать из города в город в поисках лучшей жизни; что их жизнь, как и вещи, стандартизирована, что они все похожи друг на друга, так же как и сама жизнь. Американцы сетуют, что их обирают монополии, что государство не вмешивается в цены на энергоносители, и им приходится платить все больше и больше: «Американцы вздыхают, но платят, гордо приговаривая: «Зато у нас государство не вмешивается в частные дела» [Эренбург 1954, 5, 681]. Писатель подчеркивает одну неистребимую черту американцев: «Американцы, как дети – непосредственны, откровенны, любопытны, шумливы». Эренбург много внимания уделяет расовой проблеме, особо подчеркивая отношение белых американцев к чернокожим и евреям. Он пишет, что особенно остро расовая проблема стоит в южных штатах, что в Нью-Йорке она завуалирована, но это вовсе не означает, что проблема эта вовсе не существует. Как и подобает правоверному советскому журналисту, Эренбург замечает, что «подружился с неграми, в них так много сердечной доброты». По неписаным законам советской журналистики, негр не мог быть злым и коварным, только добрым и угнетенным. Это отмечал еще в своей работе «Слышать друг друга» замечательный литературовед А.С. Мулярчик, ссылаясь на мнение В. Аксенова. Эренбург не нарушает советскую традицию. Однако Эренбург, будучи по-настоящему талантливым и правдивым литератором, не мог не почувствовать вторичность написанного. Ему не удалось внести в образ Америки живых красок, не удалось, как ему удавалось в своих травелогах о Европе, внести нечто новое, по сравнению с уже рассказанным другими. Может быть, поэтому он написал: «В Америке я не открыл никакой «Америки» [там же, 699]. Среди множества книг и очерков об Америке, об американских городах и просто об американцах – Б. Пильняка «О’Кей, или Американский роман», И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка», Б. Полевого «Американские дневники», В. Катаева «Святой колодец» травелог Эренбурга не хуже и не 153 лучше. Он рассказывает нам об Америке с позиций своего времени. Но нам хочется рассказать еще об одном травелоге, травелоге, написанном фронтовиком, мастером большой литературы, автором повести «В окопах Сталинграда», который в эпоху «оттепели» посмотрел на Америку непредвзято. Мы хотим остановиться на еще одном травелоге «По обе стороны океана. В Америке» Виктора Некрасова. «Первое ощущение от Америки – это неверие, неверие, от того, что ты здесь, в огромном, невероятном городе – Нью-Йорке. Ты смотришь из окна отеля на Пенсильванский вокзал, видишь сияющую надпись редакции журнала «Нью-Йоркер» и не веришь собственным глазам» [Некрасов 1991, 55]. Далее Некрасов подчеркивает, что в Америке он находится не в составе делегации, а с туристической группой, что, как и все участники группы, он заплатил за эту поездку «довольно кругленькую сумму», что руководитель группы – «человек славный, но перепуганный, очевидно еще с детства». Эти комментарии были непривычными для советских читателей, не привыкших к тому, что туристы платят деньги за поездку и что они все время находятся под присмотром органов, неважно каких – профсоюзных, партийных или, как тогда говорили, компетентных. Америка так широко описана, что одна «путешественница» сказала, что больше всего ее поразило в Америке то, что ничего не поразило. Это, конечно, блеф. Некрасова в Америке поразило многое. И в первую очередь, города. Некрасов был в числе первых советских туристов, побывавших в Америке. Он, описывая Эмпайер стейт билдинг, говорит, что самое важное и трудное, «куда более сложное – умение непредубежденно, трезво и добросовестно вникать во все, что ты видишь» [Некрасов 1991, 64]. «А это не так легко, как кажется. К тому же с Америкой, точнее с Соединенными Штатами, мы сейчас не самые закадычные друзья. В идейном и политическом отношении мы противники» [Некрасов 1991, 65], – продолжает он. Для того чтобы понять друг друга, необходимо общаться. Именно к общению призывает нас писатель. Общаться, несмотря ни на что. Из общения вырастает понимание, из 154 понимания дружба. Он вновь возвращается к руководителю группы, который панически боится этого общения и не понимает, что «к людям из Советского Союза тянутся, жаждут общения». Некрасов – архитектор по специальности, поэтому его взгляд на НьюЙорк особенно интересен. Он сразу же говорит, что о Нью-Йорке столько написано, что ему «боязно» высказывать свою точку зрения. Но и тут Некрасов удивляет, удивляет несхожестью взгляда, необычностью восприятия: «Как ни странно, но к этому Вавилону довольно быстро привыкаешь. Сначала небоскребы поражают, особенно в Манхэттене, но очень скоро начинает казаться, что ты всю жизнь их видел, ходил среди них, поднимался на сотый этаж» [там же, 66]. После войны, в период войны «холодной», Соединенные Штаты наши досужие борзописцы сравнивали с гитлеровской Германией. Казалось бы, и Некрасову нужно было пойти по этому проторенному пути, чтобы доказать свою верность традициям передовиц центральных газет. Но и тут писатель идет вразрез с общим мнением: «Разговоры о том, что они (небоскребы – Л.Н.) подавляют, – ерунда (гитлеровская имперская канцелярия в Берлине, несмотря на свои относительно скромные размеры, подавляла меня значительно больше), многие из них, постройки последних лет, очень легки (именно легки), воздушны, прозрачны…, а утром и вечером, освещенные косыми лучами солнца, просто красивы» [там же, 66-67]. Здесь Некрасов вступает с прямую полемику с Горьким, ведь, по словам Горького, американские небоскребы лишены всякого желания «быть красивыми». И вот Некрасов стоит на вершине Эмпайер стейт билдинг, и его охватывает чувство волнения от того, что у него под ногами раскинулся целый огромный город: «Когда стоишь вот так, обвеваемый ветром, и смотришь на этот город-гигант, город-спрут – назовите его как угодно, – не можешь не испытывать волнения. Когда-то нечто подобное я испытывал на вершине Эльбруса… Но там тогда покоряло величие и красота природы, здесь – величие и красота человеческого труда» [Некрасов 1991, 67]. И опять в этом 155 отрывке писатель вступает в противоречие с советской традицией. На сей раз с Маяковским, который «не сдернет кепчонку с виска». Некрасов «сдергивает кепчонку» перед величием и красотой человеческого труда, пусть этот труд «проклятых капиталистов». Далее Некрасов пишет, что они прямо-таки «ринулись» на Бродвей. Наверно, за тем, чтобы увидеть «настоящую» жизнь американцев. Ведь Бродвей, как заметил Некрасов, «сердце Нью-Йорка, его Крещатик». Что же они увидели на Бродвее? В первую очередь, это Таймс-сквер со знаменитым курильщиком, выпускающим огромные клубы дыма из сигареты «Camel». Второе, что поразило Некрасова, это то, что ближе к позднему вечеру жизнь на Бродвее замирает. Он пустеет, ночная жизнь переносится куда-то «вовнутрь». Если к ночи жизнь на Крещатике только начинается, то на улицах Нью-Йорка к одиннадцати часам она прекращается. Еще больше Некрасова поразила американская молодежь. Причем, молодежь университетская. Он рассказывает, что студенты Колумбийского университета очень вежливо говорят, кажется, очень внимательно слушают, но без интереса, отстраненно. Некрасов ходил по американскому университету со знаменитым Руфусом Матьюсоном, знатоком русской и советской литературы (правда, в шестидесятые годы вряд ли кто в СССР знал об этом профессоре). Но, несмотря на все критические замечания об американской молодежи, вывод писателя положителен. Вот как он отзывается о «среднем» американце: «Вообще по натуре своей он дружелюбен, доверчив. Очень прост и естествен в обращении, и если ты попадешь к нему в гости, хочет, чтобы тебе у него было просто и весело. Он не любит скуки, всего официального, формального» [Некрасов 1991, 77]. И какую «черную тоску» нагнал один из членов группы, когда вытащил блокнот и начал зачитывать об успехах Украины в добыче полезных ископаемых. Это был, наверное, худший пример советской пропаганды. Мы уже говорили, что Некрасов по специальности архитектор. Естественно, что любовь к архитектуре сказалась и на его травелоге. Он 156 смотрит на Америку глазами не только советского писателя, но и русского архитектора. Это заметно. Мы читаем его мнение о замечательном американском архитекторе Фрэнке Ллойде Райте и о его самом известном творении – музее Гугенхайма в Нью-Йорке, о «придуманном» архитекторами Вашингтоне, самом «красивом» городе Америки, о творчестве Ле Корбюзье и мы действительно понимаем, что Америка – это иной, непохожий на наш мир. Травелог Некрасова очень информативен. Он поведал российскому читателю о заокеанской стране, живущей по иным законам, которая, однако, не является нашим врагом, с которой, напротив, надо дружить. Травелог «По обе стороны океана» был опубликован в декабрьском номере за 1962 год журнале «Новый мир». По всем статьям он отличался от заметок, написанных об Америке, своей объективностью и доброжелательностью. И конечно, он не остался не замеченным не только широкой читательской публикой, но и политическими цензорами от ЦК партии. Более того, по явной подсказке, он попался на глаза Н.С. Хрущеву. А 20 января 1963 года в «Известиях» была помещена статья «Турист с тросточкой». Некрасов был обвинен в «тяжком преступлении» – мирном сосуществовании с империалистическим государством в области идеологии. С этой поры началось «выдавливание» писателя из СССР. Таким образом, мы показали взгляд на Америку двух известных русских писателей Ильи Эренбурга и Виктора Некрасова, идущих в противовес идеологии советского общества того времени [Набилкина 2013, 119-124]. 3.6. Имагология и межкультурная коммуникация как выражение междисциплинарного подхода к изучению образа Америки в контексте диалога культур Воспринимая иную страну или иной народ, человек чаще всего сталкивается с образом, который сложился в его сознании задолго до того, как произошла реальная встреча. Очень редко бывает так, чтобы в сознании 157 воспринимающего не было никакой информации об объекте восприятия. Как правило, человек уже подспудно ожидает подтверждения тех впечатлений, которые сложились в его мозгу априорно по самым разным источникам информации. Этот сложившийся образ бывает настолько устойчив, что мало кто может встретиться с неведомым без какой-либо психологической установки. В основе такого восприятия лежит стереотип. Теорию стереотипа обосновал в 1922 году американский журналист, публицист и социолог Уолтер Липпман. Под стереотипом он понимал устойчивый, обобщающий образ или представление об объекте или явлении, обычно эмоционально окрашенное, выражающее стандартное, привычное отношение человека к данному объекту или явлению, выработанное под влиянием определенных социальных условий либо предшествующего опыта (чаще чужого). В массовом сознании сложилось мнение о стереотипе как о негативном явлении, мешающем восприятию реального образа. Недаром возникло клише «негативные стереотипы». Однако это мнение во многом ошибочно. Стереотип всегда имеет под собой некую объективную основу, позволяющую выделить определенную базовую характеристику предмета или явления. Да, стереотип лишен всех цветов спектра, но основной цвет он все-таки отражает и помогает человеку ориентироваться в ситуации и принимать правильные решения. На основе стереотипа возникает и складывается образ. В общемировом диалоге культур, деле укрепления взаимопонимания между народами велика роль образа той страны и ее народа, с которыми взаимодействует та или иная сторона. В решении этой проблемы особое место занимает имагология, наука, в задачу которой входит изучение образа, его составляющих и формирующих факторов. Выдающийся историк, этнограф и культуролог JI. Н. Гумилев ввел в широкий научный оборот «принцип комплиментарности». Данный термин выражает суть отношения одного народа по отношению к другому, служит показателем взаимной симпатии и антипатии на популяционном уровне, 158 иногда вопреки официальной позиции властей. В годы «холодной войны» по инициативе ЮНЕСКО и при финансировании США было проведено широкомасштабное исследование восприятия одних стран и народов другими. На основе полученных данных был выведен так называемый «знаменатель дружественности». Конечно, симпатии и антипатии народов в большой мере определяют исторические причины, но со счетов при этом не надо сбрасывать и трудноуловимое национальное подсознание, которое воздействует на комплиментарное отношение того или иного народа к другому без видимых причин. Так, существует мнение, что народы с близкими культурами симпатизируют друг другу и скорее находят взаимопонимание. Однако действительность подвергает данный тезис сомнению. Англичане с большой настороженностью относятся к американцам, хотя в основе американской культуры лежит культура англосаксонская и шире - британская. Точно так же жители Британских островов относятся и к французам, хотя долгое время после нормандского завоевания Англия и Франция составляли практически одно государство. Вместе с тем англичане обожают короля Ричарда Львиное сердце, несмотря на то, что его крестовые походы ложились тяжким бременем на бюджет буквально каждой английской семьи, и из десяти лет царствования Ричард провел на острове не более года. Как показывают исследования, англичане больше всего любят португальцев: между Англией и Португалией никогда не было военных конфликтов. Не является исключением и Россия: симпатизируя белорусам, русские весьма трудно находят общий язык с украинцами, особенно на межгосударственном уровне. Виновата в этом парадоксе иллюзия близости культур, когда за внешней схожестью скрываются нюансы, приводящие к коммуникативным сбоям. Стоило прийти к власти русофобствующим силам, и «дружба» между нашими народами начала стремительно исчезать. Ответ прост: чем больше близость культур, тем сильнее импульс к сохранению своей национальной идентичности, своего языка, своего национального характер, одним словом, - к самоопределению. 159 После войны Сталин пытался создать «Союз славянских государств», забывая, что с Польшей у России никогда не было дружественных отношений, Югославия всегда ориентировалась на союз с европейскими странами, а Болгария, несмотря на освобождение ее от турецкого ига, не проявляла большого желания оказаться под эгидой русского царя, больше склоняясь к Германии. Но как бы то ни было, «это спор славян между собою, домашний, старый спор», как выразился великий Пушкин в стихотворении «Клеветникам России». Это явление достаточно широко распространено во всем мире. Англичане недолюбливают французов и американцев, но в решительные моменты истории всегда выступают вместе как союзники. Ту же картину мы наблюдаем в странах арабского мира. Нет сомнения, что перед лицом общего врага украинцы, белорусы и русские объединятся и выступят единым строем. Но надо признать, что иллюзия близости культур приводит к коммуникативным сбоям. Сэмюэль Хантингтон назвал свою книгу «Столкновение цивилизаций». В ней он утверждает, что на смену «холодной войне» пришла война цивилизаций. Близкие по духу цивилизации сплачиваются, а вместе с ними сплачиваются и народы. Далекие друг от друга цивилизации отталкиваются, расходятся. Таким образом, можно ожидать войны цивилизаций. В частности, нужно ожидать противостояния и даже столкновения исламской и христианской цивилизаций. Что знает рядовой житель Земли о различии цивилизаций? Здесь мы сталкиваемся с одной очень острой проблемой проблемой «свой – чужой». С самого начала своего рождения человечество сталкивалось с этой проблемой: вначале, выделяя себя среди животных, затем среди различных племен, потом среди народов и т.д. Первоначально «чужой» означал «врага». Лишь в конце ХХ века слово «чужой» было заменено на слово «иной – другой». Это весьма важное изменение означало, что «другой», «иной» не обязательно «враг». И этому способствовала имагология. Какие факторы влияют на формирование образа страны и народа? Какие источники дают информацию и пробуждают интерес к чужеземцам? 160 Несомненно, одним из наиболее важных средств формирования образа является литература. Именно литература во многом изменила отношение Запада к России, которая представлялась европейцам угрюмой, мрачной страной с хитрым и лукавым народом, лишенным свободы, демократии, безмолвно повинующимся очередному тирану. Именно так Россию представил французский маркиз Астольф де Кюстин в своем травелоге «Россия в 1839 году». Маркизу кажется, что он попал в Персию. Кюстин не считает русских цивилизованным народом, близким европейцам. Русские для него - татары, выскочки цивилизации, прикрывающие свое варварство европейским платьем, из-под которого выглядывает медвежья шкура. Самое примечательное во внешности русского - глаза: миндалевидные, прозрачные, ясные. Но взгляд этих глаз - скрытный и плутоватый, полный византийского коварства. По мнению французского маркиза, в России все «один обман». Здесь мы сталкиваемся не только с явной русофобией и намеренным искажением фактов, но и с проблемой культурологического плана. Маркиз де Кюстин своей книгой выполнял четко поставленную перед ним задачу: дискредитировать Россию в глазах мирового сообщества, ибо правящие круги Европы были напуганы растущим могуществом российской империи. Маркиз был внимательный наблюдатель и талантливый писатель: свою задачу он выполнил. Явно несправедливо относя Россию к Азии в социально-культурном плане, он, однако, верно подметил черту русских, отличающую их от европейцев - недосказанность. Три века татаромонгольского ига не могли не сказаться на российской ментальности и поведенческой манере. На Руси сложилась так называемая высококонтекстная культура, которой свойственны уклончивость, нежелание говорить в лоб, система жестов и манер, которые порой выражают мысль и намерение вместо слов. Вместе с тем, русская высококонтекстная культура не идет ни в какое сравнение с культурой восточной, когда прежде чем обсуждать тот или иной вопрос нужно спросить собеседника сначала о здоровье его четвертой жены и пятого верблюда. Западная культура считается низкоконтекстной. С ее 161 носителями надо говорить прямо, без подтекста и скрытого смысла. Недаром правила написания деловых писем рекомендуют начинать текст с самого главного, ибо в противном случае он может оказаться недочитанным. Поэтому при общении русских и американцев обе стороны часто остаются недовольными. Русские тем, что, по их мнению, американцы грубы и напористы, американцы тем, что русские излишне уклончивы. Более того, американцы, привыкшие считать русских неискренними, порой ищут скрытый смысл там, где его нет и в помине. Поэтому при межкультурной коммуникации носителей разных культур следует делать определенные допуски на межкультурные различия, не упрощая, но и не усложняя общение. Русская классическая литература во многом разрушила те негативные стереотипы, которые складывались в сознании жителей Европы и Америки. До Джойса интеллектуальный западный мир зачитывался Достоевским, который как никто сумел проникнуть в запутанный, темный мир человеческого подсознания, высветив его высоты и бездны. Западный человек, склонный к рефлексии, обуреваемый неизбывными желаниями и страстями, но вынужденный постоянно держать себя в рамках внешних приличий, именно в творчестве великого русского писателя смог найти ответы на мучающие его вопросы. Но английский читатель пришел к Достоевскому через балет. «Дягилевские сезоны» в Лондоне пробудили интеллектуальный интерес к России. В начале XX века перевод «Братьев Карамазовых», выполненный К. Гарнетт, стал культурным событием в жизни английской столицы. В Америке читатель познавал образ России прежде всего благодаря творчеству Тургенева, Толстого, Горького. Эти великие русские классики отвечали самым разнообразным вкусам американцев: Тургенев соблюдением «изысканной традиции», доминировавшей в литературе США на рубеже веков, Толстой как великий морализатор, близкий по своим взглядам пуританам, Горький своим вниманием к жизни низов. Американская литература в свою очередь формировала комплиментарный образ США в глазах русских читателей. Еще перед Второй 162 мировой войной советский журнал «Интернациональная литература» провел опрос ведущих писателей и деятелей культуры об их отношении к Америке. Этот опрос показал, что представители советской культурной элиты с большой симпатией относятся к далекой заокеанской стране. Главным фактором, который сформировал их отношение к Америке, оказалась литература, причем литература детская. Именно в детстве закладываются основы нашего восприятия мира на эмоциональном, чувственном уровне, и это обстоятельство следует особо учитывать специалистам в области имагологии и межкультурной коммуникации. Нет сомнения, что главная задача межкультурной коммуникации заключается в создании положительного отношения коммуниканта к партнеру по диалогу культур. Поэтому очень важно заложить на подсознательном уровне установку на понимание, толерантность, готовность прощать коммуникативный сбой. «Милый, родной Том. Вот человек, который импортировал Америку в Россию... Читая Твена, мы убеждались, что в Америке живут чудесные, обаятельные, близкие сердцу ребята, с которыми можно сродниться на всю жизнь», - так поведал о своем детском восприятии Америки И. Сельвинский еще в 1939 году [Сельвинский 1939, 239]. Жаль, что при огромной популярности хоббита Фродо и юного волшебника Гарри Поттера у русского ребенка не возникает привязки их образов к реально существующей стране. А ведь Джон Толкиен создавал свою знаменитую эпопею с 1936 по 1949 год и борьба с фашизмом как аллегорическая борьба с вселенским злом не могла не отразиться на замысле книги. Хотя и в той и в другой книге образ Англии присутствует. Сам Толкиен лукавит, когда заявляет о том, что реальные события и Вторая мировая война не оказали воздействия на развитие его фантастического сюжета. Говоря о взаимодействии литератур, о восприятии конкретного литературного произведения зарубежного писателя в той или иной стране, возникает проблема «свое - чужое». Эта проблема чрезвычайно важна для культурного диалога народов и стран. Проблему «свое - чужое» поставили в 163 своих теоретических изысканиях выдающиеся русские ученые М.М. Бахтин, JI.H. Гумилев, Ю.М. Лотман. Так, М.М. Бахтин выдвинул концепцию «большого времени». Именно с позиций «большого времени» следует воспринимать сложнейший процесс взаимодействия человеческих культур и литератур. «Чужое» превращается в «свое», становится компонентом собственной культуры с течением времени, в процессе длительного взаимодействия. В этой связи возникает вопрос о готовности национальной культуры к восприятию культуры «чужого» этноса, вопрос о степени «комплиментарности», выдвинутый Л.Н. Гумилевым. Лишь взаимный интерес обуславливает взаимодействие культур. При этом взаимодействие не исключает и взаимной борьбы. Интересно отметить, что в этом вопросе литературовед М.М. Бахтин и этнограф Л.Н. Гумилев сходятся. По мнению Л.Н. Гумилева, «постоянное вмешательство в дела друг друга исключает равнодушие, а только последнее ведет к отчуждению» [Гумилев 1992, 251]. М.М. Бахтин считал, что интерес к «чужому» слову возникает лишь при надлежащей зрелости народа: «Чем интенсивнее, дифференцированнее и выше социальная жизнь говорящего коллектива, тем больше удельный вес среди предметов речи получает чужое слово, чужое высказывание, как предмет заинтересованной передачи, истолкования, обсуждения, оценки, опровержения, поддержки, дальнейшего развития и т. п.» [Бахтин 1975, 150]. Отсюда мы можем сделать вывод, что бесконфликтное сосуществование различных этнических культур и литератур далеко не всегда является благом для их совместного развития. В ряде случаев именно конфликт служит толчком к более тесному взаимодействию, взаимопроникновению. Так, идеологическое противостояние Запада и Советского Союза привело к повышенному интересу к творчеству западных писателей, в частности Э. Хемингуэя, в то время как писатели стран социалистического лагеря, творившие по советскому образцу, пользовались весьма ограниченным спросом на советском книжном рынке. В произведениях западных мастеров слова и образцах западной культуры 164 вообще советские люди видели альтернативу социалистическому образу жизни. Недаром В. Аксенов вспоминал, что образ Америки вошел в его душу прежде всего через джаз. Когда он в конце 50-х годов прошлого века оказался в Москве и попал в круг «золотой молодежи», среди которой было немало отпрысков партийно-государственной номенклатуры, будущий писатель с удивлением заметил, что многие из них просто страдают американоманией. Несмотря на весьма настороженное отношение России к Западу, литературные герои западной и, в первую очередь, английской и американской литературы вошли в сознание русской интеллигенции как «свои». Образ Гамлета с его размышлениями и нравственными исканиями стал настолько близким интеллектуальной общественности России, что право на жизнь получило понятие «Русский Гамлет». Шекспировскими аллюзиями наполнено творчество такого подлинно русского писателя, как Н. Лесков. «Степным Гамлетом» называли американские литературоведы Григория Мелехова. «Русским Хемингуэем» стал замечательный писатель-фронтовик Виктор Некрасов. Даже Сергей Есенин, всегда подчеркивающий свою «русскость», наполнил свою поэму «Страна негодяев» шекспировскими мотивами, соединив свой собственный образ и образ Гамлета в такой, казалось бы, далекой от них фигуре, как Номах. Позднее литературные приемы, техника письма, стиль вошли в творческий арсенал советских писателей. В хемингуэевской манере создавал свои ранние произведения В. Аксенов, внутренние монологи и прием вещности широко использовал в своих «Городских повестях» Ю. Трифонов, в стиле отчуждения создан антисталинский роман Б. Ямпольского «Арбат - режимная улица». В свою очередь, русская классическая литература, произведения И.С. Тургенева, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, М. Горького оказали огромное воздействие на становление и развитие реалистической прозы США. В конце XIX - начале XX веков в американской литературе рухнула «теория исключительности», согласно которой Новой Свет лишен пороков Старого. По мере крушения американской мечты и обострения 165 капиталистических реалистическом отношений, возникла социально-критическом потребность романе. Именно в новом в период напряженных поисков новых художественных средств отражения социальной действительности, выражения специфически американских конфликтов, в американскую литературу вошла русская классическая литература. Толстого в США рассматривали не только как великого реалиста, но и великого морализатора, оказавшего огромное воздействие на У. Фолкнера. Чехов и Гоголь открыли американским писателям путь к постижению трагедии «маленького человека». Р. Борн в книге «Достоевский: сопричастность художника» (1917) говорил: «Мы воспринимаем Достоевского как современника» [Борн 1982: 265]. В другой своей книге «В мире Максима Горького» Р. Борн признавался, что «дар писателя помог ему возвести реально существующие мерзости в ранг литературнохудожественного открытия, потрясающего правдой» [Борн 1982, 268]. Обогащенная опытом европейской литературы, главным образом русской и французской, американская литература активно включилась в решение социальных коллизий своего времени. Творчество Т. Драйзера, Ф. Норриса, Д. Лондона, Э. Синклера, «разгребателей грязи» во главе с Л. Стеффенсом противостояло «изысканной традиции», а также апологетическим произведениям Э. Джадсона и Г. Элджера. Своеобразие национальной спецификой литературы общественно-исторической жизни во многом определяется нации. Эта специфика помогает уяснить потребности общества на том или ином историческом отрезке и требования самого общества к литературе. Русская классическая литература явилась проводником тех идейно-эстетических концепций, в которых нуждалось американское общество на определенном этапе своего развития. В свою очередь, западная и американская литература в том числе, помогла писателям советского периода в России создать произведения, отличные от образцов социалистического реализма с новыми героями и иными идейно-художественными задачами. Так, под непосредственным 166 влиянием американской литературы, в частности, творчества Генри Миллера и Уильяма Берроуза, и самого американского общества, развивалась эмигрантская проза Эдуарда Лимонова. Взаимодействие мировых литератур значительно обогащает каждую отдельную национальную литературу, придавая ей мировой звучание, не лишая ее национальной самобытности. Национальная литература служит действенным средством создания образа страны и народа в глазах «чужих - иных», создавая эмоциональное восприятие со знаком плюс или минус. В свою очередь, эмоциональное восприятие, психологическая установка формирует образ, способствующий или препятствующий межкультурной коммуникации. Имагология как составная часть межкультурной коммуникации может и должна влиять на участника общения, ибо она позволяет воздействовать на психоэмоциональную сферу коммуниканта в ту или другую сторону, учитывая не только объективные информационные факторы, но и те симпатии и антипатии, которые, казалось бы, возникают интуитивно, подсознательно, а на самом деле порождены всем нашим внутренним миром, мысленными образами, возникающими в нашей душе. Может ли повлиять имагология на процесс комплиментарности? Несомненно, может. Чем больше мы будем знать друг о друге, чем более доброжелательным будет наше видение, тем лучше мы будем понимать друг друга. Англичане говорят “Seeing is believing”- «Увидеть значит понять». «Понять значит простить» добавляют русские. В этом заключен смысл имагологии. Человек мыслит образами. Чем более благожелательным будет образ «иной» страны, «другого» народа, тем меньше места останется для проявления чувства неприязни и вражды. 167 Выводы по главе III 1) В изображении Нью-Йорка отчетливо проявился дихотомический подход (гуманистический и дегуманизированный) при изображении его русскими писателями Г. Мачтетом, В. Короленко, В. Катаевым, В. Некрасовым, И. Эренбургом и американскими – Ф.С. Фицджеральдом и Г. Миллером. 2) Дегуманизированный подход к изображению Нью-Йорка выразился в памфлеме А.М. Горького «Город Желтого Дьявола». На наш взгляд, М. Горький явился родоначальником отчужденного взгляда на город, который затем явился ведущим в творчестве многих западных писателей. 3) Автор романа «Манхэттен» Д. Дос Пассос стал первым американским писателем, применившим достижения российской кинематографии – киноглаз, калейдоскопичность, монтаж при изображении города. 4) Американские писатели вскрыли всю «обманность» больших городов, показали иллюзорность надежд в «стране равных возможностей», крушение «Американской Мечты». 5) Имагологический подход особенно ярко проявился в творчестве Г. Миллера. Его авторская точка зрения, его мировосприятие и мироощущение отразилось на дегуманизированном изображении Нью-Йорка. 6) В романе «Великий Гэтсби» Фицджеральд сравнивает Нью-Йорк первоначально с «зеленым лоном нового мира», открывшимся перед взором голландских моряков, а затем с «Долиной шлака», в которой копошатся маленькие человечки, сделанные из угольной пыли. Наиболее угрюмый образ города представлен в сцене с пьяной женщиной в бриллиантах, лежащей на носилках. Нью-Йорк – город, где разбиваются иллюзии и ломаются людские судьбы. Эту тему продолжает и Дос Пассос. И у него «город больших возможностей» превращается в ловушку для человека. Его роман «Манхэттен» раскрывает обман и призрачные надежды его жителей. Как синий океан издали кажется прозрачным и красивым, а вблизи весь покрыт 168 апельсиновыми корками и ящиками, так и город привлекает и обманывает своих обитателей запахом хереса и дорогих сигар, а на деле оборачивается затхлой вонью дешевых китайских прачечных и смрадом гниющих отбросов. 7) Писатели обостренно чувствовали атмосферу тревоги, охватывающую этот еще вполне благополучный мир. Еще в конце XIX века столпы американизма объявили об избранности американского общества. Этот постулат соответствовал теории «Града на холме», укладывался в концепцию отцов-основателей пуритан, в заявление Джона Уинтропа, сделанного на борту «Арабеллы» о том, что весь мир будет взирать на Новый Свет с верой и надеждой и стремиться туда, чтобы обрести новый Эдем. Была разработана теория «исключительности», согласно которой Новый Свет лишен пороков Старого, в нем нет и не может быть несчастных и страдающих, Новый Свет составляют лишь счастливые люди, с оптимизмом смотрящие в будущее. Американские города – счастливые города, а Нью-Йорк – самый счастливый город из счастливейших. 8) Стиль отчуждения, к которому прибегает Фицджеральд в ряде своих произведений, говорит об утрате иллюзий, которые столь свойственны молодости. У Фицджеральда эта утрата особенно зримо проявляется в образе Нью-Йорка и других городов Америки и судьбе людей, связавших с ними жизнь. Наряду с романом «Великий Гэтсби», повестью «Первое мая» отчужденный образ Нью-Йорка особенно ярко представлен в сборнике эссе «Крушение». Но если в «Отзвуках века джаза» до предела звучат нотки пессимизма и упадничества, то «Мой невозвратный город» напоминает «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя, наполненный легкой грустью о невозвратном прошлом. Это рассказ о Нью-Йорке, которого нет и никогда не будет. И все же писатель полюбил этот «невозвратимый город». Полюбил со всей его безалаберностью и строгостью, со всем безрассудством молодости и умудренностью зрелых лет. Фицджеральд покидал Нью-Йорк и возвращался туда. И с каждым разом он становился для него родней и ближе. В творчестве Фицджеральда образ Нью-Йорка 169 отличается двойственностью, амбивалентностью. В изображении этого города как нигде проявилось «двойное видение» (double vision) писателя, принесшее ему мировую славу. 9) В отличие от Фицджеральда, который приезжал в Нью-Йорк время от времени, Генри Миллер родился в этом городе. Вначале Нью-Йорк нравился будущему писателю. Он любил бродить по его улицам и складывать впечатления «на дно памяти». В 1930 году он уезжает из Нью-Йорка в Париж, где и пишет свою знаменитую трилогию – «Тропик Рака» (1931), «Черная весна» (1935) и «Тропик Козерога» (1939). В ней опять же предстает образ городов. Если «Тропик Рака» посвящен Парижу, то «Тропик Козерога» – Нью-Йорку. Если Париж нравится Миллеру «местами», то Нью-Йорк ненавистен писателю тотально. Так же как и вся Америка. Но и себя он любит не больше. Автор ощущает себя единственным бунтарем в этой стране иллюзорного счастья, богатства и преуспеяния, который жаждет увидеть Америку поверженной в прах. Генри Миллер начинает свой душевный стриптиз, выворачивая себя наизнанку. В своем саморазоблачении (selfdisclosure) он не знает чувства меры. Миллер стремится до предела развенчать человека, доказать, что тот не способен на возвышенные чувства, что эгоизм – единственное чувство, которое движет его душой и его поступками. Миллер противен сам себе, и он хочет внушить чувство омерзения и всему обществу. 10) Другой образ Нью-Йорка мы обнаруживаем в творчестве Д. Дос Пассоса. Джон Дос Пассос вошел в американскую литературу как художник с полным набором самых разнообразных качеств – экспериментатор, символист, модернист, коммунист, революционер, близкий друг Советского Союза. Настолько близкий, что в журнале «Знамя» в двух номерах за 1933 год был помещен материал дискуссии «Советская литература и Дос Пассос», в которой с жаром приняли участие ведущие советские литераторы и партийные функционеры от искусства. 11) 1925 год был очень плодотворным для американской литературы. В этот год мир увидел три великих романа, посвященных Америке: «Американскую трагедию» Теодора Драйзера, «Великого Гэтсби» Скотта 170 Фицджеральда и «Манхэттен» Джона Дос Пассоса. Все они по-своему рассказали о своей стране и времени, в котором они жили. Но вывод, к которому пришли писатели, был один: в великой стране, в стране «больших возможностей», в стране «великой Американской мечты» счастье – очень редкая вещь, и счастливые люди не меньшая редкость. 12) Все три романа повествуют о судьбе героев в американских городах: «Американская трагедия» – в глубинке, «Великий Гэтсби» – на окраине Нью-Йорка Лонг Айленде, «Манхэттен» – в деловой части НьюЙорка, в его сердце. 171 Глава IV. Образ города в западноевропейской литературе 4.1. Париж в зеркале мировой литературы Париж – город, о котором написано больше, чем о любом другом городе мира. О Париже писали Эрнест Хемингуэй и Виктор Некрасов, Бальзак и Генри Миллер, Илья Эренбург и Алексей Толстой, Виктор Гюго и Эрих Мария Ремарк. Этот город стал родным и узнаваемым даже для тех, кто никогда его не видел. Париж – живое существо, наделенное душой. Он, то холоден и мрачен, как в творчестве Генри Миллера, то радостен и приветлив, как у Эрнеста Хемингуэя, то притягателен и обманчив, как у Оноре де Бальзака, то радушен и привлекателен, как у Александра Дюма. Конечно, больше всего Париж изображали французские писатели. По их произведениям можно проследить всю историю Парижа и его жителей, всей Франции. Парижская тема присутствует в творчестве практически всех писателей даже тогда, когда сам Париж в нем отсутствует. Так было с романом Г. Флобера «Госпожа Бовари». Париж является героем произведения, ибо он присутствует в мечтах Эммы Бовари, являясь незримым действующим лицом книги. Парижская тема тесно переплетается с темой урбанистической. Эта тема стала особенно актуальна в литературе XIX века, когда в нее вошла тема буржуазии. Невозможно рассказать о взаимоотношениях людей, об условиях их жизни, не затрагивая тему города, не передавая его дух, атмосферу, тех тончайших связей, соединяющих его жителей с городом. Город становится живым существом, которое влияет на живущих в нем людей, выделяя в них лучшее и худшее. Прослеживая историю Парижа, мы прослеживаем не только историю города, но и историю жизни людей, историю их взаимоотношений, историю их мировосприятия. 172 XIX век – век расцвета буржуазных отношений, век становления буржуазии, век массового переселения крестьян в города. Это и век развития капиталистических отношений. Век усиления эксплуатации «маленького» человека со стороны «сильных мира сего». Этот век породил литературу критического реализма, направленную на разоблачение хищнических отношений между людьми. Но это и век сильных личностей, амбициозных честолюбцев, единственной целью которых было завоевать свое место под солнцем, пробиться в круг избранных. Это век наступления «третьего сословия». Необходимо проследить, как все эти процессы отразила мировая и французская литература, как они отражаются в образе Парижа. Откроем роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Перед читателем открывается Париж 6 января 1482 года. Пропустим описание Дворца правосудия и начнем наше путешествие по городу с главы «Париж с птичьего полета». «Как известно, Париж возник на острове Ситэ, имеющем форму колыбели. Плоский песчаный берег этого острова был его первой границей, а Ситэ – первым рвом… Позже, начиная со времен первой королевской династии, Париж, слишком стесненный на своем острове, не находя возможности развернуться на нем, перекинулся через реку… Могучий город разорвал один за другим четыре пояса стен – так дитя прорывает одежды, из которых выросло», – знакомит читателя с историей Парижа автор. [Гюго 1953, 117-118]. Но Гюго не был бы критическим реалистом, если бы не подпустил шпильку в адрес ненавистных ему Бурбонов: «С тех пор, как это ни грустно, Париж вновь преобразился; но он преодолел всего только одну ограду, ограду Людовика XV, эту жалкую стену из грязи и мусора, достойную короля, построившую ее, и поэта ее воспевшего. В застенке стен Париж стенает» [там же, 118]. Далее мы узнаем, что «в XV столетии Париж был разделен на три города: Ситэ, Университет и Город… В Ситэ преобладали церкви, в Городе – дворцы, в Университете – учебные заведения… В Ситэ находился Собор 173 Парижской Богоматери, в Городе – Лувр и Ратуша, в Университете – Сорбонна» [Гюго 1953, 120]. Парижу посвящена не одна страница произведения. Мы знакомимся с каждой частью города, проходим по улицам и площадям Парижа, осматриваем вместе с автором дворцы и церкви. Но главный герой романа – Собор Парижской Богоматери. Именно в нем происходят центральные действия произведения, именно он властвует над городом. Собор великолепен, но и на нем время оставило свои уродливые следы. Он поражает своей мощью и своим безобразным уродством со всеми своими ужасающими химерами. Так же уродлив и одновременно велик немой звонарь Квазимодо. Но величие Квазимодо заключается не только в его физической мощи. Квазимодо велик духовно. Его безответная любовь к Эсмеральде в корне отличается от любви Клода Фролло. Его любовь – человечна и возвышенна, любовь Фролло – «любовь» маньяка к своей жертве. Виктор Гюго творил задолго до того, как идеи Зигмунда Фрейда овладели литературой, но уже тогда великий французский писатель заметил странную особенность монахов: сексуальное воздержание порождало в них дикую жестокость и желание доставлять изуверские страдания особенно молодым красивым женщинам. То, что позднее Фрейд назовет сублимацией, в извращенной форме владело священником. Квазимодо подлинно велик и по сравнению с Фебом, для которого Эсмеральда – всего лишь красивая игрушка. Собор и Квазимодо едины. «Присутствие этого необычного существа наполняло весь собор каким-то дыханием жизни. По словам суеверной толпы, он как бы излучал некую таинственную силу, оживлявшую все камни Собора Богоматери и заставлявшую трепетать глубокие недра этого древнего храма. Людям достаточно было узнать о его присутствии в соборе, как им уже чудилось, что все бесчисленные статуи галерей и порталов начинают оживать и двигаться. И действительно, собор казался покорным, послушным его власти существом; он ждал приказаний Квазимодо, чтобы показать свой мощный голос; он был одержим, полон словно духом-покровителем. Казалось, что Квазимодо вливал жизнь в это необъятное здание» [Гюго 1953, 174 157]. Но жизнь Собора прекращается вместе со смертью Квазимодо. «Собор Богоматери кажется теперь пустынным, бездыханным, мертвым. Что-то отлетело от него. Исполинское тело храма опустело; это только остов; дух покинул его, осталась лишь оболочка. Так в черепе глазные впадины еще зияют, но взор угас навеки», – так поэтично завершает повествование о Соборе Гюго [там же, 158]. Еще одним персонажем, неотделимым от Парижа XV века, является король Людовик XI. Зажатый в тиски междоусобных войн, окруженный многочисленными могущественными врагами, Людовик XI представлял любопытную фигуру. «Этот король, обладающий вкусами скромного горожанина, предпочитал каморку с узкой постелью в Бастилии», – характеризует Людовика Гюго [там же, 438]. Живописуя Лувр с огромным роскошным камином и таким же ложем, Гюго замечает, что он терялся среди всего этого великолепия. Но Людовик XI предпочитал Бастилию вовсе не от врожденной скромности, а потому, что она «была лучше укреплена, чем Лувр». Вечно страдая от нехватки денег, Людовик скрупулезно пересчитывает каждый су и непритворно жалуется, что клетка, в которой он держит своего опального епископа, обошлась ему слишком дорого. В произведении другого мастера исторической прозы, шотландского писателя Вальтера Скотта «Квентин Дорвард» мы узнаем о происхождении этой клетки. Оказывается, это творение самого епископа, который изобрел ее для противников короля, и человек в ней никогда не обретал удобного положения, не находя и секунды для того, чтобы расправить уставшие члены. Любопытно отметить, что первым узником этой клетки стал именно ее изобретатель. Прикидываясь скромником, Людовик до предела лицемерен. Он как будто не слышит умоляющие просьбы своего узника. Об этом свидетельствует следующая сцена. «Внезапно его величество повернулся к коменданту Бастилии. – А, кстати! Кажется, в этой клетке кто-то был? – Да, государь! – ответил комендант, пораженный этим вопросом. – А кто именно? 175 – Господин епископ Верденский. Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было, но таковы были причуды его характера» [Гюго 1953, 440]. Именно на фоне Бастилии рисует портрет Людовика XI Гюго. Стены Бастилии наилучшим образом отражают черты характера короля. Он, как и эти стены, равнодушен к добру и злу. Лишь две вещи: власть и золото не оставляют его равнодушным. Поэтому он посещает лабораторию «чернокнижника» Клода Фролло, о котором ходили слухи, что он изобрел философский камень, способный превратить любой металл в золото. Квазимодо, Клод Фролло и Людовик XI – главные действующие лица романа. Эсмеральда, несмотря на вроде бы центральную функцию, несет второстепенное содержание. Не она интересует писателя, хотя сюжетный ход с поисками матери дочерью и наоборот вполне бы мог украсть любой мелодраматический сериал. Но и он решается трагически. Почему развязка романа столь жестока? Будучи критическим реалистом, Гюго не видел иного, оптимистического конца своего произведения. Действительность не давала ему другого выхода. Сравнивая Париж Лувра и Собора с жалкой жизнью Двора чудес, писатель сравнивал жизнь верхов и низов, жизнь власть имущих и отверженных. Для писателей XIX века характерно подробное, детальное изображение реального мира, будь то природа или город. Поэтому Гюго так тщательно рисует Париж, до мельчайших подробностей изображая все уголки этого великого города. Теперь перенесемся через полтора века и рассмотрим Париж апреля 1625 года в романе Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Мы не находим там масштабной панорамы, как в романе «Собор Парижской богоматери», но, тем не менее, вполне представляем этот город, во всяком случае, места, связанные с жизнью его героев. Так мы узнаем, что господин де Тревиль жил в доме на Старой Голубятне и что «двор его особняка … походил на лагерь», что «Атос жил на улице Феру, в двух шагах от Люксембурга», что «Портос 176 занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице Старой Голубятни», а д’Артаньян снимал угол в комнате на улице Могильщиков. Знакомимся мы и с бытовыми подробностями жизни мушкетеров. Атос «занимал две небольшие комнаты, опрятно обставленные», «что касается Арамиса, то он жил в маленькой квартирке, состоявшей из гостиной, столовой и спальни». Жилище д’Артаньяна представляло собой «комнату… подобие мансарды». По праву сказать, в романе мы не найдем подробного описания Парижа, хотя по его страницам разбросаны городские подробности о том, что румяна можно купить было на улице Сент-Оноре, дуэли назначались вблизи монастыря Дешо и на Пре-о-Клер, а с женщинами «лестно было прогуляться по полям Сен-Дени или по Сен-Жерменской ярмарке». Теперь обратимся к роману Эмиля Золя «Чрево Парижа». В этом романе тоже присутствует Париж, его Центральный рынок. Но его изображение в корне отличается и от мрачного изображения Гюго, и от радостного и немного легкомысленного изображения Дюма. Золя – писатель-реалист, вернее натуралист. И хотя «натурализм» Золя ничего общего не имеет с натурализмом У. Берроуза или Г. Миллера, для читателей XIX века он казался шокирующим. Золя не случайно выбрал своей темой Центральный рынок – «Чрево Парижа», ибо главными действующими лицами романа являются «разжиревшие лавочники», тот класс, который писатель ненавидел и презирал. На фоне Лизы Кеню, «красавицы Лизы», так естественно смотрятся картины с грудой окороков и колбас, притягивающие внимание читателя. «Колбасная эта стояла почти на самом углу улицы Пируэт. Все в ней тешило взор… То был мир лакомых кусков, мир сочных, жирных кусочков… На первом плане, у самого стекла витрины, выстроились в ряд горшочки с ломтиками жареной свинины, вперемежку с баночками горчицы. Над ними расположились окорока с вынутой костью, добродушные, круглорожие, желтые от сухарной корочки, с зеленым помпоном на верхушке. Затем следовали изысканные блюда: страсбургские языки, вареные в собственной 177 коже, багровые и лоснящиеся, кроваво-красные, рядом с бледным сосисками и свиными ножками; потом – черные кровяные колбасы, смирнехонько свернувшиеся кольцами, – точь-в-точь как ужи; нафаршированные потрохами и сложенные попарно колбасы, так и прыщущие здоровьем; копченые колбасы в фольге…, паштеты, еще совсем горячие…, толстые окорока, большие куски телятины и свинины в желе, прозрачном, как растопленный сахар. И еще там стояли широкие глиняные миски, где в озерах застывшего жира покоились куски мяса и фарша… И на последней ступеньке этого храма брюха, среди бахромы бараньих сальников…, высился алтарь – квадратный аквариум, украшенный ракушками, в котором плавали взад и вперед две красных рыбки», - создает раблезианскую картину Золя [Золя 1988, 4, 47-48]. Эта картина разворачивается перед глазами центрального героя романа Флорана, который, перед тем как увидеть это царство изобилия, вспоминает события, приведшие его на каторгу. Он – невинная жертва революции, которая запомнилась ему чувством непреходящего голода. Он вспоминает ужасную сцену расстрела пяти «несчастных»: «Пять трупов валялись на тротуаре там, где сегодня лежит, кажется, груда розовой редиски». Перед его взором проходят улицы Парижа: Монтерей, бульвар Монмартр, где он беспечно шел «улыбаясь», улица Вивьен, где он упал, «сбитый с ног», церковь св. Евстафия, где «его чуть не расстреляли», улицу Ленжери, где «пьяные солдаты решили его расстрелять» еще раз. Он с ужасом вспоминает семь долгих лет, что провел на каторге. Париж Золя наполнен чувственными ароматами. Взор читателя отдыхает то на грудах овощей и фруктов, то на развалах морской рыбы и морепродуктов, то на прелестях Лизы Кеню, «прекрасной Нормандки», которая своими изобильными телесами подчеркивает всю роскошь парижского рынка. «Красавица Лиза продолжала стоять за прилавком, чутьчуть повернув голову в сторону рынка; Флоран безмолвно разглядывал ее, он был удивлен, что она, оказывается, такая красивая… Сейчас она предстала перед ним парящая над снедью, разложенной на прилавке. Перед ней 178 красовались на белых фарфоровых блюдах початые арлезианские и лионские колбасы, копченые языки. Ломти вареной свежепросоленой свинины, поросячья голова в желе. Открытая банка с мелкорубленой жареной свининой и коробка с сардинами, из-под вскрытой крышки которой виднелось озерко масла… Над всеми мраморными простенками и зеркалами, на крючьях длинных перекладин, висели свиные туши и полосы сала для шпиговки; в этом обрамлении из сала и сырого мяса профиль Лизы. Статной и мощной, с такими округлыми формами и крутой грудью, казался изображением раскормленной владычицы этого царства» [Золя 1988, 4, 86-87]. Кажется, зачем повторять изображение мясной лавки: ведь все это мы уже видели? Но писатель снова и снова скрупулезно создает ее облик. На этом фоне мы ощутимо понимаем всю противоестественность появления отощавшего от голода Флорана в этом чуждом ему царстве изобилия. «Лиза вышла из-за прилавка и подошла к колоде в глубине лавки. Вооружившись тонким ножом, она надрезала им три отбивные от передней четверти свиной туши, затем занесла своей сильной обнаженной рукой резак и трижды ударила; раздались три отчетливых, коротких удара. При каждом ударе ее черное шерстяное платье чуть задиралось сзади. А под натянувшейся на лифе тканью проступали планшетки от корсета. С глубоко серьезным видом, с ясным взглядом и сжатыми губами, она собрала отбивные и неторопливо их взвесила» [Золя 1988, 4, 84]. В этом отрывке, как и в предыдущих, зримо читается прием «вещности». Драма Флорана разыгрывается на фоне Парижа. «А все Париж, все этот подлый Париж», – восклицает одна из героинь романа [там же, 363]. «Нет, не Париж», – возражает ей собеседник. И все же большой город губит таких людей, как Флоран, с «нежной, как у девушки душой». «Поехал бы он в Нантер, жил бы там среди моих кур и кроликов», – говорит г-жа Франсуа, печалясь о горькой судьбе Флорана. Но вот Эмма Бовари живет в провинциальном городке, никогда не была в Париже, но и она не избежала печальной участи. Париж манит ее. Она думает, что там ее ждет «настоящая» 179 жизнь, жизнь, лишенная деревенской скуки, там сбудутся все ее ожидания и мечты. Гюстав Флобер, как и Эмиль Золя, был приверженцем «вещности». Прием вещности очень характерен для обоих писателей. Обыгрывание детали, создание калейдоскопа «вещей» играют в их творчестве немалую роль. Вещность создает особую атмосферу правдивости изображения, является важным средством характеристики персонажа [Набилкина 2012, 249-252]. Эрнест Хемингэй воспринимал Париж как «праздник, который всегда с тобой». Эта поэтическая формула вошла в художественный арсенал навечно, отражая все лучшее, что есть в Париже. Это роман о городе. Роман, хотя по жанру он относится к мемуарам. Он вышел в свет уже после смерти писателя и окрашен в ностальгические тона. В 1920-е годы в Париж стремились многие американцы, главным образом интеллектуальная элита. В 1921 году Гарольд Стирнс опубликовал книгу «Цивилизация в Соединенных Штатах». В ней он подверг резкой критике всю культурную жизнь в США и сделал вывод, что в стандартизированном, машинизированном, лишенном каких бы то ни было культурных корней обществе, нет места истинному художнику. Единственный способ спасти душу художника, вернуться к корням – уехать в Европу. Молодые американцы услышали этот призыв и потянулись в Старый Свет. Среди них был и Хемингуэй. Он был молод и беден. К тому же его сопровождали жена и только что родившийся сын. События, описанные в романе, разделяют почти сорок лет. Сквозь призму времени писатель оглядывается назад и вспоминает то впечатление, которое произвела на него французская столица. Это, пожалуй, самое поэтическое изображение Парижа во всей американской литературе. «Праздник, который всегда с тобой» – так назвал он этот город. И хотя в Париже он часто голодал, его воспоминания окрашены светлыми тонами. Он вспоминает людей, с которыми встречался, друзей, с которыми проводил время, кабачки и рестораны, которые посещал, улицы, по которым ходил. Достаточно много внимания Хемингуэй уделяет парижской 180 погоде, возможно потому, что у него в то время не было подходящей одежды. Но что бы он ни вспоминал, это звучит тепло и радостно. Его воспоминания наполнены огромной любовью к Парижу. Наверное, никто так не выразил симпатию к этому городу, как выразил ее иностранец, у которого с Парижем связаны лучшие воспоминания. Наверное, эти воспоминания так проникновенны, овеяны легкой грустью, потому что писатель был там молод, и все будущие испытания казались ему нипочем. С первых страниц мы погружаемся в атмосферу парижского кафе «Для любителей». «Это было мрачное кафе с дурной репутацией, где собирались пьяницы со всего квартала… Кафе «Для любителей» было выгребной ямой улицы Муфтар, узкой, всегда забитой народом торговой улицы» [Хемингуэй 2000, 420], – пишет Хемингуэй. Мрачная атмосфера кафе усугубляется дождем и холодом, но мы не ощущаем здесь «отчуждения», как мы позднее увидим у Генри Миллера. Все выдержано в гуманизированном стиле. Дождь, холодный ветер срывает листья с деревьев на площади Контрэскарп, и, наверное, приятно зайти даже в такое «мрачное» кафе, как это, хотя Хемингуэй и говорит, что он «не ходил туда», этому мало верится, настолько живо он описывает его атмосферу, где «окна запотевали от тепла и табачного дыма». Далее Хемингуэй подробно описывает свой маршрут от лицея Генриха IV, старинной церкви Сент-Этьен-дю-Мон до кафе на площади Сен-Мишель. «Это было приятное кафе – уютное, чистое и теплое» [Хемингуэй 2000, 421]. Особенностью парижских кафе является то, что в них можно сидеть бесконечно и заниматься своими делами за чашечкой кофе или кружкой пива. Так поступает и Хемингуэй. Он пишет там свой рассказ «У нас в Мичигане», ставший одним из лучших рассказов писателя. И снова он подчеркивает, что в кафе было тепло. Он пишет о том, что повесил на вешалку старый мокрый дождевик и видавшую виды фетровую шляпу, вспоминает, как в своем рассказе он описывал позднюю осень и как ему захотелось выпить. Вначале писатель заказывает ром «Сент-Джеймс», и он кажется ему «необыкновенно 181 вкусным в этот холодный день». Затем его взор останавливается на девушкепарижанке. В рассказе нет ни слова о том, что эта девушка парижанка, но ведь всем известно, что самые красивые девушки живут в Париже. Поверим и мы в это утверждение. Наконец, рассказ окончен. И писатель заказывает дюжину португальских устриц и полграфина сухого белого вина. «Я ел устрицы, сильно отдававшие морем, холодное белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда оставался только вкус моря и ощущение сочной массы во рту; и глотал холодный сок из каждой раковины, запивая его терпким вином, и у меня исчезло это ощущение опустошенности, и я почувствовал себя великим и начал строить планы» [Хемингуэй 2000, 422423]. Повышенное внимание к фактуре еды и питья – характерная особенность Хемингуэя. Недаром страстный поклонник его творчества русский писатель Виктор Некрасов всегда удивлялся способности Хемингуэя запомнить все, что он выпил и съел, и вставить эти подробности в свое очередное произведение. Но мемуары Хемингуэя о Париже – это не столько рассказ о бесчисленных кафе и ресторанах, сколько о творческой лаборатории писателя, рассказ о людях, с которыми свела его судьба. Мы читаем, как мучительно трудно писатель отыскивал ту «одну настоящую фразу», с которой начиналось его очередное произведение. И как было хорошо после работы, после которой он чувствовал себя «опустошенным», выпить рюмку кирша и «ходить по крутым улицам» и «радостно спускаться по длинным маршам лестницы, сознавая, что ты хорошо поработал». У Хемингуэя особенный стиль, который позднее назовут «кинематографическим». Он дает ощущение зримости происходящего. Хемингуэй не описывает, а изображает. «Когда мы вернулись в Париж, стояли ясные, холодные чудесные дни. Город приготовился к зиме. На дровяном и угольном складе напротив нашего дома продавали отличные дрова, и во многих хороших кафе на террасах стояли жаровни, у которых можно было 182 погреться. В нашей квартире было тепло и уютно» [там же, 427]. Прочтя эти строки, так и чувствуешь парижское предзимье. И ощущаешь всю бедность будущего великого писателя, для которого тепло – высшее благо. В своих воспоминаниях Хемингуэй намеренно или неосознанно возвращается к «теплу» – это и тепло кафе, это и тепло квартиры, это и просто тепло парижской погоды. Вот он описывает квартиру-студию Гертруды Стайн на улице Флерюс, 27. Хемингуэй вновь подчеркивает, что в квартире было «тепло и уютно» из-за большого камина и лишь потом он упоминает, что «вас угощают вкусными вещами и чаем». Как известно, Париж славен своими ресторанами и кафе. И Хемингуэй отдал должное и бару отеля «Ритц», и кафе «Клозери де Лила», и «Куполу», и «Ротонде», и многим другим. Но вот есть маршрут, где не встретишь ни одного ресторана или кафе: «Из Люксембургского сада можно пройти по узкой улице Феру к площади Сен-Сюльпис, где тоже нет ни одного ресторана. А только тихий сквер со скамьями и деревьями… Если отправиться оттуда дальше, к реке, то не минуешь булочных, кондитерских и лавок, торгующих фруктами, овощами и вином. Однако, тщательно обдумав, какой дорогой идти, можно повернуть направо, обойти вокруг серо-белой церкви и выйти на улицу Одеон… на улице Одеон нет ни кафе, ни закусочных до самой площади, где три ресторана» [Хемингуэй 2000, 455]. И еще одно важное наблюдение: от чувства голода спасает посещение картинных галерей, к тому же голод обостряет восприятие живописи. «Пока я голодал, я научился гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он создавал свои пейзажи», – заключает писатель. Как мы уже говорили, «Праздник, который всегда с тобой» не только прогулка бедного и голодного Хемингуэя по парижским кафе, но и встречи с людьми. Один из самых проникновенных пассажей принадлежит памяти Скотта Фицджеральда. Френсис Скотт Фицджеральд – немного старше Хемингуэя и был к тому времени известным, если не сказать знаменитым писателем. Но в мемуарах Хемингуэя он предстает избалованным ребенком. 183 Он изображает своего старшего друга с легкой долей иронии. При этом стоит подчеркнуть, что отношение Хемингуэя к Фицджеральду вовсе не напоминали в то время отношения старшего к младшему. Не следует забывать, что Хемингуэй писал свои воспоминания в конце жизни, и на них явно сказались и прожитые годы, и возросшее самомнение писателя, готового поучать всех и каждого. Однако и они овеяны теплотой и симпатией. Но «кулинарная тема» сказалась и в этом случае. «Сначала нам подали очень хороших улиток и графин флери, но мы не успели съесть и половины, как Скотта вызвали к телефону. Его не было около часа, и, в конце концов, я доел его улиток, макая кусочки хлеба в соус из растопленного масла, чеснока и петрушки, и допил графин флери», – подробно описывает их завтрак Хемингуэй. Но завтрак на этом не закончился. «Когда он вернулся, я предложил заказать еще улиток, но он сказал, что не хочет. Ему хотелось чего-нибудь простого. Он не хотел ни бифштекса, ни печенки, ни грудинки, ни омлета. Он потребовал цыпленка. Днем мы съели вкусного холодного цыпленка, но здешние места славились своими курами, так что заказали пулярку по-бресски», – продолжает живописать Хемингуэй [ Хемингуэй 2000, 256] . В книге старинных французских рецептов мы можем найти эту «пулярку по-бресски», которая так нравилась Фицджеральду. Мемуары Хемингуэя, некоторые называют их романом, погружают нас в атмосферу Парижа 20-х годов ХХ века. Один из рецензентов на книгу пренебрежительно отозвался, что в ней, дескать, слишком мало Парижа, слишком много алкоголя и «Клозери де Лила». Конечно, можно увидеть в книге и такое. Все зависит от точки зрения. Но переданный писателем дух Парижа, его чувственный аромат, в том числе и гастрономический, привлек внимание сотен тысяч читателей и заставил полюбить этот город даже тех, кто там никогда не был. И все же, что писал Хемингуэй о кафе «Клозери де-Лила», в котором собиралась парижская богема 20-х годов прошлого века? Прочтем эти строки: 184 «Когда мы жили над лесопилкой в доме сто тринадцать по улице НотДам-дешан, ближайшее хорошее кафе было «Клозери-де-Лила» – оно считалось одним из лучших в Париже. Зимой там было тепло, а весной и осенью круглые столики стояли в тени деревьев на той стороне, где возвышалась статуя маршала Нея; обычные же квадратные столы располагались под большими тентами вдоль тротуара, и сидеть там было очень приятно» [Хемингуэй 2000, 461]. Далее Хемингуэй пишет о посетителях кафе, говоря, что это были бородатые люди в поношенных костюмах с ленточками Почетного легиона и жители латинского квартала с ленточками Военного креста, и что среди них был только один настоящий поэт, которого Хемингуэй так и не прочел. Может показаться странным, что Хемингуэй, сетуя на бедность, постоянно ходит по кафе и ресторанам. Но этому есть объяснение. Хемингуэй – писатель, и время от времени деньги у него водились. К тому же, в 20-е годы жизнь в Европе из-за чудовищной инфляции была для американцев удивительно дешева. Ведь именно тогда Францию буквально наводнили американцы. Для них это было время «просперити». Вспомним другие строки из романа: о жизни в Австрии, в Альпах, когда за полный пансион Хемингуэй с женой и ребенком платил два доллара. Таковы были реалии Европы после Первой мировой войны. Что случилось потом, мы прочтем у Френсиса Скотта Фицджеральда. Именно о Скотте Фицджеральде спрашивал бармен из «Ритца», имя которого он никак не мог вспомнить. Откроем рассказ Ф.С. Фицджеральда «Возвращение в Вавилон» (Babylon revisited). Это уже не тот Париж, радостный и веселый, полный богатых американцев, готовых купить «Клозери-де-Лила» и переделать его в американский бар, сбрив усы у официантов, героев Великой войны. «Париж опустел, но это было не так уж худо. Настроение гнетущее, непривычное затишье в баре отеля «Риц». Американский дух исчез – теперь здесь невольно хотелось держаться вежливым гостем, не хозяином. Бар вновь отошел к Франции. Чарли ощутил затишье сразу, едва только вышел из такси и увидел, 185 что швейцар, которому в такой час обыкновенно вздохнуть было некогда, судачит у служебного входа с chasseur» [Фицджеральд 1996, 288]. Главный герой американец Чарли возвращается в Париж после нескольких лет отсутствия. Возвращается за дочерью, которую у него отобрали из-за его пьянства. Он вспоминает то время, когда он, не задумываясь, кутил здесь и сорил деньгами. Но это время прошло, и он возвращается, как на пепелище. «Снаружи, сквозь тихий дождик, дымно мерцали вывески, огненно-красные, газово-синие, призрачно-зеленые. Вечерело, и улицы были в движении; светились бистро. На углу бульвара Капуцинок он взял такси. Мимо, розоватая, величественная, проплыла площадь Согласия, за нею естественным рубежом легла Сена, и на Чарли внезапно повеяло нестоличным уютом Левого берега» [там же, 289-290]. «Он велел шоферу ехать на авеню Оперы, хотя это был крюк. Просто хотелось увидеть, как синие сумерки затягивают пышный фасад и в клаксонах такси бессчетно повторяющих начальные такты «La Plus que Lente», услышать трубы Второй империи. У книжной лавки «Брентанов» запирали железную решетку, у Дюваля, за чинно подстриженными кустиками живой изгороди, уже обедали», – продолжает Фицджеральд [там же, 290]. Фицджеральд сам провел несколько счастливых лет в Париже, и там же начиналась его трагедия. Он, как и его герой Чарли, и другой герой – Дик Дайвер, все больше пил. О трагедии Фицджеральда мы узнаем из мемуаров Хемингуэя. От него же мы узнаем и о трагедии жены Фицджеральда Зельды. В рассказе «Возвращение в Вавилон» много автобиографического. И отношения Чарли очень напоминает отношения Фицджеральда с дочерью. «Переехали на левый берег, и, окунаясь, как всегда, в его неожиданный провинциальный уют, Чарли думал: я своими руками сгубил для себя этот город. Не замечал, как, один за другим, уходят дни, а там оказалось, что пропали два года, и все пропало. И сам я пропал» [Фицджеральд 1996, 291]. Возвращаясь к дешевизне парижской жизни, следует прочитать строчки из рассказа: «Чарли ни разу не приходилось в Париже есть в настоящем 186 дешевом ресторане. Обед из пяти блюд и с вином – четыре франка пятьдесят сантимов, то есть восемнадцать центов. Почему-то сейчас он пожалел об этом» [Фицджеральд 1996, 293]. Вот вам ответ на «роскошные обеды» Хемингуэя. Таким образом, мы видим, какое противоречивое впечатление произвел Париж на двух известных американских писателей, хотя общая тональность обоих повествований, несомненно, положительная. Во многом благодаря перу этих мастеров слова образ Парижа остается одним из самых привлекательных в мировой литературе [Набилкина 2012, 178-183]. Именно Хемингуэй открыл Париж советскому человеку. Это был прорыв в иной мир, в сказку, свободную от кликушеских лозунгов советской пропаганды. О значимости Хемингуэя для советской интеллигенции тепло и проникновенно сказал один из первых российских диссидентов А. Синявский: «Наш российский, наш советский, наш дурацкий Хемингуэй! Как он был нам важен, необходим этот дядя Хэм. Почти как «Дядя Ваня», как «Хижина дяди Тома». В нашу сызмальства религиозную жизнь Хэм, дядя Хэм, вносил почти запретную, подпольную тему человека… Спасибо тебе, дядя Хэм…» [Некрасов 1991,304]. Эти строки взяты из прижизненного некролога, посвященного памяти умирающего (но не умершего) Виктора Некрасова, автора знаменитой повести «В окопах Сталинграда». В творческой судьбе В. Некрасова Хемингуэй сыграл особую роль. Достаточно сказать, что будущий писатель всю войну носил в полевой сумке томик Хемингуэя. Более того, увлечение Хемингуэем у Некрасова было настолько сильным, что когда он садился за стол, маленькая дочка хозяйки строго говорила: «А теперь тишина, дядя Вика сел за своего Хемингуэя» [там же, 190]. Когда Некрасову представилась возможность увидеть Париж, он бродил по нему вместе с Хемингуэем. Хемингуэй - мастер детали, бытовой подробности. Но именно эти, на первый взгляд, малозначительные детали придают особый колорит его прозе. Виктор Некрасов по-хемингуэевски 187 смакует детали. Вслед за Хемингуэем он скрупулезно описывает маршруты своих прогулок по Парижу, повторяя маршруты своего американского кумира. С особым удовольствием вместе с Хемингуэем Некрасов обходит парижские рестораны и кафе. Он настолько достоверно изображает свою воображаемую встречу с Хемингуэем в ресторане «Мишо», что фантастика приобретает черты реальности. Хемингуэй ждет там своего друга – соперника – Скота Фицджеральда. Но он не гнушается общения с русским писателем. Они вместе пьют коньяк и закусывают говяжьим турндо – филе, завернутым в форме рулета. Кажется, что не только Хемингуэю нравится звучание французских изысканных блюд. В любви к гастрономическим изыскам от него не отстает и Виктор Некрасов. После «Мишо» Некрасов идет в кафе «Липп» и «Флор», куда также частенько захаживал папа Хэм. Некрасов вспоминает, что Хемингуэй пил там кагор с водой, а сам заказывает холодное пиво «Альзасьен» с креветками. Через две недели пребывания в Париже он чувствует себя уже настоящим парижанином и замечает, что в квадрате Сена Рю де Ренн – Люксембург - Рю Сен Жак трудно не встретить знакомых, даже если ты и не Хемингуэй. В этом районе тебе всегда кто-нибудь предложит выпить. Следует сказать, что тема еды и напитков в Париже – неизменная тема как Хемингуэя, так и Виктора Некрасова. Смакуя каждое слово, Хемингуэй в «Празднике, который всегда с тобой» описывает поглощение тривиального картофельного салата: «Пиво оказалось очень холодным, и пить его было необыкновенно приятно. Картофельный салат был хорошо приготовлен и приправлен уксусом и красным перцем, а оливковое масло было превосходным. Я посыпал салат черным перцем и обмакнул хлеб в оливковое масло. После первого жадного глотка пива я стал есть и пить не торопясь. Когда с салатом было покончено, я заказал еще порцию, а также cervelas большую толстую сосиску, разрезанную вдоль на две части и политую особым горчичным соусом. Я собрал хлебом все масло и весь соус и медленно потягивал пиво…» [Хемингуэй 2000,457-458]. Хемингуэй из самых простых 188 блюд создает удивительную «империю вкуса». В своих произведениях он никогда не забывает подчеркнуть качество пищи и подробно, со вкусом описать процесс насыщения. Детальное описание гастрономических изысков произвели настолько сильное впечатление на Виктора Некрасова, что в своей книге «Записки зеваки», созданной уже в эмиграции и именно в Париже, он, сидя в Нью-Йоркском баре, поражался способности Хемингуэя запомнить на долгие годы все то, что он пил и ел в парижских ресторанах и вставить в свои произведения. «Очевидно, он все же был чревоугодником, наш кумир Хемингуэй. А чревоугодие, увы, грех номер один… Какие еще были грехи у Хемингуэя, мне не известно, человек он был замечательный, но то, что он любил не только выпить, но и плотно, со знанием дела поесть, - это для меня теперь ясно», - пишет Некрасов [Некрасов 1991, 346] Хэмингуэевский Париж примечателен не только своими улочками, площадями, кафе и знаменитой французской кухней, но и людьми. В первую очередь, людьми. Если бы Хемингуэй ограничился описанием архитектуры и живописанием обедов и выпивок, то он бы вошел в литературу как добросовестный бытописатель, но никак не Мастер. Хэмингуэевский Париж дорог нам воспоминаниями о Скоте Фицджеральде и Гертруде Стайн, Сильвии Бич и Эзре Паунде, Джеймсе Джойсе и Гарольде Стирнсе. Париж русского Некрасова замечателен тем же. Виктор Некрасов встречается в этом вечном городе с людьми и думает о судьбах России и всего человечества. Из воображаемой, но такой осязаемой встречи с Хемингуэем у «Мишо» вырастает встреча со Сталиным. Беседа со Сталиным дает ответы на многие злободневные вопросы нашего времени, раскрывает природу советского общества, проливает свет на сущность любой диктатуры. Виктор Некрасов мастерски рисует психологический портрет всемогущего вождя, ироничного, не обманывающего себя относительно «любви» и «преданности» своих соратников. Метаморфозы Сталина поразительны – из «приветливого, уютного дедушки» он мгновенно превращается в злобного и страшного тигра, готового растерзать очередную жертву. Сталин в глазах Виктора Некрасова – 189 хитроумный кукловод, умело манипулирующий сановными марионетками Хрущевым, Молотовым и даже Берией. Его мнение о «товарищах по партии» невысоко и однозначно: проверяют… Житья нет» «Подглядывают, [там же, 348]. сволочи, Интересно подслушивают, отметить, что рассекреченные уже в XXI веке материалы «особых папок» подтверждают художественные домыслы писателя, силой своего воображения создавшего образ одинокого вождя великой страны, отдающего себе отчет, что от «верных соратников» пощады не будет. Закономерно, что мысли о несвободе приходят к Некрасову в свободном Париже. Особенность русского взгляда на заграницу заключается в соотнесении «чужой» жизни с жизнью своего отечества. Так, и Виктор Некрасов, наблюдая за раскованной парижской молодежью, думает о молодежи советской, зашоренной, по его мнению, догмами коммунистического режима. Справедливости ради надо признать, что сегодняшняя молодежь в полной мере вкусила западной свободы, правда, она не пошла ей на пользу. Кстати сказать, нечто подобное произошло и с нашей литературой. Обретя полную свободу выражения, русские писатели в постсоветское время не стали властителями дум и не породили пока ни одного значительного произведения. Как ни парадоксально, видимо, справедлив тезис А. Синявского, еще одного русского парижанина, что настоящая, большая литература может появиться только в стране, где писать запрещено. Запрет заставляет настоящего писателя писать кровью сердца, преодолевая все препоны. В постсоветское время обращает на себя внимание сборник талантливых травелогов Э. Тополя и А. Стефановича под названием «Русский Париж» или под более привлекательным для читателя и издателя «Я хочу твою девушку». Эти травелоги приняли форму рассказов или историй, герои которых «русские парижане». Эти травелоги вновь рассказывают о Париже, причем очень подробно изображают весь парижский антураж: дома, улицы, рестораны и т.д. 190 Возьмем, к примеру, рассказ «Лучший город земли», герой которого сам Париж. Автор с детства мечтает попасть в Париж, но когда ему это удается, он чувствует себя обманутым, настолько реальный Париж отличается от того города, который автор мечтал увидеть. «Нет, «разочарование» – это слишком мягкое слово. Я был потрясен. Я увидел серый, пяти, шестиэтажный город, довольно грязный, с большим количеством мусора на улицах и донельзя загаженный собаками», – восклицает раздосадованный автор. «Только на третий день я понял, что лучше этого города нет на земле. И до сих пор так считаю» [Тополь, Стефанович 2000, 5, 233], – выносит свой окончательный вердикт автор. И он начинает описывать Париж. Париж, знакомый всем, кто был там или читал, или видел в многочисленных фильмах. Но от этого город не утратил своей привлекательности и новизны. У каждого «свой» Париж, и поэтому от повторения его достопримечательностей, его уголков и любимых мест, он становится еще ближе, еще более узнаваемым и родным. «Слава Богу, что я понял, какого рода красота Парижа. Это – для избранных. Это красота огромной жемчужины. Перламутровый – самое точное определение цвета его домов, площадей и неба над городом. Посмотри на сочетание цветов моста Александра III – серого с золотым, и ты, может быть, врубишься в эстетику Парижа. Как дорогая жемчужина, Париж меняет оттенки… Я уже сравнивал Францию с возлюбленной. Так вот Париж – лучшее украшение этой красавицы», – продолжает восторгаться городом автор [Тополь, Стефанович 2000, 284]. Затем писатель рассказывает о правилах парижской жизни. О том, что согласно постановлению мэра, будущего президента Франции Жака Ширака, запрещено менять внешний вид фасадов домов, о парижских кафе, где можно назначать свидания или читать газету, о климате города, довольно теплом, что позволяет парижанам проводить время на улице. Рассказывает, и мы постепенно влюбляемся в этот город. Далее автор начинает перечислять любимые места «своего» Парижа, и хотя мы уже десятки раз слышали и про Люксембургский сад, и про площадь 191 Трокадеро, и про Монмартр, и Латинский квартал, мы по-прежнему открываем эти места заново. А вот еще один рассказ «Кое-что о французском характере». Этот рассказ особенно актуален после событий на Манежной площади, хотя написан задолго до них. В нем рассказывается о проведении демонстраций молодежи и о схватках с полицией. Несмотря на их кажущуюся жестокость и буйство, ни один камень, ни одна бутылка не попали ни в кафе, ни в голову простых обывателей. «Мы были в самом центре событий, но священное чувство частной собственности было в крови, что у полицейских, что у этих так называемых революционеров. Какую бы революцию они ни устраивали, никто из них даже в самом розовом революционном сне не мог себе представить, что можно подойти и во имя своих святых идей расколотить стекло кафе, за которым сидят буржуа и наблюдают всю эту сцену» [Тополь, Стефанович 2000, 2, 107]. Не обошли вниманием авторы и парижские рестораны. Конечно, город славится французской кухней. Но среди ресторанов Парижа имеются кабачки со всего света. Один из рассказов посвящен греческому ресторанчику «Греческая таверна», с которым связана удивительная история. Герой ее академик Примаков, который известен не только как ученый, но и как крупный государственный деятель – директор службы внешней разведки и премьер-министр России. Вот как угощал его с другом владелец ресторана: «Для начала я подал им пикилу – ассорти из греческих закусок, а также салат из даров моря, долму, улитки по-бургундски, фаршированные кальмары, авокадо в кислом соусе и греческие салаты с сыром и маслинами. А на горячее – гамбасы, деревенский шашлык из ягненка, мусаку – баклажаны, сыр и помидоры, жареные на вертеле. И ко всему этому – вот это вино «Ретсина» с греческого острова Крит, которое там делают не в дубовых, а в сосновых бочках, и которое по своим вкусовым данным превосходит некоторые французские вина» [там же, 291]. 192 В этом рассказе, как и во многих других, ощущается влияние Хемингуэя. Вообще, влияние знаменитого американского писателя заметно у многих русских авторов, пишущих о загранице, а особенно, о Париже. О посещении известного ресторана «Куполь» мы читаем в рассказе «Наши в Париже». «Куполь», «Ротонда», «Клозери де-Лила» – все эти рестораны и кафе мы встречаем в прозе Хемингуэя. Но у русских авторов свой «Куполь» и свое восприятие действительности. Вначале мы проникаем в атмосферу ресторана. Мы заходим в огромный зал, наполненный посетителями с «веселыми, жизнерадостными официантами, легко делающими свое дело». Самое удивительное, что среди ожидающих столика, мы видим известного актера Пьера Ришара, который терпеливо ждет в очереди, а не «качает права» как это бы сделали русские актеры. Автор и его друзья занимают заказанный заранее столик. И вот вожделенный заказ. Он поистине сделан большим гурманом: «Нас десять человек. Поэтому принесите три больших плато, этого нам хватит на закуску. Но я вас очень прошу: те плато, которые у вас в меню, нам не нужны. Сделайте нам три плато с большими розовыми креветками, положите туда по дюжине больших бретонских устриц и добавьте к этому по порции билё каждому. И к этому набору можно добавить несколько крабов. Это будет большая хорошая рыбная закуска, а вторая часть нашего обеда, мсье, будет состоять из лопатки ягненка» [там же, 342]. Надо ли говорить, что все это кулинарное изобилие сопровождалось пятью бутылками «Шабли» и пятью бутылками «Бордо» к рыбе и мясу. А чтобы «заполировать» заказ, было просто необходимо взять еще четыре «бутылочки водочки». Надо думать, что от этого заказа, достойного Гаргантюа, у официанта глаза на лоб полезли, а автор смог доказать, что русские не только пить умеют, но и хорошо разбираются в тонкостях французской кухни. Символом несбыточной мечты представляется Париж Эдуарду Тополю и Александру Стефановичу. Однако, как мы уже замечали, поначалу реальный Париж их разочаровывает. И сами парижане не вызывают у русских 193 писателей восхищения. Они какие-то «не парижские»: скромно одетые и внешне неэффектные. И лишь постепенно открывается очарование Парижа, самого «уютного» города мира, который каждый, кто в нем побывал, считает своим. На первый взгляд, сборник Э. Тополя и А. Стефановича «Русский Париж» кажется не более чем собранием рассказов-анекдотов. Но постепенно сквозь балаганную маску проступает живое, часто трагическое лицо русского человека. Вот почти комедийный рассказ «Бордель на улице Сен-Дени». «Новые русские» жаждут увидеть фривольный Париж и оказываются на «стриптизе с живым контактом». Но в качестве парижской стриптизерки они видят немолодую русскую - профессора, доктора наук, которая подрабатывает стриптизом после чтения лекций в Сорбонне, а «живой контакт» ограничивается разговором по душам. А вот не менее «сексуальный» рассказ под многообещающим названием «Гарем», в котором героиня «отдается» автору прямо посреди фешенебельного парижского ресторана, преступно нарушив все законы шариата и подвергнув себя смертельной опасности. На сей раз «живой контакт» даже разговором не ограничивается. Одна из жен саудовского магната украдкой открывает на мгновение русскому писателю свое лицо. Но за этим «преступлением», а по восточным законам это действительно страшное преступление, мы видим трагедию юной девы, посаженной в золотую клетку. В сборник включены два рассказа, представляющие антитезу: «Новый год на Шанэ Элизе» и «Мадонна с младенцем». Первый рассказывает нам о встрече Нового года на Елисейских полях, когда Париж превращается в одну большую семью, где нет места вражде, разобщенности и унынию. По мнению автора, это действительно «праздник счастья», когда кажется, что все сердца открыты друг другу. Второй повествует о трагической истории юной девушки Кати, которая осталась с младенцем на руках во враждебной, бессердечной Москве. Родителей ребенка сбивают насмерть крутые подонки в «мерседесе» и уезжают, даже не остановившись. Заключительные строки рассказа не оставляют надежды на «хэппи энд»: «Она одна в этом холодном жестоком 194 городе, и ей некому излить душу, кроме этого малыша» [Тополь, Стефанович 2000, 153]. Противопоставление Москвы и Парижа далеко не случайно. Автор хочет предупредить нас об опасной метаморфозе русского народа, который из «богоносца» превращается в этническую химеру, порывающуюся проявлять сострадание ко всем нациям, кроме своей собственной. В авторском отступлении после этого рассказа Э. Тополь говорит своему другу Александру: «Саша, знаешь что? Прежде чем лезть в Югославию со своей амуницией, лучше бы одели детей в своих детдомах. А то я из Флориды вожу детскую одежду в подмосковные приюты и вижу – там десять пар обуви на двести человек. А вы…» [там же, 154]. В произведениях В. Некрасова и Э. Тополя подтвердилась еще одна особенность русского взгляда на мир: познавая чужую страну, мы глубже познаем и свою собственную. Но даже в русском Париже не может превалировать грустная нота. И мы вновь идем по следам Хемингуэя, посещая «Куполь» и «Клозери де Лила» и окунаясь в атмосферу праздника, который всегда с тобой. Эдуард Тополь со вкусом живописует роскошный обед новых русских в знаменитом «Куполе» с большими розовыми креветками, бретонскими устрицами, лопаткой ягненка и загадочным для русского уха бюлё. Всю эту империю вкуса сдабривают бутылки «шабли» и бордо «Сен-Эмильон». Для чего так подробно Э. Тополь излагает все эти, на первый взгляд, излишние детали. Такое пристальное внимание к детали, к фактографии опирается на теорию «вещности» Гюстава Флобера, унаследованную Хемингуэем и талантливо воплощенную в его произведениях. Но это не натурализм, когда писатель тщательно фиксирует нужное и ненужное, а высокое искусство реалистического отбора. При таком отборе бытовые подробности превращаются в мощное средство психологического анализа, изображения внутреннего мира героя, лишаясь своего бытовизма и обретая новые функции художественного познания. По тому, как и что ест человек, вполне можно составить его психологический и физический портрет. Это замечание справедливо и в отношении не только персонажей, но и самих 195 авторов, в том числе и Хемингуэя. Именно внимание к чувственным проявлениям жизни позволяет писателю создать достоверные картины реального мира, гуманистически освоить окружающую действительность, запечатлеть ее в художественном произведении и сделать это произведение притягательным для читателя. Однако не все писатели разделяли взгляды Хемингуэя и его поклонников на «праздник, который всегда с тобой». Возьмем, к примеру, одного из самых эпатажных авторов ХХ века Генри Миллера, его роман «Тропик Рака» (1931). В романе автор изображает Париж 1928 года, то есть Париж именно в то время, когда о нем писал Хемингуэй. Но изображение его диаметрально противоположно. Париж Хемингуэя гуманистичен и радостен. Париж Генри Миллера омерзителен и бесчеловечен. Вот как воспринимает его американский писатель: «Мир выбросил меня, как стреляную гильзу. Густой туман пал на землю, покрытую замерзшим мазутом. Я чувствую, как вокруг меня бьется город, точно сердце, вырезанное из теплого тела. Окна моей гостиницы гноятся, и в воздухе – тяжелый, едкий запах, как будто здесь жгли какую-то химию. Глядя в Сену, я вижу грязь и запустение, тонущие уличные фонари, захлебывающих мужчин и женщин. Дома на мостах – это скотобойни любви. Возле стены стоит человек с аккордеоном, привязанным к животу, кисти рук у него отрезаны, но, несмотря на это, между его культяпками, точно мешок со змеями. Мир сжимается до одного квартала. А дальше он пуст – ни деревьев, ни звезд, ни рек. Посреди улицы – колесо, в ступице колеса – виселица. Люди, собственно, это уже не люди, а мертвецы – лихорадочно рвутся на виселицу. Но колесо вращается слишком быстро…» [Миллер 1999, 183]. Этот отрывок выполнен целиком в дегуманизированном стиле отчуждения. Этот стиль, созданный М. Горьким в самом начале ХХ века, стал ведущим литературным приемом многих писателей более позднего периода. Этот стиль выражает тотальное разочарование в дегуманизированной 196 урбанистической цивилизации. Город – воплощение этой цивилизации. В нем, как в зеркале, отражаются все ее пороки. Миллеровский Париж – это и «мочевой пузырь», и «сифилитичные русалки» Сены, и «выгребная яма мира», и «склеп», «полный окровавленных свертков мяса и костей», это и «рак, который растет внутри вас, и будет расти, пока не сожрет вас совсем». Но Генри Миллер любит «свой» Париж, любит странной, больной, но всепоглощающей любовью. В миллеровском Париже даже нищие – «самые грязные и самые гордые». «А когда в Париж приходит весна, даже самый жалкий из его обитателей должен чувствовать, что он живет в раю», – восклицает писатель. [Там же, 304]. Типичным представителем стиля отчуждения можно назвать и ЖанПоль Сартра. Именно в их произведениях стиль отчуждения достигает своего апогея. Сартр с большой художественной силой выразил главную проблему западного мира – одиночество, разобщенность человеческих душ и сердец в городах. Следует отметить, что проблема одиночества, дегуманизации западного общества, отчуждения, или алиенации, зародилась в недрах буржуазного мира по мере развития капиталистических отношений. Но особенной остроты она достигла в США после окончания Второй мировой войны при переходе к войне «холодной». Но Сартр, как и многие выдающиеся писатели, ощутил наступление одиночества задолго до того, как оно стало художественной доминантой в западной литературе. Апофеозом творчества стал роман Сартра «Тошнота» (1938). Главный персонаж романа Антуан Рокантен не живет, а существует. Причем слово «существование» становится в романе заглавным, несущим сакральный смысл. Вторым наиболее значимым словом является «тошнота». Даже занимаясь любимым делом, исследуя жизнь авантюриста XIX века маркиза Рольбона, Антуан не может избавиться от «тошноты». Она настигает его внезапно и повергает в прострацию. Тошнота буквально парализует героя: ему не хочется ни двигаться, ни жить, ни мыслить. В один из приступов тошноты, Антуан, глядя на корень каштана, 197 осознает, что он всего лишь растение, что он не живет, ведет существование без смысла и цели. Да и окружающие ведут попросту растительную жизнь. Все они, как и его возлюбленная Анни, «живые мертвецы», все они «лишние», как и он сам. Как и у всех модернистов, повествование не обходится без образа города. Пусть это не Париж, а провинциальный Бувиль. Бувиль – воплощение скуки, серости и отчуждения. Недаром Антуан говорит, что он боится городов. Городской пейзаж уныл и мрачен. Человек в городе чувствует себя одиноким путником в ночи, заблудившимся и никому ненужным: «Из дыры задувает ледяной ветер – там одни только камни и земля. Камни – штука твердая, они неподвижны. Сначала надо миновать нудный отрезок пути: на правом тротуаре серая дымчатая масса с прочерками огней – это старый вокзал… По ту сторону улицы тьма и грязь. Перехожу Райскую улицу. Правой ногой я ступил в лужу, носок у меня промок. Прогулка началась…На сей раз, я ступил в сточную канаву обеими ногами. Перехожу дорогу – на другой стороне улицы одинокий газовый фонарь, словно маяк на краю света, освещает щербатый искалеченный забор… Я миновал сферу влияния фонаря, я вступаю в черный провал. Моя тень тает у меня под ногами в потемках, и мне чудится, будто я погружаюсь в ледяную воду» [Сартр 1999, 40]. Сартр подробно перечисляет названия улиц, достопримечательностей, имена людей, с которыми встречается главный герой. Обилие деталей, на первый взгляд, ненужных, создает ощущение пустоты, бесцельности существования героя в дегуманизированном мире. Постепенно Антуан понимает, что и его книга бесцельна, ибо прошлого не существует, это лишь очередная бессмысленная и бесцельная попытка заменить реальную жизнь вымышленной. Он обрывает работу над книгой и уезжает в Париж, чтобы встретиться с Анни. Но и эта встреча не приносит радости. Вместо цветущей, полной когда-то жизни девушки, Антуан видит «лицо старухи, жуткое лицо». Анни – очередной «живой труп». Антуан прощается с Бувилем, со своим прошлым, со своей неоконченной историей жизни маркиза Рольбона. Он с ужасом думает о веренице пустых дней, ожидающих его в будущем «Я 198 говорю «я» - но понятие это утратило для меня смысл. Я настолько предан забвению, что мне трудно почувствовать самого себя… Никого. Антуан Рокантен не существует. Ни-для-кого. Забавно. А что такое вообще Антуан Рокантен? Нечто абстрактное. Тусклое напоминание обо мне мерцает в моем сознании. Антуан Рокантен…И вдруг «я» начинает тускнеть, все больше и больше – кончено: оно угасло совсем», – передает ощущение распада собственной личности герой во внутреннем монологе. [Там же, 243]. Антуан едет в Париж. Но мы напрасно будем ждать от него описания Парижа. В романе мы найдем только упоминание отдельных мест, лишенных какой бы то ни было оценки. Лишь комната Анни заслуживает внимания: «голая» и «холодная». В этой голой и холодной комнате и происходит объяснение героя со своей бывшей возлюбленной. В романе мы находим объяснение этому во внутреннем монологе героя: «Так или иначе, до конца недели я возвращаюсь в Париж. Что я выиграю от этой перемены? Не один город, так другой: один рассечен надвое рекой, другой окружен морем – если этого не считать, они похожи» [Сартр 1999, 223]. Антуан – типичный горожанин. Но он говорит: «Я боюсь городов. Но уезжать из них нельзя. Если ты рискнешь оторваться от них слишком далеко, тебя возьмет в свое кольцо растительность. Растительность, протянувшаяся на километры и километры, ползет к городам. Она ждет, когда город умрет» [там же, 223]. Конечно, не следует воспринимать «растительность» буквально. Это копия затерянных в джунглях городов древних цивилизаций. Города несут культуру. Но они и отравляют человека. «Мне придется вернуться в Бувиль. Какой ужас!» – восклицает герой. В мертвых городах живут и мертвые люди. Это касается не только мегаполисов, но и провинциальных городков. Обратимся опять к «Тропику Рака» Генри Миллера. Его герой после Парижа, о котором он отзывается весьма противоречиво, попадает в Дижон. Он оказывается еще хуже, чем Париж. «Через неделю мне кажется, что я здесь всю свою жизнь. Это был какой-то липкий, назойливый, вонючий кошмар, от которого невозможно 199 отделаться. Думая о том, что меня ждет, я приходил в полуобморочное состояние. Вечереет. Все, точно крысы, бегут домой под затуманенными фонарями. Деревья ощетинились колючей замерзшей злобой… Переулок мертвых костей, скрюченных фигур, завернутых в саваны, с рыбьими хребтами вместо спин», – передает свои ощущения герой [Миллер 1999, 262]. Такой город могут населять только мертвецы: «Здесь можно было ходить по главной улице из конца в конец хоть до Страшного суда – и не встретить ни одного живого человека. Город населяли шестьдесят, а то и семьдесят тысяч мертвецов, может, даже и больше – мертвецов, одетых в теплое белье, и не знающих, куда идти и что делать» [там же, 264]. Герой Миллера прибывает в Дижон по американо-французскому обмену – учить лицеистов разговорному английскому языку. Но вместо интеллектуального заведения, где учат мудрости, он вновь попадает в очередной бедлам: «Мне казалось, что я попал в маленький частный сумасшедший дом, откуда нет выхода». Перед нами предстает паноптикум преподавателей. Они, сохраняя внешнюю чопорность, озабочены лишь тем, как съесть скверный обед и выпить плохого же вина. По обыкновению модернистов, Миллер насыщает свое поэтическое пространство низменными деталями. Апофеозом низменности является изображение лицейского туалета и последствий лицейских обедов. Это изображение – квинтэссенция мерзости и непристойности… При первой же возможности, герой Миллера без сожаления бросает лицей и возвращается в Париж, хотя прекрасно понимает, что и в Париже его ждет все то же нелепое, бессмысленное существование. Интересно заметить, что изображения города у Миллера и Сартра типологически схожи. Это объясняется общим неприятием буржуазной действительности, общей ненавистью к сытому, бессмысленному существованию буржуа в пресыщенных, «мертвых» городах. Близок по стилю изображения и Эрих Мария Ремарк, описывающий Париж перед фашистской оккупацией в романе «Триумфальная арка». Здесь автор отчуждает город уже не от буржуазного общества, а от «коричневой 200 чумы». Главный герой романа – немецкий эмигрант, бывший главный врач крупной берлинской клиники Равик, вынужденный скрываться в Париже от фашистов. Находясь в Париже на нелегальном положении, Равик оперирует пациентов от имени другого лица. Равик – прекрасный хирург, но ему приходится скрывать свое имя. Он бесправный изгнанник, обреченный на унылое существование. От этого он не спит по ночам и вынужден бродить по Парижу, страдая от бессонницы. Его удел – бесчисленные кабачки и дешевые отели, в которых не требуют документов. Равик – третье имя, которое ему пришлось взять. Он чувствует себя в кафе уютно, насколько уютно может чувствовать себя одинокий человек. Но даже в их изображении проскальзывает какая-то злость: «Это был шоферский кабачок. За столиками сидели несколько шоферов такси и две проститутки. Шоферы играли в карты. Проститутки пили абсент. В главном зале совсем еще юный кельнер, с лицом обозленной крысы, посыпал опилками каменные плитки и подметал пол. Равик выбрал столик у входа. Так было удобнее; скорее удастся уйти. Он даже не снял пальто» [Ремарк 1995, 6]. Равик всегда чувствует себя в опасности, даже когда ее нет, поэтому он как взведенная пружина, и это обстоятельство отражается на его восприятии действительности. В этом кабачке он встречает женщину, такую же одинокую, как и он. Равик вначале пытается отделаться от нее, даже не подозревая, что он встретил свою любовь… И хотя мировосприятие Равика остается все еще мрачным, описание Парижа уже окрашивается романтическим флером: «Они вышли на площадь Этуаль. Она величественная раскинулась и перед бесконечная. ними Туман в окружающей сгустился, и серой улиц, мгле, лучами расходившихся во все стороны, не было видно. Видна была только огромная площадь с висящими тут и там тусклыми лунами фонарей и каменным сводом Триумфальной арки, огромной, теряющейся в тумане. Она словно подпирала унылое небо и защищала собой сиротливое бледное пламя на могиле Неизвестного солдата, похожей на последнюю могилу человечества, 201 затерянную в ночи и одиночестве» [там же, 9]. Триумфальная арка – доминирующая деталь романа. Она знаменует Великую войну, и она же служит напоминанием о бесчисленных жертвах этой войны. Вскоре разразится новая война с еще большими жертвами. И автор предупреждает читателя о грозящей беде. Но в беспросветном одиночестве героя появляется лучик надежды: «Они пересекли площадь. Равик шел быстро. Он слишком устал, чтобы думать. Рядом с собой он слышал неуверенные и громкие шаги женщины, она шла молча. Понурившись, засунув руки в карманы плаща, – маленький огонек чужой жизни. И вдруг в полном безлюдье площади она на какой-то миг показалась ему странно близкой, хотя он ничего о ней не знал или, быть может, именно потому. Она была ему чужой. Впрочем, и он чувствовал себя везде чужим, и это странным образом сближало – больше, чем все слова и притупляющая чувства долголетняя привычка» [Ремарк 1995, 9]. Два одиночества встретились. И эта встреча не прошло бесследно. Париж – город, где можно оставаться одиноким и в то же время не чувствовать одиночества. Настолько город захватывает тебя. Только в Париже никто не удивляется тому, что ты уходишь один, а возвращаешься вдвоем. Даже завтрак не надо заказывать на двоих: его и так принесут. Эта особая атмосфера любви обволакивает человека, заставляя его избавляться от самых черных мыслей. И если ночью женщина вначале боится «города за окном», то ее страх исчезает, когда наутро она обнаруживает перед дверью «завтрак на двоих». «Ведь мы в Париже», – говорит Равик [Ремарк 1995, 48]. После того как Равик определил женщину на ночлег, он снова идет в кабачок: «Равик зашел в ближайшее бистро и сел у окна, чтобы видеть улицу. Он любил бездумно сидеть за столиком и смотреть на прохожих. Париж – единственный в мире город, где можно отлично проводить время, ничем по существу не занимаясь» [там же, 12]. Равик одинок, но даже в одиночестве можно «любить» тихие бистро, смотреть на прохожих, не обременяя себя мрачными мыслями. 202 В романе нет пространных описаний Парижа. Все импрессионистично. Мы попадаем вместе с героями романа в один кабачок за другим, в очередной отель, в публичный дом, в хирургическую клинику. Кажется, что Ремарк лучше всего знает кабачки и отели. Да это и неудивительно, он сам бежал из Германии сначала во Францию, затем переехал в США, позднее обосновался в Швейцарии. Но атмосферу Парижа он передает с чрезвычайным искусством. «Несколько часов в Париже – и я совсем другая. Но меня все еще не покидает ощущение, будто я бежала из концлагеря», – говорит другая героиня, русская по происхождению. [Ремарк 1995, 52]. Кстати, русская тема присутствует в романе не случайно. Ремарк немало места отводит русскому Морозову, другу Равика. Париж принимает всех; и немецкого антифашиста Равика, воевавшего в Испании, и белоэмигранта, подполковника Морозова, и евреев – разорившегося Гольберга и вполне обеспеченного торговца картинами Вязенхофа. Неудивительно, что в такой атмосфере интернационализма Равик и Морозов выступают вместе против зарвавшихся франкистов. Порядочные люди всегда приходят на помощь друг другу. Так же поступает и доктор Вебер, владелец клиники, в которой нелегально работает Равик. Но не все люди порядочны даже в Париже. Медицинская сестра предает Равика, сообщив о нем в полицию, когда объявлена война и все иностранцы без документов подлежат интернированию. Трагедия Равика накладывается на трагедию страны. Вот последние мирные сцены: «Они прошли несколько кварталов вверх, свернули за угол. И вдруг им открылся весь Париж. Огромный, мерцающий огнями, мокрый Париж. С улицами, площадями, ночью, облаками и луной. Париж. Кольцо бульваров, смутно белеющие склоны холмов, башни, крыши, тьма, борющаяся со светом. Париж. Ветер, налетающий с горизонта, искрящаяся равнина, мосты, словно сотканные из света и тени, шквал ливня, где-то далеко над Сеной, несчетные огни автомобилей. Париж. Он выстоял в единоборстве с ночью, этот гигантский улей, полный гудящей жизни, вознесшийся над бесчисленными ассенизационными трубами. Цветок из света, выросший на 203 удобренной нечистотами почве, больная Кэт, Мона Лиза… Париж» [там же, 318]. Сколько любви в этом поэтическом отрывке. И все же и в нем прорываются нотки отчуждения. Грязь и величие… Но после гибели Жоан настроение Равика, сквозь призму восприятия которого мы воспринимаем все происходящее, резко меняется. Его видение Парижа становится мрачным до предела: «Он продолжал ехать по городу и вдруг увидел – тьма действительно уже начала окутывать Париж, словно короста на блестящей, глянцевой коже, то здесь, то там проступали болезненные пятна тьмы. Пестрая мозаика световых реклам, во многих местах разъеденных длинными тенями, угрожающе притаившимися меж немногих робких огней – красных, белых, синих, зеленых. Отдельные улицы уже ослепли, словно по ним проползли толстые черные змеи и раздавили блеск и сияние. Авеню Георга Пятого было уже затемнено, на авеню Монтеня гасли последние фонари, здания, с которых по ночам устремлялись к звездам каскады света, теперь таращились в полумрак голыми, серыми фасадами… Парализованное тело, охваченное агонией, подумал Равик. Одна его часть уже мертва, другая еще живет. Болезнь просачивалась повсюду, и когда Равик вернулся на площадь Согласия, ее огромный круг тоже был мертв» [Ремарк 1995, 395]. Перед нами та же площадь Согласия, но метаморфозы разительны. Это уже не та площадь, что величественно проплывала перед взором героев Фицджеральда, а мертвый труп, готовый быть попранным ногой фашистов. «Бледные и бесформенные, стояли здания министерств, погасли вереницы огней, теперь бесформенными, серыми комьями застыли на спинах дельфинов; в сероватых фонтанах плескалась темная вода, некогда сверкавший Луксорский обелиск грозным свинцовым перстом вечности устремлялся в мрачное небо; повсюду, подобно микробам, ползли едва различимые цепочки бледно-синих лампочек противовоздушной обороны, гнилостно, они охватывали квартал за кварталом безмолвно гибнущего города, словно пораженного каким-то космическим туберкулезом» [там же, 392]. 204 Так гибнет Париж, воспетый сотнями поэтов и писателей. И пускай попрежнему работают бистро, кафе и рестораны, по улицам по-прежнему фланируют проститутки, но жизнь ушла из этого города. Тьма все же победила свет… Но миновали мрачные времена, кончилась война, и над Парижем вновь взошло солнце: «Зимние солнечные лучи играли на станции метро, уютно пристроившейся в пролете моста, отбрасывая тени его металлической паутины на темные воды Сены… Обманчивое январское солнце совсем не добавляло тепла в изысканную атмосферу, создаваемую затхлым запахом, шедшим от воды, ароматом каштанов, растущих на набережной, металлическим скрежетом проходящих мимо поездов на станции. Их продолжительные жалобные сигналы, дополняя друг друга, создавали прелюдию нескончаемой симфонии» [Элли 2001, 92]. Мы проследили историю восприятия Парижа писателями XIX-XX веков, а историю виртуального восприятия приблизительно за 600 лет Мы увидели, как рос и хорошел Париж, как создавалась та непередаваемая атмосфера «столицы мира», которая воздействовала на человека, независимо от его социального и материального статуса. Мы проследили восприятие и отражение Парижа прежде всего писателями, людьми, наделенными особой чувствительностью и проницательностью. По сути дела, все наиболее даровитые художники слова отдали дань Парижу. В Париже возникали практически все литературные направления и течения, которые определяли развитие всей литературы с XIX века и по сей день. Таким образом, мы видим, что многие великие французские писатели внесли свою лепту в описание Парижа. Именно благодаря их бессмертным произведениям столица Франции стала литературной Меккой для многих поколений писателей всего мира, а читатели приобрели еще одну возможность лицезреть Париж во всем его многообразии и непредсказуемости [Набилкина 2014, 138-142]. 205 4.2. Город как мозаика (по роману Дж. Джойса «Улисс») «Если город исчезнет с лица земли, его можно восстановить по моей книге», – приводит слова Джеймса Джойса один из лучших знатоков его творчества и автор комментариев к роману С. Хоружий. [Джойс 1993, 43]. «Улисс» не только гениальный роман о современном Одиссее – Леопольде Блуме. Это роман о городе и горожанах – о Дублине и дублинцах. С самого начала Джойс очень кропотливо изучает Дублин: рисует схемы города, цветными карандашами прокладывает маршруты передвижения персонажей, отмечает все заметные места города и все его достопримечательности, проводит пути движения трамваев и т.д. Настольной книгой Джойса становится справочник «Весь Дублин на 1904 год». Писатель неуклонно и методично заполняет роман «уличной фурнитурой», как говорил сам Джойс. Наконец, он точно выбирает время действия – 16 июня 1904 года. Этот хронотоп – совмещение времени и пространства – стал ведущим приемом всей мировой литературы. Джойс прибегает к моделированию мира, к концентрации событий в oграниченном временном и географическом пространстве. Все похождения и странствия Блума вместились в один день. Поистине, для мировой литературы это стало эпохальным событием. Вслед за Джойсом крупнейшие писатели разных стран прибегают к этой находке. Целые исторические эпохи, судьбы людей и стран вмещаются в маленькую точку на географической карте, величиной, как выразился Уильям Фолкнер, «с почтовую марку». Дублин для Джойса, Прага для Кафки, Макондо для Маркеса, Йокнопатофа для Фолкнера, хутор Татарский для Шолохова, полустанок Буранный для Айтматова, Москва для Булгакова, Уайнсбург для Шервуда Андерсона, Зенит для Льюиса, Гиббсвилл для О’Хары стали «собственным космосом романиста». Вся Ойкумена сконцентрировалась и сжалась до предела во временном и пространственном отрезке. Многие выдающиеся писатели подчеркивали значимость и знаковость хронотопа даже номинативно – заглавием: «День восьмой» Т. Уайлдера, «Один день Ивана 206 Денисовича» Солженицына, «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова. Странствия Блума по Дублину начинаются с утра. С хождения за почкой. Блум – гурман. Это обстоятельство подчеркивается Джойсом. Еда для него – священнодействие. Как и приготовление пищи. «Мистер Леопольд Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и птиц. Он любил жирный суп из гусиных потрохов, пупки с орехами, жареное фаршированное сердце, печенку, поджаренную ломтиками в сухарях, жареные наважьи молоки. Всего же больше любил он бараньи почки на углях, которые оставляют во рту тонкий привкус с отдаленным ароматом мочи» [Джойс 1993, 45]. Завтрак Леопольда Блума – торжество плоти. Джойс создает красочный и выразительный образ гурмана. Создавая, так сказать, гастрономический портрет Блума, Джойс затем переходит к его потоку сознания, который также сосредотачивается на еде. Блум наблюдает, как кошка лижет «теплопузырчатое молоко», задумывается над достоинствами бараньих и свиных почек, к которым имеет особое пристрастие. Затем он берется за приготовление утреннего чая для своей жены Мэрион. Делает это он с большой тщательностью, зная вкусы супруги, которая не любит, когда бутерброды с маслом навалены на подносе горой. Блум на несколько минут выскакивает из дома в мясную лавку за вожделенной почкой и, покупая ее, провожает взглядом соблазнительную соседку. В мозгу Блума постоянно возникают ассоциативные ряды. Мысль прыгает с одного на другое. Длинный ассоциативный ряд заканчивается грубой непристойностью. Но непристойность эта вполне уместна: она органично подходит для сознания Блума, пронизанного плотскими соблазнами. Вернувшись домой, Блум приступает к священнодействию – приготовлению почки. Джойс, смакуя, детально описывает, как Блум поддевает почку вилкой, отдирает ее от сковороды, поливает бурым соком. Далее идет следующий пассаж. «Теперь он уселся, отрезал ломоть хлеба, намазал маслом, срезал пригорелую мякоть и бросил кошке. Наконец, 207 отправил кусочек на вилке в рот и принялся жевать, разборчиво смакуя упругое, аппетитное мясо. В самый раз. Глоток чаю. Потом он порезал хлеб на кубики, обмакнул один в соус и сунул в рот… Он разложил около себя листок с письмом и медленно стал читать, жуя, макая кубики в соус и отправляя их в рот» [Джойс 1993, 53]. Данный отрывок наполнен чувственным наслаждением, зримо передает всю полноту физиологических переживаний. Предметный ряд у Джойса наполняется внебытовым смыслом. Он создает особую атмосферу достоверности. Именно Джойс научил целые последующие поколения писателей особым образом обыгрывать каждую, казалось бы, незначительную деталь, атомизируя обычные действия. Вот еще один наглядный пример образного ряда. Блум заваривает чай: «Вполне закипел: пар валит из носика. Он ошпарил и сполоснул заварной чайник; насыпал четыре полные ложечки чаю и, наклонив большой чайник, залил чай водой. Поставив чай настояться, он отодвинул большой чайник в сторону и, вдавив сковородку прямо в жар угля, смотрел, как масло плавится и скользит по ней. Когда он развернул почку, кошка жадно мяукнула рядом с ним. Если ей давать много мяса, не будет мышей ловить. Говорят, они не едят свинину. Кошер. Он бросил ей окровавленную обертку и положил почку в кипящее масло. Перцу. Он взял щепотку из выщербленной рюмки для яйца. Посыпал круговыми движениями» [там же, 50]. Читая этот отрывок, читатель превращается в зрителя, ибо этот эпизод до предела кинематографичен. А теперь давайте сравним картину, изображенную Джойсом, с другой: «Он разжег костер из сосновых щепок, которые отколол топором от пня. Над костром он поставил жаровню, каблуком закрепив в землю все четыре ножки. На решетку над огнем он поставил сковороду. Ему еще больше захотелось есть. Бобы и макароны разогрелись. Он перемешал их. Они начинали кипеть, на них появились маленькие пузырьки, с трудом поднимавшиеся на поверхность. Кушанье приятно запахло. Ник достал бутылку с томатным соусом и отрезал четыре ломтика хлеба. Пузырьки вскакивали все чаще. Ник уселся возле костра и 208 снял с костра сковородку. Половину кушанья он вылил на оловянную тарелку. Оно медленно разлилось по тарелке. Ник знал, что оно еще слишком горячее. Он подлил на тарелку немного томатного соуса. Он знал, что бобы и макароны и сейчас еще слишком горячие. Он поглядел на огонь, потом на палатку, он вовсе не намеревался обжигать себе язык и портить себе все удовольствие… Язык у него очень чувствителен к горячему. Ник был очень голоден. Он увидел, что за рекой над болотом, где уже почти стемнело, поднимается туман. Он опять поглядел на палатку. Ну, теперь можно. Он зачерпнул ложкой с тарелки» [Хемингуэй 2000, 2, 115]. Похоже? Несомненно. А ведь это уже не модернист Джойс, а реалист Хемингуэй. Но и тут, и там возникает эффект присутствия. И тут, и там ощущается кинематографичность. Верность мельчайшей детали, дробность на уровне изображения, точная фиксация самых незамысловатых движений, физиологичность ощущений. В этом весь Хемингуэй. Но в этом же и весь Джойс. Из модернизма Джойса вырастает реализм самых прославленных мастеров как зарубежной, так и русской прозы. Леопольд Блум – типичный горожанин. Это проявляется во всем. Даже в манере еды. Для него поглощение пищи – некий сакральный акт, окруженный всяческими удобствами. Для жителя сельской местности еда – чаще всего лишь процесс, позволяющий запастись энергией для работы. Для сельского жителя, в основном, неважно, что и как есть. Для Блума процесс принятия пищи – нечто священное. Блум, по большому счету, интеллигент, неважно, чем он занят в конкретный момент. Он разбирается в музыке, в истории, в политике. Поток его сознания, мыслей не примитивен. Даже во время еды он читает. Итак, Блум отправляется в путешествие по Дублину. Солнечное утро. День обещает быть жарким. И Блум ясно представляет, как он бредет по некоему восточному городу: «Идешь вдоль берега в незнакомой стране, подходишь к городским воротам, там стража… Бродишь по улицам, под навесами. Головы прохожих в тюрбанах. Темные пещеры лавок, где торгуют 209 коврами. Внутри здоровенный турок, свирепый Турка, сидит, поджав ноги, покуривая витой кальян. Крики разносчиков. Для питья вода с укропом, щербет» [Джойс 1993, 46-47]. Почему Блуму представляется восточный город? В лирической прозе нет и не может быть ничего случайного, лишнего. Все концы стягиваются в один прочный узел, решают одну главную задачу. Блум – еврей. И поскольку государства Израиль тогда не существовало, мысли Блума обращаются на Восток, в вымышленный, воображаемый город, к «земле обетованной», к своей прародине. В Ирландии вообще, и в Дублине в частности, евреи в начале XX века представляли собой презираемое меньшинство, не играющее абсолютно никакой роли в общественной жизни страны и города. Но, по замыслу Джойса, герои древности, начиная с библейских времен, именно евреи: Давид, Самсон, Иисус Навин. Джойс разделяет сомнительную гипотезу французского историка и филолога Виктора Берара, который считал Одиссея не греком, а финикийцем-семитом. Но, на наш взгляд, еврейское происхождение Блума подчеркивает не его национальное родство с Одиссеем, а его униженное положение в тогдашнем обществе, его малость и социальную ущербность. Джойс трансформировал миф, снижая его пафос. Если для античных писателей и поэтов миф – космос и гармония, то для Джойса – хаос и абсурд. Миф изменяется вместе с миром, который миф и олицетворяет. Каждому эпизоду романа соответствует песнь из «Одиссеи» Гомера. Но сцены эти намеренно снижены автором. Роль Одиссея – Улисса отводится не сильной личности, не политическому или военному деятелю того времени, а мелкому рекламному агенту, к тому же еврею, то есть по тогдашним понятиям почти отщепенцу, изгою. Выбрав в качестве героя заурядность, Джойс еще раз подчеркнул, что внутренний мир человека – это целая вселенная, свой космос, сосредоточие необычных коллизий, и по сравнению с процессами, происходящими в мозгу человека, в его душе, войны и внешние катаклизмы – ничто. 210 Еще одной эпохальной художественной находкой стал «поток сознания». Сам термин «поток сознания» был введен американским психологом В. Джеймсом в конце XIX века и выражал общее течение мыслей человека, которые, при всей своей фрагментарности, самому человеку кажутся неразделимым потоком. В свой работе «Научные основы психологии» (переведена на русский язык еще в 1902 году) в главе под названием «Поток сознания» В. Джеймс писал: «Сознание никогда не рисуется самому себе раздробленным на куски… оно течет. Потому метафора «река» или «поток» всегда естественнее рисует сознание» [Джеймс 1920, 184]. Джойс скрупулезно воспроизводит поток сознания Блума. Он старается фиксировать каждое движение его мыслей – отрывочных, незаконченных, цепляющихся друг за друга, перескакивающих с одного на другое. Когда главный персонаж идет по Дублину, Джойс детально описывает его маршрут, объекты, привлекающие его внимание, и мысли, возникающие при их виде. Вот Блум видит девушку, продающую сладости, и он представляет английского короля, сидящего на троне и сосущего карамельки. Странная ассоциация? Нет, вполне закономерная, ибо производитель конфет – поставщик двора Его Величества. Светящееся распятие вызывает у Блума мысли о треске, содержащей много фосфора. Проходя мимо пивной Ларри О’Рурка, он думает о бочках с портером, в которых плавают пьяные от крепкого пива огромные крысы. А вот вид чаек навевает у Блума воспоминания о Шекспире и Гамлете. Затем он вспоминает, что мясо чаек, как, впрочем, и других водоплавающих птиц, отдает рыбой. И тут же размышляет, почему рыба, плавающая в соленой воде, не соленая на вкус. Минуя редакцию газеты «Айриш таймс» Блум думает о тонкостях рекламы, и охоте на лис, и о женском белье, и даже о родах королевы Виктории и его жены Молли. И все эти ассоциации и образы, вытекающие один из другого, создают удивительно многоцветную и многообразную интеллектуальную мозаику, которая при всей своей кажущейся алогичности подчиняется внутренней логике. 211 Блум, несмотря на свое своеобразное мышление, далеко не примитивен. В его потоке сознания содержится огромное количество сведений и фактов из самых разнообразных сфер знания. Вот он проходит мимо «шелковой торговли Брауна Томаса». Какую картину рисует его подсознание? «Воздушные китайские шелка. Наклоненный сосуд струил потоком из своего разверстого зева кроваво-красный поплин: сверкающая кровь. Это сюда гугеноты завезли. Лакауз эсант. Тара-тара. Замечательный хор. Тара – и тара. Стирать исключительно в дождевой воде. Мейербер. Тара: бум, бум, бум» [Джойс 1993, 55]. Странное сочетание? Вовсе нет. Здесь мысли цепляются друг за друга и создают ассоциативный ряд. Видя поплин, Блум вспоминает о гугенотах. Вспоминая о гугенотах, он вспоминает об итальянском композиторе XIX века Джакомо Мейербере, авторе оперы «Гугеноты». Блум не просто знает о существовании оперы, но и напевает на итальянском музыкальную тему «Лакауз эсант». Все это свидетельствует о достаточно высоком уровне интеллектуального развития Блума и его художественных вкусах. «По набережной сэра Джона Роджерсона шагал собранным шагом мистер Блум мимо ломовых подвод, мимо маслобойни Лиска (льняное масло, жмых), мимо Уидмилл-лейн и мимо почтово-телеграфного отделения… и мимо богадельни для моряков. С шумливой утренней набережной он повернул на Лайм-стрит… На Уэстленд-роуд он остановился перед витриной Белфастской и Восточной чайной компании, прочел ярлыки на пачках в свинцовой фольге…», – детально, буквально по шагам описывает маршрут своего героя Джойс [Джойс 1993, 56]. Далее Блум идет по Камберленд-стрит, по Уэстленд-роуд, проходит мимо мечети, турецких бань и садится в дилижанс, чтобы ехать на кладбище, где должны состояться похороны его приятеля детства Дигнама. Вот Блум на городском кладбище. Он смотрит на могилы, надгробья, склепы. Фиксирует количество людей, пришедших на похороны. Размышляет о бренности бытия и собственной смерти. Затем его мысль переносится к 212 размышлениям о кладбищенской земле. Размышления эти весьма специфичны и дают представление об извращенной фантазии Блума: «Можно ручаться, почва тучнеет на славу от тучного трупного удобрения, кости, мясо, ногти. Начинка склепов. Жуть. Делаются зеленые и розовые, разлагаются. В сырой земле гниют быстро. Тощие старики дольше держатся. Становятся не то сальные, не то творожистые. Потом чернеют, сочатся черной вонючей патокой. Потом высыхают… На них должна развестись чертова погибель червей. Должно быть, в почве так и кишат, так и кружат», – с каким-то болезненным сладострастием рассуждает Блум [там же, 84-85]. Можно подумать, что главный персонаж обладает не только живым воображением, но и немалым опытом заправского могильщика. Взгляд Блума продолжает блуждать по кладбищу и останавливается на подножии склепа: «Какой-то зверь. Погоди. Вон вылезает. Жирная серая крыса проковыляла вдоль стены склепа по гравию» [там же, 88-89]. Вид крысы немедленно порождает у Блума ассоциативный ряд причудливого свойства: «Такие вот молодцы живо разделаются с любым. Не будут разбираться, кто, оставят гладкие косточки. Для них мясо и мясо. Труп – это протухшее мясо. А сыр тогда что такое? Труп молока. В этих «Путешествиях по Китаю» написано, что китайцы говорят, от белых воняет трупом…» [Джойс 1993, 89]. При стиле отчуждения мир рисуется холодным, мрачным, антигуманным, чуждым, а часто и враждебным человеку. Джойс умело нагромождает одну отвратительную физиологическую деталь на другую, создавая причудливый омерзительный калейдоскоп. Недаром сам он назвал «Улисс» мозаикой, в том числе и музыкальной. По мнению самого Джойса, с каждым эпизодом романа связаны органы человеческого тела (так, например, сцена с почкой связана с почкой), музыкальная тема и определенный цвет. В оригинале рукописи каждая строчка действительно подчеркнута разными цветами. «Улисс» представляет собой чрезвычайно сложный художественный организм с множеством сцепок, 213 аллюзий, связей, взаимодействий, нуждающихся в авторском комментарии. В нем нет и не может быть случайных, неважных деталей и бессмысленных мелочей. После похорон Блум покидает кладбище и отправляется в редакцию газеты «Телеграф». Здесь мы сталкиваемся с приемом, к которому прибегнет Д. Дос Пассос в романе «Манхэттен»: с заголовками и рекламными объявлениями. Некоторые из них касаются Дублина: «В центре ирландской столицы» и «Добрый дряхлый Дублин». Последний содержит аллюзию на выражение «Добрая старая Англия». Эпизод начинается с трамвайных маршрутов у колонны Нельсона (вновь намек на центральную площадь Лондона со знаменитой колонной Нельсона), а заканчивается тем, что «две дублинские весталки… желают посмотреть панораму Дублина с вершины колонны Нельсона». Это весьма колоритные жительницы Дублина – «престарелые и набожные, прожили пятьдесят и пятьдесят три года на Фамболли-лейн». Таких сценок дублинской жизни не счесть в романе. Мы встречаемся со множеством лиц, вроде бы не имеющих никакого отношения к сюжету, но создающих незабываемый городской антураж. Блум продолжает свой путь по Дублину. Он ступает на мост О’Коннелла и провожает глазами баржи с портером, идущие в Англию. Пересекает Уэстморленд-стрит, и в глаза ему бросается реклама велосипедной компании «Ровер». «Поток жизни», – приходит ему в голову. Как это напоминает «поток сознания», который неудержимо катится у нас в голове, даже тогда, когда мы «не думаем». Останавливается на перекрестке Флитстрит и решает, позавтракать ему за шесть пенсов у Роу или за восемь у Бертона? Проходит мимо чайного магазина Болтона на Уэстмоленд, минует двери Ирландского парламента, огибает ограду Тринити-колледжа, переходит улицу на углу Нассау-стрит и проходит мимо модного женского ателье. Как мы уже замечали, Блум – типичный урбанист и свысока относится к сельским жителям. На Грифтон-стрит его чувства «дразнят» «яркопестрые» навесы лавок с шелками. Он провожает глазами «величественную матрону» и думает: «Какие толстые ноги у этой в белых чулках…Чистопородная 214 деревенщина». Видимо, он считает, что у «горожанок» ноги должны отличаться от ног селян, как ноги аристократок от простолюдинок, забывая строки Роберта Бернса о том, что без одежды «знатная леди и Джуди О’Греди» выглядят абсолютно одинаково. Блум «повернул за угол у Комбриджа... С неутихающим волнением в сердце он подошел к столовой Бертона и толкнул дверь. От удушливой вони перехватило дыхание. Пахучие соки мяса, овощная бурда. Звери питаются. Люди, люди, люди… Человеческий дух. Заплеванные опилки, тепловатый и сладковатый дым сигарет, вонь от табачной жвачки, пролитого пива, человечьей пивной мочи, перебродившей закваски» [Джойс 1993, 129]. Как мы уже отмечали, характерная черта писателей-модернистов, так называемые минус-приемы. Многие минус-приемы заключаются в нагнетании физиологических подробностей, в смаковании низменных деталей жизни, в передаче отталкивающих подробностей. В романе «Улисс» мы сталкиваемся с посещением туалета Блумом и описанием процесса дефекации. Почти такая же отвратительная картина предстает перед читателем и при посещении Блумом столовой Бертона: «У стойки взгромоздились в шляпах на затылок, за столиками, требовали еще хлеба без доплаты, жадно хлебают, по-волчьи заглатывают сочащиеся куски еды, выпучив глаза, утирают намокшие усы. Юноша с бледным лоснящимся лицом усердно вытирает ложку салфеткой. Новая порция микробов. Мужчина, заткнув за воротник всю в пятнах соуса детскую салфетку, булькая и урча, в глотку ложками заправляет суп. Другой выплевывает назад на тарелку: хрящи не осилил – голые десны – разгрырырызть. Филе, жареное на угольях. Глотает кусками, спешит разделаться. Глаза печального пропойцы. Откусил больше, чем может прожевать. И я тоже такой? Что видит взор идущих мимо? Голодный всегда зол. Работают челюстями» [Джойс 1993, 130]. В этом отрывке предстает вся мерзость городской столовой. Джойс передает торопливое насыщение, отказываясь от знаков препинания. Кажется, что это не почтенные ирландцы, 215 а стадо свиней с острова Цирцеи, в которых волшебница превратила спутников Одиссея. Блум понимает, что не сможет проглотить в этом заведении и кусочка. Он отправляется в кабачок Дэви Берна. Манера изображения меняется. Здесь уже нет ничего отталкивающего. Блум размышляет, чего бы съесть: сандвич с сыром, маслины, салат на свежем оливковом масле, горгонзолу? Наконец останавливается на сандвиче с горгонзолой и горчицей. «Мистер Блум поглощал ломтики сандвича, свежий, тонкого помола хлеб, испытывая небесприятное отвращение от жгучей горчицы и зеленого сыра, пахнущего ногами. Вино освежало и смягчало во рту. Нет вяжущего привкуса. В такую погоду у него лучше букет, когда не холодно» [там же, 133]. Далее идет восторженный гимн вину: «Вино пропитывало и размягчало склеившуюся массу из хлеба, горчицы, в какой-то момент противного сыра. Отличное вино…Вино мягким огнем растекалось по жилам. Мне так не хватало этого». Удовлетворенный, Блум выходит из кабачка. Он идет по Дьюк-лейн, поворачивает за угол у витрины кондитерской Кэтрин Грэй, переходит на Доусон-стрит, где помогает слепому и думает, что у слепого, должно быть, странное представление о Дублине из-за постоянного постукивания палкой по камням. Вдруг Блум осознает, что «у каждой улицы свой запах». На этот раз его мысли перескакивают на человека и на него самого. Блум ощупывает себя, и тут мы сталкиваемся с примером передачи потока сознания и ощущений: «Рука его искавшая тот куда же я сунул нашла в брючном кармане кусок мыла лосьон забрать теплая обертка прилипшее. Ага мыло тут я да. Ворота. Спасен!» [Джойс 1993, 141]. Блум постоянно, неосознанно, думает о своей жене Молли. Он собирается выследить ее и ее любовника. Но при этом Блум знает, что ничего им не сделает. Более того, он покупает жене подарки: лосьон, лимонное мыло. В романе присутствует еще один герой, взгляд которого позволяет получить еще более достоверную информацию о городе. «Высокопреподобный отец Конми» – проходной персонаж. Но его прогулка 216 еще раз позволяет Джойсу взглянуть на Дублин уже не глазами Блума, а священника. Глава насыщена названиями улиц и именами горожан. Что же увидел отец Конми во время своей прогулки? Прежде всего, мы узнаем, что он собирается на воды в Бостон, и поэтому у него превосходное настроение. Он окидывает взглядом свиные колбасы в витрине и торфяную баржу, свесившую голову лошади и лодочника в соломенной шляпе. «Картина была идиллической – и отец Конми задумался о мудрости Творца, создавшего торф в болотах, дабы люди могли его извлекать оттуда и привозить в город, и делать из него топливо, согревающее дома бедняков» [там же, 141], – передает неторопливые мысли отца Конми Джойс. Мысли отца Конми упорядочены и благочестивы, в них нет места вожделению или вульгарности. Но сквозь призму восприятия священника мы вновь знакомимся с Дублином и его жителями. Автор великолепных комментариев к роману С. Хоружий назвал эту главу «чествованием Дублина» – настолько глубоко и панорамно она раскрывает город. В ней Джойс предстает прекрасным урбанистом, знающим объект своего исследования до конца. Подводя итог восприятию Дублина Джойсом, следует сказать, что читатель вместе с писателем тщательно осматривает город, заглядывая в каждый его уголок. В главе полностью реализован «эффект присутствия». Мы встречаем сотни персонажей – жителей Дублина, и каждый реален или имеет свой прототип. Джойс в своем восприятии и изображении Дублина и дублинцев противоречив. Он не может только любить или только ненавидеть. И в этом противоречии заключается главная привлекательность романа. Он остается загадкой, несмотря на ясность и прозрачность видимых деталей. «Гений места» – назвал свою книгу о писателях и городах, запечатленных ими, Петр Вайль. И Джеймс Джойс – один из этих гениев места. Дублин, который является героем «Улисса» не меньше, чем Леопольд Блум, описан автором с любовью и ненавистью. В письмах Джойса имеется множество проявлений этого амбивалентного чувства. Если внимательно 217 читать роман, то бросается в глаза одна деталь: город нигде не изображен панорамно, так сказать, во всей красе. Мы не увидим величественных зданий георгианской эпохи, характерных для Дублина. Нигде нет изображения домов – одни улицы. Недаром Джойс признавался, что улицы Дублина интересуют его больше, чем загадка вселенной. Но как бы то ни было, Дублин в романе узнаваем до мельчайших подробностей. Недаром, в 1920 году Джойс обращался из итальянского Триеста к своей тете проверить, видны ли с моря деревья у одной из церквей Дублина? Казалось бы, какое это имеет значение? Но правда в самых мелких деталях порождает веру в правду во всем остальном: правда изображения города или правда «потока сознания» персонажей. 16 июня 1904 года. В этот день молодой Джойс познакомился со своей женой Норой. С 1982 года этот день отмечается по всей Ирландии как «блумсдэй». В этот день в Дублин съезжаются поклонники творчества Джойса со всего мира. И идут по маршруту Блума, описанному в романе. Останавливаются в самых известных местах, которые обозначены памятными знаками. Их всего 14. Заходят в бар, где съедают сотни сандвичей с горгонзолой и выпивают тысячи литров красного бургундского. И от этого город в их восприятии становится гораздо привлекательнее и ближе. В Ирландии роман был опубликован только лишь в 1960 году. В 1993 он был признан хрестоматийным и введен в школьную программу для обязательного изучения. Так торжествует правда [Набилкина 2012, 106-111]. 4.3. Травелог – культурологическая основа образа города «Путешествие» – одна из древнейших форм литературы и культуры, самопознания человека и человечества. С момента осознания себя человеком, хомо сапиенс перемещался с одной территории на другую в поисках «лучшей жизни». По мере развития городов и образования государств, люди стремились к овладению новыми территориями путем завоевания или другим, 218 мирным способом, предварительно посылая в сопредельные территории своих разведчиков, которыми становились в первую очередь путешественники – купцы, мореплаватели и просто желающие перемены мест. В процессе «путешествий» они обретали собственную национальную идентичность, учились отличать «свое» от «чужого». Как заметила литературовед и культуролог Е.А. Стеценко в своем исследовании «История, написанная в пути»: «Мотив дороги лежит в основе большинства мифов, легенд и фольклорных рассказов» [Стеценко 1999, 8]. Первым образцом «путешествия» можно считать «Одиссею» великого Гомера. От Гомера пошли все остальные виды путевого очерка, создающие эффект присутствия – художественно-докуметальные и беллетризированные путевые очерки, письма, эссе, путевые заметки и т.д. Американский культуролог Д. МакКеннен назвал в своей книге «Турист. Новая теория досуга», по его мнению, главную причину путешествий – «поиск самого себя, своей аутентичности в другом месте и времени, в чужой стране, истории, культуре» [Mac Cannen 1976, 9]. Постепенно в «путешествии» оформляется концепция национальной самобытности, концепция патриотизма. Сравнивая «чужое» и «свое», чужбину и родную сторону, путешественник учится выделять общее и особенное, лучшее и худшее в своей и чужой стране, в своем и ином народе. Постепенно из «путешествий» вырастает травелог – особая форма путевых очерков с характерным для него героем-рассказчиком, окрашенный «чувствами». Субъективизм и объективизм, присущие травелогу, заставляют читателя по-новому взглянуть на картину мира, сравнить свою жизнь с жизнью иных стран, лучше и полнее понять «свое». Травелог – культурологическая основа образа города. В нем зримо воплотились не только черты города, но и страны, национального характера народа, его быта, обычаев и привычек. Травелог, отталкиваясь от Гомера, восходит к «Сентиментальному путешествию» (1768) Лоренса Стерна. Это было совершенно новое явление в литературе и культуре. Если до него на 219 первый план выступало описание страны, нравов и обычаев, архитектурных сооружений и т.д., то Стерн во главу угла поставил отношение человека к увиденному. Именно чувства окрасили картину изображаемого. «Чувствительный» путешественник стал главным героем-автором. Йорик (явная аллюзия на Шекспира) высказывает свое мнению по любому поводу. Он убежден, что Англия – лучшая страна в мире, а англичанин – истинный джентльмен, всегда и во всем поступающий правильно. Но делает это Йорик не навязчиво, а завуалированно. По сути дела, «Сентиментальное путешествие» – это путешествие по Франции. Йорик посещает различные города и высказывает о них свое мнение. Но не столько о городах, сколько об их обитателях. Роман – это набор бытовых сцен. Вот, к примеру, Йорик посещает уличное представление. Среди зрителей – карлик и верзила-немец. Немец постоянно загораживает карлику зрелище и не реагирует на просьбу «подвинуться». После вмешательства часового – инцидент исчерпан. В беседе со «старым офицером», по указанию которого часовой бесцеремонно оттеснил немца, тот заметил, что в Англии бы так не поступили. На что Йорик ответил, что в Англии «мы все рассаживаемся удобно» [Стерн 1976, 70]. Таким образом, своим ответом он не унизил французского офицера и в то же время продемонстрировал превосходство англичан. Жанр «путешествия» стал настолько популярен и распространен, что занял ведущее место среди литературных произведений всех стран. Среди них, к примеру, можно выделить «Простаки за границей» Марка Твена, американские зарисовки Чарльза Диккенса, травелог Александра Дюма – перечисление выдающихся травелогов можно долго продолжать. Что касается русской литературы, то одним из первых русских травелогов можно считать «Письма из Франции» (1777-1778), написанные Д.И. Фонвизиным графу П.И. Панину. Письма эти наполнены духом Просвещения. В них мало говорится о достопримечательностях французских и немецких городов, но в них много наблюдений и размышлений над важнейшими сторонами жизни государств и народов. В них сквозит русский 220 патриотизм. Придирчивый глаз писателя сразу же замечает противоречия между декларативностью и реальностью: «Первое право каждого француза есть вольность; но истинное состояние его есть рабство, ибо бедный человек не может снискивать своего пропитания иначе, как рабскою работою, а если захочет пользоваться драгоценною своею вольностью, то должен будет умереть с голоду» [Фонвизин 1981, 163-164]. Сравнивая жизнь русского крестьянина, причем крестьянина крепостного, с французским вольным земледельцем, Фонвизин пишет: «Сравнивая наших крестьян в лучших местах с тамошними, нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим» [там же, 169]. Мы узнаем мнение Фонвизина и о французской армии, и о судопроизводстве, и о Вольтере и Дидро, и о французских фабриках и мануфактурах, и о многом другом. Но вот что он пишет о Париже. Нельзя сказать, что этот город полностью разочаровал писателя. Но его резонное замечание, что это «мнимый центр человеческих знаний и вкуса» [там же, 170], показывает, что мнение о Париже как «столице мира» сильно преувеличено. Он пишет, что парижане пользуются любой возможностью, чтобы не работать. Особенно они гнушаются черной работы. Любопытно его замечание о жителях этого города: «Жители парижские почитают свой город столицею света, а свет – своею провинцией» [Фонвизин 1981, 175]. Нечто подобное произошло и в современной России, когда москвичи считают только себя «солью земли», а всю остальную Россию глубокой провинцией. Хотя по большому счету, их мнение справедливо, ибо слово «провинция» изначально означает – «не в столице». Низкого мнения Фонвизин и о чистоте парижских улиц: «Зато нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно. Почти везде нельзя отворить окошко летом от зараженного воздуха. Чтоб иметь все под руками и ни за чем далеко не ходить, под всяким домом поделаны лавки. В одной блистает золото и наряды, а подле нее, в другой, вывешена битая скотина с текущею кровью. Есть улицы, где в сделанных по бокам стоках течет кровь, потому что не 221 отведено для бойни особливого места. Такую же мерзость нашел я в прочих французских городах, которые все так однообразны, что кто был в одной улице, тот был в целом городе; а кто был в одном городе, тот все города видел. Париж пред прочими имеет только одно преимущество, что наружность его несказанно величественнее, а внутренность сквернее» [там же, 177]. Фонвизин – один из первых русских путешественников, кто обратил внимание на грязь в европейских странах. Европа всегда смотрела на Россию свысока, считая русских необразованными варварами. В этой связи достаточно вспомнить небезызвестный травелог А. де Кюстина «Россия в 1839 году», в котором французский маркиз назвал русских татарами в европейском платье, из-под которого торчит медвежья шерсть. И это книга была написана после победы над Наполеоном, когда Россия всему миру продемонстрировала свое величие. Русские, по крайней мере, каждую неделю мылись в бане, тогда как европейцы и понятия не имели о такой роскоши, а Лувр до Наполеона напоминал выгребную яму. Фонвизин пишет, что привыкшие жить с младенчества «в грязи по уши» французы даже не обращают на нее внимание. Писатель обращается к русской молодежи с наставлением, говоря, что тем, кто критикует русские порядки, для сравнения надо было съездить во Францию, дабы убедиться, что «все рассказы о здешнем совершенстве сущая ложь» [Фонвизин 1981, 170]. В завершение своих писем из Парижа Фонвизин пишет: «Я оставил Францию. Пребывание мое в сем государстве убавило сильно цену его в моем мнении» [там же, 182]. В своей критике жизни во Франции Фонвизин высмеял французскую армию, говоря, что в ней нет «души военной». Как же он ошибался на этот счет. Уже меньше чем через полвека французские штыки покорили почти всю Европу, и только Россия смогла встать непреодолимым барьером на их пути. Но великий русский сатирический комедиограф в своем эпистолярном травелоге не мог ограничиться только лишь критикой Франции. Все же 222 французский народ удостаивается теплых слов. Он подчеркивает радушие, «доброту сердечную», неспособность к злодеяниям, остроумие, присущее французам. Таким образом, травелог Фонвизина, казалось бы, состоящий из частных писем, открыл дорогу к «Письмам русского путешественника» Н.М. Карамзина – выдающемуся произведению русской литературы. Своеобразие и оригинальность произведения обозначены в самом заглавии. В нем значимо каждое слово: «письма» – свидетельствует об исповедальности тона, русского – о национальной принадлежности, не столько об этническом характере, сколько об особом складе «русской души», «путешественника» – об образе очевидца, который воспринимает окружающий мир во всем его многообразии. В произведении ставится очень важная проблема: проблема взаимодействия России и Запада, проблема межкультурной коммуникации. Уже в эпоху Карамзина остро вставал вопрос о диалоге культур, ибо изоляция России от внешнего мира была взаимоневыгодной. Запад жил, как правило, искаженными представлениями о России, а отдельные попытки с обеих сторон рассказать правду о России не находили отклика властей как с той, так и с другой стороны. «Письма русского путешественника» выполняли высокую просветительскую миссию, открывая Запад России и одновременно знакомя Россию с Западом. В этом плане был важен образ «русского путешественника», созданный в травелоге. Как образ Йорика не тождественен Л. Стерну при всей близости их взглядов и настроений, так и образ Путешественника не эквивалентен Карамзину. В первую очередь, образ путешественника доказал Западу, что русский человек – это человек с широким европейским кругозором и образованием, что в сферу его интересов входит бесчисленное количество тем: от системы образования в Германии и лекций немецких профессоров до итальянских художников, от быта швейцарских крестьян до государственного устройства Швейцарии, от конституционной монархии Англии до причин морального упадка на улицах 223 Лондона. Образ путешественника разрушил сложившийся в Европе стереотип русского дикаря, далекого от цивилизации и не способного приобщиться к ее благам. Н.М. Карамзин устами своего путешественника повествует о Германии, Швейцарии, Франции и Англии. Писатель мистифицировал читателей, придав своему травелогу вид путевых заметок. Книга, как пишет исследователь творчества Карамзина Г.П. Макогоненко, создавалась на протяжении ряда лет в Москве. При этом Карамзин пользовался не только своими личными впечатлениями от поездки в Западную Европу, которую он совершил в молодости, но и литературными источниками – «Берлин и Потсдам» Николаи, «Письма о политическом, гражданском и естественном состоянии Швейцарии» Кокса, «Картины Парижа» Мерсье, «Путешествие немца в Англию» Морица. Но от этого книга Карамзина не пострадала, а приобрела еще большую точность и достоверность. Н.М. Карамзин, как и Фонвизин, отталкивается от стерновской традиции. Он знал и любил творчество английского писателя и даже писал о нем в «Московском журнале», но, используя традицию своих иностранных предшественников, он создал свое собственное, русское по духу оригинальное произведение. «Самобытность писателя проявилось и в методе изображения людей и объективной действительности, в отношении к увиденному, и в создании образа Путешественника, прежде всего, в раскрытии его взгляда на европейскую жизнь, в его манере понимать увиденное, в четко выраженной русской мысли», – замечает Г.П. Макогоненко [Макогоненко 1988, 22]. Нам достоверно неизвестно, читал ли Карамзин письма Фонвизина (Екатерина II запретила их издание), но, как и Стерна, его очень интересовала Франция, особенно Париж. Париж в книге Карамзина противоречив, как и в письмах Фонвизина. «Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге», – начинает свой рассказ о Париже русский писатель [Карамзин 1988, 301]. Далее следует панегирик Парижу: Елисейским полям, в которых гуляет «по воскресеньям народ», саду Тюильри, 224 где проводят время «лучшие люди», «большой осьмиугольной площади» со статуей Людовику XV: «Взойдите на большую террасу, посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, храмы, красивые берега Сены – гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет – взгляните на все и скажите, каков Париж. Мало, если назовете его первым городом, столицею великолепия и волшебства», – продолжает Карамзин [там же, 301]. Но изумление писателя от чудес Парижа быстро сменяется отвращением при виде не показной, а реальной жизни этого города: «Останьтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения, пошедши далее, увидите: тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира – кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, – зажмете нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость» [Карамзин 1988, 302]. Теперь перейдем к городу, который постоянно сравнивается с Парижем. Лондону. «Париж и Лондон, два первых города в Европе, были двумя Фаросами моего путешествия, когда я сочинял план его. Наконец вижу и Лондон», – восклицает писатель [там же, 433]. Изображение Лондона у Карамзина ярко, выпукло, зримо. Он схватывает черты, которые знакомы нам по многочисленным описаниям очевидцев, писавших свои воспоминания и репортажи уже в наши дни. Эти воспоминания не многим отличаются от «писем» Карамзина, хотя их разделяет две сотни лет. Это говорит о том, что гениальный русский историограф уловил характерные, определяющие черты города и его обитателей. Многие очевидцы подчеркивали безмолвие лондонских улиц, и мы читаем: «Кто скажет вам «Шумный Лондон», тот, будьте уверены, никогда не видал его…Кажется, будто здесь люди или со сна не разгулялись, или чрезмерно устали от деятельности и спешат отдыхать… вы, ходя по здешним улицам, могли бы вообразить, что у вас заложены уши» [там же, 436]. 225 Карамзин отмечает все достоинства Лондона, включая его женщин и «поздние обеды». Но более всего он уделяет внимание особенностям лондонской жизни, его облику. «В каждом городе самая примечательная вещь есть для меня… самый город… Я уже исходил Лондон вдоль и поперек…Нет другого города столь приятного для пешеходов, как Лондон», – восхищается Карамзин [Карамзин 1988, 441]. Но Карамзин не был бы Карамзиным, если бы ограничился только лишь описанием этого города и не уделил бы места моральным рассуждениям. Описывая лондонские улицы, он замечает: «В Париже нищета взбирается под облака, на чердак; а здесь опускается в землю. Можно сказать, что в Париже носят бедных на головах, а здесь топчут ногами» [там же, 302]. Путешественник – судья строгий и беспристрастный. О хорошем он говорит хорошее, о дурном – дурное. Примечательно, что он всегда сравнивает другие страны с Россией, чужие народы с русским. Такова отличительная особенность травелога. Так и в Англии Путешественник воздает должное тому, что его восхищает, но он не может пройти мимо того, что его отвращает. Он восхищается английским парламентом и судопроизводством, глубокомыслием англичан, их склонностью к широкой благотворительности, витиеватостью речей адвокатов и скромностью лордов, но он строго судит несправедливость и нарушение морали. «Но если хотите, чтобы у вас помутилось на душе, то взгляните ввечеру в подземельные таверны или в питейные домы, где веселится подлая лондонская чернь! – Такова судьба гражданского общества: хорошо сверху, в середине, а вниз не заглядывай… скажу вам еще, что на лондонских улицах ввечеру видел я более ужасов разврата, нежели и в самом Париже… вообразите, что между несчастными жертвами распутства здесь много двенадцатилетних девушек! Вообразите, что есть мегеры, к которым изверги-матери приводят дочерей на смотр и торгуются» [там же, 483-484]. Весьма стандартов», глубоки присущей его наблюдения англичанам, 226 за вернее той политикой английской «двойных политической верхушке: «Англичанин человеколюбив у себя, а в Америке, в Африке и в Азии едва ли не зверь, по крайней мере с людьми обходится там как с зверями» [Карамзин 1988, 485]. Лирическая стихия, дополняющая информационную сторону травелога, играет очень большую роль в стилевом своеобразии «Писем». Личное отношение автора к увиденному проявляется то в иронии, то в подчеркнутой деловитости, то в сентиментальности. При этом следует сказать, что «Письма» рассчитаны на самый широкий круг читателя с разным кругозором и интеллектуальным уровнем. Они интересны как с информативной, так и аналитической стороны. Будучи русским патриотом, Карамзин умело осваивал опыт других стран и народов без ущерба для своей «русскости», без бездумного подражательства и эпигонства, с пользой для родной страны. Традицию Н.М. Карамзина продолжил И.А. Гончаров. Его «Фрегат «Паллада» (1855) – замечательный пример документальной беллетристики, уникального сочетания эпистолярного и дневникового стиля. Травелог Гончарова отличается тем же аналитическим подходом к оценке внешнего мира и современной действительности, как и «Письма русского путешественника». Как и Н.М. Карамзин, автор «Фрегата «Паллады» выразил собственное суждение об увиденном, не ограничиваясь лишь перечислением фактов, но снабжает их соответствующим комментарием. Как и Карамзин, Гончаров представил русский взгляд на заграницу, создал увиденное русским взглядом, образ иных стран и народов. Недаром писатель говорит о фрегате «Паллада» как о «маленьком русском мире», который вторгается в большой внешний мир. Следя за событиями глазами Гончарова, читатель снова сталкивается с русской точкой зрения на происходящие за границами России процессами: политическими, экономическими, культурными, социальными. Довольно пристрастно писатель относится к англичанам и американцам, видя в них старых и молодых хищников. Гончарову претит лицемерие англичан, возведенное в государственную идеологию и политику в колониях. 227 С сарказмом демократически настроенный писатель создает обобщенный образ английского колонизатора: «Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами,… повелительно, грубо или холодно презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот… Англичане за их счет обогащаются, отравляют их, да еще и презирают свои жертвы» [Гончаров 1950, 410]. Особую неприязнь вызывают у Гончарова английские торговцы: «Бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд» [там же, 411]. Свое мнение он подтверждает рассказом о том, как английские дельцы снабжали оружием кафров для войны с теми же англичанами: «Они возили это угощение для своих же соотечественников: это уж – из рук вон торговая нация» [там же, 412]. Не отстают от своих «старших товарищей» и американцы. Гончаров пишет, что, например, Японию, которая в то время вела политику изоляции, «можно отпереть разом», но для этого – поступить по-английски: высадиться на берег, затеять драку с местным населением, а затем пожаловаться на оскорбление и начать войну. Именно так, по мнению писателя, и будут вести себя с японцами американские китобои. Писатель не обходит вниманием взаимную неприязнь американцев и англичан, несмотря на все сходство в поведении: «Но кто ж их разберет, молятся, едят одинаково и одинаково ненавидят друг друга» [там же, 415]. Травелог И.А. Гончарова отличается не только своими аналитическими рассуждениями, он художественно интересен своей бытовой стихией. Писатель красочно повествует об образе жизни иных стран и народов, о нравах, обычаях и традициях, об изысках кухни. Он обязательно рассказывает нам о привычках иных народов, что том, что едят и пьют в разных странах света. Подобные бытовые «мелочи» придают произведению особую прелесть. Таким образом, мы видим, что травелог И.А. Гончарова представляет собой уникальное произведение – многомерное и многоплановое, сочетающее 228 как информационно-аналитическое начало, так и личное восприятие автора. Травелог Карамзина «Письма русского путешественника» и Гончарова «Фрегат «Паллада» – шедевры русской литературы, положившие начало плодотворной традиции беллетризированных путевых очерков, отражающих русский взгляд на мир и дающих пищу для самых широких сопоставительных характеристик России с другими культурами и цивилизациями. Травелоги XIX века носили преимущественно описательный характер. Они часто печатались в «Отечественных записках». В 1849 году был опубликован травелог известного географа А.П. Забловского-Десятовского «Воспоминания об Англии». В то время Великобритания была объектом подражания для России, как и Франция до нашествия Наполеона, когда молодые люди из дворянских семей боготворили молодого генерала Бонапарта и радовались его победам. Но очевидцы иначе воспринимали Англию. Вот что писал о ней товарищ по плаванию Гончарова будущий адмирал К.Н. Посет в «Письме с кругосветного путешествия», напечатанном также в «Отечественных записках»: «Счастливая Англия благоденствует только по наружности. Противоречия между верхними и нижними слоями населения доведены в ней до крайности, при процветании верхнего слоя, нижние слои и большая часть средних тощи, бледножелты, нечесаны и грязны» [Посет 1855, 85]. Возможно, на эти наблюдения наложилась Крымская война, в которой Англия выступила против России, но они не расходятся с оценкой Карамзина и Гончарова. История русского травелога была бы неполной без имени В.П. Боткина. Незаслуженно забытая в наше время книга эпистолярных очерков «Письма об Испании» в середине XIX века являлась литературным бестселлером. Именно эта книга, по мнению академика М.П. Алексеева, послужила поэтическим образцом И.А. Гончарову при создании «Фрегата «Паллада». «Блистательной» назвал травелог Боткина Чернышевский. Высоко отзывался о нем и В.Г. Белинский. Подлинно художественный травелог отличается от заурядного путевого очерка поэтическим 229 совершенством, меткостью наблюдений и оценок, ломкой привычных стереотипов, глубиной лирических отступлений. Травелог Боткина наблюдениями, но и примечателен остротой не замечаний только географическими общественно-политического характера, верностью зарисовок национальных черт испанского народа. Русский писатель отстаивает национальное достоинство испанцев, опровергает расхожее мнение европейцев об Испании как отсталой стране с невежественным населением, погрязшим в предрассудках и суевериях. По мнению М.П. Алексеева, которое мы полностью разделяем, «Письма об Испании» на фоне довольно обширной литературы об этой стране выделяются не только своей содержательностью, но и прежде всего новизной и содержательностью суждений, отсутствием трафаретов, свежестью восприятия, верой в творческие и нравственные силы испанского народа, глубоким пониманием испанской культуры. Именно такой подход формирует травелог в его лучших традициях, создавая поэтический и культурологический фундамент, на котором он успешно развивался в творчестве последующих поколений русских художников слова. Эпистолярную форму для путевых эссе выбрал и М.Е. СалтыковЩедрин. К жанру путевого очерка великий русский сатирик обращается дважды – в 1878 в период поездки за границу на лечение и в 1881-1882 годах, рассказывая вновь о своих заграничных впечатлениях. Очерк «За рубежом» (1875) трудно в полной мере назвать травелогом, ибо информация о пребывании на заграничных курортах весьма скудна. Но этот очерк чрезвычайно интересен своим опытом познания «своего» через «чужое». М.Е. Салтыкова-Щедрина гораздо больше интересует Россия, чем зарубежные впечатления. Сравнивая Европу с Россией, писатель глубже постигает неповторимость и «самость», своеобразие и исключительность своей страны. На фоне «правильной» Германии отчетливо выступают сугубо русские национальные черты. Эти черты до предела узнаваемы и сегодня. Чего только стоят наблюдения сатирика над природой русского недовольства: «Кого ни 230 послушаешь, все на что-то негодуют, жалуются, вопиют. Один говорит, что слишком мало свобод дают, другой, что слишком много; один ропщет на то, что власть бездействует; другой – на то, что власть чересчур достаточно действует; … Даже расхитители казенного имущества – и те недовольны, что скоро нечего расхищать будет. И каждый требует лично для себя конституции: мне, говорит, подай конституцию, а прочие пусть по-прежнему довольствуются ранами и скорпионами» [Салтыков-Щедрин 1951, 9, 17]. Конечно, будучи за границей, Салтыков-Щедрин наслаждался свободой, немыслимой в царской России: «Ужасно приятно прожить хоть несколько времени не боясь. Необходимость «ходить в струне», памятовать, что «выше лба уши не растут» и что с «суконным рылом» нельзя соваться в «калашный» ряд, – это такая жесткая необходимость, то только любовь к родине, доходящая до ностальгии, может примириться с подобным бесчеловечием» [там же, 41]. Чувства сатирика были созвучны настроениям всего мыслящего русского общества, поэтому публикация очерков помогла еще раз взглянуть на себя со стороны и осознать свое униженное положение. Но понимание своего унижения не должно превращаться в самоедство, в унижение себя как нации, как народа, не должно превращаться в смакование своих грехов и бед. Салтыков-Щедрин справедливо подметил, что негативный образ России в глазах Запада создавался во многом самими русскими, которые здоровую критику своих недостатков превращали в мазохисткое злопыхательство. «Словом сказать, сыны России не только не сдержали себя, но шли друг другу наперебой, как бы опасаясь, чтобы кто-нибудь не успел напаскудить прежде… Само собой разумеется, что западные люди, выслушивая эти рассказы, выводили не особенно лестные для России заключения», – пишет он. [Салтыков-Щедрин 1951, 9, 73]. Сатирический образ России, сложившийся в глазах Запада заставляет задуматься над его содержанием: «Страна эта, говорили они, бедная, населенная лапотниками и мякинниками. Когда-то торговала она с Византией шкурами, воском и медом, но ныне, когда шкуры спущены, а воск и мед за 231 недоимки пошли, торговать стало нечем. Поэтому нет у нее ни баланса, ни монетной единицы, а остались только желтенькие бумажки, да и те имеют свойство вызывать веселость местных культурных людей» [там же, 73]. Эти слова зримо напомнили нам Россию 1990 годов, которая не слишком изменилась за сто пятьдесят лет с тех пор, как о ней писал М.Е. СалтыковЩедрин [ Набилкина, Кубанев 2013, 124-130]. Если сами русские смеются над своей страной, то иностранцам и подавно найдено выставлять Россию в неприглядно свете. Пример тому русофобский травелог французского маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (1840). Книга Кюстина рассказывает нам о России времен Николая I, однако мы находим вполне узнаваемые черты настоящего времени: коррупция, всевластие бюрократии, непомерная роскошь кучки нуворишей при полном пренебрежении интересов простого народа. В центре внимания французского маркиза – царский двор и его окружение. Это вполне объяснимо, ибо именно с этим окружением приходилось общаться «путешественнику». И именно двор давал пищу для самой широкой и едкой критики. Но, критикуя придворное окружение, маркиз достаточно точно определяет политическую тенденцию российского общества: покорность власти при одновременной склонности к бунту. По мнению Кюстина, Россия – страна рабов. Российское общество представляется ему царством послушных автоматов, а не живых людей. Постоянное подавление личности и отсутствие элементарных гражданских свобод выработало у русских специфическое качество: лукавство. По этому принципу он относит всех русских к «азиатам». Ему кажется, что он «попал в Персию». Но за показной покорностью у русских скрываются живые чувства и неутоленные амбиции. «Русские не только склонны к насмешке, они холодны, хитры и малоделикатны, как все честолюбцы», – обобщает маркиз, совершенно не делая различий между слоями общества [Кюстин 1991, 430]. Может быть, это суждение и справедливо касательно высших слоев, среди которых вращался А. де Кюстин, но совершенно несправедливо по 232 отношению ко всему русскому народу. Русские издавна славятся радушием, гостеприимством и открытостью. Однако французский маркиз отметил особенность, о которой заговорили культурологи лишь в конце ХХ века. Народы мира делятся на народы низкоконтекстной культуры и высококонтекстной. Западные народы, в том числе французы, англичане, немцы и американцы относятся к низкоконтекстной культуре. Они, как правило, излагают свою просьбу вначале разговора, у них не принято отказываться, если тебе на самом деле чего-то хочется, в свою очередь они никогда не будут предлагать дважды, если в первый раз услышали отказ. Русские же – представители высококонтекстной культуры. Поэтому мы, как правило, отказываемся от первого предложения, надеясь на то, что нам будет желаемое предложено во второй и в третий раз. (Вспомните русские народные сказки или историческую поэму А.С. Пушкина «Борис Годунов»). Мы высказываем свою просьбу в конце, как бы между делом, ибо по законам вежливости в начале разговора или письма следует расспросить хозяина о здоровье его самого и близких и т.д. Даже если вы стеснены в средствах, вы всегда найдете, чем угостить гостя. Западные иностранцы в советское время видели в этом скрытый смысл: не такие уж они и бедные, если могут накрывать роскошные столы и дарить гостям дорогие подарки. Конечно, это все последствия влияния Востока, с которым русские были связаны гораздо сильнее, чем с Западом, отдаленные последствия татаро-монгольского ига. Для выражения своего пренебрежительного высокомерия маркиз не жалеет едких замечаний и колких насмешек: «Россия - страна фасадов», «В России нет больших людей, потому что нет независимых характеров», «Между русскими и китайцами наблюдается разительное сходство: и те и другие уверены, что мы им завидуем. Они судят о нас по себе», «Россия – тело без жизни», «Россия, думается мне, единственная страна, где люди не имеют понятия об истинном счастье», «Повторяю еще раз: все в России – один обман». Вот далеко не полный перечень хлестких характеристик России 233 и ее народа. Да, впрочем, Кюстин даже отказывает русским в праве называться «народом». Русские для Кюстина не более чем дикари. Об этом он безапелляционно заявляет в своей книге: «Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру – они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно их чуть-чуть поскрести – и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщится. Разве из того, что дикарь обладает тщеславием светского человека, следует, что он приблизился к культуре? Я уже говорил и повторяю это еще раз! Русские не столько хотят быть цивилизованными, сколько стараются нам казаться таковыми. В основе они остаются варварами. К несчастью, варвары знакомы с огнестрельным оружием» [Кюстин 1991, 536-537]. В этих фразах заключено не только утверждение о варварской сущности русского народа, но и предупреждение всему «цивилизованному миру» об агрессивности русских и смертельной опасности, которую этот народ таит. И все же травелог Кюстина дает читателю представление о России XIX века. Кюстин дает описание основных городов северной и центральной России: Петербурга, Твери, Москвы и Нижнего Новгорода, подмечая их особенности, достоинства и недостатки. Описания эти довольно выразительны и живописны. Начинается травелог с описания Петербурга. Но с самых первых строк маркиз не удерживается от колкостей. Он пишет, что сам город и сфинксы на его набережной производят величественное впечатление. Но тут же добавляет, что эти сфинксы – «слепки античного творчества» – выглядят нелепо на фоне современных зданий и церквей, сохраняющих русский «национальный стиль» и в то же время не принадлежащих русскому наследию, а заимствованных у Византии. При осмотре гранитной набережной Невы, он обращает внимание, что, хотя 234 издалека она выглядит «величественно и красиво», вблизи видно, что гранитная набережная сделана «из плохого и неровного булыжника, столь неказистого на вид и столь неудобного как для пешеходов, так и для езды» [там же, 424]. И тут же он с сарказмом замечает: «Впрочем, здесь любят все показное, все, что блестит…» [там же, 434]. Далее маркиз осматривает Петербург. Его отдельные наблюдения верны. Он смотрит на строительство Исакиевского собора и Зимнего дворца, рассказывает читателям об ужасной судьбе его строителей, вынужденных работать до потери сил, попадая из ужасной жары в лютый холод. Даже работа каторжников на рудниках Урала не была такой ужасной. Рабочие почти без вознаграждения, по воле царя, воздвигали это величественное сооружение в городе, который начал строить сам император Петр I. Здесь мы погружаемся в историю нескольких императоров и в рассуждения о природе рабства. «Да, можно сказать, что весь русский народ, от мала до велика, опьянен своим рабством до потери сознания», – заканчивает свой экзерсис в русскую историю маркиз [Кюстин 1991, 434]. Петербург утром. Безлюдные улицы. Если промчится тройка, то это либо офицер, едущий с докладом к начальству, либо фельдегерь, скачущий с поручением. На улицах очень мало женщин, да и те некрасивы. Одним словом – казарма. Таким представляется маркизу утренний город. За его описанием как всегда следует глубокомысленная сентенция: «Кажется, что тень смерти нависла над всей этой частью земного шара» [там же, 430]. Но наступает день, все немного оживляется. Появляется множество прогулочных колясок. За подобным наблюдением вновь следует «глубокомысленный» вывод. На сей раз о русском искусстве: «Сам воздух этой страны враждебен искусству. Все, что в других странах развивается совершенно естественно, здесь удается только в теплице. Русское искусство всегда останется оранжерейным цветком» [там же, 433]. Едва маркиз возвращается в гостиницу и пытается отдохнуть, наступает «смертельная» борьба с клопами и – забегая вперед, когда он оказывается в 235 Нижнем Новгороде – с тараканами. Но это лишь красочные подробности русской жизни. Вот маркиз сравнивает два дворца – старый и новый Михайловские замки. И если один поражает воображение своей красотой, то второй – мрачностью. «Едва я прошел мимо нового Михайловского дворца, как очутился перед старым, огромным, мрачным, четырехугольным зданием, во всех отношениях отличным от изящного и современного нового дворца, носящего то же имя», – начинает свой рассказ Кюстин [там же, 435]. Травелог изобилует сентенциями, и не все они саркастичны, некоторые очень глубоки. Вот одна из них: «Если в России молчат люди, то за них говорят – и говорят зловеще – камни» [Кюстин 1991, 435]. Здесь мы сталкиваемся с явлением, которое было неизвестно в культурологической науке до недавнего времени: город – как текст. О культурологическом образе города говорят здания, другие архитектурные объекты и т.д. В данном случае историю города и историю людей, живущих в этом городе, действительно, рассказывают камни. «Я не удивляюсь, что русские боятся и предают забвению свои старые здания. Это свидетели их истории, которую они чаще всего хотели бы возможно забыть. Когда я увидел глубокие каналы, массивные мосты, пустынные галереи этого мрачного дворца, я невольно вспомнил о том имени, которое с ним связано, и о той катастрофе, которая возвела Александра на трон», – продолжает рассказ о русской истории Кюстин [там же, 435]. И надо сказать, что этот рассказ достоверен. Таким образом, травелог маркиза не только повествовал о России вообще, не только рассказывал Европе о нравах и обычаях русских, не только говорил о дворе и придворной камарилье, но и рисовал широкую панораму русской истории, хотя и наполнял этот рассказ русофобским духом, рисуя читателю мрачные сцены из придворной жизни, как будто речь шла об императорах Древнего Рима или Византии. И все же, несмотря на все русофобство, Кюстин не может не восхититься городом и Невой: «Нева, ее мосты и набережные – это 236 действительная гордость Петербурга. Вид Невы так величествен, что по сравнению с ней все остальное кажется мизерным» [там же, 437]. И вновь маркиз подчеркивает азиатскую природу России, говоря о Петропавловской крепости и останках «властителей России» в ней хранящихся. Несмотря на обилие цитат нами уже приведенных, невозможно удержаться, чтобы не привести еще одну, так точно характеризующую русский народ: «Русские любят возводить своих героев в сонм святых; они прикрывают жестокие деяния властителей благодатной силой святителей и стараются все ужасы своей истории поставить под защиту веры» [Кюстин 1991, 438]. Травелог А. де Кюстина обладает несомненными познавательными достоинствами. Эта книга, которая в полной мере открыла западу Россию, также как и «Письма русского путешественника» Карамзина. Несмотря на явную тенденциозность, травелог представил европейскому читателю яркий и запоминающий образ России. До сих пор книга Кюстина привлекает и иностранца, и русского читателя своей злободневностью. Многие черты России русского народа оказались незыблемыми. Травелог Кюстина содержал столь нелицеприятные суждения о России, что неудивительно, что он был запрещен к изданию в Российской империи. Лишь в 1910 году был опубликован перевод, весьма далекий от оригинала с многочисленными купюрами. Сокращенный перевод издавался еще при Сталине в 1930 году на закате свободы литературных мнений, он же был издан уже в «новой» России в 1990 году. Лишь в 1996 русский читатель познакомился с полным переводом книги. Травелог привлек внимание всего мира тем, что он помог ответить на многие вопросы о России, России не только царской, но и советской, да и современной. Этот травелог служит и источником знаний о России и русском народе и в наше время. Так, в разгар очередного витка «холодной войны» он был издан в США с предисловием тогдашнего директора ЦРУ Б. Смита как «лучшая книга о Советском Союзе». В 1989 году новое издание травелога вышло в Америке с предисловием видного ученого Д. Бурстина, который сравнил А. де 237 Кюстина с Геродотом, первым описавшим «варварскую Скифию». С тех пор акцент на «варварскую» Россию не значительно изменился, несмотря на все уверения в дружбе и полноправном партнерстве, определенные круги мировой закулисы видят в нашей стране потенциальную угрозу «цивилизованному миру» и в первую очередь США. Россия достаточно полно представлена в травелогах иностранных «путешественников», начиная с «Записок о московитских делах» (1649) Сигизмунда Герберштейна. Советская Россия нашла отражение в травелогах Г. Уэлса «Россия во мгле», Т. Драйзера «Драйзер смотрит на Россию», Л. Фейхтвангера «Москва, 1937», А. Жида «Возвращение из СССР», М. Додд «Из окна посольства», Д. Стейнбека «Русский дневник», Р. Миллера «Русские как народ» и Х. Смита «Русские». Особняком стоят произведения «американских друзей Октября» Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир», А.Р. Вильямса «Ленин. Человек и его дело», Л. Стеффенса «Письма». В этих травелогах мало конкретных изображений городов, но много чрезвычайно метких наблюдений за русским народом и его политическими лидерами. Они скорее напоминают травелоги писателей предшествующей литературной традиции: больше изображать людей и их нравы, чем конкретную действительность. Травелоги же русских писателей, особенно в ХХ веке, больше склонны к конкретике, к изображению городов и деревень, к изображению повседневной жизни того или иного народа. Среди русских травелогов выделяются произведения А. Куприна, И. Ильфа и Е. Петрова, И. Эренбурга, В. Катаева, В. Некрасова и советских журналистов В. Осипова и Вс. Овчинникова. Травелоги И. Эренбурга отличаются изысканностью и всемирным охватом. Они затрагивают практически все темы. Писатель отличается большим вкусом и эрудицией. Он практически единственный из советских писателей, которому было позволено бывать за границей, не вызывая подозрений. А в то время, в которое творил Эренбург, это было не просто. 238 Испания, Бельгия, Германия, Англия и, конечно же, любимая им Франция – становились темой его травелогов. Но, рассказывая об этих странах, писатель подпускал саркастические ноты в свои рассказы. Наверное, без сарказма, иронии, да и просто насмешки было невозможно обойтись. Подобная манера письма была гарантом благонадежности в то непростое время, особенно в период борьбы с «низкопоклонством перед Западом и безродными космополитами», к которым относился и сам Эренбург. Возьмем, к примеру, его английские зарисовки под заголовком «Городпритча». За этим поэтическим названием действительно скрывается притча – притча о Лондоне. Как и во всякой притче, здесь есть и поучительное начало: «Не верьте глазам своим». Не верьте английским джентльменам, за благопристойным видом которых скрывается ханжество и лицемерие. Не верьте английским клубам, за внешней благопристойностью которых скрывается лишь чудовищный храп их членов. Не верьте богатым витринам магазинов, ибо их товары предназначены только богатым американцам. Не верьте изумрудно-зеленым газонам Гайд-парка, ибо по ним можно шагать только избранным. Не верьте и самому Лондону, ибо за его блестящим фасадом скрывается боль и нищета приезжих иммигрантов, да и самих простых англичан. Но Эренбург был бы забыт в наши дни, если бы его репортажи состояли из одних только едких замечаний. В травелогах замечательного писателя и публициста скрывается живая Англия, живой Лондон. Вот пестрая толпа выходит из театров на Пикадилли – Серкус. Вот перед нами Бонд-стрит с магазинами, полными качественными товарами от шотландских тканей до шикарных мехов. Вот табачный магазин «Абдулла» с благоухающими сигарами. И пусть по правилам того времени говорится, что это все товары для толстосумов-американцев, читающий между строк понимает, что если такие товары есть в продаже, причем в неограниченном количестве, значит жизнь налаживается, и недалек тот час, когда это изобилие будет доступно если не всем, то многим. 239 «Англичанин любит отъединение. На улице он тщательно избегает задеть локтем встречного. В автобусе или в вагоне его место должно быть отделено от соседнего. Прикосновение чужого тела для него мучительно. Он живет в отдельном коттедже, предпочитая дрянной домик на окраине Лондона прекрасной квартире со всеми удобствами в большом многоэтажно доме. Он знает только своих друзей, остальные люди для него, прежде всего, неинтересны: он вежлив и равнодушен», – рассказывает Эренбург [Эренбург 1954, 5, 553]. Но читающий между строк советский человек выуживает информацию отовсюду. Он понимает, что на английских улицах нет давки, нет давки и в вагонах метро или трамвая: у каждого есть свое место. Советский человек узнает, что англичанин предпочитает жить в собственном доме, а не в коммуналке и даже не в квартире рядом с соседями. Таким образом, он видит, что жильем англичанин обеспечен куда лучше, чем «строитель социализма». Подобная подача информации была характерна для той эпохи, эпохи всеобщего дефицита, даже информационного, когда люди руководствовались лишь директивными указаниями центральных газет и подобные «окна в мир» давали им единственную, пусть и завуалированную возможность узнать больше об окружающей действительности. По мере усиления сталинской цензуры его травелоги все более политизируются. В них становится все меньше конкретики зарубежной жизни и все больше политических размышлений. Если взять его очерк «Новый Париж» (1926), то там еще можно прочитать о старом и новом Париже, Париже, подвергнутом коренной реконструкции. Другое дело его очерк «1950», рассказывающий о том, как писателю отказали во французской визе – это сплошное обличение американизма и продавшейся Америке Франции. Но Эренбург был сыном своего времени, и он прекрасно понимал всю конъюнктурность своих путевых очерков. И все-таки писатель делал все возможное, чтобы донести до читателя живое слово. Практически в каждом очерке мы читаем добрые слова о народе той страны, которой посвящены его 240 заметки. И, несмотря на всю политическую шелуху, они остаются интересными и познавательными. Особняком стоят его зарисовки об Америке. В них Эренбург описывает Соединенные Штаты ярко и образно. Коренной поворот в советских травелогах произошел в послесталинскую эпоху, когда литература стала очищаться от идеологической зашоренности. Одним из первых стала книга В. Осипова «Британия глазами русского» (1973). Прежде всего, сменился тон повествования, из него ушли недоброжелательность и сарказм. На передний план выступило желание как можно больше рассказать о стране и людях. Из книги Осипова мы узнаем о «даблдеккерах» и «истеблишменте», о «клубах джентльменов» и «фабриках джентльменов», о королевской семье и правительстве, о том, как работает парламент, как действует правительство, и о многом другом. Тон книги доброжелателен и лишен всякой насмешки. Из этого травелога можно действительно узнать, как выглядит Англия и кто такие англичане. Другой, не менее интересной книгой, является травелог В. Овчинникова «Корни дуба». В ней уточняются и дополняются многие положения Осипова об Англии и англичанах. Таким образом, мы видим, что травелог, особенно русский, не только создает культурологическую основу города, рассказывает об особенностях его архитектуры, истории, нравах и обычаях его жителей, но и является культурологической основой страны и ее народа. Травелог, включающий лирические отступления самого разного характера, создает портрет самого автора, его нравственного мира и его философско-политических воззрений. Травелог рисует картину не только окружающего мира, но и картину мира собственного, отражая не только мир вокруг себя, но и себя внутри этого мира. Травелог несет и важную информационно – познавательную функцию, открывая «чужую» страну и, в то же время, рассказывая о своей собственной. Травелог играет важнейшую роль в «диалоге культур», в понимании народами друг друга, в разрушении негативных стереотипов, в разрушении «образа 241 врага», когда реализуется формула «Увидеть значит понять. Понять – значит простить». 4.4. Малые города глазами писателей Мы рассмотрели города-мегаполисы в восприятии писателей. А каковы «малые» города в изображении мастеров художественной литературы. Может быть, они в корне отличаются от их «масштабных» собратьев? Вот перед нами роман Ж.П. Сартра «Тошнота» (1938). Роман пронизан все тем же одиночеством, все тем же отчуждением. Главный герой романа Антуан Рокантен не живет, а «существует». Причем слово «существование» становится в романе заглавным, несет сакральный смысл. Вот почему представителей этого литературного течения и назвали писателями- экзистенциалистами. Вторым наиболее значимым словом является «тошнота». Роман написан в форме дневника «мсье Антуана». Действия в нем практически нет. Антуан пишет книгу о жизни и судьбе авантюриста конца XVIII – начала XIX века маркиза Рольбона. Тот прожил насыщенную, полную приключений, тайн и политических интриг жизнь. Поначалу Антуан с энтузиазмом занимается своим исследованием. Для него жизнь маркиза – замена его будничного существования. Антуан постоянно сетует, что в его жизни нет «приключений». Но этих приключений достаточно в жизни маркиза. В романе происходит определенное замещение существования Антуана на приключения маркиза. Но, даже занимаясь любимым делом, Антуан не может избавиться от «тошноты». Она настигает его внезапно и повергает в прострацию. Тошнота буквально парализует героя: ему не хочется ни двигаться, ни жить, ни мыслить. В один из приступов тошноты Антуан, глядя на корень каштана, осознает, что он всего лишь растение, что он не живет, а существует. Да и все окружающие ведут попросту растительную жизнь, все они, как и его возлюбленная Анни, «живые мертвецы, все они «лишние», как и он сам. 242 Образ города вполне соответствует мироощущению Антуана. На этот раз мы встречаемся с французским Бувилем. Провинциальный город – это воплощение скуки, серости и отчуждения, все той же «тошноты». Изображая Бувиль, Сартр прибегает все к тому же приему дегуманизации. Городской пейзаж уныл и мрачен. Недаром Антуан говорит, что он «боится городов». Человек в городе чувствует себя одиноким путником в ночи, заблудившимся и никому не нужным. «Из дыры задувает ледяной ветер – там одни только камни и земля. Камни – штука твердая, они неподвижны. Сначала надо миновать нудный отрезок пути: на правом тротуаре серая дымчатая масса с прочерками огней – это старый вокзал… По ту сторону улицы тьма и грязь. Перехожу Райскую улицу. Правой ногой я ступил в лужу. Носок у меня промок. Прогулка началась… На сей раз я ступил в сточную канаву обеими ногами. Перехожу дорогу – на другой стороне улицы одинокий газовый фонарь, словно маяк на краю света, освещающий щербатый искалеченный забор… Я миновал сферу влияния фонаря, я вступаю в черный провал. Моя тень тает у меня под ногами в потемках, и мне чудится, будто я погружаюсь в ледяную воду», – создает атмосферу безысходности и мрачности Сартр. [Сартр 2001, 47]. Сартр подробно перечисляет названия улиц, достопримечательности города, имена людей, с которыми встречается герой. Обилие деталей, подробностей, на первый взгляд ненужных, усиливает ощущение пустоты, бесцельности существования героя в дегуманизированном мире. Постепенно Антуан понимает, что и его книга бесцельна, лишена смысла, ибо прошлого не существует. Это лишь очередная бессмысленная попытка заменить реальную жизнь вымышленной. Антуан прощается с Бувилем, со своим прошлым, со своей неоконченной историей жизни маркиза Рольбона. Он с ужасом думает о веренице пустых дней, ожидающих его в будущем. Казалось бы, итог романа до предела пессимистичен. Но это лишь видимое ощущение. Герой возрождается к жизни, понимая, что надо написать 243 другую книгу, книгу о бессмысленности земного существования и таким образом ощутить его смысл. Отчуждение человека от городов, враждебность городской среды всему живому демонстрирует в своем романе другой французский писательэкзистенциалист Альбер Камю в своем романе «Чума». Роман «Чума» продолжает серию антиутопий, романов–предупреждений. И хотя в аллегорической форме писатель, по его собственным словам, хотел показать борьбу европейского сопротивления против фашизма, произведение имеет еще более глубокий смысл. Чума – это вневременное вселенское зло, против которого должен бороться человек, несмотря ни на что, даже если он не верит в победу. Сюжет романа несложен. Кажется, что он начисто лишен мистики и абсолютно прозрачен. В алжирском городке Оране появляются крысы. С каждым днем их полчища прибывают. Затем крысы дохнут, но вслед за их смертью приходит чума. Теперь начинают умирать люди. Администрация города не в силах справиться с эпидемией, а центральные власти, вместо того чтобы помогать городу медикаментами и врачами, окружают его санитарным кордоном, обрекая Оран либо на вымирание, либо на спасение лишь собственными силами. С чумой борются энтузиасты–добровольцы, которые не рассчитывают на помощь извне и надеются лишь на себя. Санитарные летучие отряды из добровольцев возглавляет Жан Тару. Он не верит властям и считает, что лишь избранные, готовые на самопожертвование, способны спасти ситуацию. Постепенно к нему присоединяются разные люди. Один из них журналист Рамбер. Он случайно попал в город. Его поначалу ничего не связывает с жителями. Он «чужой». Рамбер пытается выбраться, минуя санитарные кордоны, заплатив проводникам. Ожидание затягивается. Он живет в Оране и постепенно понимает, что и он ответственен за судьбы вроде бы «посторонних» людей. Он страстно желает выбраться, встретиться с любимой, которая ждет его в безопасности. Но в конечном итоге Рамбер присоединяется к добровольцам и, невзирая на смертельную опасность, 244 борется с эпидемией. «Эта история касается нас всех… Стыдно быть счастливым одному», – говорит он, объясняя свое намерение остаться в зачумленном городе. Еще один главный персонаж врач Бернар Риэ. Он борется с чумой без надежды на победу из чувства долга. Для него чума – «непрекращающееся поражение». Но именно на таких подвижниках, рыцарях без страха и упрека держится человечество. Роман закачивается относительно благополучно. Чума умирает вроде бы сама по себе, а не благодаря усилиям врачей. Жан Рамбер встречается с любимой. А вот Жан Тару умирает в тот момент, когда болезнь побеждена. Он – одна из последних жертв эпидемии. В заключительной сцене романа доктор Риэ идет по счастливому городу, видит веселую, радостно возбужденную толпу, но не разделяет ее радости и веселья. Он решает написать хронику эпидемии в назидание потомкам. Рассказать о людях, которые боролись с чумой «вопреки страху с его не знающим устали оружием, вопреки их личным терзаниям». Заключительные строки романа звучат предостережением: «И в самом деле, вслушиваясь в радостные крики, идущие из центра города, Риэ вспомнил, чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках, что микроб чумы никогда не умирает, никуда не исчезает, и что он может десятилетиями спать где-нибудь на завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа… и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их околевать на улицы счастливого города» [Камю 1988, 274]. А вот изображение города в другом романе, на этот раз американского писателя – Генри Миллера. Мы уже знакомились с его изображением мегаполисов – Парижа и Нью-Йорка. Теперь давайте познакомимся с его изображением Дижона. «В общем, передо мной был безнадежный заштатный городишко… Через неделю мне казалось, что я здесь всю свою жизнь. Это был какой-то липкий, назойливый, вонючий кошмар, от которого невозможно отделаться. Думая о том, что меня ждет, я приходил в полуобморочное 245 состояние. Вечереет. Все, точно крысы, бегут домой под затуманенными фонарями. Деревья ощетинились колючей замерзшей злобой… Переулок мертвых костей, скрюченных фигур, завернутых в саваны с рыбьими хребтами вместо спин», – передает свои ощущения от города герой [Миллер 2009, 295-308]. Такой город могут населять только мертвецы: «Здесь можно было ходить по главной улице из конца в конец хоть до Страшного суда – и не встретить ни одного живого человека. Город населяли шестьдесят, а то и семьдесят тысяч мертвецов, может, даже больше – мертвецов, одетых в теплое белье и не знающих, куда идти и что делать» [там же, 306]. При первой же возможности герой Миллера без сожаления бросает свою работу в лицее, в котором он вместо храма учености и благолепия находит прямо-таки паноптикум преподавателей, озабоченных только скудной, невкусной едой и плохим вином, и возвращается в Париж, хотя он прекрасно понимает, что в Париже его ждет все то же нелепое, бессмысленное существование. «Весь мир – это серая пустыня», – приходит к пессимистическому выводу автор вместе со своим героем. Мы рассмотрели восприятие «малых» городов писателями- модернистами. А теперь проследим восприятие этих городов писателями реалистического направления. Вот перед нами роман Д. О’Хары «Свидание в Самарре», написанный приблизительно в те же годы, что и произведения Сартра и Миллера. Во-первых, остановимся на заглавии. Ведь библейский город Самарра – это город, в котором свидание назначает сама Смерть. А ведь Гиббсвилл – простой провинциальный городок, и ничто, казалось бы, не предвещает печального конца. Напротив, перед нами уютный, тихий городок, где живут «порядочные» люди, в том числе и семейство Инглишей. Роман начинается с описания чудесного рождественского утра. Второстепенные персонажи – чета Флиглеров – просыпаются в своем доме на главной улице Гиббсвилла – Лантененго стрит. Они не принадлежат к элите 246 города, но гордятся тем, что живут здесь по праву, так как их предки поселились в Гиббсвилле еще до Гражданской войны. Так в роман входит темы истеблишмента американского городка. Провинциальный истеблишмент ничуть не уступает подлинной верхушке США по чванливости и осознанию своего места в обществе. Советская пропаганда и журналисты, долгие годы «сидевшие» в Штатах и как огня боявшиеся «высылки» в Союз, всегда пытались внушить советскому народу, что в США, в «обществе вседозволенности», деньги открывают дорогу в высший свет. Но это далеко не так. Никакие деньги не позволят нуворишам попасть в изысканное общество, вступить в привилегированный клуб или получить место рядом с «избранными». Но это вовсе не говорит о добропорядочности и высокой нравственности американского истеблишмента. Если кто-нибудь позволит себе нарушить неписаные, но вполне осязаемые законы этого общества, его попросту безжалостно затравят. Как это и произошло с Джулианом Инглишем – главным героем романа. Но вернемся к Флиглерам. Они собираются на вечеринку. Надо запастись спиртным, ибо по неписаным правилам выпивку надо приносить с собой. Но на дворе 1928 год – времена сухого закона. Поэтому сам Лютер Флиглер скрупулезно решает этот вопрос: он принесет с собой самодельный джин, сделанный из спирта и можжевельника. О’Хара – мастер детали. Эту особенность он унаследовал от своих старших товарищей – Фицджеральда и Хемингуэя, с которыми был знаком лично. Между мужем и женой происходит знаменательный диалог. Лютер собирается добавить к джину еще и хлебную водку. Жена же собирается сэкономить на расходах и предлагает ограничиться джином. Муж же хочет выглядеть щедрым, поэтому он говорит о предстоящих тратах устроителя вечеринки: - А ты знаешь, сколько стоит в «Дилижансе» выпивка? Семьдесят пять центов рюмка, девочка, и не всем его продают… Приготовлю-ка я, пожалуй, 247 джину и возьму с собой бутылку на всякий случай. Не можем же мы заставить Уилларда платить за всё, что съедят и выпьют двенадцать человек. - Может, не двенадцать, а десять. - Пусть десять. Какая разница? По полтора, а то и по два доллара надо заплатить при входе, что уже двадцать без лимонада, сельтерской и сэндвичей. А знаешь, сколько дерут в «Дилижансе» за обычный сэндвич с курицей? Целый доллар» [О’Хара 1986, 48-49]. Этот небольшой диалог выполнен в хемингуэевской манере «айсберга», когда подразумевают больше, чем говорят. На самом деле Люту очень жалко хлебной водки и он сомневается, что другие приглашенные окажутся столь же щедры, как и он. Ирма при всей своей скупости не хочет выглядеть «жадиной» в глазах мужа. Диалог этот многое говорит и о национальном характере американцев. Практичность, бережливость, благопристойность, видимое согласие между супругами – типичные черты американских протестантов. Пенсильвания, а именно там происходят события, описанные в романе, штат, где весьма сильно влияние выходцев из Германии. И хотя Флиглеры родом из Англии, немецкая педантичность и практичность повлияла и на них. В этом эпизоде О’Хара еще раз заявил о себе как летописце своего времени. Когда бы ни открыл его роман читатель, он точно будет знать, сколько стоили рюмка водки или сэндвич с курицей в 1928 году, или что пили в американских барах в небольших городках. «Абсолютное большинство пило хлебную водку, разбавленную лимонадом, кое-кто либо яблочную водку с сельтерской, либо джин с лимонадом, и всего лишь несколько человек из ядра клуба – виски. Хлебная водка почти у всех была одного производства: (врачи – члены клуба выписывали рецепты своим пациентам) покупался ржаной настой, который разводился потом спиртом и подкрашенной водой. Ядовитым этот напиток не был, хотя дурманил порядочно, что от него и требовалось, и в чем заключалась сила», – со знанием дела повествует писатель. [О’Хара 1986, 50]. 248 Повышенное внимание к «фактуре еды и питья» – явное влияние Хемингуэя. О’Хара, характеризуя образ жизни одного из второстепенных персонажей Аль Греко, вновь прибегает к «кулинарной» теме: «Аль в это время если не спал, то плотно ел. На завтрак он брал яичницу с беконом, в семь вечера – небольшой кусок мяса или что-нибудь вроде этого и только после полуночи садился за так называемый ужин: толстый кусок мяса с вареным картофелем, кусок пирога и бесчисленное количество чашек кофе» [там же, 53]. Вот стандартный набор в баре провинциального американского городка. А вот пример меню состоятельных граждан Гиббсвилла: «На ужин, подобный тому, какой давали Эммерманы, хозяйка могла договориться с управляющим подать гостю либо жареную курицу за доллар пятьдесят, либо жареную индейку за два доллара, либо филе миньон за два пятьдесят» [там же, 230]. Хотя О’Хару и называли летописцем своего времени, вряд ли бы он фиксировал «мелочи» только из желания быть точным во всем. За подобной манерой письма стоит предшествующая традиция – «теория вещности», идущая от Бальзака и Флобера и нашедшая свое яркое продолжение в прозе Хемингуэя и Фицджеральда. Как мы уже говорили, роман «Свидание в Самарре» – прекрасный пример изображения американского истеблишмента в маленьком провинциальном городе. Семья главного героя Джулиана Инглиша наглядно подтверждает эту тему. Джулиан Инглиш «по праву» живет на Лантененгострит. О его праве жить там и принадлежности к высшим кругам общества мы узнаем из внутреннего монолога гангстера Аль Греко: «Джулиан Инглиш по праву живет на Лантененго-стрит. Он из тех, кто принадлежит к высшему кругу и не затеряется в любой кампании. Только посмотреть на него и сразу видно, что этот малый из высшего круга» [О’Хара 1986, 35]. Джулиан – выходец из родовитой семьи, за ним стоит авторитет отца и наследственное состояние. А вот Гарри Райлли – нувориш и выскочка. Мастер детали, О’Хара, создавая портрет Райлли, вновь прибегает к приему 249 «вещности», замечая, что «протез во рту у Райлли, вставленный еще до того, как семья разбогатела, сидел неплотно, и Гарри во время разговора явно присвистывал» [там же, 29]. Следует подчеркнуть, что повышенное внимание к зубам и зубным протезам – характерная черта американцев. На эту особенность обращали внимание и Горький в своем знаменитом памфлете «Город Желтого Дьявола», и Набоков в романе «Пнин». Показатель благосостояния и преуспеяния, показатель жизненного успеха – голливудская белозубая улыбка: стоматологический зубной протез. Преуспевающий удачливый американец обязательно содержит зубы в порядке. Это его визитная карточка. Райлли – плебей. И его плохие зубы – свидетельство его низкого происхождения. В отличие от Райлли, Джулиан Инглиш – джентльмен, почтенный член американского провинциального истеблишмента. Казалось бы, что это сплоченный клан, где каждый горой друг за друга. Однако это общество далеко не так однородно и сплоченно, как может показаться на первый взгляд. (Это противоречие между видимостью и реальностью уже отразил в своем романе «Главная улица» С. Льюис). Напротив, любой промах превращается в глазах гиббсвилловского общества в чудовищный проступок. Так и произошло с героем романа. Он выплескивает виски в лицо Райлли. Этот поступок вызывает шок у «лучшего» общества Гиббсвилля. Выплеснув виски в лицо Райлли, Джулиан даже подумать не мог, к какому трагическому результату приведет эта пьяная выходка. На самом деле она послужила катализатором той тлеющей ненависти между католиками и протестантами, которая подспудно пронизывает верхушку этого провинциального городка. Неприятности Джулиана растут как снежный ком, и в одно мгновенье из почтенного члена общества он превращается в изгоя. От него отворачивается даже собственная жена, что в конечном итоге становится последней каплей и приводит к трагической развязке – самоубийству. Тема американского провинциального истеблишмента находит продолжение в романе Д. О’Хары «Дело Локвудов». Роман повествует о 250 судьбе четырех поколений семьи Локвудов. Русский перевод романа не передает всей многозначности английского варианта названия «Lockwood Concern». Английское слово «сoncern» весьма полисемично. Оно означает и «заботу», и «дело», и «беспокойство», и «огорчение», и «предприятие», и «концерн», и «тревогу за будущее». Таковы основные значения этого слова. «Дело» становится главной заботой для Авраама Локвуда. Вначале он полагает, что удачная женитьба и деньги обеспечат ему и его семье почетное положение в Шведской Гавани – глубокой провинции штата Пенсильвания. Но жизнь убеждает его в иллюзорности надежд. Оказывается, что у людей в провинции слишком хорошая память. Тень от убийства его дедом Мозесом Локвудом нескольких человек будет преследовать его и его детей. И это является еще одним доказательством, что русский читатель жил мифами об Америке, в частности, что в Америке «все можно, были бы деньги». Пуританские и протестантские традиции первых поселенцев, отцов- пилигримов оказались выше распущенности каторжников времен короля Якова, которые формировали ложные взгляды о торжестве произвола и грубой силы. Не распущенность, а пуританские взгляды американских квакеров определяют мораль американской глубинки, к которой относятся Шведская гавань и Гиббсвилл. Для понимания моральных догм этого региона достаточно вспомнить роман Н. Готорна «Алая буква» о недавнем прошлом этой части Америки, когда за прелюбодеяние или рождение внебрачного ребенка грозили не только длительное тюремное заключение, но и смертная казнь. На ум приходят слова одного из персонажей «Свидания в Самарре»: «Перед английской королевой можно предстать без чулок, перед жителями Гиббсвилла – нельзя». Повествуя о настойчивых попытках попасть в «лучшее» общество Шведской Гавани, О’Хара тематически возвращается к роману «Свидание в Самарре», вернее к характеристике нравов в американской глубинке. Правда, в «Деле Локвудов» география несколько расширяется и затрагивает Филадельфию, которую никак нельзя назвать провинцией. Как известно, 251 Филадельфия – центр старой американской «аристократии», ее пуританские нравы коренным образом отличаются от свободных, космополитических нравов Нью-Йорка. Именно поэтому они могут служить барометром преференций американского истеблишмента. Хотя Авраам Локвуд представляет второе поколение «Локвудов из Шведской Гавани», он не в состоянии попасть в Филадельфийский клуб. В этом отношении весьма показательным является разговор Локвуда с Морисом Хомстедом – одним из столпов филадельфийского общества. Он объясняет Локвуду строгую иерархию династий в достижении общественного признания. На вопрос, сможет ли сын Авраама стать членом клуба для избранных, Морис отвечает с мудрой назидательностью: «Нет, Локи. Пощадите его самолюбие. Я постараюсь помочь ему в чем-нибудь другом, но если он задумает вступать в Филадельфийский клуб, отговорите его. Слишком долго люди помнят прошлое. Вот у его сына уже будет больше шансов. К тому времени нынешние старики вымрут. А сейчас вашему сыну будут мешать те же люди, которые не хотят принимать вас» [О’Хара 1986, 129-130]. Далеко не всегда деньги определяют место человека даже в «мире доллара», какими до недавнего времени представлялись неискушенному большинству Соединенные Штаты. О’Хара, подчеркивая консерватизм определенных кругов американского социума, намеренно проводит мысль о том, что нравы в Америке далеко не так свободны, как может показаться на первый взгляд. Подлинную силу имеют не только деньги, но и традиции, которые еще очень сильны среди потомков «отцов пилигримов». Эти-то традиции и служат здоровой основой общества, которое сохраняет патриархальные ценности. Именно к сохранению старых патриархальных ценностей своих предков стремится Джордж Локвуд. Он пытается возродить на американской земле традиции старых английских аристократов. Продолжая традиции, заложенные еще Д. Голсуорси его семейной «Сагой о Форсайтах», О’Хара пытается подвести американского читателя к мысли, что для того чтобы основать 252 династию, одной человеческой жизни мало, необходимы усилия нескольких поколений. Предок Джорджа Локвуда Авраам стремится основать не просто буржуазную династию, а свое «герцогство, в котором сам Авраам Локвуд был бы герцогом и передавал свое герцогство детям» [там же 84]. Но чтобы реализовать свои планы, не быть белой вороной в кругу «избранных» – надо стать джентльменом. Это задача не из простых. Аврааму не удалось «стать джентльменом», не беда – это удастся сделать его потомкам в третьем поколении. И пусть они не будут иметь никаких титулов, быть Локвудом из Шведской Гавани – вполне достаточно. Американец в Новом Свете ощущал себя Новым Адамом, создающим собственный Эдем. Генеалогию и психологию Нового Адама исследует в своей работе «Вечный Адам и райский сад Нового Света: центральный миф американского романа с 1830 года» Д. Нобл. Концепция Нового Адама заключается в том, что Новый Свет позволяет человеку обрести гармонию с Богом, природой и самим собой. Что пытается достичь первый американский поселенец, продвигаясь на запад? Он хочет найти нетронутую новую землю, где он будет жить свободно и независимо, добиваясь благополучия плодами своего труда. Подобное стремление мы обнаруживаем и у главного героя «Дела Локвудов» Джорджа. Несколько поколений семьи Локвудов живут в Шведской Гавани, но не могут обрести прочное социальное положение, несмотря на материальное благополучие. Это побуждает Джорджа совершить необычный в глазах окружающих поступок. Он отгораживается от остального мира стеной, не в переносном смысле, а в прямом. Именно стена служит границей Нового Эдема. О’Хара скрупулезно описывает стену и строительство дома. Буквально все районы Соединенных Штатов были заняты на его строительстве. Зачем писатель столь тщательно рассказывает о возведении этого дома? Зачем он столь подробно перечисляет названия фирм и подрядчиков из разных местностей? Этот прием выполняет двуединую задачу. Во-первых, дом Локвуда – та же Вавилонская башня, которую люди в 253 своей безумной гордыне воздвигли до небес. Во-вторых, этот прием выполняет более приземленную задачу, лишенную притчевости: показать, что Локвуд никому не верит. Этой же цели служит и потайная лестница, которой суждено сыграть роковую роль в судьбе хозяина особняка. Но создание Нового Эдема не ограничивается возведением стены и строительством дома. Джордж Локвуд отселяет своих соседей и становится единственным обладателем обширного участка, создающего иллюзию полного одиночества. Стремление стать Новым Адамом проявляется в разговоре Джорджа с его деловым партнером: «Я всегда говорил, что если уж строиться, то чтобы чувствовать себя потом в новом доме так, как чувствовали себя первые Локвуды, поселившиеся в этой стране» [О’Хара 1986, 37]. Но О’Хара вместе со своим героем Локвудом стремится сочетать Эдем со староанглийским поместьем. Явно намекая на уклад жизни английских аристократов, писатель устами своих персонажей спрашивает Джорджа об охоте на лис и верховой езде. И хотя Джордж, явно скромничая, отвечает, что не собирается заниматься ни тем, ни другим, атмосфера аристократических поместий явно витает над усадьбой Локвуда. Это ощущение усиливается, когда Джордж говорит о «колониальном локвудском стиле», в котором выдержан его дом. Наличие «своего» стиля в мебели или архитектуре – привилегия коронованных особ. Пример тому «ампир» или «а ля Людовик». Но американскому «герцогу», которым мнит себя Джордж Локвуд, самоуверенности и тщеславия не занимать. И поэтому он уверенно говорит о «локвудском колониальном стиле» в архитектуре. Так возникает параллель между аристократической старой английской усадьбой и чисто американским Новым Эдемом. «У нас много воды. Водится дичь. Встречаются олени. Растут фруктовые деревья. Если потребуется, мы можем подолгу оттуда не вылезать», – говорит Джордж [там же, 37]. Писатель рисует образ райского сада, обособленного от других людей. При этом Локвуд признается, что он хочет чувствовать себя первым поселенцем Америки. 254 Но анализ американской литературы показывает, что американцы не достигают счастья ни в больших, ни в малых городах. Так и Джордж Локвуд – обитатель Нового Эдема. В его лице новый Адам терпит поражение во всех своих начинаниях. Ему не удается основать семейную династию: его жена Джеральдина – чуждый ему человек, любимая дочь Тина – бесплодна, а его сын, став развратником и мошенником, уезжает в Калифорнию. Уезжает не по своей воле. Джордж Локвуд изгоняет сына из своего «рая». На душу Нового Адама ложится еще один грех – смерть невинного мальчика, который гибнет на пиках стены, пытаясь пробраться в его «Рай». И хотя формально Джордж не причастен к его смерти, это событие – зловещий знак грядущего несчастья для самого Локвуда и всего его рода. Так и происходит: Локвуд гибнет, упав с потайной лестницы, о которой никто не знает, а следовательно, некому прийти ему на помощь. Проанализировав изображение «малых» городов в зарубежной литературе, можно прийти к заключению, что их видение глазами писателей не расходится с общей тенденцией литературы Запада – изображать жизнь как пессимистический, отчужденный процесс. А каково изображение «малых» городов в русской литературе. Посмотрим, как изображают писатели, например, такой город, как Арзамас – небольшой городок в Нижегородской области, но имеющий славную литературную историю. «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество родительской вишни, яблокскороспелок, терновника и красных пионов. Через весь город, мимо садов, тянулись тихие заросшие пруды, в которых вся хорошая рыба давным-давно передохла, и водились только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою текла речонка Теша. Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон. Но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти километрах находилась знаменитая 255 Саровская пустынь, и эти угодники переманивали все чудеса к тому месту», так описал Арзамас выдающийся детский писатель Аркадий Гайдар в своей повести «Школа» [Гайдар 1983, 17]. Будучи по-настоящему большим художником, Гайдар в нескольких строках изобразил город и все его проблемы. Из отрывка мы видим, что вся история Арзамаса – в прошлом. На месте реки Сороки, которая окружала арзамасскую крепость с востока, остались одни пруды, в которых к тому же «вся хорошая рыба давным-давно передохла». Заборы там «ветхие» – значит, живут небогатые люди. В то же время в городе стоит три десятка церквей. Отсюда можно сделать вывод, что некогда Арзамас был процветающим городом, где прихожане имели деньги, чтобы возводить церкви. Важное замечание содержится в упоминании о «знаменитой Саровской пустыни», в которой хранились мощи старца, преподобного Серафима, особенно прославившегося на Руси после рождения у императора Николая II наследника Алексея. Арзамас возник на месте мордовского поселения во время похода Ивана Грозного на Казань. Это было стратегическое военно-политическое предприятие, успешная попытка противодействия молодого царя Ивана исламскому нашествию. Воинствующий ислам стремился к экспансии, вовлекая в свою орбиту все племена и народы к юго-востоку от Волги. Создание Астраханского и Казанского ханства представляло серьезную угрозу Руси, и основание новой крепости на арзамасской земле было стратегически важно. Этой же цели служила и Выездная казачья слобода, охранявшая город Арзамас с юга. Чтобы обезопасить новую крепость, из ее окрестностей было выселено татарское население, которое стремилось утвердиться на мордовской земле. Это было сделано и в ответ на просьбу мордовских племенных вождей, также не доверявших татарам. В крепости должны были служить русские люди, и поэтому здесь был утвержден воинский гарнизон из стрельцов. 256 Точного времени превращения крепости в город не установлено (1578 – дата условная), однако в духовной грамоте от 1572 года царь Иван Грозный жалует «город Арзамас с мордвами и черемисами» своему сыну Федору. В 1580 году после «усмирения» Новгорода, часть его жителей была переселена в Арзамас. Это событие и положило начало уникальности города, его культурным традициям. Вольнолюбивый дух новгородцев, видимо, сыграл роль и в том, что Арзамас принял сторону Лжедмитрия I и «тушинского вора» в их борьбе за русский престол. Но в период восстания Степана Разина Арзамас стал опорой правительственных войск и штабквартирой князя Юрия Долгорукого. В окрестностях Арзамаса на Ивановских буграх прошли страшные казни разинцев. Хорошо известны воспоминания иностранного очевидца, имя которого затерялось во времени, запечатлевшего эти расправы на бумаге. Видел Арзамас и Пугачева, правда, в клетке, уже плененного. В советское и постперестроечное время было много разговоров о «старице Алене», которую досужие радетели местной истории сравнивали с Жанной д’Арк. Но, во-первых, Жанна воевала за свободу Франции от английского ига, во-вторых, она защищала своего короля, а не поднимала руку на «помазанника божьего», в-третьих, она была девственницей, а не вдовой и т.д. Алене даже собирались поставить памятник на месте памятника Ленину, где она бы возвышалась на коне с вилами в руках в монашеском обличье. Но горячие головы охладились осознанием того, что выступала Алена против законной, пусть и царской власти. Видимо, по этой причине, в России нет ни одного памятника бунтовщикам. Как и при Разине, во времена пугачевского бунта, Арзамас оставался верен законной власти, в отличие от Саранска, где Пугачев был встречен почетом как «государь Петр III» с хоругвями, хлебом – солью во главе с архимандритом. Со взятием пугачевцами Арзамаса открывалась бы прямая дорога на Москву. Но тут путь ему заступил Михельсон, который дал пугачевцам бой у деревни Пузо Лукояновского уезда и разгромил их. На помощь Михельсону уже спешил А.В. Суворов прямо с русско-турецкой 257 войны. Ночь он провел в Арзамасе. Вообще, надо сказать, что судьба города была тесно связана со славнейшими именами России: князьями Салтыковым, Воротынским, Долгорукими, Бутурлиными. Существует мнение, что село Собакино (ныне Красный Бор) находилось в собственности жены Ивана Грозного – урожденной Собакиной. Удостоился наш город и посещения Екатериной Великой, где в ее честь были устроены гусиные бои. Еще раз город Арзамас имел честь принимать главу государства почти через 250 лет, когда Арзамас посетил президент России Д.А. Медведев. Даже Николай II, будучи совсем рядом с городом, не удостоил Арзамас такой чести. Видимо потому, что слава города к тому времени миновала, о чем красноречиво свидетельствуют строки Аркадия Гайдара. «У нас на Святой Руси есть немало городов, переживших свою славу. Великий Новгород, Владимир, древний Ростов и даже, сравнительно с ними, молодой Тобольск в Сибири живут лишь воспоминаниями невозвратного своего славного прошлого. В известной степени можно то же сказать и о нашем родном Арзамасе. Золотой век его прошел, да и был он сравнительно очень недолог, всего 75 лет, но он вполне заслуживает название золотого: Арзамас за это время приобрел всероссийскую известность, богатство текло в него рекой…» [Щегольков 1911, 104], – писал замечательный краевед, истинный подвижник земли арзамасской Н.М. Щегольков. «Золотой век» Арзамаса пришелся на XVIII век. Благодаря удобному месторасположению и отсутствию железной дороги, Арзамас превратился в перевалочный пункт самых разных товаров, идущих из Москвы в Сибирь и обратно – знаменитая «сибирка» проходила через наш город. Дорога шла и на юг, на Саратов и Астрахань. Кроме того, благодаря переселенным новгородцам, в Арзамасе буйным цветом расцвели различные ремесла, главным образом кожевенная промышленность, особенно выделка юфти. Это стало немалой статьей доходов города и достатка горожан. Именно в этот период были построены 258 основные каменные церкви Арзамаса. Заметим, что город в то время ограничивался городским кладбищем на севере, ныне улица Калинина. Что касается остальных частей города, то они оставались в тех же пределах, что и сейчас. Щегольков пишет, что прихожане как бы соревновались друг с другом, чей храм будет богаче и лучше. В начале XIX века выпускник Петербургской академии живописи, академик Ступин основал в Арзамасе первую в России провинциальную школу живописи. Школа ставила чисто практическую задачу: «улучшить» местную иконопись. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в стране. Чтобы в затрапезном городке была школа, готовящая настоящих художников? Такого на Руси еще не было. В насмешку, школу «окрестили» «Арзамасской академией». Появилась сатирическая пьеса «Видение в арзамасском трактире», высмеивавшая эту школу. В это же время развернулась борьба за русский язык между адмиралом Шишковым и Карамзиным. Шишков организовал «Беседу любителей русского слова», стоящую на охранительских позициях, а сторонники Карамзина, в пику адмиралу, – «Арзамасскую академию», превратившуюся скоро в литературное общество «Арзамас». Если на заседании «Беседы» приглашенные являлись в виц-мундирах и во фраках, то члены «Арзамаса» превращали свои заседания в балаган: здесь царили веселье, шутки и эпиграммы. Но это не мешало обществу заниматься серьезными делами и собрать под своей эгидой самых образованных и интеллектуальных людей Петербурга, если не всей России. Эмблемой общества был мерзлый арзамасский гусь. Кстати, за ужином подавался все тот же арзамасский гусь, но уже не мороженый, а предельно свежий и упитанный. Арзамасские гуси были лучшие на Руси. Как известно, их гоняли в Москву и Петербург живыми, прогоняя через расплавленный вар, дабы предохранить их ноги, как бы подбивая. Жаль, что искусство разведения гусей на арзамасской земле утрачено, да и сама порода стала редкостью. Жуковский ввел в «Арзамас» и юного Пушкина, получившего имя «Сверчок». Общество 259 просуществовало три года с 1815 по 1818 год, но его слава оставила заметный след в литературной истории России. Что касается арзамасской школы живописи, то там учили не только изобразительному искусству, но и общеобразовательным предметам. И напрасно над школой насмехались, она пользовалась расположением самых высоких кругов и самого императора Александра I. Из этой школы вышел замечательный русских живописец Перов, а сюжет «Тройка» навеян арзамасскими воспоминаниями, хотя картина и создавалась в Москве. Даже сейчас мы с легкостью узнаем это место: спуск к реке Теша у башни женского монастыря. После победы над Наполеоном в Арзамасе стал возводиться грандиозный собор. Это при виде этого собора известный писатель П.И. Мельников-Печерский, глядя на город со стороны реки Теши, сказал, что Арзамас по своему месторасположению достоин быть губернским городом. В росписи собора принимали участие выпускники школы Ступина. Но сам «учитель» внес малую лепту в его оформление, написав лишь одну картину – «Моление о чаше». Как бы то ни было, Воскресенский собор, построенный архитектором Коринфским, по праву является украшением города. В Арзамасе имеется еще один собор, возведенный знаменитым архитектором, строителем храма Христа Спасителя, академиком Тоном. К сожалению, он пришел в запустение в годы советской власти. Сейчас в нем ведутся активные восстановительные работы. Казалось бы, что Арзамасу ничто не предвещает печальной судьбы. Но к концу XIX века город оказался в упадке. В связи с прокладкой железных дорог гужевые пути изжили себя. Ремесла в Арзамасе захирели. Все это и дало основание Гайдару с грустью отозваться о нашем городе. В годы советской власти город производил противоречивое впечатление. С одной стороны, он утратил свое патриархальное очарование: почти все церкви были разрушены. С другой – город превратился в мощный оплот военно-промышленного комплекса. Начиная с 60-х годов прошлого 260 века, в Арзамасе началось большое строительство, и в него потянулись жители окрестных деревень. И все же Арзамас не утратил своей уникальности. Арзамасский театр по праву завоевал славу одного из лучших и старейших провинциальных педагогический институт. театров На всю России. страну Не уступает прославился ему и выпускник Арзамасского духовного училища, будущий патриарх Сергий. В годы Гражданской войны в Арзамасе находился штаб Восточного фронта, и по улицами нашего города расхаживали лучшие командиры Красной Армии. В Великую Отечественную войну именно под Арзамасом предполагалось разместить Ставку Верховного Главнокомандующего в случае сдачи Москвы. Да и наконец, Арзамас все-таки стал губернским городом, правда на короткое время – была образована Арзамасская область. Сегодня Арзамас не узнать: восстановлены почти все храмы. И он вновь засиял золотом церквей. Для города вновь наступает «золотой век». 4.5. Город как художественный текст Город может выступать в нескольких ипостасях: как архитектурный объект, как социокультурный феномен, как географический центр, как историко-культурное образование и т.д. Но еще город выступает как текст, причем, как текстопорождающий фактор, так и собственно текст, то есть литература о городе. При этом литература о городе может носить характер специализированный, литературно-документальный и чисто литературный. Мы остановимся именно на литературном тексте о городе. Как известно, литература напрямую связана с вымыслом. Таким образом, за каждым изображением города скрывается его вымышленный образ. Причем этот образ может быть как гуманистический, так и дегуманизированный, отчужденный. Это целиком зависит от замысла автора, от его авторской концепции и художественной задачи. 261 Возьмем, к примеру, такие мегаполисы, как Париж, Санкт-Петербург, Москва и Нью-Йорк. Мало кто будет спорить, что это одни из самых прекрасных городов мира. Но в изображении некоторых писателей эти города превращаются в города-монстры, ибо текст этих городов специфичен: он отталкивает читателя, заставляет его видеть эти города в извращенном свете. Это дегуманизированный, отчужденный стиль. При этом надо сказать, что деструктивное видение писателей, прибегающих к стилю отчуждения, не имеет ничего общего с их мировоззрением. Нельзя сказать, что такие писатели, как М. Горький, С. Фицджеральд, Г. Миллер, А. Белый или Б. Ямпольский – это писатели-мизантропы. Вот как описывает Нью-Йорк Максим Горький: «Издали город кажется огромной челюстью, с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа, – в желудок, который проглотил несколько миллионов людей и растирает, переваривает их. Улица – скользкое, алчное горло, по нему куда-то плывут темные куски пищи города – живые люди» [Горький 1982, 7, 182]. Это выдержка из памфлета Горького «Город Желтого Дьявола» (1906). Стиль памфлета – натуралистический, гротескный, гиперболизированный. Основной художественный прием – нагнетание физиологических терминов, нагнетание мрачной атмосферы, Город в изображении Горького предстает неким чудовищным монстром: «челюстью», «обжорой», «желудком», «горлом», «пауком». Этот монстр «проглатывает», «душит», «сосет кровь и мозг», «пожирает мускулы и нервы». Писатель выстраивает стилистический ряд из существительных «пыль», «дым», «темнота», «туман», не несущих вне контекста негативных коннотаций, но в сочетании с прилагательными «темный», «тяжелый», «черный», «серый», «угрюмый», «мрачный», «мертвый», «зловещий», «гнилой», «душный», «грязный», «испачканный», они создают негативную ауру и до предела сгущают отрицательные эмоции. 262 Так, почему Горький создал такой мизантропический образ одного из красивейших городов мира? Конечно, не потому, что он возненавидел Америку по личным причинам. Великий пролетарский писатель исходил из художественной задачи. Максим Горький видел в главном американском городе не изыски архитектуры и не торжество технической цивилизации. Горький видел в нем квинтэссенцию капитализма, эксплуатации человека. Писатель смотрел на Нью-Йорк с позиций революционной России, призванной разрушить капиталистический мир эксплуатации человека человеком и возвестить миру о рождении нового рабочего Христа. Не следует забывать, что роман богоискательства, «Мать», создавался пронизанный на духом американской революционного земле и наполнен американскими эманациями. В «Городе Желтого Дьявола» просматриваются очертания «рабочей слободки» далекой России из знаменитого образчика социалистического реализма. Совпадения стилистических приемов и сходство образов «Города Желтого Дьявола» и романа «Мать» далеко не случайны. За ними стоит одно из наиболее заметных художественных открытий ХХ века – дегуманизированный стиль отчуждения. Открытие это, ставшее ведущим художественным приемом западной литературы, принадлежит не западным писателям, как это принято считать, а Алексею Максимовичу Горькому. Стиль отчуждения возник в литературе Запада в ХХ веке, когда человек почувствовал себя ничтожным винтиком в огромной и страшной машине монополистического административным, капитализма. финансовым, Государство со своим военно-полицейским огромным аппаратом, промышленные корпорации со своим собственным механизмом подавления, контроля и слежки, производство с конвейерной системой нависли над маленьким человеком, угрожая раздавить его, даже не заметив. Растущая разобщенность людей в огромных городах-мегаполисах, их разобщенность друг от друга, утрата гуманистических принципов общения порождали чувства одиночества и страха. 263 Американский критик С. Финкельстайн в своей книге «Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе» писал, что стиль отчуждения, отражая страх, беспокойство и одиночество самого наблюдателя, рисует внешний мир холодным и враждебным. Именно в такой манере изображают город многие писатели американской, европейской, да и русской литературы – Г. Миллер, С. Фицджеральд, Ж.П. Сартр, А. Камю, Д. Дос Пассос, А. Белый, Б. Ямпольский и другие. М. Горький не любил патриархальный уклад русской крестьянской общины, воплощенный в деревне, но еще больше он не любил уклад городской. Выросший в мрачной красильне деда в Нижнем Новгороде, испытав тяжкую долю рабочего – подростка «в людях», он стал убежденным антиурбанистом. Выразителем этих настроений становится его персонаж Коновалов, с которым будущий писатель сталкивается в его скитаниях по Руси: «Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься… тухлая там жизнь. Ни воздуху, ни простору. Ничего, что человеку надо» [Горький 1982, 2, 57]. Но в мировой литературе существовала и другая, комплиментарная традиция создания образа города. Типичными примерами в этом плане могут служить изображения города в «Празднике, который всегда с тобой» Э. Хемингуэя, Москвы И. Шмелева, Рима Стендаля, Лондона И. Эренбурга. Если Горький видел в Нью-Йорке символ порабощения человека, то Г. Мачтет и Шолом-Алейхан – напротив, видели в нем символ свободы Нового света, находили теплые тона для его изображения. Также противоречив образ Парижа. Эту противоречивость с большой художественной силой выразили Г. Миллер и Э. Хемингуэй. В художественном эссе «Тропик рака» Миллер создал образ «своего» Парижа. По своим жанровым особенностям, «Тропик Рака» близок мемуарам Хемингуэя, но никак не по принципу изображения. Если Париж Хемингуэя гуманистичен, то Париж Миллера – деструктивен, дегуманизирован. В его образе отчетливо просматриваются приемы, характерные для модернистского восприятия действительности. Миллеровский Париж это и «мочевой пузырь», 264 и «сифилитичные русалки» Сены, и «выгребная яма мира», и «склеп», полный «окровавленных свертков мяса и костей», это и «рак, который растет внутри вас, и будет расти, пока не сожрет вас совсем». Но Миллер любит «свой» Париж, любит странной, больной, но всепоглощающей любовью. В миллеровском Париже даже нищие «самые грязные и самые гордые». «А когда в Париж приходит весна, даже самый жалкий из его обитателей должен чувствовать, что он живет в раю», – восклицает писатель [Миллер 1992, 304]. Парижский текст Миллера очень близок нью-йоркскому тексту. Только он еще более мрачен, еще более наполнен мизантропией. Миллер ходит по Нью-Йорку и видит в домах, улицах и площадях лишь холод смерти. Прохожие – сплошь мертвецы. От улиц и домов исходит вонь. Они напоминают ему «белые тюрьмы». Миллер, как и Горький, сравнивает НьюЙорк с желудком. Улицы напоминают ему о смерти Христа, люди – насекомых. Он вполне отдает себе отчет, что он несправедлив к городу, который «воспел Уитмен», но ничего не может с собой поделать. При виде этого города его одолевает «дикая злоба». Но видя в Нью-Йорке самое худшее и низменное, Миллер и себя считает опустившимся человеком. И самому себе он не находит лучших слов. В литературе этот прием называется «саморазоблачением» (self-disclosure). Тот же прием действует при изображении и других городов, например, Дижона. Но оформление текста совершенно меняется при изображении сельской местности США в эссе «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха», когда Миллер описывает небольшой городок в Калифорнии. Текст лишается того эмоционального надрыва, который присущ романам «Тропик Рака» и «Тропик Козерога». Он становится спокойным, ровным, лишенным негатива. ХХ век явил миру расцвет лирического романа. При лирическом принципе изображения действительности реальный мир пропускается сквозь призму сознания героя. Читатель видит события и реальный мир не со стороны, не глазами всезнающего и всевидящего автора, а глазами лирического героя, который часто выступает alter ego писателя. Внешняя 265 реальность при этом становится средством отражения внутренней жизни главного персонажа, устами которого говорит сам автор. Внешний мир служит средством самораскрытия характера персонажа. Одними из первых принципы лирического отражения действительности в своем творчестве применили мастера американской литературы – Э. Хемингуэй и С. Фицджеральд. Этот прием положен в основу «городского романа» «Праздник, который всегда с тобой», где действуют два главных героя – Париж и Хемингуэй. Именно Хемингуэй открыл Париж советскому читателю. Это был прорыв в иной мир, в сказку, свободную от кликушеских лозунгов советской пропаганды. Последователем Хемингуэя в вопросе оформления текста стал Виктор Некрасов. Когда Некрасову представилась возможность увидеть Париж, он бродил по нему вместе с Хемингуэем, нет, не реальным Хемингуэем, но автором знаменитой книги о Париже. Хемингуэй мастер детали, бытовой подробности, но именно эти, на первый взгляд незначительные нюансы придают его прозе особый колорит. Виктор Некрасов по-хеминугэевски смакует детали. Вслед за Хемингуэем он скрупулезно описывает маршруты свои и своего американского кумира. С особым удовольствием вместе с Хемингуэем, Некрасов обходит парижские рестораны и кафе. Он настолько достоверно описывает свою воображаемую встречу с Хемингуэем в ресторане «Мишо», что она приобретает черты реальности. Хемингуэй ждет там своего друга-соперника Скотта Фицджеральда. Но он не гнушается общения с русским писателем. Они пьют «приличный коньяк» «финн-а-ло» и закусывают говяжьим турндо – филе, завернутым в форме рулета. Кажется, не только Хемингуэю нравится звучание изысканных французских блюд. В любви к гастрономическим изыскам от него не отстает и Виктор Некрасов. Некрасова всегда поражала способность Хемингуэя на долгие годы запомнить все, что он ел и пил во французских ресторанах и потом вставить в свои произведения. «Потом мы едим турндо, действительно отличное, говорим о Джойсе, который тоже тут часто бывает, и о слабостях Фицджеральда Скотта, который вот-вот должен прийти» [Некрасов 1991, 214]. 266 Несмотря на вымышленность воображаемой картины, парижский текст у Некрасова абсолютно хемингуэевский. Некрасов был влюблен в Хемингуэя и подражал ему во всем, особенно в описаниях Парижа. «Перечитайте хемингуэевскую «Фиесту» или хотя бы тот же «Праздник, который всегда с тобой», и вы увидите, с каким наслаждением он просто перечисляет улицы, по которым ходил» [там же, 213], – говорит Некрасов и воспроизводит хемингуэевский текст. Но отрешимся от разговора двух писателей и перейдем к другому автору, так любившему городскую жизнь – Фицджеральду. Фицджеральд много писал о Париже, но особенно – о Нью-Йорке. НьюЙорк у него холодный и мрачный в «Великом Гэтсби», обманчивопривлекательный в новелле «Первое мая» и сборнике эссе «Крушение». Но каким бы ни изображал его Фицджеральд, это – «Великий город». Возьмем одно из самых выразительных изображений Нью-Йорка, выполненное в стиле отчуждения: «Уэст-Эгг я до сих пор вижу во сне. Это не сон, а скорее фантастическое видение в духе Эль Греко: сотни домов банальной и в то же время причудливой архитектуры, сгорбившихся под хмурым, низко нависшим небом, в котором плывет тусклая луна; а на переднем плане четверо мрачных мужчин во фраках несут носилки, на которых лежит женщина в белом вечернем платье. Она пьяна. Ее рука свесилась с носилок, и на пальцах холодным огнем сверкают бриллианты. В сосредоточенном безмолвии мужчины сворачивают к дому – это не тот, что им нужен. Но никто не знает имени женщины, и никто не стремится узнать» [Фицджеральд 1996, 219]. Как это ни покажется странным, самые оптимистичные, положительные описания Нью-Йорка мы находим у русских и советских писателей. Вот, к примеру, описание Нью-Йорка из одноименного рассказа Г. Мачтета, который в конце XIX века отправился в США, веря в свободную, демократическую Америку: «Описывать подробно Нью-Йорк я не буду, ни его широких улиц и проспектов, ни роскошных магазинов, ни дворцов, церквей, скверов и прочее… Скажу только, что впечатление, какое он производит на приезжего человека, никогда не изгладится. Никогда не забудешь ни синей воды 267 омывающего его океана; ни леса мачт на пристани и дымящихся труб пароходов; ни его стройных, красивых, подчас грандиозных построек, которым могли бы позавидовать и Париж, и Лондон; ни той кипучей, сильной жизни, которая не прекращается на его улицах» [Мачтет 1958, 64]. Теплое, гуманистическое изображение Америки вообще и Нью-Йорка в частности мы находим в произведениях Короленко, Ильфа и Петрова, Катаева, В. Некрасова и ряда других русских писателей. Что касается других городов, то их текст целиком зависит от точки зрения авторов, от того, какую задачу выполняет тот или иной писатель. Изображение Москвы и Петербурга, например, их литературный текст диаметрально противоположен у Пушкина и Белого, у Ямпольского и Шмелева. Но это вовсе не значит, что писатели не любят названные города, просто у них разное художественное видение, различные культурно-лингвистические концепции. 268 Выводы по главе IV 1) Среди книг о городе в западноевропейской литературе выделяются произведения, в которых изображен Париж. Ему посвещены романы крупнейших французских писателей - Гюго, Бальзака, Золя, Дюма. 2) Париж находится в центре внимания и писателей-иностранцев – Хемингуэя, Фицджеральда, Ремарка. Все они изображают Париж с гуманистических позиций, с большой теплотой и любовью. 3) Особняком в этом ряду почитателей Парижа стоит американский писатель Г. Миллер, который, исходя из своего имагологического видения, изображает Париж амбивалентно, но не с такой ненавистью как Нью-Йорк. 4) Прослеживая историю Парижа, мы прослеживаем историю всей Франции. 5) Изображения городов в творчестве Ж.П. Сартра и Г. Миллера типологически схожи. И тот, и другой изображают города в дегуманизированном стиле. 6) Основатель модернизма Д. Джойс изображает Дублин как мозаику. Джойс является «изобретателем» хронотопа, который стал одним из основных приемов изображения не только в мировой, но и русской литературе. 7) «Путешествие» - одна из древнейших форм культуры и литературы. Первым образцом «путешествия» можно считать «Одиссею» Гомера. Постепенно в «путешествиях» оформляется концепция национальной самобытности. Сравнивая «чужое» и «свое», чужбину и родину «путешественник» учился выделять общее и особенное, лучшее и худшее в чужой стране, в «своем» и в «ином» народе. Постепенно из «путешествий» вырастает травелог – особая форма путевых очерков с характерным для него героем-рассказчиком, окрашенный «чувствами». культурологическая основа города, страны, народа. 269 Травелог – 8) Город выступает в нескольких ипостасях как архитектурный объект, как социокультурный феномен, как географический центр. Как социокультурное образование и т.д. И еще город выступает как текст, причем как текстопорождающий, так и собственно текст, т.е. литература о городе. При этом литература о городе может быть специализированной, документальной или художественной. Литература напрямую связана с вымыслом. Таким образом, за каждым литературным изображением города скрывается его вымышленный образ. Причем этот образ может быть как гуманистическим, так и дегуманизированным, отчужденным. Это целиком зависит от замысла автора, его авторской позиции и художественной задачи, а не от личного восприятия писателя. 9) Культурологической основой образа города является травелог. В нем зримо воплотились не только черты отдельного города, но и страны, национального характера народа, его быта, обычаев и привычек, его образа жизни. Травелог играет немалую роль в русской и мировой литературе. Он, отталкиваясь от «Одиссеи» Гомера, восходит к «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна. Что касается непосредственно русской литературы, то одним из первых русских травелогов можно считать «Письма из Франции» Д.И. Фонвизина. Письма эти наполнены духом Просвещения. В них мало говорится о достопримечательностях французских и немецких городов, но в них много наблюдений и размышлений над важнейшими сторонами жизни государств и народов. В них сквозит русский патриотизм. Но в травелоге имеется немало зарисовок и жизненных наблюдений над городской жизнью. Писатель обращается к русской молодежи с наставлением, говоря, что тем, кто критикует русские порядки, надлежало бы съездить заграницу, для того чтобы убедиться, что там далеко не все так хорошо, как представляется со стороны. Травелог Фонвизина, казалось бы, состоящий из частных писем, открывает дорогу к знаменитым «Письмам русского путешественника» Н.М. Карамзина – выдающемуся произведению русской литературы. 270 Заключение Диссертационное исследование основывается на двух теориях. Первая базируется на том, что город является объективной реальностью и его образ объективен сам по себе. Этот факт подтверждается работами писателей публицистического А. Хорном, направления В.А. Гиляровским. – Вторая В.Л. Глазычевым, определяется П. Акройдом, имагологическим подходом, включающим авторское видение города, такими писателями, как М. Горький, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.Н. Толстой, А. Белый, Ф.С. Фицджеральд, Э. Хемингуэй, Э. Золя, Г. Миллер, Э.М. Ремарк и т.д. И в том, и в другом случае мы освещаем культурологический аспект города как наиболее полный и универсальный. Город возник вместе с потребительским обществом, когда человек перестал довольствоваться необходимым и стал приобретать излишнее. Человек, владеющий каким-либо имуществом, должен был защитить себя и свое достояние от посягательства внешнего врага. Таким образом, основная функция города была защитительной. Постепенно вокруг города стало складываться предместье, состоящее из сельских жителей, которые всегда могли укрыться от врага за крепкими крепостными стенами, окружающими город. Непременной частью города был рынок, куда горожане и сельские жители свозили излишки своей продукции. Вначале город нес сугубо положительную функцию. Он защищал, в нем было гораздо спокойнее и безопаснее жить, он давал возможность жителям, и не только горожанам, сбывать свою продукцию. Демократия – власть народа – зародилась как раз в городах. С течением времени в городах стала формироваться городская среда, свой образ жизни, отличающийся от жизни сельских жителей. Отличительной особенностью городского уклада стало обилие свободного времени, что привело к расцвету науки и искусств, а в целом культуры. Но, постепенно, город стал проявлять и негативные черты. Распад семейных и дружеских 271 связей, растущее отчуждение людей, поклонение «золотому тельцу» – стали характерными чертами для больших и, в определенной степени, малых городов. Трагедия «маленького человека» в большом городе стала неотъемлемой частью мировой литературы. Город всегда привлекал внимание мыслителей, писателей и поэтов. Аристотель и Платон были первыми исследователями городской среды. Позднее о городе писали Т. Мор и Т. Кампанелла. Интересно отметить, что в эпоху Ренессанса люди задумались об «идеальном городе», и их утопические идеи воплотились в книгах мудрейших из них. К сожалению, с течением времени город стал связываться с мрачными прогнозами. Его образ постепенно стал приобретать негативные, апокалиптические черты. Сложились два подхода к изображению города – гуманистический и дегуманизированный, отчужденный. Если при первом мир видится художнику светлым, с преобладанием теплых тонов, радостным и оптимистичным, то при втором – мрачным, холодным и враждебным. Первый подход мы встречаем у писателей, восприятие которых пронизано духом оптимизма, уверенностью в будущем. Второй появился в конце XIX – начале XX века, когда человечество начало терять свой оптимизм, а отдельный человек стал погружаться в самоизоляцию, одиночество, мрачное уныние. В 1895 году бельгийский поэт Эмиль Верхарн выпустил поэтический сборник «Города-спруты», в котором нарисовал зловещую картину европейских городов, которые, как щупальца спрута, обволакивают человека и утаскивают его в бездну. Приблизительно в это же время русский писатель Андрей Белый заканчивает первое издание романа «Петербург», в котором перед читателем восстает отталкивающий образ одного из самых прекрасных городов мира – Северной Венеции. Следует сказать, что тема «маленького человека в большом городе» волновала русских художников слова еще со времен Пушкина и Гоголя. Судьбы Евгения и Акакия Акакиевича в чем-то удивительно схожи. Их трагедия происходит на улицах Петербурга, в общем-то, безопасного 272 европейского города, но таящего под блестящей оболочкой скрытые угрозы. Как ни парадоксально, но в нашей отечественной литературе сложился скорее негативный, чем позитивный образ города. И это касается не одного Петербурга. Никто не воспел Санкт-Петербург с такой поэтичностью, с таким вдохновением, как Пушкин. Но и он первым показал, как губит все надежды и чаяния молодого человека это «Петра творенье». То же происходит и с Москвой. Этот красивейший город Земли в произведениях писателей превращается в зловещую старуху, в скопище самых зловредных сил, в обитель страха. Такой образ мы видим в романах Белого, Булгакова, Алексея Толстого, Ямпольского. Только в произведениях Ивана Шмелева мы наблюдаем радостный, оптимистический образ Москвы. Нечто подобное происходит и с другими городами-мегаполисами. Особенно с Нью- Йорком. В романах Генри Миллера этот город особенно отвратителен. Дегуманизированный образ Нью-Йорка мы впервые встречаем в памфлете Максима Горького «Город Желтого Дьявола» (1906). Этот образ положил начало стилю отчуждения, который столь успешно применяли многие ведущие писатели современности. Отчужденный образ города возник вовсе не от антиамериканизма Горького. Письма писателя свидетельствуют как раз об обратном, а от того, что Горький создавал в то время роман «Мать» - образчик социалистического реализма. Создавая образ самого «капиталистического» города Америки великий пролетарский писатель искал пути «отчуждения» человека от капиталистического строя и в образе НьюЙорка гениально выразил свои художественные находки. Так описание «рабочей слободки» и «города желтого дьявола» стилистически и образно очень схожи. Трудно сказать, знакомы ли были с творчеством Горького американские писатели Ф.С. Фицджеральд, Д. Дос Пассос и Г. Миллер (хотя они могли познакомиться с «мягким» вариантом «Города Желтого Дьявола» – «Городом 273 Мамоны» на английском языке в журнале «Эппэлтон»), но в их произведениях также присутствует отчужденный образ Нью-Йорка. В романе «Великий Гэтсби» Фицджеральд сравнивает Нью-Йорк первоначально с «зеленым лоном нового мира», открывшимся перед взором голландских моряков, а затем с «Долиной шлака», в которой копошатся маленькие человечки, сделанные из угольной пыли. Наиболее угрюмый образ города представлен в сцене с пьяной женщиной в бриллиантах, лежащей на носилках. Нью-Йорк – город, где разбиваются иллюзии и ломаются людские судьбы. Эту тему продолжает и Дос Пассос. И у него «город больших возможностей» превращается в ловушку для человека. Его роман «Манхэттен» раскрывает обман и призрачные надежды его жителей. Как синий океан издали кажется прозрачным и красивым, а вблизи весь покрыт апельсиновыми корками и ящиками, так и город привлекает и обманывает своих обитателей запахом хереса и дорогих сигар, а на деле оборачивается затхлой вонью дешевых китайских прачечных и смрадом гниющих отбросов. Почему же цветущий город превращается в Долину шлака и кучу отбросов? Ведь до Великой депрессии еще далеко, и эпоха джаза в самом расцвете. Дело в том, что писатели обостренно чувствовали атмосферу тревоги, охватывающую этот еще вполне благополучный мир. Еще в конце XIX века столпы американизма объявили об избранности американского общества. Этот постулат соответствовал теории «Града на холме», укладывался в концепцию отцов-основателей пуритан, в заявление Джона Уинтропа, сделанного на борту «Арабеллы» о том, что весь мир будет взирать на Новый Свет с верой и надеждой и стремиться туда, чтобы обрести новый Эдем. Была разработана теория «исключительности», согласно которой Новый Свет лишен пороков Старого, в нем нет и не может быть несчастных и страдающих, Новый Свет составляют лишь счастливые люди, с оптимизмом смотрящие в будущее. Американские города – счастливые города, а НьюЙорк – самый счастливый город из счастливейших. 274 Стиль отчуждения, к которому прибегает Фицджеральд в ряде своих произведений, говорит об утрате иллюзий, которые столь свойственны молодости. У Фицджеральда эта утрата особенно зримо проявляется в образе Нью-Йорка и других городов Америки и судьбе людей, связавших с ними жизнь. Наряду с романом «Великий Гэтсби», повестью «Первое мая» отчужденный образ Нью-Йорка особенно ярко представлен в сборнике эссе «Крушение». Но если в «Отзвуках века джаза» до предела звучат нотки пессимизма и упадничества, то «Мой невозвратный город» напоминает «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя, наполненный легкой грустью о невозвратном прошлом. Это рассказ о Нью-Йорке, которого нет и никогда не будет. И все же писатель полюбил этот «невозвратимый город». Полюбил со всей его безалаберностью и строгостью, со всем безрассудством молодости и умудренностью зрелых лет. Фицджеральд покидал Нью-Йорк и возвращался туда. И с каждым разом он становился для него родней и ближе. В творчестве Фицджеральда образ Нью-Йорка отличается двойственностью, амбивалентностью. В изображении этого города как нигде проявилось «двойное видение» (double vision) писателя, принесшее ему мировую славу. В отличие от Фицджеральда, который приезжал в Нью-Йорк время от времени, Генри Миллер родился в этом городе. Вначале Нью-Йорк нравился будущему писателю. Он любил бродить по его улицам и складывать впечатления «на дно памяти». В 1930 году он уезжает из Нью-Йорка в Париж, где и пишет свою знаменитую трилогию – «Тропик Рака» (1931), «Черная весна» (1935) и «Тропик Козерога» (1939). В ней опять же предстает образ городов. Если «Тропик Рака» посвящен Парижу, то «Тропик Козерога» – Нью-Йорку. Если Париж нравится Миллеру «местами», то Нью-Йорк ненавистен писателю тотально. Так же как и вся Америка. Но и себя он любит не больше. Автор ощущает себя единственным бунтарем в этой стране иллюзорного счастья, богатства и преуспеяния, который жаждет увидеть Америку поверженной в прах. Генри Миллер начинает свой душевный стриптиз, выворачивая себя наизнанку. В своем саморазоблачении (self275 disclosure) он не знает чувства меры. Миллер стремится до предела развенчать человека, доказать, что тот не способен на возвышенные чувства, что эгоизм – единственное чувство, которое движет его душой и его поступками. Миллер противен сам себе, и он хочет внушить чувство омерзения и всему обществу. Что это? Очередной эпатаж, маска, за которой скрывается боль за все человечество? Или такова действительная позиция писателя? Вопрос остается без ответа… Еще один образ Нью-Йорка мы обнаруживаем в творчестве Д. Дос Пассоса. Джон Дос Пассос вошел в американскую литературу как художник с полным набором самых разнообразных качеств – экспериментатор, символист, модернист, коммунист, революционер, близкий друг Советского Союза. Настолько близкий, что в журнале «Знамя» в двух номерах за 1933 год был помещен материал дискуссии «Советская литература и Дос Пассос», в которой с жаром приняли участие ведущие советские литераторы и партийные функционеры от искусства. 1925 год был очень плодотворным для американской литературы. В этот год мир увидел три великих романа, посвященных Америке: «Американскую трагедию» Теодора Драйзера, «Великого Гэтсби» Скотта Фицджеральда и «Манхэттен» Джона Дос Пассоса. Все они по-своему рассказали о своей стране и времени, в котором они жили. Но вывод, к которому пришли писатели, был один: в великой стране, в стране «больших возможностей», в стране «великой Американской мечты» счастье – очень редкая вещь, и счастливые люди не меньшая редкость. Все три романа повествуют о судьбе героев в американских городах: «Американская трагедия» – в глубинке, «Великий Гэтсби» – на окраине НьюЙорка Лонг Айленде, «Манхэттен» – в деловой части Нью-Йорка, в его сердце. «Манхэттен» – обманный город. Он привлекает и губит. Привлекает своим динамизмом, своими кажущимися возможностями, своей атмосферой свободы. Но это город для избранных. Он губит тех, кто поверил его 276 иллюзиям, его «большим возможностям». Многие стремятся уехать из НьюЙорка, подальше от его небоскребов и дышащих вонью улиц. Некоторым это удается, некоторым – нет. Дос Пассос создает удивительно насыщенный, калейдоскопический образ «большого города». И несмотря на то, что роман не понравился некоторым писателям, в частности Э. Синклеру, «Манхэттен» явился новым словом в американской литературе. Кинематографические находки были ярки и оригинальны и нашли продолжение в его последующем творчестве: киноглаз, камера-обскура, монтаж. Именно экспериментальная форма романов Дос Пассоса и вызвала творческую дискуссию в СССР. Гораздо привлекательнее культурологический образ Парижа. Париж – город, о котором написано больше, чем о любом другом городе мира. О Париже писали Хемингуэй и Виктор Некрасов, Бальзак и Генри Миллер, Илья Эренбург и Алексей Толстой, Виктор Гюго и Эрих Мария Ремарк. Этот город стал родным и узнаваемым даже для тех, кто никогда его не видел. Париж – живое существо, наделенное душой. Он, то холоден и мрачен, как в творчестве Генри Миллера, то радостен и приветлив, как у Эрнеста Хемингуэя, то притягателен и обманчив, как у Оноре де Бальзака, то радушен и привлекателен, как у Александра Дюма. Конечно, больше всего Париж изображали французские писатели. По их произведениям можно проследить всю историю Парижа и его жителей, историю всей Франции. Парижская тема присутствует практически у всех писателей, даже тогда, когда сам Париж в них отсутствует. Так было с романом Г. Флобера «Госпожа Бовари». Париж является героем произведения, ибо он присутствует в мечтах Эммы Бовари, являясь незримым действующим лицом книги. Парижская тема тесно переплетается с темой урбанистической. Эта тема стала особенно актуальна в литературе XIX века, когда в нее вошла тема буржуазии. Невозможно рассказывать о взаимоотношениях людей, об условиях их жизни, не затрагивая тему города, не передавая его дух, 277 атмосферу, тех тончайших связей, соединяющих его жителей с городом. Город становится живым существом, которое влияет на живущих в нем людей, выделяя в них лучшее и худшее. Прослеживая историю Парижа, мы прослеживаем не только историю города, но и историю жизни людей, историю их взаимоотношений, историю их мировосприятия. XIX век – век расцвета буржуазных отношений, век становления буржуазии, век массового переселения крестьян в город. Это и век развития капиталистических отношений, век усиления эксплуатации «маленького человека» со стороны «сильных мира сего». Этот век породил литературу критического реализма, направленную на разоблачение хищнических отношений между людьми. Но это и век сильных личностей, амбициозных честолюбцев, единственной целью которых было завоевать свое место под солнцем, пробиться в круг избранных. Это и век наступления «третьего сословия». Необходимо проследить, как все эти процессы отразила мировая и французская литература, и как они отражаются в образе Парижа. История Парижа начинается, наверное, с романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Именно в нем мы находим описание древнего Парижа. Для писателей XIX века характерно подробное, детальное изображение реального мира, будь то природа или город. Поэтому Гюго тщательно рисует Париж, до мельчайших подробностей изображая все уголки этого великого города. Теперь перенесемся через полтора века и взглянем на Париж апреля 1625 года в романе А. Дюма-отца «Три мушкетера». Мы не находим там масштабной панорамы, как в «Соборе Парижской Богоматери», но, тем не менее, вполне представляем этот город, во всяком случае, места, связанные с жизнью его героев. А сейчас обратимся к роману Э. Золя «Чрево Парижа». В этом романе также присутствует Париж, его Центральный рынок. Но его изображение в корне отличается и от мрачного изображения Гюго, и от радостного и немного 278 легкомысленного изображения Дюма. Золя – писатель-реалист, вернее натуралист. И хотя «натурализм» Золя ничего общего не имеет с натурализмом У. Берроуза или Г. Миллера, для читателей XIX века он казался шокирующим. Золя не случайно выбрал своей темой Центральный рынок – «Чрево Парижа», ибо главными действующими лицами романа являются «разжиревшие лавочники», тот класс, который писатель ненавидит и презирает. Париж Золя наполнен чувственными ароматами. Взор читателя отдыхает то на грудах овощей и фруктов, то на развалах морской рыбы и морепродуктов, то на красочном изобилии колбас и мясных изделий, то на прелестях «прекрасной Нормандки», которая своими изобильными телесами подчеркивает всю роскошь парижского рынка. Кажется, зачем повторять описание мясной лавки: ведь все это мы уже видели? Но писатель снова и снова скрупулезно создает ее облик. На этом фоне мы ощутимо понимаем всю противоестественность появления отощавшего от голода главного героя в этом чуждом ему царстве изобилия. Драма Флорана разыгрывается на фоне Парижа, который губит наивные души, не оказывая им никакого снисхождения. Эмма Бовари живет в провинциальном городке, никогда не была в Париже, но и она не избежала печальной участи. Париж манит ее. Она думает, что там ее ждет «настоящая жизнь», жизнь, лишенная деревенской скуки, там сбудутся все ее ожидания и мечты. Гюстав Флобер, как и Эмиль Золя, был приверженцем «вещности». Прием «вещности» играл очень большую роль в творчестве обоих писателей. Обыгрывание детали, создание калейдоскопа «вещей» и занимают в их творчестве немалое место. Вещность создает в их произведениях особую атмосферу правдивости изображения, являясь важным средством характеристики героев. Таким образом, мы видим, что многие великие французские писатели внесли свою лепту в описание Парижа. Именно благодаря их бессмертным произведениям, столица Франции стала литературной Меккой для многих 279 писателей всего мира, а читатели приобрели еще одну возможность лицезреть Париж во всем его многообразии и непредсказуемости. А как изображают Париж иностранцы? В частности американские писателя Э. Хемингуэй и Ф.С. Фицджеральд? Хемингуэй воспринимает Париж «как праздник, который всегда с тобой». Именно так он назвал свои мемуары, посвященные этому городу. Американский писатель рисует Париж конца 20-х годов ХХ века. Хемингуэй в то время был молод и беден. События, описанные в романе-мемуарах, разделяют почти сорок лет. Сквозь призму времени писатель оглядывается назад и вспоминает то впечатление, которое произвела на него французская столица. Это, пожалуй, самое поэтическое изображение Парижа во всей американской литературе. И хотя в Париже он часто голодал, его воспоминания окрашены светлыми тонами. Он вспоминает людей, с которыми встречался, друзей, с которыми проводил время, кабачки и рестораны, которые посещал, улицы, по которым ходил. Достаточно много внимания Хемингуэй уделяет парижской погоде, возможно потому, что у него в то время не было подходящей одежды. Но чтобы он ни вспоминал, это звучит тепло и радостно. Его воспоминания наполнены огромной любовью к Парижу. Наверное, никто не выразил симпатию к этому городу так проникновенно и образно, как выразил ее иностранец, у которого с Парижем связаны лучшие воспоминания. Эти воспоминания так ностальгически овеяны легкой грустью, потому что писатель был там молод и все будущие испытания казались ему нипочем. А как изображает Париж Скотт Фицджеральд? Откроем его рассказ «Возвращение в Вавилон». Это уже не тот Париж, радостный и светлый, полный богатых американцев, готовых купить «Клозери де Лила» и переделать его в американский бар. Рассказ, вернее новелла, полон духа безысходности и упадка. От мажорного духа 20 -х годов не осталась и следа. Праздник кончился. Наступили серые, безрадостные будни Великой депрессии. 280 Таким образом, мы видим, какое противоречивое впечатление произвел Париж на двух известных американских писателей, хотя общая тональность обоих повествований положительная. Во многом благодаря перу этих мастеров слова, образ Парижа остается одним из самых привлекательных и запоминающихся в мировой литературе. А теперь посмотрим, как изображает Париж еще один иностранец – Э.М. Ремарк. Его изображение Парижа близко к стилю отчуждения. Но в романе «Триумфальная арка» писатель отчуждает город не от буржуазного общества, а от «коричневой чумы», изображая Париж перед фашистской агрессией. Главный герой романа немецкий эмигрант Равик, бывший главный врач крупной берлинской клиники, вынужден скрываться в Париже от фашистов. В романе нет пространных описаний Парижа. Все импрессионистично. Мы попадаем вместе с героями романа в один кабачок за другим, в очередной отель, в публичный дом, в хирургическую клинику. Ремарк лучше всего знает кабачки и отели. Да это и неудивительно. Он сам бежал из Германии сначала во Францию, затем переехал в США, позднее обосновался в Швейцарии. Но атмосферу Парижа он передает с чрезвычайным искусством. Париж – город, где можно оставаться одиноким и в то же время не чувствовать одиночества. Настолько город захватывает тебя. Только в Париже никто не удивляется тому, что ты уходишь один, а возвращаешься вдвоем. Даже завтрак не надо заказывать на двоих, его и так принесут. Эта особая атмосфера любви обволакивает человека, заставляя его избавляться от самых черных мыслей. И если вначале женщина боится «города за окном», то ее страх исчезает, когда наутро она обнаруживает перед дверью номера «завтрак на двоих». «Ведь мы в Париже», – говорит ей Равик. И вот в такую «волшебную» атмосферу вторгается война. Вот перед нами та же площадь Согласия, но метаморфозы разительны. Это уже не та площадь, что величественно проплывала перед взором героев Фицджеральда, а мертвый труп, готовый быть попранным ногой фашистов. 281 Так гибнет Париж, воспетый сотнями поэтов и писателей. И пусть попрежнему работают кабачки и бистро, кафе и рестораны, по улицам попрежнему фланируют проститутки, но жизнь ушла из этого города. Тьма все же победила свет… Но миновали мрачные времена, кончилась война, и над Парижем вновь засияло солнце. Мы видим обновленный мирный город в романе Р. Элли «Последнее танго в Париже». Мы проследили историю восприятия Парижа писателями XIX-XX веков. Культурологическую ауру Парижа трудно отделить от литературной. Весь облик Парижа влиял на писателей, вызывая их восхищение или отторжение. А теперь рассмотрим восприятие художниками слова других городов-мегаполисов… «Если город исчезнет с лица земли, его можно будет восстановить по моей книге», – заявил о своем романе «Улисс» один из самых заметных писателей, основоположник модернизма Д. Джойс. «Улисс» не только гениальный роман о современном Одиссее-Улиссе – Леопольде Блуме. Это роман о городе и горожанах – о Дублине и дублинцах. С самого начала Джойс очень кропотливо изучает Дублин: рисует схемы города, цветными карандашами прокладывает маршруты передвижения персонажей, отмечает все заметные места города и все его достопримечательности, проводит пути движения трамваев и т.д. Настольной книгой Джойса становится справочник «Весь Дублин на 1904 год». Писатель неуклонно и методично заполняет роман «уличной фурнитурой», как говорил сам Джойс. Наконец, он точно выбирает время действия – 16 июня 1904 года. Это время первой встречи Джойса с его будущей женой Норой. Этот хронотоп – совмещение времени и пространства – стал ведущим приемом всей мировой литературы. Джойс прибегает к моделированию мира, к концентрации событий в ограниченном временном и географическом пространстве. Все похождения Блума вместились в один день вместо двадцати лет странствий Одиссея. Поистине, для мировой литературы это стало 282 эпохальным событием. Вслед за Джойсом крупнейшие писатели разных стран стали прибегать к этому поэтическому приему. Целые исторические эпохи, судьбы людей и стран вместились в маленькую точку на географической карте, величиной с почтовую марку, как сказал о своем вымышленном округе Йокнопатофа У. Фолкнер. Точно так же Дублин для Джойса, Прага для Кафки, Макондо для Маркеса, хутор Татарский для Шолохова, полустанок Буранный для Айтматова, Киев и Москва для Булгакова, Уайнсбург для Шервуда Андерсона, Зенит для Льюиса, Гиббсвил для О’Хары стали «собственным космосом романиста». Вся Ойкумена сконцентрировалась, сжалась до предела во временном и пространственном отрезке. Многие выдающиеся писатели подчеркивали значимость и знаковость хронотопа даже номинативно – заглавием: «День восьмой» Т. Уайлдера, «Один день Ивана Денисовича» А.И. Солженицына, «И дольше века длится день» Ч. Айтматова. «Гений места» – назвал свою книгу о писателях и городах, запечатленных ими, П. Вайль. И Д. Джойс – один из этих гениев места. Дублин, который является героем «Улисса» не менее чем Леопольд Блум, описан автором с любовью и ненавистью. Если внимательно читать роман, то бросается в глаза одна деталь: город нигде не изображен панорамно, так сказать, во всей красе. Мы не видим ни величественных зданий георгианской эпохи, столь характерных для Дублина, ни домов, поражающих своей архитектурой. Одни улицы. Недаром Джойс признавался, что улицы Дублина интересуют его больше, чем загадка вселенной. Но, как бы то ни было, Дублин в романе узнаваем до мельчайших подробностей. Недаром, в 1920 году Джойс обращался из итальянского Триеста к своей тете с просьбой: проверить, видны ли с моря деревья у одной из церквей Дублина? Казалось бы, какое это имеет значение? Но правда в самых мелких деталях порождает веру в правдивость всего остального, в правду всего произведения, правду изображения города и правду «потока сознания». Культурологической основой образа города является травелог. В нем зримо воплотились не только черты отдельного города, но и страны, 283 национального характера народа, его быта, обычаев и привычек, его образа жизни. Травелог играет немалую роль в русской и мировой литературе. Он, отталкиваясь от «Одиссеи» Гомера, восходит к «Сентиментальному путешествию» Л. Стерна. Что касается непосредственно русской литературы, то одним из первых русских травелогов можно считать «Письма из Франции» Д.И. Фонвизина. Письма эти наполнены духом Просвещения. В них мало говорится о достопримечательностях французских и немецких городов, но в них много наблюдений и размышлений над важнейшими сторонами жизни государств и народов. В них сквозит русский патриотизм. Но в травелоге имеется немало зарисовок и жизненных наблюдений над городской жизнью. Писатель обращается к русской молодежи с наставлением, говоря, что тем, кто критикует русские порядки, надлежало бы съездить заграницу, для того чтобы убедиться, что там далеко не все так хорошо, как представляется со стороны. Травелог Фонвизина, казалось бы, состоящий из частных писем, открывает дорогу к знаменитым «Письмам русского путешественника» Н.М. Карамзина – выдающемуся произведению русской литературы. Своеобразие и оригинальность произведения обозначены в самом заглавии. В нем значимо каждое слово: «письма» – свидетельствуют об исповедальности тона, «русского» – о национальной принадлежности, говорящей не столько об этническом характере, сколько об особом складе «русской души», «путешественника» – об образе очевидца, который воспринимает окружающий мир во всем его многообразии. В произведении ставится очень важная проблема: проблема взаимодействия России и Запада, проблема межкультурной коммуникации. Уже в эпоху Карамзина остро вставал вопрос о необходимости диалога культур, ибо изоляция России от внешнего мира была взаимоневыгодной. Запад жил, как правило, искаженными представлениями о России, а отдельные попытки обеих сторон рассказать правду о нашей стране не находили отклика как с той, так и с другой стороны. «Письма русского 284 путешественника» выполняли высокую просветительскую миссию, открывая Россию Западу, и, одновременно, знакомя Запад с Россией. Будучи русским патриотом, Карамзин умело осваивал опыт других стран и народов без ущерба для своей «русскости», без бездумного подражательства и эпигонства, с пользой для родной страны. Традицию Н.М. Карамзина продолжил И.А. Гончаров. Его «Фрегат «Паллада» – уникальный замечательный пример пример документальной беллетристики, эпистолярного и дневникового жанра. Травелог Гончарова отличается тем же аналитическим подходом к оценке внешнего мира и современной действительности, как и «Письма русского путешественника». Травелог Гончарова отличается не только своими аналитическими рассуждениями, он художественно интересен своей бытовой стихией. Писатель красочно повествует об образе жизни иных стран и народов, о нравах, обычаях и традициях, изысках кухни. Гончаров обстоятельно рассказывает нам о привычках иных народов, о том, что едят и пьют в разных странах света. Подобные бытовые подробности, так называемые «мелочи», придают произведениям особую прелесть и колорит. История русского травелога была бы неполной без имени В.П. Боткина. Незаслуженно забытая в наше время книга эпистолярных очерков «Письма об Испании» в середине XIX века являлась литературным бестселлером. Травелог Боткина примечателен не только географическими наблюдениями, но и остротой замечаний общественно-политического характера, верностью зарисовок национальных черт испанского народа. Русский писатель отстаивает национальное достоинство испанцев, опровергает расхожее мнение европейцев об Испании как отсталой стране с невежественным населением, погрязшим в предрассудках и суевериях. Эпистолярную форму для путевых эссе выбрал и М.Е. СалтыковЩедрин. К жанру путевых очерков великий русский сатирик обращался дважды: в очерке «За рубежом» и в «Письмах к тетеньке». Эти очерки 285 чрезвычайно интересны своим опытом познания «своего» через «чужое». Конечно, будучи за границей, Салтыков-Щедрин наслаждался свободой, немыслимой в царской России. Чувства сатирика были созвучны настроениям всего мыслящего русского общества, поэтому публикация очерков помогла России еще раз взглянуть на себя со стороны и осознать свое униженное положение. Но понимание своего унижения не должно превращаться в самоедство, в унижение себя как нации, как народа, не должно превращаться в смакование своих грехов и бед. Салтыков-Щедрин справедливо подметил, что негативный образ России в глазах Запада создавался во многом самими русскими, которые здоровую критику своей страны превращали в мазохистское злопыхательство. Если русские смеются над своей страной, то иностранцам и подавно найдено выставлять Россию в неприглядном свете. Пример тому русофобский травелог французского маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (1840). Книга Кюстина рассказывает нам о времени Николая I, однако мы находим вполне узнаваемые черты настоящего времени: коррупция, всевластие бюрократии, непомерная роскошь кучки нуворишей при полном пренебрежении интересами простого народа. И все же травелог Кюстина дает читателю представление о России XIX века. Кюстин дает описание городов северной и центральной России: Петербурга, Твери, Москвы, Нижнего Новгорода, подмечая их особенности, достоинства и недостатки. Описания эти довольно выразительны и живописны. Травелог Кюстина обладает несомненными познавательными достоинствами. Эта книга в полной мере открыла Россию Западу, так же как и «Письма русского путешественника» Карамзина. Несмотря на явную тенденциозность, травелог представил европейскому читателю яркий и запоминающийся образ России. Этот травелог служит источником знаний о России и русском народе и в наше время. Так, в разгар очередного витка «холодной войны» он был издан в США с предисловием тогдашнего директора ЦРУ Б. Смита как «лучшая книга 286 о Советском Союзе». В 1989 году очередное издание травелога вышло в Америке с предисловием видного ученого Д. Бурстина, который сравнил А. Кюстина с Геродотом, первым описавшим «варварскую Скифию». С тех пор акцент на «варварскую Россию» в глазах Запада не много изменился. Несмотря на все уверения в дружбе и полноправном партнерстве, определенные круги мировой закулисы видят в нашей стране потенциальную угрозу «цивилизованному миру» и в первую очередь США. Россия достаточно полно представлена в травелогах иностранных «путешественников», начиная с «Записок о московских делах» (1649) Сигизмунда Герберштейна. Советская Россия нашла отражение в травелогах Г. Уэллса «Россия во мгле», Т. Драйзера «Драйзер смотрит на Россию», Л. Фейхтвангера «Москва, 1937», А. Жида «Возвращение из СССР», М. Додд «Из окна посольства», Д. Стейнбека «Московский дневник», Р. Миллера «Русские как народ» и Х. Смита «Русские». Особняком стоят книги «американских друзей Октября» – Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир», А.Р. Вильямса «Ленин. Человек и его дело», Л. Стеффенса «Письма». В этих травелогах мало конкретных изображений городов, но много чрезвычайно метких наблюдений за русским народом и его политическими лидерами. Они скорее напоминают травелоги писателей предшествующей литературной традиции: больше изображать людей и их нравы, чем конкретную действительность. Травелоги же русских писателей, особенно в ХХ веке, больше склонны к конкретике, к изображению городов и деревень, к изображению повседневной жизни того или иного народа. Среди русских травелогов выделяются произведения А. Куприна, И. Ильфа и Е. Петрова, И. Эренбурга, В. Катаева, В. Некрасова и советских журналистов В. Осипова, В. Овчинникова. К травелогам последних лет стоит отнести блестящие зарисовки Парижа Э. Тополя и А. Стефановича, в которых великолепное описание «лучшего города земли» наслаивается на изображение 287 парижской жизни в ее восприятии русскими людьми с их своеобразным юмором. Мы рассмотрели имагологию города, культурологические образы городов-мегаполисов и поняли, что эти образы противоречивы как сама жизнь. Эти образы зависят от мировосприятия самих писателей, от их внутреннего настроя и стиля изображения. Гуманистический и дегуманизированный облик городов продиктован прежде всего личным восприятием писателя, зависит от того, какие чувства владеют им. Но даже самые мрачные его настроения не в силах победить ту живительную струю, которая пробивается из природы самого города, из природы самой жизни. А каковы «малые» города в изображении мастеров художественной литературы. Может, они в корне отличаются от своих «масштабных» собратьев? Вот перед нами роман Ж.П. Сартра «Тошнота» (1938). Роман пронизан все тем же одиночеством, все тем же отчуждением. Главный герой романа Антуан Рокантен не живет, а «существует». Причем слово «существование» становится в романе заглавным, несет сакральный смысл. Вторым знаковым словом является «тошнота». Роман написан в форме дневника «мсье Антуана». Действия в нем практически нет. Антуан не может избавиться от «тошноты». Тошнота буквально преследует героя: ему не хочется ни двигаться, ни жить, ни мыслить. В один из приступов тошноты, Антуан, глядя на корень каштана, осознает, что он всего лишь растение, что он не живет, а существует. Да все окружающие, ведут попросту растительную жизнь, все они, как и его возлюбленная Анни, «живые мертвецы», все они «лишние», как и он сам. А вот изображение города в другом романе. На этот раз американского писателя Генри Миллера. Мы уже знакомились с его изображением мегаполисов – Парижа и Нью-Йорка. Теперь, давайте, познакомимся с его изображением Дижона. Дижон разочаровывает писателя с самых первых минут знакомства с ним. Такой город могут населять «только мертвецы». При первой возможности Миллер бросает Дижон и возвращается в Париж. Хотя он 288 прекрасно понимает, что его ждет все то же бессмысленное, нелепое существование. Мы рассмотрели восприятие «малых» городов писателями- модернистами. А теперь проследим восприятие этих городов писателями реалистического направления. Возьмем роман американского писателя Д. О’Хары «Свидание в Самарре», написанный примерно в то же время, что и произведения Сартра и Миллера. Роман посвящен не столько самим «малым» городам американской глубинки, сколько нравам, царящим в, казалось бы, глухой провинции США. Эта атмосфера до предела консервативна и может быть выражена словами одного из персонажей романа: «Перед английской королевой можно предстать без чулок, перед жителями Гиббсвилла – нельзя». Тема провинциальных нравов и «лучшего общества» Гиббсвилла и Шведской Гавани находит продолжение и в другом романе О’Хары «Дело Локвудов». Роман повествует о судьбе четырех поколений семьи Локвудов и их стремлении занять достойное место среди местного истеблишмента. Но, несмотря на все их потуги, им не удается его обрести. Анализ американской литературы показывает, что жители США не достигают счастья ни в больших, ни в малых городах. Наличие больших денег – не гарантия счастья. Культурологический образ города складывается из множества компонентов. Литературный компонент является одним из важнейших, связывающий эти аспекты воедино, позволяющий представить и национальный характер, и образ жизни, и городскую среду, и «душу» города. А мастера художественной литературы – именно те «визионеры», которые проведут читателя по всем заповедным уголкам города, заставят запомнить и полюбить каждый из них, а может быть, испытать совсем другое чувство. Этому способствует имагология города, когда восприятие каждого города зависит от личностного восприятия художника слова. Таким образом, подводя итог настоящему исследованию, можно сделать следующие выводы: 289 1) Рассмотрен культурологический феномен города в русской, американской и западноевропейской литературах, и мы приходим к выводу, что каждый из этих феноменов имеет свои общие и отличительные особенности. 2) Сформулирован имагологический подход, который имеет в своей основе субъективное выражение и отражение авторской точки зрения на тот или иной город. В свою очередь, имагологический подход зависит от мировосприятия и мировоззрения художника слова, а не от личного мнения автора. 3) Рассмотрено изображение города «своей» и «другой» культурой. Автор диссертации приходит к выводу, что каждое изображение города вносит свой вклад в «диалог культур», осмысление феномена города на основе «своей» культуры, что позволяет глубже проникнуть в «другую» культуру, выявить условия, при которых «другая» культура становится «своей», подчеркнута роль травелога в этом вопросе. 4) Сформулирован дихотомический подход к созданию образа города. При дихотомическом подходе выявляется гуманистический и дегуманизированный, отчужденный принцип видения города, зависящий в первую очередь не от личного восприятия, а от художественной задачи, стоящей перед писателем. 5) Рассмотрен культурологический образ ведущих городов мира – Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Дублина. 6) Проанализированы особенности городской среды «больших» и «малых» городов и выявлены ее особенности. 7) Выявлена специфика создания образа города ведущими писателями и поэтами XIX-XX веков: в русской литературе (А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, М.А. Булгаковым, Б.С. Ямпольским А. Белым, и др.); в А.Н. Толстым, американской И.С. Шмелевым, (Ф.С. Фицджеральдом, Э. Хемингуэем, Г. Миллером, Д. О’Харой); в западноевропейской (В. Гюго, Э. Золя, А. Дюма, Э.М. Ремарком, Д. Джойсом). 290 8) Прослежена и проанализирована связь между «городом» и «цивилизацией», последней стадией культуры. Автор диссертации приходит к выводу, что, несмотря на некоторые негативные явления, нет никаких объективных причин к «закату» городов, возникновению «smart city»- «умного города». 291 а есть предпосылки к Библиография 1. Агеева Е.Ю. Город как социокультурное образование: функциональнотипологический анализ Текст.: дис. д-ра филос. наук: 24.00.01 / Е.Ю. Агеева. Н.Новгород, 2005, - 335 л. 2. Агеева Е.Ю. Город как социокультурное образование: функциональнотипологический анализ Текст.: дисс. на соиск. уч.степ. док.филос. наук/ Е.Ю. Агеева. Н.Новгород., 2006. – 355 с. 3. Академические школы в русском литературоведении. – М.: Наука, 1975. – 516 с. 4. Акройд П. Дом доктора Ди. – М.: Иностранка, БСГ Пресс, 2000. – 400 с. 5. Акройд П. Лондон: Биография / пер. с англ. В. Бабкова, Л. Мотылева. – М.: Изд-во Ольги Морозовой, 2007. – 896 с. 6. Аксаков И.С. Петербург и Москва [Электронный ресурс] / И.С. Аксаков. – Режим доступа: dugward.ru/library/aksakovy/iaksakov. 7. Алекксеев-Апраксин А.М. Буддизм в культурной жизни Петербурга Текст.: дис. Канд. Культурол. Наук: 24.00.01 / А.М.Алексеев-Апраксин. СПб., 2005, – 201 л. 8. Алексеев М.П. Русская литература и ее мировоззрение. – Л.: Наука, 1989. – 421 с. 9. Алексеев М.П. Русская литература и романский мир . – Л.: Наука, 1985. – 544 с. 10. Алексеев М.П. Сравнительное литературоведение. – Л.: Наука, 1983. – 448 с. 11. Алисов Д.А. Урбанизация и культура / Д.А.Алисов // Городская культура Сибири: история и современность : сб. науч. тр. / Сиб.фил.Рос.ин-та культурологи и др. Омск, 1997.–С.3-15. 12. Алмазов Б.А. Илья-богатырь: роман-реконструкция. – СПб.: Изд- во «Русская военная энциклопедия», 2005. – 464 с. 292 13. Американа. Англо-русский лингвострановедческий словарь / под ред. и общ. рук. проф. Г.В. Чернова. – Смоленск: Изд-во «Полиграмма», 1996. – 1185 с. 14. Американская Восприятие США в цивилизация американской, как исторический западноевропейской феномен. и русской общественной мысли / отв. ред. акад. Н.Н. Болховитинов. – М.: Наука, 2001. – 496 с. 15. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху (2030-е годы) / Г.В.Андреевский. М.: Мол. гвардия, 2003. – 573 с. – (Живая история: повседневная жизнь человека). 16. Анфицеров Н.П. Душа Петербурга; Петербург Достоевского; Быль и миф Петербурга Текст.: репринт, воспроизведение изд. 1922, 1923, 1924 гг. / Н.П. Анфицеров. М.: Книга:Канон, 1991. – 420 с. 17. Анфицеров Н.П. Москва и Петербург в жизни и творчестве Гоголя / Н.П.Анфицеров // Гоголь в школе. М., 1954. – С. 681. 18. Анциферов Н.П. «Непостижимый город…». Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина. – СПб.: Лениздат, 1993. – 335 с. 19. Анциферов Н.П. Город как выразитель сменяющихся культур. Картины и характеристики. – Л.: Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1926. – 224 с. 20. Анциферов Н.П. Пути изучения города как социального организма. Опыт комплексного подхода. – Л.: «Сеятель», 1925. – 148 с. 21. Аркин Д.Е. Град обреченный Текст. / Д.Е.Аркин // Петербург как феномен культуры : сб. ст. / РГПУ им.А.И.Герцена. СПб., 1994. – С.68-77. 22. Артановский С.Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. – Л.: Просвещение, 1967. – 316 с. 23. Аскаров Ш.Д. Регион, пространство, город. – М.: Стройиздат, 1998. – 200 с. 293 24. Ахиезер А.С. Город – фокус урбанизационного процесса // Город как социокультурное явление исторического процесса. – М.: «Наука», 1995. – С. 21-28. 25. Ахиезер А.С. Город фокус урбанизационного процесса / А.С.Ахизер // Город как социокультурное явление исторического процесса : [сб.ст.] / РАН, Науч. Совет по комплекс,пробл. «История мировой культуры». – М., 1995. – С.21-28. 26. Ахиезер А.С. Социальное пространство и человеческий фактор в свете теории урбанизации // Проблемные ситуации в развитии города. – М.: Ин-т социологии, 1988. – С. 31-45. 27. Багно В.Е. Образ Петербурга в мировой культуре ./ В.Е.Багно. – М.:Наука, 1992. - 128с. 28. Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. – М.: Радуга, 2008. – С. 306-314. 29. Бархин М.Г. Архитектура и город : пробл.развития сов.зодчества / М.Г.Бархин; АН СССР, ВНИИ искусствознания. М.: Наука, 1979. -223 с. 30. Бархин М.Г. Город. Структура и композиция . – М.: «Наука», 1986. – 262 с. 31. Бахтиаров А.Н. Чрево Москвы / А.Н.Бахтиаров // Колосья . – 1891. –№9- 11. 32. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с. 33. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986. – 543 с. 34. Безрогов Г.Г. Скандинавы и возникновение Дублина // Цивилизация Северной Европы. Средневековый город и культурное взаимодействие. – М.: «Наука», 1992. – С. 56-64. 35. Беленький И.Л. Библиография Москвы и Петербурга / И.Л.Беленький // Россия и современный мир . 1997. - №3. – С.242-253; №4. – С.222-231. 294 36. Белинский В.Г. Петербург и Москва / В.Г.Белинский // Москва- Петербург: pro et contra: Диалог культур в истории национального самосознания : антология. СПб., 2000. – С. 185-214. 37. Белинский В.Г. Петербургская литература / В.Г.Белинский // Петербург Петроград – Ленинград в русской и советской литературе . – М., 1986.-С.61. 38. Белый А. Москва. – М.: Советская Россия, 1993. – 318 с. 39. Белый А. Петербург. – Л.: Наука, 1981. – 598 с. 40. Белый А. Петербург. – М.: Республика, 1984. – 581 с. 41. Берг М. Несколько тезисов о своеобразии петербургского стиля / М.Берг // Феномен Петербурга : тр.междунар.конф., С.Петербург, 3-5 наяб. 1999 г. СПб., 2000. – С. 128. 42. Битов А. Город и идея Текст. / А.Битов // Хрестоматия по географии России. Русские столицы: Москва и Петербург . М., 1993. – С. 83. 43. Бодрийар Ж. Город и ненависть [Электронный ресурс]: лекция / Ж. Бодрийар. – Режим доступа: twirpx.com/file/229296. 44. Бодрийар Ж. Общество потребления . – М.: «Республика», 2006. – 179 с. 45. Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. – М.: Наука, 1991. – 303 с. 46. Болховитинов Н.Н. Становление русско-американских отношений, 1775-1815 . – М.: Наука, 1966. – 639 с. 47. Большие города, их общественное, политическое и экономиеское значение.: сб.ст. проф. К.Бюхера, Г.Майра, Г.Зиммеля и др. – СПб.: Просвещение, 1905. 204 с. 48. Большакова А.Ю. Образ Запада в русской литературе // Филологические науки. – 1998. – № 1. – С. 3-13. 49. Большие города как общественное, политическое и экономическое значение . – СПб., 1905. – 204 с. 50. Бон Т.М. Русская историческая наука (1880 г. 1905г.): Павел Николаевич Милюков и Московская школа / Т.М.Бон; пер.с нем. Д.Торицина. – СПб.: Олеариус Пресс, 2005. – 269 с. 295 51. Бондаренко И.А. Иерархическая структура древнерусского города // Город и искусство: субъекты социокультурного диалога. – М.: «Наука», 1996. – С. 117-122. 52. Борискова Л.Б. Петербург начала ХХ века: философско- культурологический анализ.: дис. канд.филос.наук: / Л.Б.Борискова. СПб., 2004. – 199 л. 53. Борисова Е.А. Архитерктура и город в путевых дневниках и путевых альбомах русских путешественников середины XIX века / Е.А.Борисова // Типология русского реализма второй половины XIX века . –М., 1992.-С.111 54. Борщевский М.В. и др. Город. Методологические проблемы комплексного социального и экономического проектирования. – М.: «Наука», 1986. – 204 с. 55. Брайс Д. Американская республика/ пер. с англ. Д.В. Неведомский // Юридический вестник. Ноябрь. – М.: Типография А.И. Мамонова и Ко, 1890. – 474-479 с. Браун О. Влияние городской культуры на картину мира горожан [Электронный ресурс] / О. Браун. – Режим доступа: www.flogiston.ru. 56. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV- XVIII вв. Текст.: в 3 т. / Ф.Бродель. М.: Прогресс, 1986. – Т.1: Структуры повседневности: возможное и невозможное. – 622 с. 57. Бродель Ф. Структуры повседневности / пер. с франц. Л.Е. Куббеля. – 2- е изд. – М.: «Весь мир», 2006. – 592 с. 58. Булгаков М.А. Мастер и Маргарита. – М.: Прогресс, 1987. – 387 с. 59. Буровский А.М. Петербург как географический феномен / А.М.Буровский. СПб.: Алетейя, 2003. – 280 с.- (петербургская серия) 60. Бюхер К. Большие города в их прошлом и настоящем // Большие города, их общественное, политическое и экономическое значение. – СПб., 1905. – С. 1-26. 61. Васютина Н.К. Город будущего в романе Питера Акройда «Повесть о Платоне» // Известия Уральского ун-та. – 2004. – № 33. – С. 122-128. 296 62. Вебер М. Город / пер. Б.Н. Попова. – Пг., 1923. – 136 с. 63. Вебер М. История хозяйства. Город : [пер. с нем.] / М.Вебер; Ин-т социологии РАН и др. М.: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 2001. – 574 с. – (Logica Socialis: сщциальное исследование). Серия «Публикации Центра фундаментальной социологии»). 64. Вебер М. Рост городов в XIX столетии / пер. с англ. – СПб.: Типография Кускова, 1903. – 464 с. 65. Вендина О.И. Москва и Петербург. История об истории соперничества российских столиц / О.И.Вендина // Политика . 2002. - №3(26). – С.24-27. 66. Веселовский А.Н. Западное влияние в новой русской литературе. Историко-сравнительные очерки . – М.: «Русское товарищество печатного и издательского дела», 1906. – 274 с. 67. Веселовский А.Н. Из истории литературного общения Востока и Запада. Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине . – СПб., 1872. – 17-378 с. 68. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. – 404 с. 69. Веснина Б. Питер Акройд [Электронный ресурс] / Б. Веснина. – Режим доступа: http: //fantlab.ru. 70. Взаимодействие культур СССР и США ХVIII-ХХ вв. – М.: Наука, 1987. – 254 с. 71. Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур: Материалы дискуссии, 11-15 января 1960 г. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 30 с. 72. Взаимосвязи русской и зарубежной литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stud24.ru/literature/vzaimosvyazi-russkoj-i-zarubezhnyhliteratur/498834-1935728-page4.html. 73. Взгляд в историю – взгляд в будущее. Русские и советские писатели, ученые, деятели культуры о США / сост., авт. послесл. и коммент. А.Н. Николюкин. – М.: Прогресс, 1987. – 720 с. 74. Винокур, Г.О. Биография и культура. – М.: ЛКИ, 2007. – 97 с. 297 75. Волков С. История культуры Санкт-Петербурга: с основания до наших дней / С.Волков. М.: ЭКСМО, 2004. – 670 с. 76. Волков Ю.Г., Добреньков В.И. Социология. Городская среда. Зарождение и эволюция городов [Электронный ресурс] / Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков. – Режим доступа: www.countries.ru. 77. Вологдин А. Столица и провинция Текст. / А.Вологдин // Родина [Текст]. 1989.-№3. – С.48. 78. Восприятие русской культуры на Западе. Очерки . – Л.: Наука, 1975. – 279 с. 79. Гайдар А.П. Избранное. – М.: Просвещение, 1983. – 400 с. 80. Галушина Н.С. Город как объект культурологического исследования : дисс. на соиск. уч.степ. канд.культурол. наук/ Н.С.Галушина. М., 1998. – 153 с. 81. Галушкина Н.С. Город как объект культурологического значения : автореф. дисс. … канд. культурологии / Н.С. Галушкина. – М., 1998. – 32 с. 82. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Америка в сравнении с Россией и славянством. – М.: «Раритет», 1997. – 680 с. 83. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Психо-Космо-Логос. – М.: «Прогресс», 1995. – 480 с. 84. Гачев Г.Д. Образ в русской художественной литературе Текст. / Г.Д.Гачев. –М.: Искусство, 1981.-246с. 85. Гачев Г.Д. Петербург и Россия / Г.Д.Гачев // Хрестоматия по географии России. Образы страны: Русские столицы. Москва и Петербург М., 1993, - С. 88-90. 86. Генри О. Избранное. – М.: Терра, 2000. – 608 с. 87. Генри О. Послесловие // Генри О. Избранное: в 2-х т. – М.: Прогресс, 1977. 88. География городов. – М.: «Прогресс», 1965. – 440 с. 89. Герцен А.И. Москва и Петербург / А.И. Герцен // Москва-Петербург: pro et contra: Диалог культур в истории национального самосознания : антология. СПб., 2000. – С. 177-184. 298 90. Гиляровский В.А. Москва и москвичи . – М.: Правда, 1979. – 267 с. 91. Глазычев В.Л. Город как социокультурное явление исторического процесса . – М.: «Наука», 1995. – …с. 92. Глазычев В.Л. и др. Городская среда. Технология развития. Настольная книга . – М.: «Лада», 1995. – 240 с. 93. Глазычев В.Л. Образы пространства (проблемы изучения) // Творческий процесс и проблемы восприятия. – Л.: «Наука», 1978. – С. 159-174. 94. Глазычев В.Л. Социально-экономическая интерпретация городской среды . – М.: «Наука», 1984. – 180 с. 95. Глазычева В.Л. Город России на пороге урбанизации Текст. / В.Л.Глазычева // Город как социокультурное явление исторического процесса : [сб.ст.] / РАН, Науч. совет по комплекс. пробл. «История мировой культуры». М., 1995. – С. 138-145. 96. Глушкова В.Г. Социальный портрет Москвы на пороге Xxi века Текст. / В.Г.Глушкова. М.: Мысль, 1999. – 263 с. – (Как живет столица). 97. Гоголь Н.В. Проза. Статьи . – М.: Советская Россия, 1977. – 380 с. 98. Гончаров И.А. Фрегат Паллада. – М.: Советская Россия, 1976. – 608 с. 99. Город в процессах исторических переходов : теорет. аспекты и социокульт. характеристики / [Э.В.Сайко, Т.И.Алексеева-Бескина, Г.А.Гольц и др.; отв.ред. Э.В.Сайко]; РАН, Науч.совет по истрии мировой культуры. М.: Наука, 2001. – 392 с. 100. Город и горожане в России ХХ века Текст.: материалы рос.-фр. семинара, С.-Петербург, 28-29 сент. 2000 г. / [сост. А.Д.Марголис]; Гос.музей истории С.-Петербурга и др. СПб.: контрфорс, 2011. – 127 с. 101. Город и искусство: субъекты социокультурного диалога Текст.: [сб.ст.] / РАН, науч.совет по истоии мировой культуры. М.: Наука, 1996. – 285 с. 102. Город и искусство: субъекты социокультурного диалога. – М.: «Наука», 1996. – 285 с. 103. Город и культура . – СПб., 1992. – 169 с. 299 104. Город как социокультурное явление исторического процесса. – М.: «Наука», 1995. – 351 с. 105. Города мира. – М.: «Мысль», 1965. – 223 с. 106. Городская культура: средневековье и начало нового времени. – Л.: «Наука», 1986. – 276 с. 107. Горький А.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. – М.: Гослитиздат, 1954. 108. Горький М. Собрание сочинений: в 3-х т. – М.: Прогресс, 1990. 109. Готье Т. Панорама Москвы / Т.Готье // Хрестоматия по географии России. Образ страны: Русские столицы . М., 1993. – С. 52-53. 110. Грибер Ю.А. Цветовые репрезентации социального пространства европейского города : дисс. на соиск. уч.степ. док.культурол. наук/ Спб, 2007. – 408с. 111. Григорьев Н.В. Петербург. В поисках культурного смысла Текст. / Н.В.Григорьев // Петербург как феномен культуры : сб.ст. / РГПУ им.А.И.Герцена. СПб., 1994. – С.4-9. 112. Груза Й. Теория города. – М.: Стройиздат, 1972. – 240 с. 113. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь . – М.: Мысль, 1989. – 766 с. 114. Гуревич Л.Л. Язык городского пространства // Строительство и архитектура Ленинграда. – 1974. – № 11. – С. 31-33. 115. Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства. – М.: Стройиздат, 1984. – 284 с. 116. Гюго В. Собор Парижской Богоматери. – М.: Госиздат, 1953. – 250 с. 117. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому . – СПб.: Заря, 1895. – 816 с. 118. Джеймс В. Научные основы психологии. – СПб.: Санкт-Петербургская электропечатня, 1902. – 374 с. 119. Джойс Дж. Улисс. – М.: Республика, 1993. – 325 с. 300 120. Долгий В.М., Левада Ю.А., Левинсон А.Г. Урбанизация как социокультурный процесс. Статьи по социологии / . – М.: Мысль, 1993. – 314 с. 121. Долгий В.М., Левинсон А.Г. Архаическая культура и город // Вопросы философии. – 1971. – № 5. – С. 91-102. 122. Дос Пассос Д. Манхэттен . – М.: АСТ, Астрель, 2011. – 447 с. 123. Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю.М.Лотмана / Б.Ф.Егоров. –М.:Новое лит.обозрение, 1999. 382 с. 124. Единство и национальное разнообразие в мировом литературном процессе. – Л.: Наука, 1973. – 447 с. 125. Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. Англия и англичане глазами русских, 1825-1853 . – М.: Наука, 1982. – 322 с. 126. Есаков В.А. Управление культуров в условиях мегаполиса Текст.: дис. док. культурол. наук: / В.А.Есаков. М., 2008. 127. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад . – Л.: Наука, 1979. – 495 с. 128. Забелин И.Е. История города Москвы .: репринт, воспроизведение изд. 1905 г. / И.Е Забелин. М.: Столица, 1990. – 651 с. 129. Замятин Е. Москва и Петербург Текст. // Москва Петербург: pro et contra: Диалог культур в истории национального самосознания : сб.ст. / РГПУ им.А.И.Герцена. СПб., 1994. – С.108-111. 130. Засурский Я.Н. Американская литература XX века. Некоторые аспекты литературного процесса. – М.: МГУ, 1984. – 440 с. 131. Засурский Я.Н. Развитие американской новеллы. О. Генри // История литературы США. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – С. 125-131. 132. Зашихин А.Н. Глядя из Лондона. Россия в общественной мысли Британии . – Архангельск: Изд-во Поморского межд. пед. ун-та, 1994. – 208 с. 133. Зенкевич М. Москва новая Текст. / М.Зенкевич // Заветное преданье поколений : Москва в рус.поэзии. М., 1997. – С.335. 134. Золя, Э. Чрево Парижа. – М.: Азбука-классика, 2010. – 416 с. 301 135. Иванов В.В. К семиотическому изучению культурной истории большого города // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 19. Семиотика пространства и пространство семиотики. – Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1986. – С. 7-24. 136. Иванович С.И. Два города Текст. / С.И.Иванович // Петербург как феномен культуры : сб.ст. / РГПУ им.А.И.Герцена. СПб., 1994. – С.89-93. 137. Изварин Е.И. Парадоксы проектного подхода к эволюции городской среды // Проблемы города: проблемы качества городской среды. – М., 1986. – С. 84-91. 138. Иконникова С.Н. Архитектоника и динамизм культурного пространства России // Гуманитарные науки. – 1997. – № 2. – С. 93-97. 139. Ильф И., Петров Е. Письма из Америки // Собрание сочинений: в 5-и т. – М.: ГИХЛ, 1961. – Т. 4. 140. Историко-литературный процесс: Проблемы и методы изучения . – Л.: Наука, 1974. – 274 с. 141. История Москвы Текст.: крат.очерк / А.А.Преображенский, А.А.Зимин, Ю.И.Кирьянов и др. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1978.- 543с. 142. История Отечества. Справочник школьника / под ред. С.В. Новикова. – М.: АСТ, 1996. – 544 с. 143. Исупов К.Г. Диалог столиц вчера и сегодня Текст. / К.Г.Исупов // Жизненный мир поликультурного Петербурга [Текст]: материалы международнауч.-практ.конф.,6-9 окт. 2003 г. СПб., 2003. – вып.1. – С.49-52. 144. Исупов К.Г. Душа Москвы и гений Петербурга Текст./ К.Г.Исупов 145. Исупов К.Г. Историческая мистика Петербурга Текст. / К.Г.Исупов // Метафизика Петербурга : [сб.ст.]. СПб., 1993. – С.66-73. – (Петербургские чтения по теории, истории и философии культуры; вып.1) 146. Кабанова И.В. Проблема жанровой типологии в английской прозе 1930х г. : дисс. …докт. филол. наук. – М.: МГУ, 2001. – 357 с. 147. Каган М.С. Культура города и пути ее изучения // Город и культура. – СПб., 1992. – С. 15-34. 302 148. Каган М.С. Философия культуры Текст. / М.С.Каган. СПб.: Петрополис, 1996. -416 с. 149. Каган М.С., Хилтухина, Е.Г. Проблема «Запад-Восток» в культурологии. Взаимодействие художественных культу . – М.: Наука, 1994. – 158 с. 150. Кагарлицкий Б. Страна городов. История и перспективы [Электронный ресурс] / Б. Кагарлицкий. – Режим доступа: www.rulife.ru. 151. Казакова Г.М. Регион как субкультурный локус (на примере Южного Урала) Текст.: дис. док. культурол. наук: 24.00.01 / Г.М.Казакова, М., 2009. 152. Карамзин Н.М. История государства российского . – М.: Эксмо, 2002. – 1024 с. 153. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника . – М.: Наука, 1984. – 727 с. 154. Кармин А.С. Основы культурологии. Морфология культуры . – СПб.: Лань, 1997. – 512 с. 155. Кармин А.С., Новикова, Е.С. Культурология . – СПб.: Питер, 2005. – 464 с. 156. Касьянова К.О русском национальном характере Текст. К.Касьянова.М.: Ин-т нац. модели экономики, 1994. – 367 с. 157. Катаев В.П. Алмазный мой венец. – М.: ЭКСМО, 2012. – 640 с. 158. Качурин М.Г. Санкт-Петербург в русской литературе .: учебникхрестоматия для учащихся 9-11 кл. сред.шк., гимназий, лицеев и колледжей: в 2 т. / М.Г.Качурин, Г.А.Кудырская, Д.П.Мурин. СПб.: Свет, 1996.- Т.1. – 352е.; Т.2. – 384 с. 159. Кириллова О.С. Культурология, город и культуротуризм: конкретизация пространства // 60 паралелль. – 2010. – № 3. – С. 26-33. 160. Кирилов В.В. К проблеме изучения древнерусского города XVI-XVII вв. / В.В.Кирилов // Русский город : исслед. и материалы. – М., 1984. – Вып.7. – С.4-39. 161. Ключевский В.О. Русская история . – М.: Изд-во ЭКСМО, 2005. – 912 с. 303 162. Коган Л.Б. Города и люди . – М.: Ладья, 1993. – 187 с. 163. Коган Л.Б. Городская культура и проблема «центральности» // Развитие городской культуры и формирование пространственной среды. – М., 1976. – С. 5-20. 164. Коган Л.Б. Культура и города // Архитектура СССР. – 1973. – № 1. – С. 52-53. 165. Колесов В.В. Язык города / В.В.Колесов. М.: Высш.шк., 1991. – 190 с. 166. Кондрад Н.И. Избранные труды . – М.: Наука, 1974. – 364 с. 167. Кондрад Н.И. Запад и Восток. – М.: Наука, 1966. – 258 с. 168. Константинов А. От Рима до дискотеки. Свободное время с точки зрения истории и социологии // Русский репортер, 5 августа 2010. – С. 2. 169. Корниенко Н. Москва во времени (Имя Петербурга и Москвы в русской литературе 10-30-х гг. ХХ в.) / Н.Корниенко // Москва в русской и мировой литературе : сб.ст. М., 2000. 170. Кортунов А.В. Россия и Запад: модели интеграции. – М.: РНФ-РОПЦ, 1994. – 250 с. 171. Корчинская М.В. Социальное пространство монопрофильного города Европейского Севера: проблема гуманизации Текст.: дисс. на соиск. уч.степ. канд.филос.наук/ М.В.Корчинская. Архангельск., 2003. – 212 с. 172. Кравченко А.И. Культурология: учебное пособие для вузов . – 3-е изд. – М.: Академический проект, 2002. – 496 с. 173. Кросс Э. Петербург глазами британцев: на пути к новой книге об этом городе Текст. // Феномен Петербурга [Текст]: тр. междунар. конф., С.Петербург, 3-5 нояб. 1999г. СПб., 2000. – С.236-237. 174. Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европы в ХIX веке. – М.: МГУ, 1977. – 465 с. 175. Купреянова Е.Н., Макогоненко, Г.П. Национальное своеобразие русской литературы. – М.: Наука, 1976. – 414 с. 304 176. Кутикова Н.А. Монастыри Москвы в истории русской культуры ХХ века Текст.: дис. канд. культурол. наук: 24.00.01 / Н.А. Курикова. М.,2004.180л. 177. Кюстин А. Россия в 1839 году // Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. – Л.: Лениздат, 1991. – С. 112-154. 178. Лаппо Г.М. Города на пути в будущее Текст. / Г.М.Лаппо. М.: Мысль, 1987. – 236 с. 179. Лаппо Г.М. Москва и Петербург / Г.М.Лаппо // Хрестоматия по географии России. Образ страны: русские столицы. Москва и Петербург .- М., 1993. – С.7-9. 180. Лебедев Г.С. Феномен Петербурга: архетип как прототип (имперское наследие генератор будущего «маргинальной столицы России») / Г.С.Лебедев // Феномен Петербурга : междунар. конф., С.Петербург, 3-5 нояб. 1999 г. – СПб., 2000. – С.55. 181. Левинтов А.Е. Городская цивилизация: методология, теория, практика . – М., 1991. – 263 с. 182. Лейтес А. Дос Пассос и советская литература // Знамя. – 1933. – № 6. – С. 141. 183. Лейтес А. Дос Пассос и советская литература // Знамя. – 1933. – № 5. – С. 159-161. 184. Лелипенко А.А. Городской миф о городе (в эволюции художественного сознания и городского бытия) . – М.: «Наука», 1996. – С. 38-48. 185. Леонтьев К.Н. Восток. Россия и славянство . – М.: «Республика», 2000. – 768 с. 186. Леонтьев К.Н. Поздняя осень России. – М.: «Аграф». 2000. – 335 с. 187. Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в Соединенных Штатах сегодня. – М.: Радуга, 1992. – 576 с. 188. Линч К. Совершенная форма в градостроительстве . – М.: Стройиздат, 1986. – 264 с. 305 189. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна /. – М., СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с. 190. Литература США ХХ века. Опыт типологического исследования . – М.: Наука, 1978. – 241 с. 191. Литературная история Соединенных Штатов . – М.: Прогресс, 1977. – 187 с. 192. Лихачев Д.М. Избранные труды по русской и мировой культуре Текст. / Д.С.Лихачев. СПб.: Изд-во СПбГУП, 2006. – 416 с. 193. Лихачев Д.С. Заметки о русском языке / Д.С.Лихачев. М.: Сов. Россия, 1981. – 71 с. 194. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы . – Л.: Наука, 1967. – 303 с. 195. Лихачев Д.С. Русское народное поэтическое творчество: в 2-х т. – М-Л.: АН СССР, 1956. – 1060 с. 196. Лобанов Ю.В. столичность и провинциальность как культурологические категории / Ю.В.Лобанова // Культурологические исследования’03 : сб.науч.тр. / РГПУ им.А.И.Герцена. СПб., 2003. – С.79-89. 197. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII- начало ХХ) Текст. / Ю.М.Лотман. 2-е изд., доп. – СПб.: Искусство-СПб, 1998. – 414 с. 198. Лотман Ю.М. Динамическая модель семиотической системы. Ученые записки Тартуского университета. Труды по знаковым системам. Вып. 6. Тарту . – Тарту, 1973. – С. 239-274. 199. Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. / Ю.М.Лотман. Таллин, 1992. – Т.2: Статьи по истории русской литературы XVIII – первой половины XIX века. -479 с. 200. Лотман Ю.М. Избранные статьи. – Таллин, 1993. – 188с. 201. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Искусство-СПБ, 1998. – 285с. 306 202. Лотман Ю.М. Отзвуки концепции «Москва Третий Рим» в идеологии Петра Первого (к проблеме средневековой традиции в культуре барокко). – СПб.: Искусство-СПб, 1988. 203. Лотман Ю.М. Структура художественного текста //. Об Искусстве. – М.: «Искусство-СПБ», 1970. – 285с. 204. Лукомский Г.К. Старый Петербург: прогулки по старинным кварталам столицы Текст. / Г.К.Лукомский; [послесл. и коммент. Б.М.Кирикова]. –СПб: Коло, 2002.-95 с. 205. М.Анисимов Е.В. Царь и город6 Петровский Петербург текст. / Е.В.Анисимов. СПб.: Норинт, 2004. – 313 с. 206. М.Е.Маликова II Образ Петербурга в мировой культуре .: материалы междунар. конф. (30 июня -3 июля 2003 г.). – СПб., 2003. – С.3-14. 207. Макогоненко Г.П. Николай Карамзин и его «Письма русского путешественника» // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. – М.: Правда, 1988. – 22с. 208. Малер А.М. Духовная миссия третьего Рима. – М.: Вече, 2005. – 384 с. 209. Малиновский А.Ф. Обозрение Москвы / А.Ф.Малиновский. М.: Моск. рабочий, 1992. – 262 с. 210. Мамонова М.А. Запад и Восток: традиции и новации рациональности мышления. – М.: МГУ, 1991. – 119 с. 211. Манфорд Л. История урбанизации. Появление города // Наш дом – Земля. – М.: «Мысль», 1982. – С. 162-185. 212. Мачтет Г. Избранное. – М.: Гослитиздат, 1958. – С. 64. 213. Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе текст.:тучеб.пособие по спецкурсу / Н.Е.Меднис. Новосибирск, 2003. – 77 с. 214. Международные связи русской литературы XIX века. – М.: Наука, 1987. 215. Мерлен П. Город: колическтвенные методы изучения Текст. /Т.П.Мерлен: пер. с фр. О.К.Парчевского. М.: Прогресс, 1977. – 262 с. 216. Миллер В. Очерки русской народной словесности. – М., 1897-1910. – 480 с. 307 217. Миллер В. Экскурсы в область русского народного эпоса . – М., 1892. – 317 с. 218. Миллер Г. Тропик Козерога. – СПб.: Азбука, 2001. – 414 с. 219. Миллер Г. Тропик рака. – СПб.: Азбука, 2001. – 320 с. 220. Мир русской истории. Энциклопедический справочник. – М.: Вече, 1997. – 608 с. 221. Миронов Б.Н. русский город в 1740-1860-е годы: демографическое, социальное и экономическое развитие / Б.Н.Миронов; АН СССр, Ин-т истории СССР, Ленингр. Отд-ние. Л.: Наука, Ленингр.отд-ние, 1990. – 271 с. 222. Михайлов С.В. Феномен столичных мегаполисов / С.В.Михайлов // Политая . 2002. - №3(26). – С.7. 223. Моисеев Н.Н. Человек и город . – М.: «Наука», 1985. – 195 с. 224. Моисеев, Н.Н. Быть или не быть человечеству? – М.: Ульяновский Дом печати, 1999. – 288 с. 225. Монас С. Воображаемый город / С.Монас // Нева, 1992. - №5-6. – С.356357. 226. Москва и московский текст русской культуры : сб.ст. / [Рус.гос. гуманит.ун-т; отв.ред. Г.С.Кнабе]. М.: Издат.центр РГГУ, 1998. – 226 с. 227. Мотылев Л. Акройд Питер. Биография Лондона // Иностранная литература. – 2002. – № 10. – С. 230-289. 228. Мулярчик А.С. Владимир Набоков – русский и американец . – М.: МГУ, 2000. 229. Мулярчик А.С. Слушать друг друга. О литературных и культурных связях СССР и США . – М.: Инсарт, 1991. 230. Мумфорд Л. Истоки урбанизации. Появление города // Смит Р.Л. Наш дом планета Земля. – М., 1982. 231. Набоков В.В. Петербург / В.В.Набоков // «Город под морем или блистательный Санкт-Петербург : воспоминания, рассказы, очерки, стихи / сост. С.А.Прохватилова. СПб., 1996. – С.390 -393. 308 232. Насонов А.Н. «Русская земля» и образование древнерусского государства. – М.: АН СССР, 1951. – 282 с. 233. Национальное своеобразие русской литературы . – Л.: Наука, 1967. – 354 с. 234. Некрасов В. Записки зеваки. – М.: Худ. лит-ра, 1991. – 604 с. 235. Некрасов В. По обе стороны океана. – М.: Художественная лит-ра, 1991. – 398 с. 236. Неофициальная история России. – М.: Олма, 2006. 237. Нестерова В.Н. Лондон и проблема памяти города // Великобритания в европейской культурном контексте. – Н. Новгород, 2000. – С. 135-138. 238. Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. – М.: Наука, 1976. – 359 с. 239. Николюкин А.Н. Америка глазами наших соотечественников. Взгляд в историю – взгляд в будущее. – М.: Прогресс, 1987. – 712 с. 240. Николюкин А.Н. Взаимосвязи литературы России и США . – М.: Наука, 1987. – 350 с. 241. Океанский В.П. Основания культурологии: уч. пособие / В.П. Океанский, Ж.Л. Океанская. – Шуя, 2008. 242. О’Хара Д. Дело Локвудов. – СПб.: Яна-Принт, 1993. – 512 с. 243. О’Хара Д. Свидание в Самарре. – М.: Библиотека литературы США, 1986. – 317 с. 244. Орлов А.Ф., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с древнейших времен и до наших дней: учебник. – М. «ПБОЮЛ Л.В. Рожников», 2001. – 528 с. 245. Орлова Э.А. Вопросы освоения городской культуры // Культура города: проблемы качества городской среды. – М.: «Наука», 1986. – С. 38-49. 246. Орлова Э.А. Современная городская культура и человек . – М.: «Наука», 1986. – 191 с. 309 247. П.Анисимов Е.В. Время петровских реформ. XVIII в., 1-я четверть Текст. / Е.В.Анисимов. Л.: Лениздат, 1989. – 495 с. – (Историческая библиотека «Хроника трех столетий: Петербург-Петроград-Ленинград»), 248. Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. – М.: МГУ, 1998. – 306 с. 249. Паламарчук М.А. Город как социокультурный феномен канд. философ. наук. / М.А.Паламарчук. Архангельск, 2009. 250. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. – М.: Прогресс, 1963. – 604 с. 251. Пелипенко А.А. Культура как система / А.А.Пелипенко, И.Г.Яковенко. М.: Языки рус.культуры, 1998. – 372 с. 252. Петербург как феномен культуры Текст.: сб.ст. / РГПУ им.А.И.Герцена. СПб., 1994. – С.40-67. 253. Петербургский текст повседневной культуры : Пушкин, чтения-2003: материалы Всерос. науч. конф., 6 июня 2003 г.: 300-летию С.Петербурга посвящ. Спб.: Ленингр.гос. обл. ун-т, 2003. – 82 с. 254. Писатели США о литературе. – М.: Прогресс, 1992. – 359 с. 255. Питер Акройд [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: livelib.ru. 256. Повесть временных лет. – Арзамас: АГПИ, 1994. . 257. Полевой Б. Американские дневники. – М.: Советский писатель, 1956. 258. Понятие о городе: сб. статей. – Тольятти, 1995. – 140 с. 259. Попова Л.Д. Сакральные основания культуры русского города (на материалах Архангельска конца XVI – начала ХХ века) Текст.: дис. док. культурол. наук: 24.00.01 / Л.Д.Попова. СПб., 2007. 260. Порозов Р.Ю. Культурно-образовательный потенциал городского пространства: автореф. дисс. … канд. культурологии / Р.Ю. Порозов. – Челябинск, 2009. – 25 с. 261. Посет К.Н. Письмо с кругосветного путешествия // Отечественные записки. – 1855. – 85с. 310 262. Поспелов Г.Н. Проблемы исторического развития литературы / Г.Н. Посет. – М.: Наука, 1972. – 272 с. 263. Постмодернизм в зарубежной литературе. Учебный комплекс для студентов гуманитарных факультетов: учебное пособие для вузов . – М.: Флинта, 2002. – 312 с. 264. Постмодернизм: pro et contra: материалы Международной научной конференции «Постмодернизм и судьбы художественной словесности на рубеже тысячелетий», Тюмень, 16-19 апреля 2002. – Тюмень, Вентор-Бук, 2002. – 118 с. 265. Постмодернизм: Энциклопедия. – Минск: Кн. Дом «Интерпресссервис», 2001. – 1040 с. 266. Потапенко Н. проклятый город Текст. / Н.Потапенко // Петербург как феномен культуры [Текст]: сб.ст. / РГПУ им.А.И.Герцена. СПб., 1994. – С.120-122. 267. Потницева Т.Н. Биография как жанр английской литературы XVIII-XIX вв.]: дисс. … докт. филол. наук / Т.Н. Потницева. – Днепропетровск, 1993. – 401 с. 268. Пригов, Д.А. Я его знал лично // Иностранная литература. – 1994. – № 1. – С. 245-249. 269. Проблема «Москва Петербург» в русской культуре Текст.: исслед. публицистика, мемуары конца XVIII нач. ХХ в. / сост. И.Л.Беленький // Россия и современный мир Текст. – 1997. - № 3-4. 270. Проблема истории и теории мировой культуры . – М.: Наука, 1974. – 367 с. 271. Проблема методологии системного исследования . – М.: Мысль, 1970. – 254 с. 272. Проблемы формирования городской среды. – М., 1982. – 350 с. 273. Проскурнин Б.М. Викторианский менталитет и английская культура XX века (постановка проблемы) // Национальный менталитет и языковая личность: межвуз. сб. науч. тр. – Пермь: ПГУ, 2002. – С. 194-207. 311 274. Прохорова Л.С. Лондонский городской текст русской литературы первой трети XIXвека.: дис. канд. филол. наук: 10.01.01 / Л.С.Прохорова. Томск, 2005. – 194 л. 275. Пушкин А.С. Медный всадник // Пушкин А.С. Собрание сочинений: в 7и т . – М.: Прогресс, 1988. – Т. 1. – С. 83. 276. Пыпин А.Н. Истории русской этнографии . – СПб., 1918. – 488 с. 277. Пыпин А.Н., Спасович, В.Д. История славянских литератур . – СПб., 1879. – 536 с. 278. Рабинович М.Г. К определению понятия «город» (в целях этнографического исследования) // «Советская этнография». – 1983. – № 3. – С. 19-24. 279. Реизов Б.Г. История и теория литературы. – Л.: Наука, 1986. – 319 с. 280. Ремарк Э.М. Триумфальная арка. – М.: Прогресс, 1995. 281. Рогачев А.В. Москвоведение: Моксва: город, человек, природа Текст.: эксперим. учеб. пособие для учащихся ст.классов / А.В.Рогачев. [2-е изд.]. – М.: Моск. ин-т развития образоват. систем: Междунар. отношения. 1996. – 404 с. 282. Розанов В.В. Американизм и американцы // Розанов В.В. О писательстве и писателях. – М.: Республика, 1995. – С. 314-328. 283. Розанова Т.М. к вопросу о взаимных влияниях в архитектуре Петербурга и Москвы Текст. / Т.М. Розанова // Петербургские чтения-96 284. Розин В.М. Городская культура, человек, окружающая среда // Вопросы философии. – 1980. – № 1. – С. 43-54. 285. Россия и запад: диалог культур. – Тверь: ТГУ, 1994. – 314 с. 286. Россия между Европой и Азией . – М.: Наука, 1993. – 262 с. 287. Россия между Западом и Востоком. – М.: Московский философский фонд, 1993. – 350 с. 288. Ротиков К.К. Другой Петербург / К.К.Ротиков. 2-е изд. –СПб.: Лига Плюс, 2000. – 637 с. 289. Русская идея. – М.: Республика, 1992. – 269 с. 312 290. Русская литература и мировой литературный процесс . – Л.: Наука, 1973. – 481 с. 291. Русская литература ХVIII века и западноевропейские литературы. – Л.: Наука, 1980. – 346 с. 292. Русско-европейские литературные связи. – М-Л.: Наука, 1966. – 214 с. 293. Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: в 12-и т. – М.: Правда, 1951. 294. Сартр Ж.П. Собрание сочинений: в 2-х т. – М.: Терра, 2000. 295. Сартр Ж.П. Тошнота. – СПб.: Азбука, 1999. – 228 с. 296. Сванидзе А.А. Город в цивилизации: к вопросу определения // Город как социокультурное явление. – М.: «Наука», 1995. – С. 29-33. 297. Сванидзе А.А. Город в цивилизации: / А.А.Сванидзе // Город как социокультуное явление исторического процесса : [сб.ст.] / РАН, науч. совет по комплекс. проблем. – М.:Наука, 1996. – С.58-65. 298. Сванидзе А.А. Городские хартии и распространение муниципальных привилегий в шведских городах с середины XIV – по XV в. // Средние века. Вып. 35. – М.: «Наука», 1972. – С. 131-153. 299. Сент-Бёв Ш.-О. Литературные портреты. Критические очерки . – М.: Художественная литература, 1970. – 607 с. 300. Сенявский А.С. Урбанизация России в ХХ веке: Роль в историческом процессе / А.С.Сенявский: РАН, Ин-т рос. истории. М.: Наука, 2003. – 285 с. 301. Серов Н.В. Цвет культуры. Психология, культурология, физиология / Н.В. Серов. – Речь, 2004. – С.672. 302. Селеменева М.В. Художественный мир Ю.В. Трифонова в контексте городской прозы второй половины 20 в. – М., 2009. 303. Скрипачева И.А. Современный город как культурная система / И.А.Скрипачева. Киров, 2010. 304. Скрипачева И.А. Управление культурными процессами в современном городе (на примере города Тольятти) Текст.: дис. док. культурол. наук: 24.00.01 / И.А.Скрипачева. М., 2010. 313 305. Смагин Б.А. Социокультурная городская среда и развитие личности // Город и культура: сборник научных трудов. – СПб., 1992. – С. 35-41. 306. Смирнов С.Б. Взаимодействие Москвы и Петербурга как феномен развития культуры России в 18-20 вв. Текст.: дис. док. культурол. наук: / С.Б.Смирнов. - М., 2008. 307. Созонович И.К. К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию. – Варшава, 1892. – 581 с. 308. Соколов Э.В. Город глазами культуролога // Город и культура: сборник научных трудов. – СПб., 1992. – С. 5-14. 309. Соловьева Н.А. Вызов романтизму в постмодернистском английском романе // Вестник МГУ. Серия 9: Филология. – М., 2000. – № 1. – С. 53-67. 310. Солоневич И.Л. Москва Первопрестольная: далекая и близкая : Москва и москвичи в лит.рус.эмиграции: в 2 т. / [сост., авт. вступ. ст. и коммент. М.Д.Филин]. М., 2003. – Т.1. 311. Социальные проблемы управления расселением / сост. А.В. Дмитриев, А.М. Лола, М.Н. Межевич. – М.: Мысль, 1988. – 348 с. 312. Сравнительно изучение литератур. – Л.: Наука, 1976. – 347 с. 313. Сравнительное литературоведение и проблема литературных влияний // Известия АН СССР. – 1937. – № 3. – С. 211-256. 314. Стенич В. Как работает Дос Пассос // Знамя. – 1933. – № 6. – С. 68-71. 315. Стерн Л. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии . – М.: Гослитиздат, 1976. 316. Стеценко Е.А. История, написанная в пути. – М.: ИМЛИ РАН, 1999. – 214 с. 317. Стеценко Е.А. Судьбы Америки в современном романе США . – М.: Наследие, 1994. – 329 с. 318. Столович Л.Н. Петербург Москва: философский диалог / Л.Н.Столович // В диапазоне гуманитарного знания. К 80-летию профессора М.С.Кагана : [сб.ст.] / СПбГУ, С.-Петерб. философ. о-во. – СПб., 2001. – С.120-131. 314 319. Страда В. Петербург как европейская столица / В.Страда // Образ Петербурга в мировой культуре : материалы междунар. конф. (30 июня 3 июля 2003 г.). – СПб., 20003.- С.15-26. 320. Струков В.В. Художественное своеобразие романов Питера Акройда (к проблеме британского постмодернизма) . – Воронеж: Полиграф, 2000. – 182 с. 321. Суханова В.А. Романы Ю.В. Трифонова как художественное единство. – М., 2001. 322. Типологические соответствия и контактные связи в русской и зарубежной литературе: межвузовский сборник . – Красноярск: ГПИ, 1984. . 323. Типология культуры. Взаимное воздействие культур. – Тарту, 1982. – 416 с. 324. Толстой А.Н. Петр Первый. – М.: Худ. лит-ра, 1981. – 703 с. 325. Тополь Э, Стефанович, А. Я хочу твою девушку . – М.: АСТ, 2000. – 256 с. 326. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Образ: Исследования в области мифопоэтического Текст. / В.Н.Топоров. М.: Прогресс Культура, 1995.- 621 с. 327. Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. Новое прочтение. / В.Н.Топоров. СПб.: Искусство-СПБ, 2003.-612 с. 328. Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. – СПб.: Наука, 2003. – 616 с. 329. Трифонов Ю.В. Другая жизнь. - М.: Известия, 1979. – 352 с. 330. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. – М.: Радуга, 1995. – 800 с. 331. Трушина Л.Е. Культурология города как самостоятельная дисциплина // Формирование дисциплинарного пространства культурологии: материалы научно-методической конференции, 16 января 2001 г. – СПб.: СанктПетербургское философское общество, 2001. – С. 209-210. 332. Трушина Л.Е. Образ города и городской среды. // Виртуальное пространство культуры: материалы научной конференции, 11-13 апреля 2000 г. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – С. 97-99. 333. Трушков В.В. Город и культура . – Свердловск, 1976. – 112 с. 315 334. Ушакова Е.В. Литературная биография как жанр в творчестве П. Акройда : дисс. … канд. филол. наук / Е.В. Ушакова. – М.: МГУ, 2001. – 195 с. 335. Финкельстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе. – М.: Прогресс, 1967. – 320 с. 336. Фицджеральд Ф.С. Опять Вавилон // Фицджеральд Ф.С. Собрание сочинений: в 3-х т. – М.: Терра, 1996. – Т. 2. 337. Фицджеральд Ф.С. Собрание сочинений: в 3-х т. – М.: Терра, 1996. 338. Фонвизин Д.И. Сочинения. – М.: Правда, 1981. – 354 с. 339. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: Авенариус, 1997. 340. Хемингуэй Э. Собрание сочинений: в 3-х т. – М.: Терра, 2000. 341. Хореев Б.С. Проблемы городов. – М.: «Мысль», 1975. – 427 с. 342. Хорн А. Тайны Парижа. Ключ к истории города. – М., 2010. – 308с. 343. Хренов Н.А. Земледельческие архетипы на городской площади // Развлекательная культура России XVIII-XIX вв.: Очерки истории и теории: сб. ст. / под ред. Е.В. Дукова. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – С. 458-469. 344. Хренов Н.А. Образы города в истории: психологические аспекты смены парадигмы // «Общественные науки и современность». – 1995. – С. 150-161. 345. Чаадаев П.Я. Сочинения. – М.: Республика, 1989. 346. Черва В.Е. Культурологический подход к определению понятия «культурный ландшафт» //Методология культурологического исследования: культурологические исследования-06 .CПб., 2006. 347. Чердынцев В.В. Человек и история в городских повестях Ю.В. Трифонова. – М., 2001. 348. Чугров С.В. Россия и запад: метаморфозы взаимовосприяти . – М.: Наука, 1993. – 140 с. 349. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. – М.: Дрофа, 2000. – 258 с. 350. Шекспир и русская культура . – М-Л.: Наука, 1965. 351. Шелохаев В. История современной России . – М.: ТЕРРА, 1996. 352. Шмелев И. Избранное. – М.: Правда, 1989. 316 353. Шпенглер О. Закат Европы. Очерк морфологии мировой истории . – М.: «Мысль», 1993. – 663 с. 354. Шубин Л.А. Поиски смысла отдельного и общего существования . – М.: Советский писатель, 1987. – 155 с. 355. Шубина А.В. Образ ребенка и организация пространства постмодернистского текста Питера Акройда // Вестник Поморского ун-та, 2009. Серия «Гуманитарные и социальные науки», № 5. – С. 103-106. 356. Шубинский В. Город мертвых и город бессмертных: об эволюции образов Петербурга и Москвы в русской культуре XVIII-XX веков // Новый мир . 2000. - №4. – С. 145-156. 357. Щегольков Н.М. Исторические сведения о городе Арзамасе . – Арзамас: Типография Н. Доброхотова, 1911. – 274 с. 358. Элли Р. Последнее танго в Париже. – М.: Ведо, 2001. – 224 с. 359. Эренбург И. Сочинения: в 5-и т. – М.: Гослитиздат, 1954. 360. Юрков С.Е. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI-начало ХХ вв.) . – СПб., 2003. – С. 15-35. 361. Яковенко И.Г. Художественное сознание и городская среда (в их взаимодействии и созидании) // Город и искусство: субъекты социокультурного диалога / отв. ред. докт. ист. наук Э.В. Сайко. – М.: Наука, 1996. – С. 20-25. 362. Ямпольский Б. Арбат, режимная улица . – М.: Вагриус, 1997. – 432 с. 363. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. – 527 с. 364. Ященко А.С. Роль в сближении Востока и Запада. Доклад, прочитанный на Всемирном конгрессе рас в Лондоне 26 июля 1911 г. – Казань: Центральная типография, 1912. – 25 с. 365. Abbott S. The empire of Russia. –N.Y.: Mason brothers,1860. –232p. 366. Ackroyd P. The Englishness of English Literature // P. Ackroyd. The Collection. Journalism, reviewes, essays, short stories, lectures / ed. by T. Wright. – L., 2001. – 465 p. 367. Acroyd P. London. The concise biography. London . – London, 2012. – 815 p. 317 368. Allen R. Russian looks at America. – Wash., 1988. – 371 p. 369. American character and foreign policy / ed. by M. Hamilton. – Eerfmans Pub.Co., 1986. – 184 p. 370. Archer J. The Russians and Americans. – N.Y.: Hawthorn books, 1975. – 332p. 371. As others see us: the United states through foreign eyes/ ed. by J. Franz Princeton Univ. – Press, 1959. – 116 p. 372. Avins, C. Border crossing: The West and Russian identity – , 1983. – 140 p. 373. Baring M. The Russian people. – London, 1911. – 205 p. 374. Barnett R. The giants: Russia and America. – N.Y.: Simon and Schuster, 1977. – 98 p. 375. Boorstin D.J. America and the image of Europe. – N.Y.: Meridian books, 1960. – 228 p. 376. Boorstin D.S. The image or what happened to the American dream . – N.Y.: Atheneum 1962. – 619 p. 377. Brogan D.W. The American character – N.Y.: Knopf, 1944. – 112 p. 378. Clifford James L. Biography as an Art: selected criticism, 1560-1960 . – L.: Oxford University Press, 1962. – 184 p. 379. Davie D. Russian literature and modern English fiction. – Chicago: University of Chicago Press, 1965. – 450 p. 380. Dujiker H.C., Frijda, N.H. National character and national stereotypes. – 213301р. 381. Gavin W.J., Blakeley, T.J. Russia and America. A philosophical comparison . – Boston: Reidel Pub. Co., 1976. – 145 p. 372. Huntington S. P. The clarfs of civilization and order. – N.Y., 1996. 383. Hoberman R. Modernizing Lives. Experiments in English Biography, 19181933 . – Carbondale: Southern Illinois University Press, 1987. – 182.p. 384. Hubbs S. Mother Russia . – Bloomington: Indiana Univ. Press, 1988. – 98 p. 385. Kalbouss C. Russian culture, an outline . – Columbus: Ohio State University, 1981. – 304 p. 318 386. Koht Halvdan. The American spirit in Europe: A survey of transatlantic influences . – Philadelphia, 1949. – 94 p. 387. Laserson M.H. The American impact on Russia, diplomatic and ideological . – N.Y.: Collier, 1962. – 145 p. 388. Laserson M.H. The American impact on Russia. 1784-1917 . – N.Y., 1950. – 251 p. 389. Lewis B. My Words Echo Thus: Possessing the Past in Peter Ackroyd . – Columbia, 2007. – 181 p. 390. Mac Cannen D. Tourist. A new theory of leisure class . – N.Y., 1976. – P. 9 12. 391. Nadel Ira B. Biography: Fiction, Fact and Form. – L.: Macmillan, 1984. – 203 p. 392. New York American. – 1906. – April 12. – P. 4. 393. Parry A. America learns Russia. – Syracuse Univ. Press, 1967. – 87p. 394. Pitchford N. Tactical readings. Feminist Postmodernism in the Novels of Kathy Acken and Angela Carter . – Lewisburg. L., 2002. – 283 p. 395. Rennison N. Contemporary British Novelists. – L., NY: 2005. – 704 p. – URL: http://www.historicalnovels.info/House-of-Doctor-Dee.html 396. Saul N.E. Distant friends. The United States and Russia . – Univ. Press of Kansas, 1991. – 57 p. 397. Semiotics of Russian culture history. – Cornell univ. Press, 1985. – 161 p. 398. Sherman W.H. John Dee: The Politics of Reading and Writing in the English Renaissance. – Massachusetts, 1995. – 119 p. 396. Smith G. Russian inside and out . – N.Y.: Oxford Univ. Press, 1989. – 198 p. 399. Strout C. The America image of the Old World. – N.Y., 1963. – 410p. 400. Taylor M., Saarinen E. Imagologies . – London, 1994. – 318 p. 401. Taylor W.R. Cavalier and Yankee. The Old South and American national character . – N.Y., 1961. – 145 p. 402. The American image of Russia / ed. by Anscnel. – N.Y., 1974. – 198p. 319 403. Thomson E. Understanding Russia . – Lanham: University Press of America, 1987. – 511p. 404. Western philosophical system in Russia literature . – Wesrport: Green wood Press, 1971. – 89p. 320