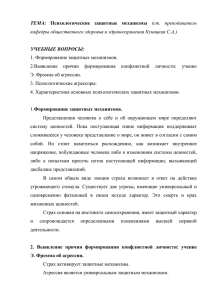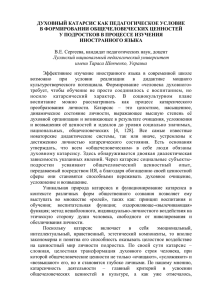КАТАРСИС (греч
реклама

Серкова В.А. ПРИНЦИП КАТАРСИСА В ВОСПРИЯТИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА Катарсис – цель и средство воздействия искусства на человека. Понятие «катарсис» (греч. katharsis - очищение) - это термин, введенный в философию (а впоследствии и в теорию искусства) древнегреческим философом Аристотелем. До Аристотеля о катарсисе рассуждали философы Пифагор и Платон. Катарсис означает эстетического преобразования, осуществленное под облагораживающим воздействием произведений искусства, в первую очередь, посредством музыки и трагедии, способствующих освобождению души от повседневных суетных страстей. Известное рассуждение древнего философа о катарсисе души содержится во фрагментах трактатов Аристотеля «Поэтика» и «Политика». Все, что написал Аристотель о катарсисе, вызывает больше вопросов, чем ответов на них. Именно в этом кроется причина огромного количества комментариев и толкований на понятие катарсис. Вопросы, которые порождены термином катарсис таковы: Почему одни душевные переживания облагораживают душу, а другие ее отягощают? Почему потребность облегчения души, ее возвышения заставляет зрителей стремиться в театр. Почему не всякое посещение театра заканчивается переживанием катарсиса, и более того, это случается крайне редко? Как может мир, придуманный одним автором, очищать души многих зрителей? В чем вообще состоит сила искусства? Как искусство сосуществует с действительностью? Является ли зритель только пассивным участником театрального представления, или именно от него по большей части зависит осуществление катарсического действия? И это только часть вопросов, связанных с проблемой катарсиса, или воздействия искусства. Разрешимы ли, в самом деле, они? Еще один вопрос, с которого уместно начать изучение теории катарсиса: почему знаменитый фрагмент из VI главы «Поэтики» привлекается вновь и вновь в наши, столь отличные от времени Эсхила и Софокла, Платона и Аристотеля, времена, когда утверждает себя массовая культура, клиповое сознание, укореняется виртуальный мир и предпочтение отдается современным псевдокультурным подделкам, вытесняющим образцы высокого классического искусства? Потому, видимо, что в нас неистребима потребность в катарсическом преображении, и мы ищем способы его осуществления. Аристотель в достижении катарсиса уповает на трагедию и, в этой связи, упоминает театральные трагедии Софокла о царе Эдипе. По его мнению, истинную трагедию создает добротный миф, и потому трагедия определяется как воспроизведение действия важного и свершившегося. «Трагедия есть подражание действию важному и законченному... и совершающее посредством сострадания и страха очищение (κάθαρσις) подобных страстей» [4, c. 651. Но не только сюжетные хитросплетения является основой трагедии. Зрители могут по многу раз смотреть одну и ту же пьесу, почти наизусть помня ее содержание. И все равно они имеют возможность испытать состояние катарсиса. Страсть (πάθος) связана не с детским невинным потрясением от развязки канвы повествования, а со знанием, обретаемым почти в мистериальном действии, в котором всякий раз повторяется одно и то же событие, но переживание этого события не исчерпывается однократным участием в нем и разовым сопереживанием. В театральном представлении зрителей подвигают к тому, чтобы они не только поверили в происходящие на сцене события, но прямо-таки приняли все как имеющее к ним непосредственное отношение. Конечно, в первую очередь имеет значение игра актеров. В трагедии Шекспира «Трагическая история о Гамлете, принце Датском» главный герой разоблачает преступление посредством вовлечения убийцы-дяди в театральную постановку, поставленную заезжими, но, судя по всему, весьма искусными актерами. Гамлет припоминает, что «люди с темным прошлым, находясь на представленье, сходном по завязке, ошеломлялись живостью игры и сами сознавались в злодеянье. Убийство выдает себя без слов, хоть и молчит. Я поручу актерам сыграть пред дядей вещь по образцу отцовой смерти. Прослежу за дядей – возьмет ли за живое» [5, с.122-123.] Далее следуют рекомендации Гамлета актерам, - он объясняет им, как следует играть, чтобы вызвать ожидаемый эффект катарсиса у короля: «Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал, легко и без запинки. Если же вы собираетесь ее горланить, как большинство из вас, лучше было бы отдать ее городскому глашатаю. Кроме того, не пилите воздух этак вот руками, но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стройность. Как не возмущаться, когда здоровенный детина в саженном парике рвет перед вами страсть в куски и клочья, к восторгу стоячих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума не имеют понятия. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль переиродить Ирода. Это уж какое-то сверсатанинство. Избегайте этого. » [5, c. 139] Но еще более важный и известный фрагмент размышлений Гамлоета о природе представления и о страстях, которые на нем разыгрываются, Гамлет произносит наедине с собой: «Не страшно ли, что актер проезжий этот в фантазии для сочиненья чувств, так подчинил мечте свое сознанье, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, замирает голос и облик каждой складкой говорит, чем он живет! А для чего в итоге? Из-за Гекубы! Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает. Что б он натворил, будь у него такой же повод к мести, как у меня? Он сцену б утопил в потоке слез, и оглушил бы речью, и свел бы виноватого с ума…» (Там же. С.121) Итак, катарсиса, - главная цель театрального представления, невозможен без искусной игры актеров. Нужны: достойная пьеса с мифологическим, или превратившемся в миф сюжетом; хорошие актеры. Что еще? Подходящее театральное помещение. И это тоже важно для того, чтобы перенестись в мир театральных трансформаций. Самый подходящий пример - здание Александринского театра, построенного одним из самых выдающихся архитекторов Петербурга - Карлом Ивановичем Росси. И Грабарь писал о созданиях Росси: «Эта роскошь архитектуры еще мало оценена, но настанет время, когда будут приезжать смотреть эти великолепные произведения Росси, как ездят смотреть мастеров Ренессанса в Италию.» [6, с.354] Росси приступает к строительству Александринского театра в 1828 году. Здание это поистине замечательное. Греческая классика, унаследованная римлянами, трансформированная французами, здесь, на русской почве, вдруг проявляет свое сверхъконструктивистское содержание. У Росси основной классицистический элемент «мотив портика», - колонны, поднятые на цокольный этаж, - как ни в какой другой постройке проявляют свою логическую и архитектоническую целесообразность. Если попытаться понять логику этого архитектурного хода - можно прочитать произведение Росси как воплощение идеи храма, стоящего на возвышении, на горе, которую имитирует цоколь. Пять скромно обработанных входов в цоколе, те двери, которыми обычно пользуются, чтобы попасть внутрь театра, на самом деле не ведут в храм, а, как часть лабиринтного сооружения, представляют собой ложные ходы. Настоящий вход в храм, посвященный Аполлону, покровителю искусств, располагается между колоннами лоджии на втором этаже. Следовательно, чтобы «правильно» войти в помещение театра, нужно подготовить себя к тому, что входишь не в обычное здание, а в такое, где привычные пространственные схемы не приемлемы. Лабиринтное сооружение предполагает, что здесь наличествуют такие структуры, как ложные ходы, тупики, замкнутые ходы, но также и правильный путь, ведущий лабиринтного скитальца к выходу и избавлению от лабиринтных мытарств. Если позволить себе задержаться в нашей архитектурной фантазии, то можно добавить, что лабиринт Росси располагается как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, и можно заблудиться в нижнем этаже: в «горе», можно затем перейти в «храмину», но и там долго проблуждать. А между тем здесь есть ведь и выход из лабиринта: редко бывает, чтобы скульптура так органично была бы вписана не только в архитектонический ряд, но и в символический, - Аполлон, удерживающий разгоряченных коней на аттике здания, как будто поджидает победителя лабиринта. Идея искусства, вовлекающего нас в свой мир, приближающего к божеству, высказана здесь достаточно последовательно. Конечно же, это наше вольное прочтение символики здания не подтвердится ни биографическими ни архивными материалами, но оно позволяет нам понять дух ампирной классики и ее пространственную продуманность. Символическую храмину искусства мы сконструировали. Что еще? Зрители! Катарсис это преображение посредством произведений искусства. Как происходит это преображение у тех, кто обращается к произведению искусства? У них должна измениться картина мира, которая складывается в системе представлений обыденного сознания. Совершается, говоря языком романтика Фр. Шлегеля, «прорыв в области связанного сознания» и проявляется «метафизическая перспектива» знания, которая зачастую представляется и сомнительной, и иллюзорной, и лишней с точки зрения обыденного сознания. Нарушается фокус зрения «гармонической банальности» [7, с. 286-287]. В определенном смысле слова новое состояние сознания можно назвать «искусственным». Это состояние, как пишет Фр. Шлегель, «остается загадкой» и для холодного, слишком отстраненного, несочувствующего миру искусства взгляда, является иллюзией, нереальностью, на этом основании подлежащей устранению. Можно интерпретировать мысль Фр. Шлегеля таким образом, что посредством катарсиса могут соединиться «законченная философия природы и законченная философия искусства». Культивирование такого рода способностей, как катарсис, дает свободу, которая является подлинной, потому что она не затрагивает интересов других, но позволяет радикальным образом менять мир в воображении, «ибо благодаря ей можно возвыситься над самим собой» [7, с. 286-287]. Искусство противостоит в этом смысле «расширенной области банального», а катарсис осуществляет прорыв в предуготовленный «мир прекрасного». Но требуются серьезные усилия для преодоления обыденности, для движения от явленного к сокрытому, от повседневного к умозрительному. Родоначальники романтической философии искусства выразили дух общего мироощущения первой половины 19 века. Вместе с тем романтические идеи не являются только историческим явлением, отошедшим в прошлое и никак не затрагивающим настоящее. В любой культуре всегда можно выявить романтические умонастроения, противостоящего прозаизму «жизненного мира». Основу романтических взглядов определяла интуитивная расположенность ко всему необычному, таинственному. Романтики полагали, что следует преодолевать прозу жизни, и это возможно, когда удается философию преобразовать в поэзию. Фр.Шлегель писал: «Там, где кончается философия, должна начинаться поэзия. Не должно существовать обычной точки зрения, естественного образа мыслей, простой жизни в противоположность искусству и культуре, т.е. не должно мыслиться какое-то царство дикости за пределами культуры. Пусть каждый мыслящий член организации ощущает свои границы в единстве и соотнесенности с целым. Например, философии следует противопоставлять не просто не философию, а поэзию» [7, с. 360]. Причем, для романтиков важны как философия, так и поэзия, упраздняется иерархия в их отношениях, и наука и философия не являются единственными способами знания мира, и поэзия не является только источником фантазии и вымысла. Романтики, пожалуй, первыми поняли, что все, что мы можем определить понятиями «реальность», «действительность», «мир», является ничем иным как способом осознанием этой реальности, многообразием смыслов, которые сознание приписывает своим уже включенным в него содержаниям, и сознание не должно просыпаться во втором акте своей собственной деятельности. Но если мир и существует помимо сознания, мы ничего не можем о нем сказать, ведь мы знаем его только после того, как он уже осознан. Потому разумным было бы не сравнивать сознание с реальностью, но сопоставлять различные способы ее осознания, реконструировать процесс порождения смысла и многообразные корреляции внутри сферы сознания. Кроме того, следует помнить, что реальность конституируется, создается, и то, какой она будет (прозаической или очищенной посредством катарсиса) зависит от нас. Потому реальность, является понятием проблематическим, следует всегда помнить, что для ее понимания требуется, чтобы мы обратились к тому источнику, из которого она проистекает, т.е. собственно, к деятельности сознания. Тогда реальность представляется в истинном свете – не как фактологическифактическая субстанция действительности, жизни, жизненного мира и пр., - но именно как форма осмысления. Романтики с самого начала совершают насилие над самой основой здравого смысла, - его верой в объективное существование реального объекта как «предстоящего уже готовым сознанию». Это дерзкое утверждение выглядит не таким уж эпатирующим, когда мы обращаемся к той сферам, в которой это выступает с большей очевидностью, а именно, - к области искусства. Действительно, в театральном производстве, например, реальность проявляет себя как произведенное сознанием, порожденное и выпестованное им. Пьеса, вся изначальная литературная основа разыгрываемого спектакля, есть ничто иное как производство сознания (его содержание, его структура, форма, сюжет). Философия, как и природа, с точки зрения романтиков, должна стать поэтической. Для них реальность – это мир культуры, причем воплощается эта культура в творчестве конкретной индивидуальности. Реальный индивид должен не только вместить в себя все предшествующее знание человечества, но и преодолеть его в собственном творчестве. Таким образом романтики пытались разрешить противоречие между воспроизводством мирового культурного наследия и неповторимостью и уникальностью конкретных творений человечества. Поскольку романтическая философия начинается с осознания креативной роли сознания, без которого мир невозможен как целостное, связное и описанное явление, они изначально постулировали сознание в качестве гения. Романтики считали, что в человеке надо культивировать гениальность, это должно быть целью воспитательной и образовательной программы: «От всякого следует требовать гениальности, без того, чтобы рассчитывать при этом на успех, Кант назвал бы это категорическим императивом гениальности» [8, с.177]. Кроме того, есть такой вид искусства, в котором собирается воедино коллективный гений. Это, опять-таки, театр. В «театральной действительности» творчество являет себя в конкретных воплощениях, а поэзия проявляется как «абсолютно реальное». С позиции романтической философии не все, что существует, соответствует своим возможностям, воплощает их в действительность. И на этом основании такое существование называется мнимо-сущим. Мир природы противопоставляется миру культуры и миру искусства как раз потому, что природа содержит все потенции, но реализоваться они могут только посредством творческого гения. Произведения искусства, или как называли их романтики, «вещи искусства» объединяют две точки зрения – трансцендентную и обыденную. Фихте мечтал о том, что искусство в конце концов сделает «трансцендентную точку зрения обычной» [9, с.148]. Театральное представление – тот особый мир, возвышающийся над повседневным существованием, порождающий ошеломляющие впечатления и переживания. Не случайно, именно театр для Аристотеля являлся источником катарсических преображений. В театре могут соединяться множество «степеней совершенства», - либретто, режиссура, великолепные декорации, актерская игра, музыка, и, наконец, содействие зрителей. Более того, тот мир, из которого зритель переходит в театральный, иллюзорный, «нереальный», существующий совершенно отдельно, «параллельно», - он должен отодвинуться, исчезнуть, вытесниться театральной реальностью. Все приземленное, обыденное заиндевевшее в своей низменной простоте, и – театр, перед которым вдруг меркнет реальность, как перед настоящей, подлинной, потому что - прекрасной – действительностью. Эта подлинная жизнь мира искусства потрясает своим контрастом с простым обыденным и скучным существованием. Но любить и боготворить театр начинаешь не только из-за того, что происходит на сцене, но и в силу тех перемен, что совершаются внутри нас, зрителей, благодаря катарсису. Потребность в катарсисе столь значительна, что согласно историческому преданию, однажды, не испытав ожидаемого катарсиса, зрители одной из трагедий Эсхила забросали автора камнями. Практика переживания катарсиса, как нигде больше, утвердилась в японской культуре. Для японцев переживание красоты мира может быть либо спокойным, длительным и умиротворенным, либо мгновенным, потрясающим и трансформирующим обычное видение. Можно утверждать, что в катарсисе проявляется смысл японской эстетики. Способность переживать мгновения красоты воспитывается с малых лет и имеет древнюю историю. На формировании японской культуры сказалось влияние трех религий, которые укрепляют единство мировоззрения и составляют основу эстетических понятий, выражающих суть японской философии жизни. Итогом воздействия этих религий на мировосприятие японца является слияние в нем религиозных, эстетических и повседневно-практических практик в цельное магматическое единство. Эти религии, - синто, даосизм и дзэнбуддизм. Синто, - родовая японская религия почитания духов природы, умерших предков, вещей и вообще всего, что только может быть различено в формах отдельного существования. Даосизм – «философия пути», направлен на понимание истинных, скрытых процессов, составляющих основу изменений и постоянства всего существующего. Даосизм явился основой традиционных японских церемоний чаепития («пути чая»), любования цветущими растениями и создания цветочных композиций («путь цветка»). Дзэн-буддизм, национальный вариант китайской чань-буддистской философии, является способом достижения состояния просветления, освобождения от ненужного, неважного, суетного, отвлекающего от главного. Философия дзэн дала японской традиционной культуре основополагающие ориентиры, на которые следует полагаться в стремлении к истинному существованию. Японское значение выражения «умение жить» предполагает овладение знаниями и навыками видения прекрасного, выражение его в своих действиях, погружение в него, продление его, насыщение его присутствием по возможности каждого мгновения жизни. Основные понятия японской философии прекрасного - саби, ваби, сибуй, югэн, мэдзурасиса, – наполнены смыслами того, каким именно образом можно достигать основной цели жизни превращения ее в искусство. Понятие «саби» выражает естественную жизнь предмета, умение ее понимать и видеть, радоваться и наслаждаться ею. Саби – это еще и тень времени на предметах, очарование возраста, насыщенность его истории, след архаичности, печать старины. Саби как мерило прекрасного предполагает предпочтение предметов старых новым, следов древности, даже потрепанности, современному глянцу. Саби укореняет эстетическое присутствие традиции. С понятием саби перекликается смысл понятия «ваби». Ваби – это – простота, обыденность, сдержанность формы, запечатывающей вещь границами естественного порядка жизни. Это отсутствие броского блеска и кричащей красоты мира («цуй»), вычурности, вульгарности, неестественности, нескромности, навязчивости, которые японцы учатся распознавать интуитивно. В единстве принцип «саби-ваби» позволяет японцам ценить преходящие мгновения текучей жизни вещей, любоваться кратким временем цветения, чередованием сезонов года, времени суток (росой на цветке, тенью на песке, увяданием листьев, ненавязчивостью шума ручья ). Философию «саби-ваби» выражает стихотворение средневекового японского поэта Бо Дзюи: Меня во дворе У крыльца печалит Пунцовых пионов куст. На нем, когда вечер пришел Краснели последние два цветка. А завтра с утра Поднимется ветер И все цветы оборвет. Я ночью, жалея, что их не станет, Зажег огонь и смотрю. Принцип «югэн» обращает внимание на тайную прелесть вещей, недосказанное, невидимое. За явным кроется подтекст, намек, скрытый смысл, неуловимое качество. Их бесполезно переводить в слова, но следует сохранять посредством интуитивного схватывания. В творчестве это выражается в намеренном сохранении архаического несовершенства предметов, некоторой пустоте, «ничто», соприсутствующим творению. В искусстве следует придерживаться принципа незавершенности. Совершенство может проявиться лишь на мгновение и вновь угаснуть в вещи, сокрыться в застывшей форме. Югэн опять-таки, соединяясь с принципами «саби-ваби», обращает взор к переменам (проявлению-угасанию) мгновений прекрасного в природе, учит радоваться и печалиться по поводу перемен и добавляет в эти переживания новые оттенки. Еще один эстетический принцип «сибуй» характеризует процесс руководства в воспитании чувства прекрасного. Можно не один год учиться у наставника искусству «икэбана» (составления букета, отражения единства и гармонии мира через соединение трех элементов композиции) и не услышать заветное «сибуй», означающее высшую похвалу ученику, означающую благословение учителя на собственный путь в искусстве. Сибуй не основан по подражании мастеру, но предполагает поиск собственного неповторимого пути ученика. «Сибуй» невозможно объяснить, его можно произвести, создать, - в этом заключается сложность воспитания чувства прекрасного. И еще одна форма переживания прекрасного, не отделимая от других, но наиболее близкая к европейскому понятию «катарсис», «мэдзурасиса». Это острое, трепетное, почти мучительное и вызывающее содрогание, сопереживание какому-либо явлению прекрасного. Что удивительно, такое страстное ощущение бывает вызвано чаще всего посещением японцами театра. Традиционный японский театр существует на протяжении столетий. Начиная с 8 века разыгрывают свои представления средневековые мимы. С 11 века актеры обращаются к сюжетным сценкам. С 12 века при синтоистских храмах труппы разыгрывают ритуальные религиозные действа. С 13 века древние народные магические пляски приобретают канонические формы и трансформируются в танцы буддийских монахов. Примерно в это же время зарождается театр Но. Термин «Но» означает «мастерство» и свидетельствует о высоком уровне таких представлений. В 14 веке закладывается традиция театра Но. «…любая драма Но в значительной мере пронизана буддийским миросозерцанием и фактически строится на обыгрывании трех буддийских заповедей: 1) жизнь есть страдание, возникающее из жажды жизни; 2) потворство собственным страстям пагубно; 3) уничтожение страдания – в освобождении от страстей» [1, с. 25]. Другой классический японский театр Кабуки возникает в 17 веке. До нашего времени он дошел под названием О-Кабуки, или «Великий Кабуки». Ритуальные, канонические действа театра Но в Кабуки превращаются в излюбленные народом фарсы и драмы. Поначалу актеры Кабуки импровизировали по ходу спектакля, разыгрывая какой-нибудь оговоренный заранее сюжет. С 1680 года в театральном действе появляются имена драматургов. Обычно они излагают какую-нибудь наполненную драматизмом историю из жизни. В 2003 году в дни празднования 300-летия СанктПетербурга труппа Накамуро Гандзиро 3, привезла спектакль по пьесе классика Кабуки Тикамацу Мондзаэмон под названием «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки». Это было блестящее театральное событие, в высшей степени достойное прояснить смысл японского значения понятия катарсиса - «мэдзурасиса». Сюжет пьесы, которой в том же 2003 году исполнилось, как и Петербургу 300 лет, можно пересказать в нескольких предложениях. Влюбленный в куртизанку главный герой хочет на ней жениться, но обстоятельства складываются таким образом, что он оказывается невольным заложником чести и может восстановить свое доброе имя, совершив ритуальное самоубийство. Его избранница соглашается разделить с ним его судьбу. Пьеса заканчивается гибелью влюбленных. Роль главной героини, 19-летней куртизанки, исполняет глава труппы, который имеет звание «Живое Национальное Достояние Японии», и которому исполнилось в тот год 70 лет. Его возраст скрыт под толстым слоем белил и изысканной, отточенной временем игрой, воспроизводящей манеры женщины увеселительного заведения. Первых два акта, в которых происходят житейские перипетии пьесы, призваны вызвать у зрителей живое участие в судьбе актеров, сопереживание обстоятельствам их жизни. Это фарсовое представление, интонированное громкими голосами, площадными голосами и суетой быстротечной жизни. Мир наполнен страстями, желаниями людей, приходящими в противоречия, нет конца столкновениям интересов, опутывающих главных героев и приводящих их к безысходности. Все третье действие посвящено освобождению героев от мирских страстей. Это показанные посредством игры и танцев (часть этого действия проходит на помосте, который называется «дорогой цветов» и ведет через зрительный зал к сцене) четыре буддистских истины и восьмеричный путь освобождения от страданий. Это воплощенное с театральном действии философия буддизма в ее дзэнском варианте. Сам момент харакири изображается главным героем в сложном танце-прыжке, состоящем из доброго десятка движений. И удивительно вот что: не понятно, в какой момент совершается трансформация площадного низкого действа в высокую трагедию, пассивное присутствие зрителей – в созерцание-медитацию, а зрелище – в болезненное острое, почти физиологическое, вызывающее содрогание и восторг сопереживание? Это состояние «мэдзурасиса», катарсиса, очищения через слезы и благоговейную сопричастность подлинному искусству, это истинное сотворчество, сопереживание, когда все, происходящее на сцене, каким-то мистическим образом касается зрителей, предуготовленных актерами, приведенных к такому состоянию, и оставленных в нем наедине на какие-то мгновения их жизни, которые они уже никогда не забудут. Все это сопровождается музыкой, извлекаемой из инструментов традиционного японского оркестра, состоящего из трех барабанов и бамбуковой флейты фуэ, издающей глуховатые хриплые, но пронзительные звуки, которые являются истинным испытанием для европейского слуха, избалованного классическими гармониями Моцарта и Чайковского, но тем не менее эти новые ритмические непривычные лады усугубляют действие и помогают актерам низвергать зрителей в катарсическое очищающее преображение. Театр подчиняет все прочие принципы, являющиеся основой эстетической трансформации, принципу мэдзурасиса. В определенной мере, это крайность эстетического воздействия, лежащая вне воздействия принципов саби-ваби-югэн. Но, тем не менее, именно здесь, посредством таким образом организованного катарсиса, осуществляется видение вещей, «как они есть», т.е. через прыжок в «сатори», особой практики буддийской психотехники, позволяющей в мгновение достичь просветления, того, что посредством логики или изучением буддийских текстов добывается годами и десятилетиями напряженной интеллектуальной работы. В театре все это совершается в течение нескольких часов, пока длится спектакль, и вся работа выпадает на долю актеров, которые на протяжение десятилетий совершенствуют свое исполнительское мастерство. В театр Кабуки мальчики (актеров женщин в нем нет, все женские роли играют мужчины) приходят в возрасте пяти лет и проводят в нем всю свою жизнь. Это родовое, семейное, клановое занятие, потому в Японии складываются актерские династии. Искусство передается от отца к сыну непрерывно, в течение столетий. Именно это, может быть, является свидетельством того, что катарсис – это очень напряженный процесс, который кажется легко доступным только человеку, далекому, от истинного сотворчества. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Ёкёку – классическая японская драма. М., Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1979. 2. Человек и мир в японской культуре. М., Главная редакция восточной литературы изд-ва «Наука», 1985. 3. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. Курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000 4. Аристотель Политика. Поэтика. // Сочинения: В 4-х т. Т.4. М.: Мысль, 1983. 5. Шекспир В. Соб. избр. произв. Т. 1. СПб, Terra Fantastica МГП «Корвус», 1992. 6. Грабарь И.. Петербургская архитектура в 18 и 19 веках. СПб: Лениздат, 1994. 7. Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х т. Т.1. М.: Искусство, 1983. 8. Литературная теория немецкого романтизма. Под ред. Н.Я.Берковского. – Л., 1934. 9. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5-ти томах. Т.3. М.: Искусство, 1967.