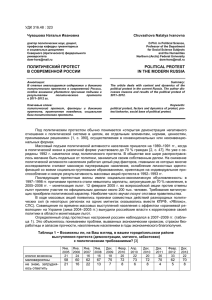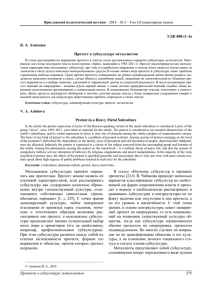К ответу
реклама

К ответу! Концепт протеста как исходный момент категории подотчетности1. М.Ильин Активизация протестных действий на рубеже и в начале второго десятилетия нынешнего века совпала с началом новой волны политического развития. Это позволяет связывать протест с демократизацией (ее 5-й волной?), а также рассматривать его как начальный момент обновления практик и институтов подотчетности. Концептуализация протеста задает когнитивные рамки для использования подотчетности. Однако для участников протестных действий сама когнитивная схема протеста остается далеко не ясной. В статье предлагается реконструкция восходящего еще к римскому праву понятию защиты и утверждения своих гражданских прав вопреки их ущемлениям. Это понятие выражали термины provocatio и protestatio. Ключевое значение Ковенанта в христианстве сделало естественной апелляцию к бесспорному авторитету ради защиты и утверждения своих прав и свобод. В дальнейшем идея протеста была развита в проекте протестантизма. Использовалась традиционная трехчленная когнитивная схема конфликта двух сторон и подключения решающего арбитра. В ходе более поздних революционных потрясений произошло установление прямой связи между протестом, провокацией и революционным действием как таковым. Это вызвало смысловую редукцию, замену трехчленных конструкций двучленными (право-левыми). В современной политической литературе и в дискурсе в целом соперничают два общих типа понимания протеста. Одна тенденция исходит го революционаристских установок и бинарных моделей, акцентируя неконвенциональность протеста. Другое понимание протеста предполагает апелляцию к общественному мнению из-за некоей обиды, которая обычно связана именно с нарушением конвенций – писаных или неписаных, а также включает явно или неявно выраженное требование восстановить попранную конвенцию. Далее в статье рассматриваются такие формы протеста, как петиция, демонстрация и манифестация. Анализируется внутренняя форма этих понятий и развитие их политического смысла, а также их формирующее воздействие на становление практик и институтов подотчетности. Upsurge of protest activities at the dawn of the first decade of this century coinsided with a new wave of political development. Protest can be associated with a new (the 5th ?) wave of democratization and to that effect with reshuffle of institutions and practices of democratic accountability. Conceptualization of protest may help to reshape democratic accountability. Still the cognitive scheme of protest remains unacknowledged by majority of protesters themselves. The article reconstructs notion of justification and enforcement of one’s rights dating back to Roman law and expressed by the terms provocatio and protestatio. Christian idea of Covenant and Testamentum enrooted appeal to higher authority for redress of grievances. The idea was further developed by Protestants. They employed trilateral cognitive scheme of two pleaders and an arbiter. Further revolutionary upheavals led to reduction of the scheme to binary (left-right) models. Present day discourses provide two models of protest: (1) binary schemata of nonconventional and obstinate protest, and (2) trinary schemata of appeal to outside arbiter, e.g. public opinion, international community etc. for restoration of violated norms. The inner forms and cultural implications of petition, demonstration and manifestation are vital for meaningful understanding of protest actions and to further reshaping democratic accountability. 1 Статья подготовлена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в рамках исследовательского проекта «“Good enough governance” в условиях режимных трансформаций: качество заимствованных институтов в странах догоняющего развития», а также Программы Научного фонда НИУ ВШЭ «Учитель-Ученики» НУГ «Когнитивный анализ научного дискурса отечественной и мировой политической науки» Ключевые слова: права и свободы, стандарты права, протест, протестация, провокация, завет, протестантизм, петиция, исправление обид, Великая Хартия вольностей, чартизм, ремонстрация, демонстрация, манифестация Key words: rights and liberties, protest, protestatio, provocatio, testamentum, Protestantism, petition, redress of grievances, Magna Charta, Chartism, remonstrance, demonstration, manifestation Активизация протестных действий на рубеже и в начале второго десятилетия нынешнего века совпала с началом новой волны политического развития. Многочисленные и разнообразные акции протеста определили характер «арабской весны». Они охватили города ведущих стран Запада. Достаточно вспомнить «окупай Уолл-стрит». Россия, Украина и многие другие страны нашего исторического пространства также пережили и переживают всплески протестной активности. Лозунги и заявления протестующих позволяют связывать их протест с мощной активизацией демократизации. Логично даже предположить, что протесты являются симптомами новой, уже пятой по счету волны демократизации. Подобный демократический пафос протестов позволяет рассматривать их также как начальный момент обновления практик и институтов подотчетности – важнейшей, по сути дела ключевой стороны современной демократии. Концептуализация протеста задает когнитивные рамки для использования подотчетности. Однако для участников протестных действий сама когнитивная схема протеста остается далеко не ясной. Для большинства российских коллег-политологов данное обстоятельство стало заметным уже вскоре после поднявшаяся в декабре 2011 года волна протестных действий. Она выявила важные стороны нашего нынешнего положения, а также состояния умов. Действительно, гражданский протест востребован значительной частью наших сограждан, особенно образованных, активных, живущих в Москве и некоторых крупных городах. Этот протест потенциально способен заполнить роковое зияние между двумя замеченными Пушкиным крайностями: «народ безмолствует» и «русский бунт бессмысленный и беспощадный». Основная масса населения не готова не только принять, но и понять смысл и значение протестов. Власти предержащие также неспособны адекватно отреагировать на них. Сами участки публичных гражданских акций воспринимаю свои действия плоско и поверхностно. От них все еще скрыты культурные смыслы протестов, демонстраций и манифестаций. В своих кратких заметках я попытаюсь обратить внимание читателей на некоторые из этих смыслов. Они не лежат на поверхности. В словарях можно найти лишь их следы, косвенные отражения, отблески. Требуются усилия, чтобы извлечь из культурных традиций – нашей собственной и тех, где они зародились – сохраненное в них «понимание сути дела», а значит и понятие гражданского протеста. Начну поэтому свою реконструкцию с неожиданного на первый взгляд слова провокация. В нынешнем русском словоупотреблении его смысл редуцирован до действий агента-провокатора, открывающего ящик Пандоры. Не так в языках и культурах, откуда мы заимствовали это слово и понятие. Например, английское прилагательное provocative означает «побуждающий», нередко даже «вдохновляющий» и только потом «вызывающий» и «провокационный». То же касается и глагола provoke. На первом месте идут такие значения, как «волновать, возбуждать, привлекать внимание», затем «раздражать, сердить» и только потом «провоцировать». Оказывается, что мы усвоили лишь малую толику смысла, самую узкую, последнюю по счету его модификацию. Чтобы точно называть вещи своими именами и адекватно действовать (вспомним завет Конфуция об «исправлении слов»), нужно выявить межкультурную генеалогию смыслов, обратившись к истории слов. И тогда нам станет понятно, что очевидный нам итог вытекает из далеко не очевидного начала. А в начале культурной традиции провоцирования лежит идея защиты своих прав. Поэтому и начинаю я с истории соответствующего слова. В римском праве существовало понятие защиты и утверждения своих гражданских прав вопреки их ущемлениям. Лексически это понятие выражалось именным словом provocatio, происходящим от глагола provoco, provocare. Этот глагол обладает вполне ясной внутренней формой, так как состоит из приставки pro- (направленность вперед, адресность) и корня, по смыслу связанного с громким обращением, криком (например, обозначающего «голос» – vox, а также «вещание, призывание» - voco, vocare, «качества звучности» – vocalis и т.п.). В языке римского права существовали понятия «вызова в суд» (vocatio) и «апелляции» (provocatio); последнее было исходно связано с ранне-полисной (или даже родовой?) практикой непосредственного обращения к народному (племенному?) собранию с жалобой на обиду, с требованием восстановления справедливости, особенно попранной ошибочным решением вождей. Лексиконцепт протестация (protestatio) в значении торжественного заявления, провозглашения появляется, судя по словарным данным, в христианских текстах, хотя отложительный глагол protestor, protestari – «торжественно заявлять, провозглашать, свидетельствовать» – известен позднее-классической латыни (Квинтилиан и др.). Глагол же testor, testari – «призывать в свидетели, свидетельствовать, завещать», – равно как и отглагольные существительные testimonium «свидетельство» и testamentum «завещание», – вполне распространенные юридические термины. Этимологически они происходят из реконструируемого выражения ter sto – «встать третьим», i.e. свидетельствовать или посредничать в споре двух сторон, откуда и произошло слово testis – «свидетель, очевидец, свидетельство, доказательство». Таким образом, в основе смысловой конструкции данных лексиконцептов лежит трехчленная когнитивная схема двух оппонентов и решающего арбитра, которая крайне важна для понимания дальнейшего смыслового развития идеи утверждения своего права, а таем самым и общего права. В христианской традиции лексиконцепт testimonium – «завет» (Ветхий и Новый Заветы) приобретает ключевую роль, выражая фундаментальную идею ковенанта, те. договора избранного народа со Вседержителем, а он выражен библейским словом ברית (bərîṯ, bərit). Смысл этого слова довольно широк, а его этимология не слишком надежна, хотя аккадский корень brt может указывать на глубинную семантику связи, связывания. Дальнейшее развитие – мистическая связь между Божественной Троицей и новыми людьми, или новым человечеством, структурно воспроизводящая Ветхий Завет, но осуществленная посредничеством Христа и его Благой Вести (Евангелие как Новый Завет). Вместе с тем, история дальнейшего развития лексиконцептов провокация и протестация не вполне ясна и требует специального изучения. Концептуализация духовного конфликта, возникшего на рубеже перехода от постцивилизационной хризалиды западного христианства к Современности, была связана с использованием лексиконцепта протестация, который дал обобщающее имя протестантизму – настоящей волне пересмотра существа церковной и политической организации на значительных пространствах Западной Европы. Здесь опять-таки очевидно использовалась древняя трехчленная когнитивная схема конфликта двух сторон и подключения решающего арбитра. Применившая эту схему «страдающая сторона» (реформаторы) обвиняет папский престол в разрушении основ христианского порядка и апеллирует (еще один важный термин римского права appellatio) к высшему авторитету – Евангелию как к источнику восстановления (реформации) истинного церковного и политического строя, искаженного «обидчиком». Фактически же происходит апелляция к рядовым прихожанам и низовым конгрегациям, которые и становятся судьями в конфликте двух сторон. С протестантизмом возникает и культурная форма протеста как способа и разновидности политического действия, функционирующая на основе тринарных концептных конструкций. Несколько иная ситуация сложилась в зоне Контрреформации. Здесь проявился феномен четкого разделения официальной и частной сфер деятельности, что повлекло за собой различные формы «двоемыслия», а также резкие противопоставления политических позиций на основе бинарных концептных конструкций. Дальнейшая история превращения лексиконцептов провокация и протест (протестация) тоже требует изучения, ибо способна прояснить многие политические понятия сегодняшнего дня. Я высказал бы гипотезу: влияние революционных сдвигов, вызванных Великой французской революцией, повлекло установление прямой и, может быть, даже жесткой связи между протестом, провокацией и революционным действием как таковым. Отсюда смысловая редукция, замена трехчленных конструкций двучленными (право-левыми), когда протест, провокация и революционные действия ассоциируются с разрушением, обычно насильственным, старого порядка. Такое понимание предполагает прямую связь протеста с отказом от прежних конвенций, т.е. его восприятие как неконвенционалъного действия. Это крайне одностороннее понимание явно не согласуется с действительной практикой в ее проявлениях, во-первых, в странах англосаксонской зоны, а во-вторых, в остальных европейских регионах по мере углубления процессов политической модернизации, утверждения конституционности и представительного правления. В данном случае именно конституция принимает на себя роль квазисакрального авторитета, своего рода арбитра в опротестовании гражданами правонарушающих действий правящих кругов, т.е. в отношениях режима и оппозиции. Значит, позволителен вывод, что в современной политической литературе и в дискурсе в целом соперничают два общих типа понимания протеста. Одна тенденция исходит го революционаристских установок и бинарных моделей, акцентируя неконвенциональность протеста. Другое понимание протеста предполагает апелляцию к общественному мнению из-за некоей обиды, которая обычно связана именно с нарушением конвенций – писаных или неписаных, а также включает явно или неявно выраженное требование восстановить попранную конвенцию. Набросанная краткая схема была бы неполна, а тем самым ущербна и обманчива без отсылки к важнейшим из сопутствующих слов, смыслов и практик протеста. Прежде всего это петиция (petitio). В римском праве это индивидуальное или коллективное прошение, а также действие, предшествующее рассмотрению казуса в суде и обуславливающее начало судебного процесса. В политическом смысле петиция связана с гражданской инициативой утверждения прав и свобод, как только идея таких прав и свобод появляется в жизни европейских стран. Известна, например, замечательная «Петиция о правах» (Petition of Right), направленная королю Карлу I английским парламентом в мае 1628 года и после ее «принятия» (в буквальном смысле) королем ставшая «второй Великой хартией», а впоследствии одним из ключевых актов английской конституции. Кстати, и сама Великая хартия вольностей (Magna Charta Libertatum) приобрела свой нынешний конституционный характер после принятия в 1215 году королем Иоанном Безземельным петиции или так называемых «баронских статей». Впоследствии большинство пунктов этого документа были преобразованы и развиты новыми конституционными актами. Прямое действие сохраняют лишь три – первый (свободы церкви Англии и всем «свободным людям страны», to all the Freemen of our Realm, omnibus liberis hominibus regni nostri), девятый (свободы городу Лондону, то есть его горожанам) и, наконец, тридцать девятый (право на справедливый суд равных в соответствии с «законом страны», то есть своего рода протоконституцией, per legale judicium parium suorum vel per legem terre). С эмансипацией прежде подчиненного населения и с зарождением массового общества появились новые возможности петиционирования. Так, уже в первой половине XIX столетии чартисты предприняли три мощных попытки представить уже парламенту, точнее по букве британской конституции королю в парламенте (king in parliament) всенародно подписанные петиции, которые должны были стать Народной хартией (People’s Charter). В июле 1839 года петиция с 1 280 тысячами подписей была рассмотрена и отвергнута парламентским большинством в 235 голосов против 46. В мае 1842 года петиция с более чем тремя миллионами под подписей вновь была отвергнута 287 голосами против 59. Наконец, в 1848 году новая, уже третья петиция собрала громадное число подписей. По утверждению одного из лидеров чартистов О’Коннора их было 5 миллионов. Комиссия парламента насчитала только 2 миллиона, а среди них подписи королевы Виктории, герцога Веллингтона, апостола Павла и т.п. Это дискредитировало петицию и она не рассматривалась. Однако процесс распространения политических и избирательных прав, расширение корпуса граждан, начатый в 1832 году, продолжился. Массовое петиционирование принесло свои плоды. В современном конституционном праве появился институт народной законодательной инициативы. Понемецки он называется Volkspetition. Важнейшая культурная модель отставания своих прав и утверждения верховенства права заключается таким образом в ясном формулировании требований (констатации прав) в форме обращения к законодателю с дальнейшим превращением этих требований в положения закона, а то и органического закона, конституции после должного принятия их законодателем. Данное правило совершенно не использовалось участниками протестных акций нынешней зимой. Требования были расплывчаты и обращены в никуда. Никакого их правового санкционирования не предполагалось. Да и сам законодатель объявлялся «нелегитимным» (абсурдные формулировки и по словам и по смыслам, но об этом в другой раз). Наконец, с точки зрения политической прагматики требования не предполагали компромисса с властями. Не предлагался сиюминутный «сговор», из которого вырастала бы долгосрочная практика и соответствующее конституционное право. Никому и в голову не приходила возможность Великой Хартии вольностей для России. Протестные акции вылились в топанье ногами, хлопанье руками и в звонкие выкрики. В нынешнем словоупотреблении это называется демонстрации и манифестации. Сводится ли их культурный смысл к детскому празднику непослушания? Отнюдь нет. При всей яркости и, быть может, необходимости для начала детского праздника непослушания в качестве подготовки к формулированию петиции действительно современное политическое действие предполагает – в великой формуле И.Канта о Просвещении – выход из самим себе навязанного несовершеннолетия (aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit). Способность к самостоятельному действию предполагается культурным кодом и демонстрации, и манифестации. Нужно только этот код расшифровать и усвоить. Подсказкой для расшифровки культурного и политического смысла демонстраций может послужить сравнение с похожим, однокоренным словом ремонстрации или просто монстрации. Так назывались жалобы (фактически те же петиции), с которыми те же самые английские бароны обращались к своему верховному властителю. Наиболее известны ремонстрации 1297 и 1317 годов, которые, как и в случае с хартиями, вылились в утверждение прав и привилегий. Однако самой известной, пожалуй, была так называемая Великая ремонстрация 1641 года. Сформулированные в ней парламентом две с лишним сотни требований не были приняты короной, что привело к революции и гражданской войне. Однако многие из этих требований впоследствии вопли в политическую практику и конституцию, отразились в многовековой политической повестке дня Англии и Великобритании. Что же говорит нам корень мон, содержащийся в словах демонстрация и ремонстрация? Что предполагается вновь (re) и кому-то (de) делать, предлагать? Ответ прост для того, кому известна латынь и культурная практика римлян. В памяти всплывает слово mens, mentis – «ум, мышление, дух, совесть, намерение». Помните – mens sana in corpore sano – «здоровый дух да обретет здоровое тело». Таково более точное понимание Ювенала в отличие от банального «физкультурного» искажения этой фразы. Однако сам разум и дух коренятся, как показывает однокоренной недостаточный глагол memini, meminisse, а также наши родные глаголы помнить и мнить, в припоминании чего-то крайне важного, коренного для всего нашего существования. Итак, демонстрация в его полном культурном смысле не детская шалость, а напоминание себе и другим, и тем, кто демонстрирует, и тем, кому демонстрируется, общих и глубинных оснований духа и смысла совместного существования. Демонстрация призвана соединять, а не разъединять. Ну а теперь о манифестации. Здесь тоже богатейшая традиция накопления смыслов, идущая от античности через христианскую эпоху к нашим дням. Для нас латинское по происхождению слово манифестация звучит далеко не так содержательно, как греческие эпифания и теофания, а тем более наше родное богоявление. Первоначально греческое слово ἐπι-φάνεια – «явление над» – означало неожиданное и чудесное появление чего-то сокрытого до поры, например, зари, а потом и божества, прежде всего лучезарного Феба. Затем, уже в христианскую эпоху эпифания превратилась в теофанию, а по-русски в богоявление, сначала в явление Христа трем царям-магам после Рождества, а потом в его новое ожидаемое второе пришествие. На латыни это называлось manifestatio. Внутренняя форма слова на первый взгляд может показаться простой. Первый корень man- означает руку. Второй fest- обычно трактуют через реконструируемое причастие *festus от тоже реконструируемого бесприставочного глагола *fendo, fendere. В латыни сохранились его приставочные формы defendo, defendere – «отражать, защищать» и offendo, offendere – «ударять, столкнуться». Так что смысл корня связан, вероятно, с неким воздействием, ударом. Смысл manifestatio должен бы читаться как некое воздействие рукой, как «рукоприкладство». Это подтверждает наличие у прилагательного manifestus такого значения, как «пойманный на месте преступления, схваченный или ударенный рукой». Давайте, однако, пофантазируем. Попробуем вместо руки, manus поставить ум, mens. Получается куда лучше и понятнее – «воздействие разумом». Вспоминаете ремонстрацию и демонстрацию. Есть, правда, чисто лингвистические возражения, связанные с необъясняемыми фонетическими трансформациями. Но и тут можно предположить, что свою роль сыграла народная этимология римлян, которые подменили скрытое схватывание разумом конкретным, осязаемым и очень наглядным воздействием рукой. Какими бы ни были истоки манифестации, в христианскую эпоху это понятие осознавалось как проявление, внесение в мир чего-то чудесного и общезначимого. Соответствующие культурные практики вполне органично получили развитие в публичных шествиях, смысл которых заключался в закреплении участниками и зрителями общих устремлений, направленных на установление и поддержание общего для них всех политического порядка. В завершение этих коротких заметок попробую еще раз обобщенно указать на коренные культурные смыслы протеста, демонстраций и манифестаций. Во всех случаях в большей или меньшей мере, так или иначе внимание фиксируется на достижении согласия по поводу желаемого порядка, прав и свобод вовлеченных в протесты, демонстрации и манифестации людей, стандартов справедливости и права. Различия могут очень существенно варьироваться, однако и протест, и демонстрации с манифестациями сохраняют свой культурный смысл и функциональность благодаря конструктивному взаимодействию всех участников, включая и приглашенных инициаторами извне, прежде всего властей предержащих. И наоборот – редукция смысла, сведение акций всего лишь к фрагментированному и контекстом определяемому спонтанному самовыражению, к чисто эмоциональным реакциям на обиды (grievances) ведет к дисфункции протестных действий. Именно это и происходит на наших глазах. Причин этому много. Но одна из них и, вероятно, далеко не последняя по значимости заключается в культурной неподготовленности участников протестных акций. Ну и, конечно, властей, которые и не хотят, и не могут понять свою историческую ответственность. Что в этих условиях делать нам, политологам и, шире, людям науки? Серьезно браться за задачу раскрытия когнитивных схем самой идеи протеста. Такая работа позволит яснее представить возможности и альтернативы протестных действий. А это в свою очередь позволит понять, как от начального момента демократизации в виде протестов перейти к обновлению и переформировыванию практик и институтов подотчетности. В некоторых случаях это может быть даже первоначальное становление практик и институтов вертикальной подотчетности. Своим казалось бы чисто академическим анализом внутренней формы основных понятий протеста, их политического смысла мы способны помочь стремящимся к политическому действию людям усваивать необходимые им культурные коды. Мы можем и должны помочь им посмотреть на происходящее кругом в расширенной перспективе и ретроспективе. Только тогда за деревьями обид и эмоций нынешние поколения протестующих граждан смогут разглядеть конституционный лес прав и свобод – и наших, и многих поколений, прошлых и будущих. Только тогда мы, политологи-профессионалы, сможем адекватно разъяснить суть дела политикам по случаю, и политикам по призванию, помочь им решить минутные проблемы с оглядкой на долгую традицию свободы, порядка и справедливости, только в рамках которой наша общая жизнь и история приобретает общий смысл.