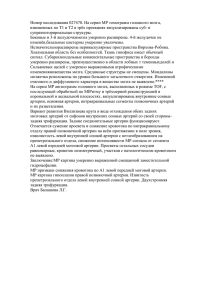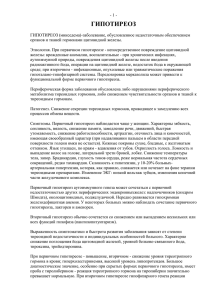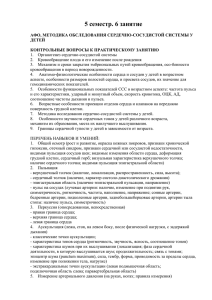А.И. Ермолаева ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ РАССТРОЙСТВА
advertisement
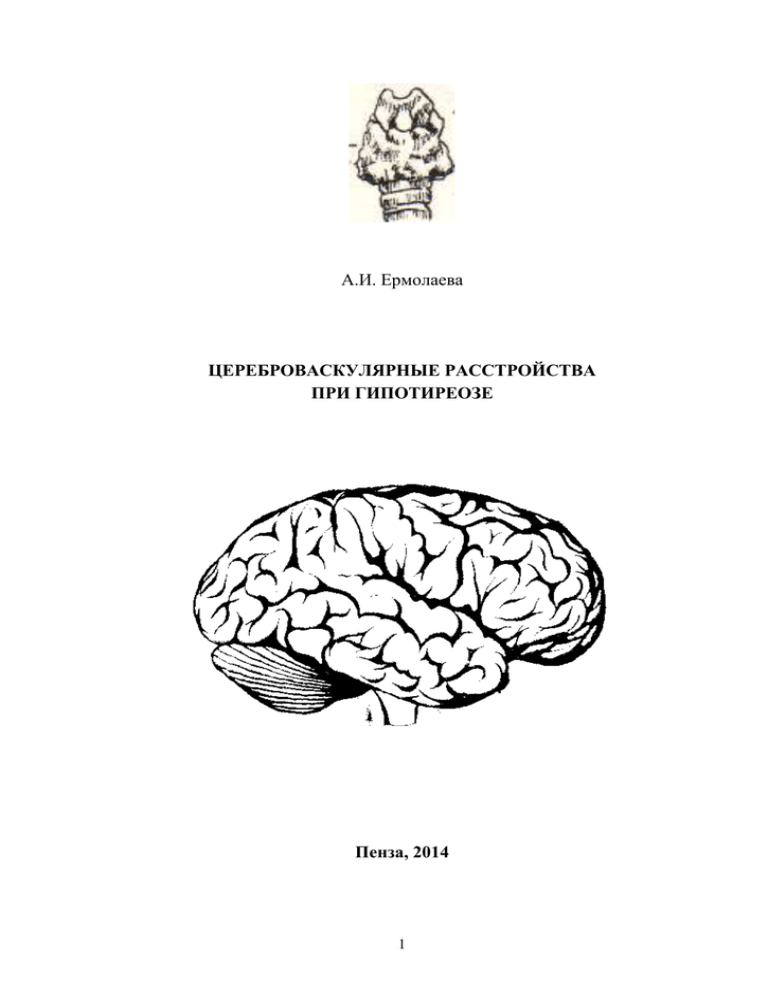
А.И. Ермолаева ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ Пенза, 2014 1 А.И. Ермолаева ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ Пенза, 2014 2 А.И. Ермолаева ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ Общее число страниц - 94 Пенза, 2014 3 УДК 616.831 – 005.1 + 616.441 – 008.64 Ермолаева, А.И. Цереброваскулярные расстройства при гипотиреозе. Пенза: Издательство Пенз. гос. ун-та, 2008. – 94 с. В монографии на основе анализа собственных исследований и литературных данных описаны особенности клиники хронической недостаточности мозгового кровообращения и синдрома позвоночной артерии при гипотиреозе. Изложены результаты параклинических обследований у данных больных, описано лечение с учетом воздействия на основное заболевание и эндокринную патологию. Материал представляет интерес для неврологов, терапевтов, эндокринологов, врачей общей практики. Общее количество таблиц и рисунков - 34 Пенза, Изд-во ПГУ, 2014 г. 4 СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ АГ АД АЛТ АКТГ АСТ ВСА ГАГ ГИ ГЛРК ГТ ДИТ ЗВП ИГ ИИ ИБС ИЦС КГ КТ МИТ МРТ МСЧ МДЧ ОА ОНМК ОСА ПА ПТИ ПТС СПА СВП СР ССВП ССЧ сТ3 сТ4 Т3 Т4 ТКДГ ТРГ артериальная гипертензия артериальное давление аланинаминотрансфераза адренокортикотропный гормон аспартатаминотрансфераза внутренняя сонная артерия гликозаминогликаны геморрагический инсульт гипоталамо-лимбико-ретикулярный комплекс гипотиреоз дийодтирозин зрительные вызванные потенциалы исследуемая группа ишемический инсульт ишемическая болезнь сердца индекс циркуляторного сопротивления контрольная группа компьютерная томография монойодтирозин магнитно-резонансная томография максимальная систолическая частота максимальная диастолическая частота основная артерия острое нарушение мозгового кровообращения общая сонная артерия позвоночная артерия протромбиновый индекс «пустое» турецкое седло синдром позвоночной артерии слуховые вызванные потенциалы спектральное расширение соматосенсорные вызванные потенциалы средняя арифметическая систолическая частота свободный трийодтиронин свободный тироксин трийодтиронин тироксин транскраниальная допплерография тиреотропин-рилизинг-гормон 5 ТТГ УЗДГ УЗИ ХНМК ЦС ЦА ЭЭГ тиреотропный гормон ультразвуковая допплерография ультразвуковое исследование хроническая недостаточность мозгового кровообращения циркуляторное сопротивление церебральная артериография электроэнцефалография 6 СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Биосинтез и механизм действия тиреоидных гормонов 2. Этиология, патогенез и клиника гипотиреоза 3. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (этиология, патогенез, клиника и диагностика) 4. Клинические проявления синдрома позвоночной артерии 5. Особенности течения цереброваскулярных расстройств при гипотиреозе 5.1.Особенности течения синдрома позвоночной артерии при гипотиреозе 5.2. Особенности течения хронической недостаточности мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза 6. Лечение цереброваскулярных расстройств при гипотиреозе 7. Цереброваскулярные расстройства при синдроме «пустого» турецкого седла Заключение Литература 7 8 9 13 18 29 41 46 55 67 73 86 87 Введение Цереброваскулярные заболевания являются одной из наиболее актуальных медицинских и социально-экономических проблем. Одним из существенных факторов риска цереброваскулярных заболеваний являются эндокринопатии. Число таких больных увеличивается во всех экономически развитых странах мира. Недостаточный уровень тиреоидных гормонов в органах и тканях ведет к развитию гипотиреоза – заболеванию, впервые описанному В. Галлом в 1873 г. Удельный вес гипотиреоза среди других эндокринных заболеваний постепенно увеличивается. Эта проблема приобретает особое значение у больных пожилого возраста, при котором ряд общих неспецифических симптомов может быть ошибочно отнесен к естественной возрастной инволюции или органной патологии (Старкова Н.Т., 2002). В литературе имеется описание клинической картины гипотиреоза и осложнений, связанных с поражением периферической нервной системы, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата (Валдина Е.А., 2006, Балаболкин М.И. с соавт., 2007). Но особенности течения цереброваскулярной патологии, в частности нейрососудистых вертеброгенных синдромов и проявлений хронической недостаточности мозгового кровообращения, недостаточно исследованы и продолжают оставаться одной из важных проблем, связанных с высокой нетрудоспособностью, требующей поиска эффективных методов лечения. Знание особенностей течения хронической недостаточности мозгового кровообращения при гипотиреозе позволяет улучшить дифференциальную диагностику и проведение рационального лечения данных больных. Наиболее информативные показатели по данным клинического, рентгенологического, допплерографического и нейровизуализационного обследования важны при проведении профилактики цереброваскулярных заболеваний не только в стационарных, но и в амбулаторных условиях. Гипотиреоидные неврологические расстройства из разряда редких перешли в число часто встречающихся, совершенствование их диагностики и лечения стало одной из актуальных задач неврологии (Калинин А.П., Котов С.В., 2001). В задачи нашей работы входило описание течения наиболее часто встречающихся цереброваскулярных заболеваний у больных гипотиреозом с учетом вертеброгенных нарушений. 8 1. Биосинтез и механизм действия тиреоидных гормонов. Щитовидная железа – единственный орган, синтезирующий органические вещества, содержащие йод. Она располагается между щитовидным хрящем и 5-6 трахейными кольцами на передней поверхности трахеи. Масса щитовидной железы у взрослого человека составляет 12-25 г. Щитовидная железа состоит из левой и правой долей, соединенных между собой перешейком. Размеры каждой доли составляют 2,5-4 см в длину, 1,5-2 см в ширину и 1-1,5 см толщины. Реже выявляются добавочные доли щитовидной железы. Щитовидная железа заключена в соединительнотканную оболочку, состоящую из наружной и внутренней капсулы, в пространстве между которыми находятся сосуды, возвратный нерв и околощитовидные железы. Синтез тиреоидных гормонов осуществляется в фолликулах, представляющих собой морфологическую и функциональную единицу щитовидной железы. Форма и размеры фолликулов зависят от функционального состояния железы, их диаметр колеблется от 15 до 500 мкм. Стенки фолликулов состоят из одного слоя эпителиальных клеток (тиреоцитов), верхушки которых направлены в просвет фолликула, а основание прилежат к базальной мембране. Фолликулы (20-40) образуют дольки, которые отделены друг от друга соединительной тканью. Транспорт йодида через мембрану тиреоцита является требующим затрат энергии процессом, при котором йодид поступает из среды с меньшей концентрацией (плазма крови) в среду с высокой концентрацией (ткань щитовидной железы). Концентрация свободного йода в щитовидной железе в 30-40 раз выше, чем в плазме крови. Транспорт йода через мембрану клетки осуществляется с участием Na, К-, АТФ-азы. Ионы натрия тоже влияют на транспорт йодида, активируя процессы выхода йодида из клеток щитовидной железы. Одним из возможных переносчиков йодида через клеточную мембрану могут быть фосфолипиды. Не исключено, что перенос йодида через мембрану тиреоцита осуществляется специфическим, еще неидентифицированным белком. Это предположение подкрепляется тем, что процесс захвата и транспорта йодида находится под генетическим контролем, а также тем, что повышение поглощения йода щитовидной железой под влиянием тиреотропного гормона (ТТГ) происходит лишь через несколько часов, а не сразу после воздействия гормона. Встречаются клинические варианты гипотиреоза, обусловленные недостаточностью образования тиреоидных гормонов вследствие дефекта в системе, осуществляющей захват йодида из плазмы крови и транспорт его 9 через мембрану тиреоцита. Клеточные мембраны тиреоцитов не могут отличить моновалентные анионы один от другого и поэтому способны захватывать наряду с йодидом и другие анионы, несущие отрицательный заряд: перхлорат, пертехнетат и тиоцианат, которые являются конкурентными ингибиторами процесса накопления йодида в щитовидной железе. Если в организм избыточно поступают эти анионы, происходит их накопление в щитовидной железе и путем конкуренции угнетается поглощение йода. В таких случаях недостаточный захват йодидов щитовидной железой приводит к снижению их количества в этом органе и как следствие – к недостаточному синтезу тиреоидных гормонов, что, например, может наблюдаться при употреблении хлорированной воды. После захвата йода щитовидной железой осуществляется синтез тиреоидных гормонов, который начинается с быстрой фиксации йода в молекулу тирозина. Прежде чем поступивший в щитовидную железу йодид будет использован для синтеза тиреоидных гормонов, он должен быть окислен до активной формы при помощи фермента тиропероксидазы и перекиси водорода. Активированный йодид способен йодировать молекулы тирозина с образованием монойод-тирозина (МИТ) или дийодтирозина (ДИТ). При помощи тиропероксидазной системы щитовидная железа использует каждую молекулу поступающего в нее йода и препятствует возможному возвращению йодида в кровяное русло. В заключение гормоносинтеза МИТ и ДИТ под влиянием окислительных ферментов объединяются с образованием биологически активных гормонов щитовидной железы: трийодтиронина – Т3 и тироксина – Т4. При объединении двух молекул ДИТ образуется Т4; если происходит объединение между молекулами МИТ и ДИТ, образуется Т3 (см. схему 1). Иногда случаи гипотиреоза, когда процесс биосинтеза тиреоидных гормонов протекает нормально лишь до стадии конденсации, в то время как процесс образования Т3 и Т4 резко заторможен. По мере того, как на молекуле тиреоглобулина все остатки тирозина йодируются с последующим образованием тирозинов и тиронинов, она перемещается в просвет фолликула, где и происходит их накопление. При снижении уровня тиреоидных гормонов в сыворотке крови активизируются центры, контролирующие секрецию ТТГ и приводящие к стимуляции его высвобождения. Таким образом, биосинтез тиреоидных гормонов полностью находится под контролем ТТГ. Также контроль за биосинтезом тиреоидных гормонов осуществляет ЦНС и гипоталамус. Более 70% поступивших из щитовидной железы в кровь Т3 и Т4 связываются с белками крови (тироксинсвязывающий глобулин, транстиретин, или тироксинсвязывающий альбумин и преальбумин), осуществляющими транспортную функцию. Роль белков, связывающих тиреоидные гормоны 10 заключается в том, что они связывают избыточное количество этих гормонов, ограничивая в определенных пределах фракцию свободных гормонов, и, с одной стороны, предупреждают потерю их через выделительную систему (печень и почки), а с другой стороны – регулируют скорость доставки тиреоидных гормонов на периферию, где они оказывают основное метаболическое действие. Схема 1. Схема секреции тиреоидных гормонов (Балаболкин М.И. Эндокринология. – М., Универсум паблишинг, 1998.) Тиреоидные гормоны циркулируют в крови почти полностью в связанной с белками форме. Свободная форма для Т4 составляет – 0,04% и для Т3 – 0,4%. Около 68% Т4 и 80% Т3 связаны с тироксинсвязывающим глобулином, 11% Т4 и 9% Т3 с транстиретином и 21% Т4 и 11% Т3, циркулирующих в крови, связаны с альбумином. Гормоны, связанные с белками, биологически неактивны, то есть не способны прикрепляться к соответствующему рецептору. Чтобы произошло взаимодействие гормона с рецептором, гормоны должны высвободиться из связи с белками. Фракция свободного гормона составляет наибольшую часть его общего количества, циркулирующего в крови, именно эта фракция обеспечивает присущий данному гормону биологический эффект. Изменение количества белков, 11 связывающих гормоны, приводит к развитию патологических состояний, обусловленных избытком или недостатком эффекта соответствующего гормона. Тироксинсвязывающий глобулин связывает наиболее прочно, по сравнению с другими белками, как Т4, так и Т3 и является стабильным, относительно инертным резервуаром тиреоидных гормонов. Транстиретин и альбумин представляют собой лабильную фракцию тиреоидных гормонов, способную поставить при различных стрессовых ситуациях необходимое количество свободных тиреоидных гормонов. Различная степень связывания Т3 и Т4 с тироксинсвязывающими белками объясняет более быстрое периферическое действие Т3. Концентрация тироксинсвязывающих белков может изменяться под влиянием различных факторов. Повышению содержания этих белков способствует гипотиреоз, прием эстрогенов, беременность, острый инфекционный гепатит. Снижение тироксинсвязывающего глобулина наблюдается при лечении глюкокортикоидами, андрогенами, а также при циррозе печени, нефротическом синдроме, тиреотоксикозе и недостаточности белкового питания. Встречаются наследственные заболевания, при которых нарушается синтез транспортных белков. Их изменение выражается либо увеличением количества белков в 3-5 раз, либо их снижением вплоть до полного отсутствия, либо возникновением чрезмерно прочной связи между тироксином и белком. Наибольшее биологическое значение имеет Т3, который активнее Т4 в 45 раз. В течение длительного времени считалось, что Т4 и Т3 в равной степени принимают участие в обмене веществ. На периферии Т4 конвертируется (переходит) в Т3 и биологическое действие тиреоидных гормонов более чем на 90-92% осуществляется за счет Т3. Тиреоидные гормоны необходимы для нормального роста и развития организма. Они контролируют образование тепла, скорость поглощения кислорода, участвуют в поддержании нормальной функции дыхательного центра, оказывают инотропный и хронотропный эффект на сердце, увеличивают количество β-адренергических рецепторов в сердечной и скелетной мышцах, жировой ткани и лимфоцитах, увеличивают образование эритропоэтина и повышают эритропоэз, стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, стимулируют синтез многих структурных белков в организме. У человека снижение биосинтеза и секреции этих гормонов приводит к задержке физического и психического развития, а также к нарушению дифференцировки скелета и ЦНС. 12 2. Этиология, патогенез и клиника гипотиреоза В настоящее время увеличивается удельный вес гипотиреоза. Гипотиреоз – клинический синдром, обусловленный понижением функции щитовидной железы. По механизму происхождения различают первичный, вторичный и третичный гипотиреоз. При первичном гипотиреозе местом локализации патологического процесса является щитовидная железа, при вторичном – гипофиз (имеется недостаточная продукция тиреотропного гормона – ТТГ), а при третичном – гипоталамус (дефицит тиреотропинрилизинг-гормона – ТРГ) (Дедов И.И., 1995). Гипотиреоидное состояние может возникнуть в результате лечения тиреотоксикоза: после операции на щитовидной железе, применения мерказолила или радиоактивного йода. Определенную роль в развитии латентного гипотиреоза играет ятрогенный фактор: длительный прием йодсодержащих лекарственных препаратов (амиодарон); лекарств, содержащих соли лития; длительное лечение интерлейкином-2 или α-интерфероном. Причиной вторичного гипотиреоза у взрослых наиболее часто является поражение гипофиза воспалительного, опухолевого или травматического генеза со снижением выработки ТТГ, повреждение гипоталамической области с нарушением синтеза и высвобождения ТРГ и как следствие снижение продукции ТТГ, Т3 и Т4, обозначаемое как третичный гипотиреоз. Подобные эндокринные расстройства нередко обнаруживают у больных с врожденными атрофическими процессами головного мозга: стрионигральной дегенерацией, оливопонтоцеребеллярной атрофией, другими наследственными атаксиями (Калинин А.П., Котов С.В., 2001). У абсолютного большинства больных отмечается гипотиреоз первичный (95%), наиболее частой причиной которого является аутоиммунный тиреоидит (Браверманн Л.И., 2000; Вольпе Р., 2000; Старкова Н.Т., 2002). Критерии лабораторного диагноза первичного гипотиреоза следующие: общий Т4 (или свободный Т4) ниже нормы, содержание ТТГ в сыворотке крови выше нормы. Повышение уровня ТТГ – признак первичного гипотиреоза. При легком течении гипотиреоза общий Т4 может оставаться в пределах нормы, но уровень ТТГ повышен. Состояние, при котором клинические признаки гипотиреоза слабо выражены или отсутствуют, общий Т4 нормальный, а уровень ТТГ повышен, называется скрытым гипотиреозом (Дедов И.И., 1995; Лори А. Кейн и Хусейн Гариб, 2000; Кларк Т. Сейвин, 2000; Калинин А.П., Котов С.В., 2001). Д. Гершман (1999 г.) относит к скрытому гипотиреозу состояния, когда базальный уровень ТТГ находится в диапазоне 5-20 мЕ/л, а уровни общего Т4 и свободного Т4 – нормальные. Многие эндокринологи, особенно если 13 имеется гиперхолестеринемия, назначают в таких случаях левотироксин. Пробный курс заместительной гормональной терапии проводится в расчете на то, что самочувствие больного улучшится, у него прибавятся силы, снизится вес. При этом предполагается, что уровень Т4 до лечения недостаточен для поддержания эутиреоза (даже если Т4 находится в пределах нормы). Другая цель пробного лечения – выявление дисфункции щитовидной железы. Некоторые врачи не назначают левотироксин при бессимптомном гипотиреозе, а наблюдают за больными, проверяя функцию щитовидной железы каждые 6 месяцев. В таких случаях заместительную гормональную терапию начинают, когда на фоне повышения ТТГ снижается уровень Т4 и появляются четкие клинические признаки гипотиреоза (Гершман Д, 1999; Кларк Т. Сейвин, 2000; Энрико Л. Окампо и Мартин И. Серкс, 2000). Низкий общий Т4 на фоне нормального или сниженного содержания ТТГ указывает на гипотиреоз гипофизарного или гипоталамического происхождения. Д. Гершман приводит следующую классификацию форм гипотиреоза: первичный, вторичный и периферический. Первичный гипотиреоз обусловлен врожденными или приобретенными нарушениями структуры или функции тироцитов. Причинами вторичного гипотиреоза являются заболевания аденогипофиза или гипоталамуса. Периферический гипотиреоз обусловлен резистентностью тканей-мишеней к Т4 и Т3, вызванной генетическими дефектами рецепторов Т4 и Т3. Значение синдрома периферической нечувствительности к тиреоидным гормонам в генезе гипотиреоза недооценивается в реальной клинической практике (Гершман Д., 1999). Ф.М. Эгарт указывает, что недооценивается значение периферического гипотиреоза, возникающего либо в связи с нарушением метаболизма тиреоидных гормонов на периферии, в частности образованием из Т4 не Т3, а неактивного, реверсивного Т3, либо в результате снижения чувствительности ядерных рецепторов органов и тканей к тиреоидным гормонам. Остается спорным вопрос о возрастной деградации уровня активных тиреоидных гормонов в результате нарушенного периферического метаболизма и об изменениях в самой щитовидной железе в процессе старения. При скрининге популяций старше 60 лет явный гипотиреоз был обнаружен у 3,4%, преклинический у 5,2% обследуемых (Beck-Peccoz P. Et al., 1985; Кларк Т. Сейвин, 2000; Эгарт Ф.М., 2002; Кандор В.И., 2002). Патогенез (особенно первичного) гипотиреоза определяется снижением уровня тиреоидных гормонов, имеющих спектр влияния на физиологические функции и метаболические процессы в организме 14 (Кандор В.И., 2002). В результате угнетаются все виды обмена, утилизация кислорода тканями, тормозятся активность различных ферментных систем, газообмен и основной обмен. Замедление синтеза и катаболизма белка и белковых фракций, а также процесса их выведения из организма ведет к значительному увеличению продуктов белкового распада во внесосудистых пространствах органов и тканей, в коже, в скелетной и гладкой мускулатуре, накапливается креатинфосфат. Одновременно снижается содержание нуклеиновых кислот, меняется белковый спектр крови в сторону повышения глобулиновых фракций, а в интерстиции концентрируется значительное количество альбумина, изменяется структура гемоглобина. Патогенез повышения мембранной и транскапиллярной проницаемости для белка, характерного для гипотиреоза, во многом не изучен. Предполагается участие вазоактивных субстанций (например, гистамина), более вероятно, связь с замедлением лимфооттока, уменьшающим возврат белка в сосудистое русло. В сердце, легких, почках, серозных полостях, во всех слоях кожи избыточно депонируются кислые гликозаминогликаны (ГАГ), преимущественно глюкуроновая кислота и в меньшей степени – хондроитинсерная. Избыток ГАГ меняет коллоидную структуру соединительной ткани, усиливает ее гидрофильность и связывает натрий, что в условиях затрудненного лимфооттока формирует микседему. На механизм задержки в тканях натрия и воды может также влиять избыток вазопрессина, продукция которого тормозится тиреоидными гормонами. Наряду с тенденцией к повышению уровня внутриклеточного и интерстициального натрия имеется склонность к гипонатриемии и снижению стенки концентрации внутриклеточного калия. Уменьшается также насыщенность тканей свободными ионами кальция, замедляются утилизация и выведение продуктов липолиза, повышается уровень холестерина, триглицеридов, βлипопротеидов (Эгарт Ф.М., 2002). Дефицит тиреоидных гормонов тормозит развитие ткани мозга и угнетает высшую нервную деятельность, что особенно ощутимо в детском возрасте. Но и у взрослых развивается гипотиреоидная энцефалопатия, которая характеризуется снижением психической активности и интеллекта, ослаблением условной и безусловной рефлекторной деятельности. Ограничивается физиологическая активность других эндокринных желез и в первую очередь коры надпочечников, нарушается периферический метаболизм кортикостероидов и половых гормонов. Компенсаторно повышается уровень катехоламинов, но в отсутствии тиреоидных гормонов их физиологические эффекты не реализуются из-за снижения чувствительности β-адренорецепторов (Калинин А.П., Котов С.В., 2001). Гипотиреоз сопровождается повышением синтеза холестерина 15 и снижением его катаболизма, угнетением обмена и скорости клиренса хиломикронов, повышенным ростом количества общих триглицеридов и триглицеридов липопротеидов низкой плотности (Эгарт Ф.М., 2002). Диагностика выраженных форм гипотиреоза не вызывает затруднений, так как имеется типичная клиническая симптоматика (Дедов И.И., 1995). При визуальном обследовании больного при гипотиреозе выявляются периорбитальный отек, отечность лица, губ, языка, двусторонний птоз до середины зрачка, сухость кожи, истончение и ломкость волос, участки облысения. Больной вял, заторможен, речь нечеткая, голос осипший, слух снижен. У женщин может быть синдром галактореи, у мужчин – гинекомастия. Отмечается накопление жидкости в полостях – гидроторакс, гидроперикард, асцит, гидроцеле у мужчин. Больных беспокоит общая слабость, которая сочетается с гипертрофией скелетных мышц. Данные симптомы могут частично отсутствовать, или бывают выражены слабо. Поэтому наиболее доказательным является гормональное исследование. Клиническая картина выраженного гипотиреоза очень полиморфна, и больные предъявляют массу жалоб. Со стороны нервной системы отмечаются нарушения памяти, заторможенность, депрессия, парестезии, часто вследствие туннельных синдромов. Артериальное давление может быть низким, нормальным и повышенным. Артериальная гипертензия, по данным литературы, отмечается у 10-50% больных. Статистические исследования показали, что связанное с возрастом постепенное повышение артериального давления более выражено у гипотиреоидных пациентов, чем у лиц с нормальной функцией щитовидной железы. Расстройства периферической нервной системы проявляются парестезиями, невралгиями, снижением сухожильных рефлексов. Симптомы полиневропатии могут быть не только при явном гипотиреозе, но и при скрытом. Из психических расстройств характерны вялость, апатия, ухудшение памяти, снижение способности концентрировать внимание, остроты восприятия и реакции. Беспокоит сонливость днем и бессонница ночью. Может быть повышенная раздражительность. Гипотиреозу могут сопутствовать проявления офтальмопатии (Калинин А.П., Котов С.В., 2001). В клинической картине гипотиреоидной энцефалопатии, развивающейся у взрослых больных гипотиреозом, наиболее частыми являются психоневрологические нарушения. При тяжелом течении гипотиреоза может развиться псевдодеменция с угнетением когнитивных функций. Нарушение обмена серотонина в веществе головного мозга при повышении уровня ТТГ, обусловливает развитие депрессии (Cleare A.J et al., 1995). Среди больных депрессией распространенность скрытого гипотиреоза по данным J.J. Haggerty и A.J.Prange (1995) выше, чем в 16 обычной популяции. Однако, в тех случаях, когда появляются изменения психики в виде депрессии, снижения памяти, угнетения когнитивных функций, говорить о «субклиническом» гипотиреозе уже нельзя (Калинин А.П., Котов С.В., 2001). Электрофизиологическими методами, подтверждающими неврологические расстройства, являются электроэнцефалография (ЭЭГ) и электронейромиография (ЭНМГ). На ЭЭГ изменения неспецифичны: снижение амплитуды записи, замедление ритма, преобладание низкочастотных колебаний, редукция α-ритма. По данным ЭНМГ выявляют миопатические изменения мышц плечевого, тазового пояса и конечностей, отмечается уменьшение амплитуды и длительности потенциалов действия, замедления скорости проведения импульса в дистальных отделах срединного и локтевого нервов, появления денервационной активности в мышцах возвышения большого пальца и мизинца (Калинин А.П., Котов С.В., 2001). В литературе подробно изложены клинические проявления гипотиреоза, поражение различных систем организма, но нет данных о клинических особенностях течения цереброваскулярных заболеваний на фоне гипотиреоза. Изучение подобных состояний необходимо для эффективной диагностики, лечения и профилактики цереброваскулярной патологии. 17 3. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (этиология, патогенез, клиника и диагностика) Сосудистая патология головного мозга проявляется как острыми нарушениями, так и хроническими нарушениями мозгового кровообращения. Наиболее частой из них является сосудистая мозговая недостаточность, т.е. недостаточность артериального кровоснабжения мозга (ишемия) и хроническая гипоксия. Ранней стадией ХНМК являются начальные проявления недостаточности кровоснабжения головного мозга (НПНКМ). Диагноз НПНКМ ставят на основании жалоб на головную боль, головокружение, шум в голове, ухудшение памяти, снижение умственной работоспособности, при этом у больного не должно быть очаговой органической микросимптоматики. Этиологическими факторами НПНКМ являются начальные формы атеросклероза и артериальной гипертензии, вегетативно-сосудистые дистонии. Используются следующие дополнительные методы обследования. Для подтверждения изменений, лежащих в основе НПНКМ применяют электроэнцефалографию, ультразвуковую допплерографию экстракраниальных сосудов головного мозга и транскраниальную допплерографию, исследуют гемореологические показатели, содержание липидов в крови, проводят нейропсихологические тесты. НПНКМ в ряде наблюдений характеризуются появлением жалоб в условиях, требующих усиления кровоснабжения мозга: напряженная умственная работа, воздействие факторов окружающей среды, при которых возникает декомпенсация механизмов регуляции кровообращения (Шмидт Е.В., 1975). В основе патогенеза декомпенсации лежат три фактора: 1. Церебральные ангиодистонии (ангиоспазм, гипотония вен), 2. Гемореологические нарушения (повышение вязкости, активация свертывающей системы крови), 3. Изменение биохимических показателей (липидный спектр, гормональный спектр). Хроническая недостаточность мозгового кровообращения (ХНМК) – медленно прогрессирующая недостаточность кровоснабжения головного мозга, сопровождающаяся мелкоочаговыми изменениями мозговой ткани. В основе ХНМК имеется многоочаговое или диффузное поражение головного мозга. Основными этиологическими факторами ХНМК являются: атеросклероз (атеросклеротическая энцефалопатия), артериальная гипертония (гипертоническая энцефалопатия) или их 18 сочетание, сахарный диабет, почти постоянно сопровождающийся атеросклерозом. Реже возникает при ревматических поражениях мозговых сосудов и болезнях крови, чаще у лиц умственного труда. Морфологические изменения в мозге выявляются в сосудах и в паренхиме. В ткани мозга обнаруживаются участки с ишемически измененными нервными клетками или участки с развитием глиоза, встречаются мелкие очажки некроза. В результате гибели нервной ткани преимущественно вокруг мелких сосудов образуются периваскулярные лакуны. При наличии большого количества лакун нервная ткань может принять губчатый вид – «лакунарное состояние». Может развиться атрофия коры. Эти изменения могут быть диффузными или преобладать в какой-либо области, что приводит к развитию различных клинических симптомов (Верещагин Н.В., Суслина З.А. и др., 2003). В патогенезе ХНМК основное значение имеет ишемия, ведущая к гипоксии мозговой ткани. В отличие от острых нарушений мозгового кровообращения ХНМК связана не с патологией крупных артериальных стволов, а с поражением мелких мозговых артерий (церебральной микроангиопатии), от которых в первую очередь зависит кровоснабжение глубинных отделов головного мозга. Распространенное поражение мелких артерий вызывает диффузное двустороннее ишемическое поражение белого вещества и множественные инфаркты в глубинных отделах головного мозга. Дополнительными факторами повреждения мозга являются: 1) повторные эпизоды артериальной гипотензии (неадекватная гипотензивная терапия, снижение сердечного выброса при нарушении сердечного ритма, ортостатическая гипотензия при вегетативной недостаточности), провоцирующие ишемию мозга; 2) изменение реологических и свертывающих свойств крови (вследствие полицитемии, тромбоцитоза, гиперфибриногенемии, гиперлипидемии), 3) нарушение венозного оттока при стенозе или окклюзии глубинных мозговых вен или правожелудочковой недостаточности, 4) апноэ во сне, вызывающие гипоксемию, нарушения сердечного ритма, колебания артериального давления, 5) сахарный диабет, 6) повторные церебральные гипертензивные кризы, при которых возникает поражение сосудистого эндотелия, вазогенный отек мозга, транссудация плазменных белков и некоторых токсических веществ. В клинической картине ХНМК выделяют три стадии: В I стадии преобладают субъективные расстройства в виде жалоб на головную боль, тяжесть в голове, головокружение, шум в голове, повышенную утомляемость, снижение внимания, неустойчивость при ходьбе, нарушения сна, слезливость. Головная боль диффузная, тупая и 19 появляется при волнении, умственном напряжении, шум в голове, головокружение в виде неустойчивости, пошатывания, тревожный сон с частыми пробуждениями, раздражительность и слезливость при трогательных сценах «комок к горлу». Отмечается подавленное настроение за счет повышенной критики к своему состоянию. Характерна триада симптомов: расстройства памяти, головная боль, головокружение, которые появляются, когда возникают повышенные требования к функциональной активности мозга, а необходимого усиления кровообращения не отмечается. При осмотре выявляются легкие псевдобульбарные проявления (дизартрия, патологические аксиальные рефлексы орального автоматизма), оживление сухожильных рефлексов, анизорефлексия, неустойчивость в пробе Ромберга, замедленность ходьбы. При нейропсихологическом исследовании имеются умеренные когнитивные нарушения лобно-подкоркового типа: нарушения памяти, внимания, познавательной активности, которые могут быть компенсированы больным и существенно не угрожают профессиональным способностям и социальной адаптации. Возникают нарушения памяти на текущие события, тогда как память на прошлое не страдает, забывчивость на имена и фамилии. Нарушено запоминание при пробе на повторение из 10 слов, больные записывают то, что им предстоит сделать. Профессиональная память в этот период не нарушена. Типичны быстрая утомляемость, рассеянность, трудно переключиться с одного вида работы на другой. Часто на первый план выходят неврозоподобные расстройства астенического плана. Таким образом, для первой стадии характерно развитие церебрастенического синдрома. Для II стадии ХНМК характерно формирование четких клинических синдромов, снижающих функциональные возможности больного. Выделяют следующие основные синдромы: вестибуло-атаксический, пирамидный, амиостатический, псевдобульбарный, психопатологический. Цефалгический синдром является полиморфным, непостоянным. Его можно расценить как головную боль напряжения. Он связан с эмоциональными, астеническими, тревожно-депрессивными нарушениями, вегетативными реакциями. С псевдобульбарными реакциями сочетается апраксия ходьбы, нормотензивная гидроцефалия. Больные еще сохраняют активность, но отмечается повышенная утомляемость при выполнении даже привычной работы. Возникают когнитивные нарушения, связанные с дисфункцией лобных долей и выражающиеся в снижении памяти, замедленности психических процессов, нарушении внимания, мышления, способности планировать и контролировать свои действия. Изменяются черты характера, появляется вязкость, говорливость, обидчивость, эгоизм. Суживается круг интересов, больные перестают следить за текущими 20 событиями. Нейропсихологическое обследование выявляет некоторые расстройства интеллекта, нарушение абстрактного мышления. Снижается критика больных к своему состоянию – они перестают замечать свои дефекты. В дальнейшем головная боль становится почти постоянной, сохраняются шум в голове, головокружение и неустойчивость при ходьбе. В неврологическом статусе появляются рефлексы орального автоматизма, патологические рефлексы, повышение сухожильных рефлексов, явления дизартрии: спотыкание на произнесении некоторых звукосочетаний, смазанность речи, затруднения в подборе слов. Нарушение зрения проявляется в виде мушек и ряби в глазах, фотопсий. Синдром паркинсонизма (амиостатический) связан с патологией экстрапирамидной системы. Возникает замедленность движений, походка мелкими шагами, уменьшаются движения рук, появляются сутуловатость, бедность мимики, монотонная тихая речь, тремор головы и рук. Подобное состояние относят к сосудистому паркинсонизму. Отличить «сосудистый паркинсонизм» от болезни Паркинсона трудно, не все авторы признают существование сосудистого паркинсонизма. Особенностью сосудистого паркинсонизма является наличие мелкого тремора рук, не имеющего формы скатывания пилюль. Ригидность преобладает в ногах, нет выраженной согнутой позы паркинсоника, отсутствует гиперсаливация. Кроме поражения подкорковых ядер, черной субстанции имеются признаки поражения других структур мозга, проявляющихся психическими, пирамидными, псевдобульбарными нарушениями. Псевдобульбарный паралич возникает вследствие поражения волокон, соединяющих кору и двигательные ядра ствола головного мозга. Клинически проявляется дизартрией, дисфонией, дисфагией. Речь тихая с носовым оттенком, может быть неразборчивая. Жевание, глотание нарушены, имеется поперхивание при еде, насильственный смех и плач. Выявляются симптомы орального автоматизма. Эмоционально-личностные расстройства проявляются апатией, эмоциональной лабильностью, повышенной раздражительностью. У больных возможно наличие легких тазовых расстройств в виде учащения мочеиспускания в ночное время. Таким образом, при II стадии страдает социальная и профессиональная адаптация больного. Значительно снижается работоспособность, но сохраняется способность обслуживать себя. Данная стадия соответствует III группе инвалидности. На электроэнцефалограмме можно выявить нарушение альфа-ритма, преобладание замедленных ритмов, вплоть до дельта-волн, снижение реактивности мозга при функциональных пробах. III стадия ХНМК характеризуется резко выраженной энцефалопатией, тяжелыми диффузными морфологическими изменениями мозговой ткани. Больных беспокоит постоянная головная боль, 21 головокружение, шум в голове, но часто они отступают на задний план и больные с выраженным слабодушием, уплощением эмоций и резким снижением интеллекта почти не предъявляют жалоб. Возможно появление эпилептиформных припадков. Когнитивные нарушения достигают степени умеренной или тяжелой деменции, сопровождаются грубыми эмоционально-личностными нарушениями (грубым снижением критики, апатико-абулическим синдромом, расторможенностью). Из-за глубокого расстройства всех сторон памяти, больной не в состоянии воспринять и выполнить инструкцию, если она состоит из 2-3 приемов, не может осмыслить содержание предложения даже после нескольких повторений (Яхно Н.Н., Левин О.С., Дамулин И.В., 2001). Развиваются грубые нарушения ходьбы и постурального равновесия с частыми падениями. Имеются выраженные мозжечковые расстройства, тяжелый паркинсонизм и недержание мочи. Если для II стадии ХНМК характерно преобладание одного синдрома, то при III стадии отмечается сочетание нескольких основных синдромов. Нарушается социальная адаптация, больные постепенно утрачивают способность обслуживать себя и нуждаются в постороннем уходе. Данная стадия соответствует I-II группе инвалидности. На глазном дне выявляются выраженные атеросклеротические изменения сетчатки: артерии резко сужены, извитые, стенки их утолщены. В практике существует гипердиагностика ХНМК. Диагноз ХНМК является диагнозом исключения. В первую очередь следует с помощью клинических и лабораторных данных исключить курабельные заболевания: опухоли головного мозга, нормотензивную гидроцефалию, метаболические и эндокринные расстройства, васкулиты. Проводится дифференциальная диагностика с дегенеративными заболеваниями нервной системы – болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона. На ранней стадии заболевания проводится дифференциальная диагностика с невротическими нарушениями. Комплексное обследование при ХНМК включает определение гематокрита, тромбоцитов, фибриногена, исследование липидного спектра, изучение коагулограммы. Патологию экстра- и интракраниальных артерий обнаруживают с помощью ультразвуковой допплерографии экстракраниальных сосудов головного мозга и транскраниальной допплерографии. Важное значение имеет обследование сердечно-сосудистой системы для выявления кардиальной патологии (атеросклеротического поражения коронарных артерий или признаки системного васкулита). Следует исключить заболевания печени, почек, крови, которые могут быть причиной неврологических нарушений. Проводится исследование глазного дна. Проведение компьютерной томографии головного мозга или МРТ позволяет исключить опухоли, 22 получить доказательства расстройств сосудистого генеза. Выявляют поражение белого вещества в виде лейкоареоза, множественные лакунарные очаги в базальных ганглиях, таламусе, мосте, мозжечке, внутренней капсуле, белом веществе лобных долей, отражающих патологию мелких артерий. Наличие корковых и подкорковых инфарктов свидетельствует о поражении крупных артерий. Выявляется вторичная атрофия мозга в виде расширения желудочковой системы и корковых борозд (рисунки 1-4). Диагноз ХНМК ставится на основании сочетания субъективных жалоб и объективных медленно прогрессирующих рассеянных микроцеребральных синдромов в сочетании с признаками поражения сосудов других областей (Холин А.В., 2000). 23 Рисунок 1. МРТ головного мозга больной Р-ной, 1941 г.р. Клинический диагноз: Хроническая недостаточность мозгового кровообращения II стадии на фоне церебрального атеросклероза, первичного гипотиреоза. Вестибулоатаксический, цефалгический, астено-невротический синдромы. На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях визуализированы суб- и супратенториальные структуры. Боковые желудочки мозга асимметричны (S>D), в области передних рогов с зоной глиоза по периферии. III-й до 0,6 см. IV-желудочек не изменен, базальные цистерны не расширены. Расширение периваскулярных пространств Вирхова-Робина. Хиазмальная область без особенностей, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды расширены, преимущественно в области лобно-теменных долей и сильвиевых щелей с умеренно выраженными атрофическими изменениями вещества мозга. Срединные структуры не смещены. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В белом веществе лобных и теменных долей, субкортикально и паравентрикулярно определяются множественные очаги демиелинизации, с тенденцией к слиянию, размерами до 0,7 см и единичные лакунарные кисты до 0,5 см. Заключение: МР картина наружной заместительной гидроцефалии. Очаговые изменения вещества мозга дистрофического и постишемического характера. 24 Рисунок 2. МРТ головного мозга больной Н-ой, 1954 г.р. Клинический диагноз: Хроническая недостаточность мозгового кровообращения II стадии на фоне церебрального атеросклероза, первичного гипотиреоза. Вестибулоатаксический, астено-невротический синдромы. На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях визуализированы суб- и супратенториальные структуры. Боковые и III-й желудочки не расширены, с умеренно выраженной зоной глиоза по периферии. IV-желудочек не изменен, базальные цистерны не расширены. Хиазмальная область без особенностей, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Определяется киста эпифиза размером 1,7 х 0,7 см. Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды расширены, преимущественно в области лобно-теменных долей и сильвиевых щелей. Срединные структуры не смещены. Миндалины мозжечка расположены обычно. В белом веществе лобных и теменных долей, в базальных ядрах слева определяются множественные очаги демиелинизации. Заключение: МР картина умеренной наружной заместительной гидроцефалии. Очаговые изменения вещества мозга дистрофического характера. Киста эпифиза 25 Рисунок 3. МРТ головного мозга больного У-ва, 1955 г.р. Клинический диагноз: Хроническая недостаточность мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне с частыми вегетативно-сосудистыми пароксизмами на фоне церебрального атеросклероза и артериальной гипертензии, шейного остеохондроза и первичного гипотиреоза: вестибуло-атаксический синдром, цефалгический синдром, астено-невротическое состояние. Соп. Гипотиреоз легкой степени тяжести. На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях визуализированы суб- и супратенториальные структуры. В белом веществе лобных и теменных долей с обеих сторон, перивентрикулярно и субкортикально, а также в мосте выявляются множественные очаги размерами от 0,2 до 0,5 см, имеющие высокоинтенсивный сигнал по Т2 и изоинтенсивные по Т1, большая часть из которых имеет неправильную пародолговатую и округлую форму. единичные лакунарные кисты до 0,5 см. Боковые желудочки мозга расширены, асимметричны (S>D), с зоной глиоза вокруг. III-й размером до 1,0 см. IV-желудочек, базальные цистерны не изменены. Определяется умеренно выраженная атрофия мозолистого тела на фоне внутренней вентрикуломегалии. Хиазмальная область без особенностей, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Субарахноидальные пространства локально неравномерно расширены по конвекситальной поверхности мозга. Срединные структуры не смещены. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. Заключение: МР картина смешанной заместительной гидроцефалии. Очаговые изменения мозга дистрофического и дисциркуляторного характера (проявления дисциркуляторной энцефалопатии). 26 Рисунок 4. МРТ головного мозга больной П-вой, 1938 г.р. Клинический диагноз: Хроническая недостаточность мозгового кровообращения II стадии на фоне церебрального атеросклероза, артериальной гипертензии и первичного гипотиреоза. Вестибулоатаксический, пирамидный синдромы. Дисмнестические, диссомнические нарушения. На серии МР томограмм взвешенных по Т1 и Т2 в трех проекциях визуализированы суб- и супратенториальные структуры. Боковые желудочки мозга незначительно расширены, асимметричны (S>D). III-й и IV-желудочки не изменены, базальные цистерны умеренно расширены. Хиазмальная область без особенностей, ткань гипофиза имеет обычный сигнал. Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды расширены, преимущественно в области лобно-теменных долей и сильвиевых щелей с умеренно выраженными атрофическими изменениями вещества мозга. Срединные структуры не смещены. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В белом веществе лобных и теменных долей определяются множественные очаги демиелинизации дистрофического характера, выражены зоны перивентрикулярного глиоза. Заключение: МР картина смешанной заместительной гидроцефалии. Очаговые изменения вещества мозга дистрофического характера. Зоны паравентрикулярного глиоза. 27 Выделяют венозную энцефалопатию, которая возникает при пороках сердца, при сердечно-легочной недостаточности, при краниостенозе. В мозге развиваются венозный застой и отек. В результате повышения внутричерепного давления больные страдают головными болями, усиливающимися при кашле и наклоне головы. Наблюдаются несистемные головокружения, апатия, бессонница. На глазном дне выявляются застойные явления. В неврологическом статусе появляется рассеянная мелкоочаговая симптоматика: нистагм, асимметрия рефлексов, ладонноподбородочный рефлекс. Гипертоническая энцефалопатия, в отличие от атеросклеротической, развивается в более молодом возрасте, протекает быстрее, чаще на фоне гипертонических кризов. Ухудшение наступает во время кризов. У больных может быть эйфория и расторможенность, выраженные вегетативно-сосудистые расстройства. 28 4. Клинические проявления синдрома позвоночной артерии Синдром позвоночной артерии обусловлен воздействием патологических костных и хрящевых структур на позвоночную артерию и ее симпатическое сплетение. Позвоночная артерия отходит от подключичной артерии и на уровне V-VI позвонков входит в канал поперечных отростков шейных позвонков. На уровне СII выходит из костного канала и затем огибает более широкий по диаметру СI, здесь позвоночная артерия делает изгибы и входит в полость черепа через большое затылочное отверстие. Соединяясь в большом затылочном отверстии, симметричные позвоночные артерии образуют основную (базиллярную) артерию. Ее конечные ветви – задние мозговые артерии, кровоснабжают затылочные и частично задневисочные доли (рисунок 5). От позвоночных артерий отходят задние нижние мозжечковые артерии, кровоснабжающие мозжечок и ствол головного мозга (рисунки 67). Первая ветвь основной артерии – лабиринтная или слуховая, кровоснабжающая внутреннее ухо. Все стенки позвоночной артерии пронизывает вегетативное сплетение, которое в основном формируется из позвоночного нерва – ветви звездчатого симпатического узла. 29 Рисунок 5. Магистральные артерии головного мозга (Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Бурд Г.С. Неврология и нейрохирургия. – М.: Медицина, 2000) 1 – дуга аорты; 2 – плечеголовной ствол, 3 – левая подключичная артерия; 4 – правая общая сонная артерия; 5 – позвоночная артерия; 6 – наружная сонная артерия; 7 – внутренняя сонная артерия; 8 – базилярная артерия; 9 – глазная артерия. 30 Рис. 6. Вертебрально-базилярная система (Ананьева Н.И., Трофимова Т.Н., 2005). а — отделы головного мозга, кровоснабжаемые артериями ВББ: 1 — задняя мозговая артерия; 2 — верхняя мозжечковая артерия; 3 — передняя нижняя мозжечковая артерия; 4 — парамедианные ветви базилярной артерии; 5 — вентральные спинальные и парамедианные ветви позвоночных артерий. б — артерии основания мозга и черепные нервы: ПСА — передняя соединительная артерия; ПМА — передняя мозговая артерия; ВСА — внутренняя сонная артерия; СМА — средняя мозговая артерия; ЗСА — задняя соединительная артерия; ЗМА — задняя мозговая артерия; ВМА — верхняя мозжечковая артерия; ВМА — верхняя мозжечковая артерия; БА — базилярная артерия; ЛА — артерия лабиринта; ПНМА — передняя нижняя мозжечковая артерия; ЗНМА — задняя нижняя мозжечковая артерия; ПА — позвоночная артерия; ПСМА — передняя спинномозговая артерия. Римскими цифрами обозначены черепные нервы. 31 Рис. 7. Кровоснабжение ствола головного мозга (Ананьева Н.И., Трофимова Т.Н., 2005). а – mesencephalon: 1 – a. cerebelli superior; 2 – a. cеrеbelli posterior; 3 – rr. interpeduncularis; 4 – a. communicans posterior (по Мерфи); 5 – rr. circumferentes (a. cerebelli superior); 6 – a. chorioidea posterior; 7 – a. basilaris; 8 – a. cerebri posterior; 9 – к мозжечку. б – pons: 1 – pedunculus cerebellaris superior; 2 – pеdunculus cerebellaris medius; 3 – a. basilaris; 4 – n. trigeminus; 5 – velum medullan superior. в – medulla oblongata: 1 – a. cerebelli inferior posterior; 2 – a. cerebelli inferior anterior; 3 – a. spinalis anterior et. aa. paramеdianae vertebralis (по Мерфи); 4 – a. vertebralis; 5 – a. spinalis anterior. Механизм возникновения синдрома позвоночной артерии – компрессионно-рефлекторный. Под влиянием дистрофических изменений в шейном отделе позвоночника может не только изменяться просвет позвоночной артерии, но вследствие травматизации, раздражения сплетения позвоночной артерии возникает спазм позвоночной артерии и сосудов вертебробазилярного бассейна. 32 Синдром позвоночной артерии может быть обусловлен следующими рентгенологическими изменениями в шейном отделе позвоночника (Бродская З.Л., 1977; Попелянский Я.Ю., 2003): 1) нестабильность в ПДС: избыточные движения в позвонках травмируют сплетение и изменяют просвет позвоночной артерии; 2) задний разгибательный подвывих по Ковачу; 3) унковертебральный артроз; 4) межпозвонковый спондилоартроз с передними разрастаниями (болезнь Бехтерева, ревматоидный артрит); 5) боковая грыжа диска при прорыве в унковертебральную щель. Возможен рефлекторный вариант синдрома позвоночной артерии при внутридисковой дистрофии. Рефлекторно-компрессионный вариант может быть при напряжении нижней косой мышцы головы, при синдроме передней лестничной мышцы, если имеется боковое расположение устья позвоночной артерии. Предрасполагающими факторами в развитии синдрома позвоночной артерии являются неполноценность шейного вегетативного аппарата; неполноценность тканей мозга, васкуляризируемых из позвоночной артерии; патология позвоночной артерии: ее аномалии, локальные склеротические изменения, извитость, петлеобразование; изменение общей гемодинамики и реологических свойств крови. Синдром позвоночной артерии имеет хронически-рецидивирующее течение. Обострение провоцируют следующие факторы: статические и динамические нагрузки на шею; метеофакторы и неблагоприятный микроклимат; психоэмоциональное напряжение; сердечная недостаточность и обострение сопутствующих заболеваний других органов и систем. В клинических проявлениях синдрома позвоночной артерии можно выделить 2 этапа. Первый этап функциональных нарушений, которые проявляются: 1) краниалгией и расстройством чувствительности в области лица; 2) кохлеовестибулярными реакциями; 3) зрительными нарушениями. Второй этап органических нарушений по типу нетромботической ишемии в вертебробазиллярном бассейне. В первом этапе можно выделить следующие стадии: I стадия – ангиодистоническая, II стадия – ангиодистоническиишемическая. I стадия протекает следующим образом. Больных беспокоят боли, парестезии, сенестопатии в шейно-затылочной области с иррадиацией в передние отделы головы: темя, висок, заушную область (пульсирующая жгучая боль – симптом «снимания шлема»). Также возникают боли и ощущение инородного тела в глазу, фотопсии на стороне синдрома. Кохлеовестибулярные расстройства проявляются в виде вращательных головокружений в горизонтальной плоскости вправо или влево, сопровождающиеся тошнотой или рвотой, заложенностью уха, шумом в ухе. При объективном исследовании 33 выявляют статическую атаксию, болезненность при пальпации и вибрации в области точки позвоночной артерии, темпоральной точки Бирбраира, орбитальной точки Гринштейна с иррадиацией боли в соответствующую половину головы. Под влиянием движения головой можно выявить изменение брахиального артериального давления. Отоневрологиеческое исследование выявляет изменения экспериментального нистагма и вестибуло-тонических реакций лабиринтного типа. Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов выявляет умеренную асимметрию кровотока по позвоночным артериям и явления ангиоспазма (рисунок 8). Рисунок 8. Допплерограммы позвоночных артерий больной К., 43 лет: а) правая ПА; б) левая ПА. Существенные допплерографические изменения определяются при использовании функциональных проб – движений, моделирующих травматизацию рецепторов и нервно-стволовых аппаратов в зонах пораженного позвоночного сегмента и других патологических структур шеи и надплечья (в частности, нижней косой, лестничной и малой грудной мышц). Изменения показателей РЭГ также возникают при функциональных пробах. На II стадии возникают невращательные головокружения в виде ощущения проваливания, падения, перемещения точки опоры, ощущение падения окружающих предметов на больного, возможно преходящее снижение остроты зрения при длительном чтении, при неудобном положении головы, выявление относительных гемианопсий. Для второй стадии характерно развитие пароксизмов типа синкопальных приступов Унтерхарншайдта и приступов внезапного падения – dropp-atack. Больных могут беспокоить вегетативно-сосудистые кризы вагоинсулярного или 34 смешанного типа. Отоневрологическое исследование выявляет изменение послевращательных и калорических реакций по смешанному лабиринтностволовому типу, изменения на аудиограмме. В неврологическом статусе можно выявить преходящие бульбарные, мозжечковые, проводниковые, психоорганические расстройства. На этапе ишемических изменений выраженность ирритативных ангиодистонических проявлений уменьшается, преобладают ишемические расстройства в виде кохлеовестибулярных нарушений стволового типа. В неврологическом статусе можно выявить редуцированного синдрома Валленберга-Захарченко, синдрома Филимонова (тетрапарез с псевдобульбарными явлениями), ядерные бульбарные расстройства, психоорганические нарушения (дисмнестические, диссомнические, деперсонализационно-дереализационные). Имеются отклонения реологических показателей крови. По данным ультразвуковой допплерографии экстракраниальных сосудов при органической стадии синдрома позвоночной артерии определяется выраженная асимметрия кровотока по позвоночным артериям (более 50%) и значительные изменения основных показателей допплеровского спектра (включая скорость кровотока, индексы спектрального расширения и циркуляторного сопротивления) выявляются уже при обычном исследовании без функциональных нагрузок (рисунок 9). 35 Рисунок 9. Допплерограммы позвоночных артерий больной С., 55 лет: а) правая ПА б) правая ПА при проведении ротационной пробы (увеличение МСЧ в 2 раза, возрастание значений индексов ЦС и СР), в) левая ПА. Вследствие многообразия клинических проявлений синдрома позвоночной артерии в практике возможна гипердиагностика, поэтому нужно учитывать дифференциально-диагностические критерии синдрома позвоночной артерии: 1. Развитие характерной клинической картины синдрома позвоночной артерии и ее сплетения. 2. Взаимосвязь с вертебральным синдромом и экстравертебральными проявлениями шейного остеохондроза. 3. Провоцирование обострений синдрома позвоночной артерии статико36 динамическими нагрузками на шею. 4. Облегчение при определенных положениях головы, иммобилизации, пробном вытяжении. 5. Развитие ремиссии под влиянием комплексного патогенетического лечения шейного остеохондроза. 6. Обратимость проявлений синдрома позвоночной артерии, тенденция к регрессу в динамике обострения. 7. Выявление конкретных рентгенологических изменений. 8. Отсутствие субъективных и объективных данных в пользу другого заболевания. Дифференциальный диагноз при синдроме позвоночной артерии следует проводить со следующими заболеваниями: объемным процессом в задней черепной ямке, лептоменингитом задней черепной ямки, сосудистыми заболеваниями головного мозга с поражением вертебробазилярного бассейна, гипертоническим кризом, мигренью, вестибулопатиями различной этиологии, а также необходимо исключить краниовертебральные аномалии и другие процессы в задней черепной ямке и шейной области (Шмидт И.Р., 1976). При проведении дифференциальной диагностики следует учитывать одну из самых частых жалоб больных на головокружение, которое может быть симптомом самых различных неврологических и психических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, глаз и уха. Больные могут называть головокружением самые различные ощущения, обычно их можно отнести к одной из 4-х категорий (Калиновская И.Я., 1973). 1 категория – вестибулярное (истинное) головокружение. Это ощущение нарушенной ориентации тела в пространстве. Обычно обусловлено поражением периферического или центрального отделов. Кажущееся вращение окружающих предметов или собственного тела в одной плоскости пространства называют системным головокружением, а ощущение неустойчивости, провала, падения – несистемным головокружением. Головокружение может быть постоянным и приступообразным, зависеть от положения тела (позиционное головокружение), перемещения головы (установочное головокружение) и других факторов. Часто головокружение сопровождается тошнотой, вегетативными нарушениями (бледность, потливость, тахи- или брадикардия, изменения артериального давления и др.), обследование выявляет нистагм и атаксию. Головокружение может быть физиологическим, возникать при взгляде на движущийся поезд, при подъеме на высоту, взгляде с высоты вниз, укачивание на корабле, на другом транспорте. Периферическое головокружение чаще пароксизмальное, характерен шум в ушах, неустойчивость в пробе Ромберга в сторону поражения и в противоположную сторону от направления быстрой компоненты нистагма. Нистагм горизонтальный и имеет постоянное направление при любых направлениях взора. При фиксации взора нистагм прекращается. 37 При периферическом вестибулярном синдроме поражение возникает в полукружных канальцах, ампулах преддверия, вестибулярной порции VIII пары черепно-мозговых нервов (рисунок 10). Рисунок 10. Строение внутреннего уха (Мишель Тупе. Центр отоневрологических функциональных исследований. – Париж. ХV. – 2002) Для него характерно системное головокружение, бинокулярный нистагм, лабиринтное головокружение обычно сопровождается горизонтальным нистагмом. Головокружение и нистагм полностью подавляются фиксацией взора. Для периферического вестибулярного синдрома характерно однонаправленное изменение экспериментальных вестибулярных реакций, сохранность оптокинетического нистагма. Лабиринтное головокружение может возникать при токсическом поражении, при закрытой черепно-мозговой травме. Оно также провоцируется движениями головы, имеет преходящий характер. Доброкачественное позиционное головокружение связано с дегенерацией отолитового аппарата, проявляется только при изменении положения больного или головы. Частой причиной вестибулярного головокружения может быть вестибулярный нейронит, который называют также острой периферической вестибулопатией. Возникает у взрослых в любом возрасте, проявляется внезапным головокружением с тошнотой, рвотой, нарушением равновесия, чувством страха. Приступ длится несколько часов. Выявляется спонтанный нистагм, медленная фаза которого направлена в сторону пораженного уха, шумом и заложенностью в ухе. Слух, как при болезни Меньера, не снижен. Периферическое головокружение может быть обусловлено односторонним или двусторонним нарушением функции лабиринта (инфекции, травма, ишемия, токсины), невритом вестибулярного нерва, 38 процессами в мостомозжечковом углу, в которые оказывается вовлеченным VIII черепной нерв (например, опухоль слухового нерва), болезнью Меньера (повторяющиеся приступы головокружения, сочетающиеся с преходящей потерей слуха, шумом в ушах и ощущением заложенности ушей) и доброкачественным позиционным головокружением (эпизоды головокружения при изменениях положения головы). Позиционное головокружение может быть результатом поражения центральных или периферических структур и устанавливается с помощью характерной клинической картины и приеме Найлена. Приступы системного головокружения часто возникают при болезни Меньера. Болезнь Меньера сопровождается увеличением количества эндолимфы внутреннего уха. Заболевание может возникать в возрасте от 25 до 50 лет. При приступе малейшее движение головой провоцирует рвоту. Наряду с тошнотой и рвотой отмечаются шум в ухе, заложенность, нарастает снижение слуха. Осмотр выявляет нистагм. Чаще, чем болезнь, встречается меньероподобный синдром, который может быть признаком вертебробазилярной недостаточности, сосудистой дисциркуляции при вегетативной дистонии, при синдроме позвоночной артерии на фоне вертеброгенной патологии. Закупорка артерии лабиринта (ветвь передней нижней мозжечковой артерии) вызывает головокружение с развитием односторонней глухоты. Головокружение может быть при инфекции среднего уха, распространяющейся на лабиринт. Головокружение может быть симптомом невропатии слухового нерва. Головокружение может быть проявление невриномы слуховой порции преддверно-улиткового нерва. Головокружение при этом непостоянное, не носит системного характера. Наблюдается прогрессирующее снижение слуха и роговичного рефлекса на стороне поражения, гомолатерально отмечаются недостаточность мимической мускулатуры и мозжечковая дисфункция (Лихачев С.А., Титкова Е.В., 2003). Центральное головокружение является симптомом ишемического или геморрагического инсульта мозжечка, ствола головного мозга, транзиторных ишемических атак в вертебро-базилярном бассейне (Верещагин Н.В., 1980, Виберс Д. с соавт., 1999). При этом отмечается и другие симптомы поражения ствола или мозжечка. Центральное головокружение может быть обусловлено демиелинизирующим заболеванием, артериовенозной мальформацией, стволовым энцефалитом, разновидностью эпилепсии височной доли. Лекарственная интоксикация анальгетиками, антиаритмическими средствами, антиконвульсантами, антибиотиками, диуретиками, седативными средствами также может вызвать головокружение. При поражении центральных отделов вестибулярного анализатора (вестибулярные ядра в стволе, корковое представительство в височной доле) головокружение также может быть системным (Гордеева Т.Н., 1998). При поражении других центральных структур, взаимодействующих с вестибулярным анализатором (мозжечок, подкорково-гипоталамические системы, кора лобной, теменной и затылочных долей), центральный вестибулярный синдром характеризуется несистемным головокружением. Возникает неустойчивость в пробе Ромберга в сторону 39 поражения и в сторону быстрой компоненты нистагма. Нистагм горизонтальный, ротаторный или вертикальный. Меняется в зависимости от направления взора. Нистагм не подавляется фиксацией взора. Головокружение центрального происхождения чаще развивается постепенно, редко бывает шум в ушах. Приступы головокружения меньероподобного типа могут возникать в случае поражения моста при демиелинизирующих заболеваниях (рассеянном склерозе), при сирингобульбии, базилярной мигрени, вертебробазилярной недостаточности, при опухоли IV желудочка, при этом головокружение возникает в составе синдрома Брунса. Головокружение коркового происхождения может быть проявление интерпариетального синдрома при энцефалите и других органических поражениях мозга (поражение межтеменной борозды), ощущение покачивания, неустойчивости, иногда в сочетании с нарушением пространственного восприятия – величины, формы предметов или собственного тела. Эпилептическое головокружение при эпилепсии височной доли проявляется внезапными, кратковременными приступами несистемного головокружения, сопровождающегося страхом, явлениями деперсонализации и дереализации. 2 категория – обморок и предобморочное состояние. Ощущение приближающейся потери сознания. В предобморочном состоянии часто наблюдается потемнение в глазах, повышенное потоотделение, тошнота, чувство страза. Непосредственная причина обморока – падение мозгового кровотока ниже уровня, необходимого для обеспечения мозга глюкозой и кислородом. Обморок и предобморочное состояние обычно развиваются на фоне артериальной гипотонии, заболеваний сердца или вследствие вегетативных реакций и тактика при этих состояниях иная, чем при вестибулярном головокружении. 3 категория – нарушение равновесия – характеризуется неустойчивостью, шаткой походкой, но это не истинное головокружение. Причиной этого состояния могут быть мозжечковые, зрительные, экстрапирамидные и проприоцептивные расстройства. Больные часто определяют ощущение неустойчивости как головокружение. 4 категория – неопределенные ощущения – часто описывают как головокружение. Возникают при эмоциональных расстройствах, гипервентилляционном синдроме, ипохондрическом, истерическом неврозе, депрессии. Больные жалуются на «туман в голове», чувство легкого опьянения, дурноту, страх падения. Некоторые больные затрудняются описать свои ощущения. В этом случае рекомендуется провести провокационные пробы. Таким образом, головокружение может быть симптомом различных заболеваний, что следует учитывать в дифференциальной диагностике. 40 5. Особенности течения цереброваскулярных расстройств при гипотиреозе Группа больных с гипотиреозом составила 130 человек. В результате обследования и проведения дифференциальной диагностики выделена группа больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза в количестве 84 человек и группа больных с синдромом позвоночной артерии вертеброгенного генеза и гипотиреозом в количестве 46 человек. Обследованы две контрольные группы больных без гипотиреоза в количестве по 50 человек. Всем больным проводилось общее неврологическое обследование. Во всех наблюдениях учитывались факторы риска и сопутствующие заболевания, включая артериальную гипертензию (артериальное давление выше 140 и 90 мм рт.ст.; Европейские рекомендации, 2003), гиперхолестеринемию (уровень холестерина выше 6,5 ммоль/л), ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма сердца. Вертеброневрологическое обследование проводилось по методике Я.Ю. Попелянского (2000 г.). При проведении дифференциальной диагностики учитывались наличие вертебрального синдрома, проводился анализ клинической картины с установлением критериев вертеброгенности экстравертебральных проявлений (Коган О.Г. с соавторами, 1981), а также данные рентгенологического обследования, ультразвуковой допплерографии сосудов. Исследование мышц шейной области, плечевого пояса и грудной клетки проводилось с учетом функции каждой мышцы. Некоторые глубокие мышцы требуют специальных приемов для их пальпации и выявления напряжения. Пальпация передней лестничной мышцы проводилась при глубоком вдохе и повороте головы в «здоровую» сторону (Gage M., 1935); пальпация малой грудной мышцы – по методике И.П. Киперваса (1975). Пальпировались места начала и прикрепления мышц, так как это брадитрофные ткани, предрасположенные к развитию нейроостеофиброза. При этом учитывались сроки уменьшения или исчезновения уплотнений в альгической и дистрофической стадиях. Мышечные уплотнения были различной плотности и величины: болезненные мелкие гипертонусы, болезненные мышечные уплотнения средней и крупной величины. В пределах напряженных уплотненных пучков скелетных мышц или в мышечных фасциях определялись участки повышенной раздражимости с резкой болезненностью, вегетативными проявлениями и характерной иррадиацией боли миофасциальные триггерные точки. Определялся вид миофиксации позвоночника: распространенная, ограниченная и локальная, а также степень выраженности миофиксации: некомпенсированная – боль в позвоночно-двигательном сегменте при любом движении позвоночника; субкомпенсированная – боль в пораженном сегменте только при проведении специальных тестов; компенсированная – отсутствие боли при нагрузках. Формирование стойкой локальной миофиксации 41 свидетельствовало о переходе обострения в стадию ремиссии (Заславский Е.С., 1982; Иваничев Г.А., 1990; Хабиров Ф.А., Хабиров Р.А., 1995). Исследование вегетативного статуса включало 3 группы показателей: 1) вегетативный тонус; 2) вегетативную реактивность; 3) вегетативное обеспечение деятельности. Вегетативный тонус оценивали по таблице, разработанной в отделе патологии I ММИ (Соловьева А.Д., 1981 г.). Методы исследования вегетативной реактивности включали некоторые фармакологические пробы и висцеральные рефлексы (воздействие на рефлекторные зоны). Методы исследования вегетативного обеспечения деятельности по показаниям включали пробы с физической, умственной, эмоциональной нагрузками, пробы с изменением положения тела (Вейн А.М., 1998 г.). У всех больных исследовались клинический и биохимические анализы крови. Проводились следующие биохимические исследования: определение холестерина, триглицеридов в сыворотке крови, индекса атерогенности, липидного спектра, креатинина, мочевины, билирубина, АЛТ, АСТ. Исследовались показатели коагулограммы, протромбинового индекса, гематокрит. При гипотиреозе лабораторные исследования включали определение уровня тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), тиреоидных гормонов: общего и свободного тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), исследование титра антител к тиреоглобулину, к микросомальной фракции (Скворцова В.И. с соавт., 2003). Для ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) использовалась допплеровская ультразвуковая система Vasoflo-4 и Vasoscan UL, аппарат D.M. S. Spectrador 3 serie 0440 NA 3311 Made in France. Локацию сосудов проводили применяя датчики с частотой излучения 4 МГц и 2 МГц. В каждом случае проводилось исследование всех основных сосудов краниоцеребрального бассейна и верхних конечностей: общих сонных артерий, внутренней и наружной сонных артерий, концевых ветвей глазной артерии (надблоковой и надглазничной артерий), позвоночных, подключичных, плечевых и лучевых артерий. Исследовался участок позвоночной артерии в месте ее выхода из костного канала на уровне СI-СII позвонков (зона точки позвоночной артерии). Использовались функциональные пробы для исследования коллатерального кровообращения на функционирование передней и задней соединительных артерий. При проведении УЗДГ экстракраниальных отделов позвоночных артерий использовались функциональные пробы с поворотами головы в стороны и разгибанием в шейном отделе позвоночника. Пробы с поворотами головы в сторону легче осуществить технически, при разгибании в шейном отделе позвоночника трудно лоцировать позвоночную артерию, что сказывается на точности результатов исследования. Проба считалась слабо положительной при изменении скорости кровотока в пределах 20%, положительной – от 20% до 50%, резко положительной при изменении скорости кровотока более 50% вплоть до полного прекращения кровотока. 42 Степень асимметрии кровотока в % по позвоночным артериям классифицировалась следующим образом: 30% – умеренная асимметрия; от 30 до 50% – асимметрия средней степени; более 50% – выраженная асимметрия кровотока: рассчитывалась по МСЧ. Асимметрия кровотока возможна при органическом поражении одной из позвоночных артерий (атеросклеротический стеноз, извитость), гипоплазии одной из позвоночных артерий и вертеброгенном воздействии на позвоночные артерии. У больных с брахиалгическими синдромами шейного остеохондроза проводились функциональные пробы на синдром передней лестничной мышцы и малой грудной мышцы. Проба на синдром передней лестничной мышцы заключались в наклоне и ротации головы в здоровую сторону, при этом возникает натяжение спастически сокращенной передней лестничной мышцы, что приводит к раздражению или сдавлению нервно-сосудистого пучка. Регистрировался кровоток по подключичной и лучевой артериям до пробы и в момент проведения пробы. Реакция считалась положительной при изменении скорости кровотока по исследуемым артериям, а также индексов ЦС и СР. Слабо положительной считалась проба при изменении скорости кровотока до 20%; положительной – в пределах от 20% до 50%; резко положительной – при изменении скорости более 50%. Проба на синдром малой грудной мышцы заключалась в отведении руки с поворотом кнаружи (гиперабдукции), при этом возникает сдавление нервнососудистого пучка патологически измененной малой грудной мышцей. Подключичная артерия подвергается сдавлению в месте ее перехода в подмышечную между малой грудной мышцей и клювовидным отростком лопатки. Кровоток регистрировали на плечевой и лучевой артериях. Степень выраженности пробы оценивались по тем же критериям, что и при синдроме передней лестничной мышцы. Транскраниальная допплерография (ТКДГ) была введена в клиническую практику в 1982 году как метод неинвазивного изучения внутрикраниального кровообращения. Принцип метода основан на способности низкочастотного пульсирующего допплеровского ультразвукового сигнала величиной 2 МГц проникать через неповрежденные ткани черепа в зоне так называемых «окон» и, таким образом, неинвазивно получать гемодинамические характеристики базальных мозговых кровеносных сосудов (скорость кровотока, его направление, состояние коллатералей и реактивности мозговых сосудов). Тип используемого «окна», глубина ультразвукового зондирования, установленное в процессе исследования направление кровотока и его скорость дают возможность идентификации исследуемого внутримозгового сосуда. ТКДГ особенно информативна, когда проводится для выяснения определенных параметров внутримозгового кровообращения, абсолютно безвредна и не занимает много времени (Aaslid R.,1986; Caplan L.R., 1993; Becker G., Bogdahn U., Gehlberg C. et al. 1995). ТКДГ проводилась для оценки характера и уровня внутримозгового коллатерального кровообращения у больных с выраженным стенозом или окклюзией внутренних сонных артерий, позвоночных артерий 43 или подключичных артерий; выявления гемодинамически значимого стеноза основных внутрикраниальных артерий на основании мозга, выявления внутрикраниального вазоспазма и наблюдения за его динамикой, обнаружения артериовенозных мальформаций (Карлов В.А. и др., 1986; Никитин Ю.М., 1987; Шахнович А.Р., Шахнович В.А., 1996; Стулин И.Д. и др., 2006). Проводилось исследование коротко-латентных соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП) с рук и ног, коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (СВП), зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) по стандартной методике (Зенков Л.Р., Ронкин М.А., 2004). У всех больных проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) щитовидной железы, с помощью которого выявляли признаки диффузноузлового зоба, аутоиммунного тиреоидита, послеоперационные изменения, определяли объем щитовидной железы, который в норме составляет около 18 мм3 (Кандор В.И., 2002). Лучевая диагностика включала рентгенографию черепа в двух проекциях для выявления аномалий развития (платибазия, базилярная импрессия, окципитализация атланта), эррозий кости, гиперостозов, признаков повышенного внутричерепного давления и смещения срединных структур мозга (кальцинирование шишковидной железы), а также рентгенографию шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами для выявления дистрофических изменений шейного отдела позвоночника, ведущих к спазму или компрессии позвоночных артерий, с последующим затруднением кровотока и развитием вертебробазилярной недостаточности (Михайлов М.К., Володина Г.И., Ларюкова Е.К., 1993). Проводилось изучение данных компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. При хронической недостаточности мозгового кровообращения КТ выявляет диффузное поражение белого вещества (лейкоареоз) в перивентрикулярной зоне, множественные лакунарные очаги (размером 3-15 мм), отражающие патологию мелких артерий, а также вторичную атрофию мозга, проявляющуюся расширением желудочковой системы и корковых борозд. Использование МРТ позволило выявить диффузное поражение белого вещества головного мозга в виде лейкоареоза, множественные лакунарные очаги в белом и сером веществе, явления церебральной атрофии, свидетельствующие о наличии дисциркуляторной энцефалопатии (Яхно Н.Н, Левин О.С., Дамулин И.В., 2001 г.). Результаты проведенного обследования показали, что хроническая недостаточность мозгового кровообращения при гипотиреозе чаще развивается у женщин. Клинические проявления хронической недостаточности мозгового кровообращения при гипотиреозе соответствуют преимущественно поражению вертебробазилярного бассейна и проявляются вестибулоатаксическим, церебрастеническим, цефалгическим синдромами. Выраженного угнетения когнитивных функций не отмечается. На развитие хронической 44 недостаточности мозгового кровообращения при гипотиреозе значительно влияет вертеброгенный фактор. Ультразвуковая допплерография сосудов выявляет у больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения и гипотиреозом преимущественно изменения в вертебробазилярном бассейне в виде атеросклеротического спектра, изменения скорости кровотока и затруднения венозного оттока. Течение синдрома позвоночной артерии у больных гипотиреозом имеет особенности в виде выраженного астено-невротического синдрома, наличием болезненных мышечных уплотнений в мышцах шейно-грудного отдела, плечевого пояса, достоверно чаще наблюдаются синкопальные приступы и вегетативно-сосудистые пароксизмы. Течение обострений синдрома позвоночной артерии при гипотиреозе длительное, зависит от медикаментозной коррекции гипотиреоза. 45 5.1. Особенности течения синдрома позвоночной артерии при гипотиреозе. Группа больных с синдромом позвоночной артерии состояла из 46 человек, средний возраст составил 40,2 ± 1,28. Женщин было 44, мужчин – 2. В возрасте от 20 до 40 лет – 10 человек, от 40 до 50 лет – 25 человек, от 50 до 60 лет – 11 человек (рисунки 11-13). Длительность заболевания гипотиреозом до 1 года была у 10 больных, до 5 лет у 20 больных, свыше 5 лет – у 16 больных. Рисунок 11. Состав больных с гипотиреозом исследуемой группы и контрольной группы без гипотиреоза по возрасту. количество больных 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% исследуемая группа контрольная группа 60% 68,6% 19,6% 20% 20% 11,8% 20-40 лет 41-50 лет 51-60 лет возраст Рисунок 12. Состав больных с гипотиреозом исследуемой группы по возрасту. 12% 20% 20-40 лет 41-50 лет 68% 51-60 лет Рисунок 13. Состав больных контрольной группы по возрасту. 20% 20% 60% 20-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Первичный гипотиреоз выявлен у 93,5% больных (42 человека), вторичный – у 6,5% (4 человека). Первичный гипотиреоз был обусловлен диффузным узловым зобом – 16 больных (38%), аутоиммунным поражением щитовидной железы – 23 человека (55%), послеоперационный гипотиреоз диагностирован у 3 больных (7%). У всех больных проведено ультразвуковое исследование щитовидной железы и исследование общего и свободного тироксина (Т4), трийодтиронина 46 (Т3), а также тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ), титра антител к тиреоглобулину, к микросомальной фракции. У 33,3% (22 человека) отмечены субклинические проявления гипотиреоза, при которых отмечено повышение уровня ТТГ при нормальных значениях Т3 и Т4. Средние значения ТТГ при субклинических проявлениях гипотиреоза составили 5,8 ± 0,88 мМЕ/л. Субклинический гипотиреоз диагностирован у больных преимущественно в возрасте от 40 до 50 лет. Функциональная стадия синдрома позвоночной артерии отмечена у 36 больных (78,3%), органическая стадия синдрома – у 10 больных (21,7%). В клинической картине у больных гипотиреозом имеется большая выраженность вестибулярных нарушений (100% больных). Ведущими жалобами были приступообразные вращательные головокружения в горизонтальной плоскости, усиливающиеся при движениях в шейном отделе позвоночника, в дальнейшем присоединялись жалобы на неустойчивость при ходьбе. Больных беспокоили шум, звон, чувство заложенности в ушах, мелькание мушек перед глазами, периодически затуманивание и нечеткость предметов. У 87% (40 человек) отмечены жалобы на быструю утомляемость, нарушения сна, эмоциональную неустойчивость (астено-невротические проявления), что значительно чаще, чем в контрольной группе (20%). У 65% (30 человек) больных исследуемой группы было сочетание синдрома позвоночной артерии с другими рефлекторными нейродистрофическими синдромами шейного остеохондроза: цервикобрахиалгии, плечелопаточного периартроза, локтевого периартроза, синдрома передней лестничной мышцы. Сопутствующее поражение поясничного отдела позвоночника в виде корешково-сосудистых синдромов L5; S1 было у 10 больных (9%). У всех больных вертеброневрологическое исследование выявило наличие вертебрального синдрома, ограничение объема активных движений в шейном отделе позвоночника, напряжение мышц I-II степени, наличие участков нейроостеофиброза (Попелянский Я.Ю., 1999 г.) или болезненных мышечных уплотнений в задней группе мышц шейной области, разгибателей шеи, мышцы, поднимающей лопатку, горизонтальной порции трапециевидной мышцы, в межлопаточной области. При гипотиреозе возможно появление мышечных болей, судорог и замедленной релаксации. В скелетной мускулатуре при гипотиреозе отмечается гипертрофия части мышечных волокон с исчезновением в них поперечной исчерченности, разрыв миофибрилл, нарушение целостности сарколеммы, отек отдельных волокон, увеличение числа ядер с их перераспределением по волокну. Иногда наблюдается лимфоплазмоцитарная инфильтрация как при полимиозите. Эти изменения характерны для микседематозной миопатии. При вибрационном и пальпаторном раздражении в точке позвоночной артерии появлялась выраженная болезненность, также болезненность определялась в точках большого и малого затылочных нервов, в проекции суставных отростков, у верхнемедиального угла лопатки, большого и малого бугорков плечевой кости, клювовидного отростка лопатки, в лестничной точке. 47 При исследовании неврологического статуса у больных отмечена статическая атаксия, неточность при пальце-носовой и пяточно-коленной пробах. При органической стадии синдрома позвоночной артерии была атаксия при ходьбе. При обострении синдрома позвоночной артерии в ряде наблюдений отмечен горизонтальный нистагм, но у большинства больных был нистагм положения. У больных с органической стадией синдрома позвоночной артерии выявлялась асимметрия лицевой мускулатуры, слабость конвергенции, пирамидная недостаточность. У 38% больных отмечены синкопальные приступы по типу Унтерхарншайдта, у 30% – вегетативно-сосудистые пароксизмы смешанного типа, что несколько чаще, чем в контрольной группе (соответственно 10% и 20%). При рентгенологическом исследовании шейного отдела позвоночника выявлены изменения по классификации Зекера соответствующие остеохондрозу I степени в 13% наблюдений; II степени – в 56%; III степени – в 31% (локальный кифоз, уменьшение высоты межпозвоночных дисков, унковертебральный артроз, нестабильность в позвоночно-двигательных сегментах, спондилоартроз, остеофиты). В 30% наблюдений (14 человек) выявлены аномалии развития краниовертебральной области: аномалия Кимерли, базилярная импрессия, платибазия, шейные ребра, аномалия Арнольда-Киари I степени (по данным МРТ), что достоверно превышает аналогичные показатели контрольной группы (15%). Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов и сосудов верхних конечностей, проведенная по стандартной методике с функциональными пробами выявила асимметрию кровотока по позвоночным и подключичным артериям в пределах 40%, снижение скорости кровотока по позвоночным артериям, явления ангиоспазма, нарушение венозного оттока по позвоночным и глазным венам. При функциональной стадии синдрома позвоночной артерии средние значения скорости кровотока по позвоночным артериям составили: справа 38,3 ± 1,4 см/сек; слева 39,6 ± 2,3 см/сек; индекс циркуляторного сопротивления (ИЦС) справа – 0,54 ± 0,02; слева – 0,52 ± 0,02; индекс спектрального расширения (СР) справа равен 56 ± 3,4%; слева – 58 ± 3,2%. По основной артерии скорость кровотока составила 45,2 ± 1,4 см/сек; ИЦС – 0,53 ± 0,02; индекс СР – 52 ± 3,1%. При органической стадии синдрома позвоночной артерии скорость кровотока по позвоночным артериям была в среднем справа 25,4 ± 1,2 см/сек; слева 27,3,6 ± 1,1 см/сек; ИЦС справа – 0,59 ± 0,02; слева – 0,53 ± 0,01; индекс СР справа – 65 ± 3,1%; слева – 60 ± 3,3%. Скорость кровотока по основной артерии составила 37,7 ± 1,3 см/сек; ИЦС – 0,55 ± 0,01; индекс СР – 60 ± 3,4% (таблица 1). 48 Таблица 1. Параметры УЗДГ при функциональной и органической стадии синдрома позвоночной артерии. Функциональная стадия синдрома позвоночной артерии по позвоночным артериям по основной артерии справа слева Исследуемая Контрольная Исследуемая Контрольная Исследуемая Контрольная группа группа группа группа группа группа скорость кровотока, см/сек индекс циркуляторного сопротивления индекс спектрального расширения, % 38,3 ± 1,4* 45,3 ± 1,2 39,6 ± 2,3* 46,1 ± 1,2 45,2 ± 1,4 42,1 ± 1,3 0,54 ± 0,02 0,56 ± 0,02 0,52 ± 0,02 0,53 ± 0,01 0,53 ± 0,02 0,55 ± 0,01 56 ± 3,4 53 ± 3,2 58 ± 3,2 57 ± 2,8 52 ± 3,1 54 ± 2,9 Органическая стадия синдрома позвоночной артерии по позвоночным артериям по основной артерии справа слева Исследуемая Контрольная Исследуемая Контрольная Исследуемая Контрольная группа группа группа группа группа группа скорость кровотока, см/сек индекс циркуляторного сопротивления индекс спектрального расширения, % 25,4 ± 1,2* 38,2 ± 1,1 27,3,6 ± 1,1* 40,2 ± 1,2 37,7 ± 1,3* 42,4 ± 1,2 0,59 ± 0,02 0,56 ± 0,02 0,53 ± 0,02 0,54 ± 0,01 0,55 ± 0,01 0,56 ± 0,02 65 ± 3,1* 54 ± 2,8 60 ± 3,3* 54 ± 2,9 60 ± 3,4* 53 ± 2,8 Примечание: * р < 0,05 в сравнении с контрольной группой По сравнению с контрольной группой отмечается достоверное уменьшение скорости кровотока по позвоночным артериям при функциональной и органической стадии синдрома позвоночной артерии, уменьшение скорости кровотока по основной артерии при органической стадии синдрома позвоночной артерии, увеличение индекса спектрального расширения (р < 0,05). Чаще, чем в контрольной группе выявлены признаки венозной дисциркуляции, затруднения венозного оттока отмечены соответственно в 86% и 53%. Результаты функциональных проб с ротацией и разгибанием в шейном отделе позвоночника, а также проба на «скаленус»синдром не выявили существенных различий с контрольной группой и подтверждали диагноз. Больным проводилось исследование коротко-латентных слуховых и зрительных вызванных потенциалов. По результатам обследования коротколатентных слуховых вызванных потенциалов у больных исследуемой группы выявлены нестабильность и снижение амплитуды начальных компонентов ответа, межполушарная амплитудная асимметрия, что позволяло думать о нарушении проведения в периферической части слухового анализатора. Данные изменения отмечены у 60% больных. В исследуемой группе больных было более длительное течение обострений синдрома позвоночной артерии. Средние значения числа дней нетрудоспособности у больных исследуемой группы составили 24 ± 2, в 49 контрольной группе – 15 ± 2 (р < 0,05). Значительное улучшение в виде уменьшения выраженности клинических проявлений, значений показателей УЗДГ отмечается при комплексном патогенетическом лечении в сочетании с медикаментозной коррекцией гипотиреоза. Приводим следующее наблюдение. Больная П-ва Г.И., 1952 г.р. Медсестра поликлиники. История болезни № 1087. Находилась в неврологическом отделении с 14 февраля 2002 г. по 28 февраля 2002 г. Диагноз: Шейный остеохондроз СV-CVI, спондилоартроз СV-CVI. Синдром позвоночной артерии, функциональная стадия, кохлеовестибулярные нарушения, цервикокраниалгия, обострение. Плечелопаточный периартроз справа. Соп. Гипотиреоз легкой степени тяжести. Поступила с жалобами на боль в шейно-затылочной области, приступообразное головокружение в виде вращения окружающих предметов, неустойчивость при ходьбе, общую слабость, раздражительность. Больна в течение 3-х лет, обострения заболевания отмечаются до двух раз в году, проводит лечение амбулаторно и в стационаре. Настоящее ухудшение состояния в течение двух недель. При осмотре: лицо пастозное, кожные покровы бледные, подкожножировой слой развит несколько избыточно, тоны сердца глуховаты, ритмичные. ЧСС 68 в 1 минуту. АД 110 и 70 мм рт.ст. Сознание ясное, эмоционально лабильна. Черепно-мозговые нервы в норме. Сухожильные и периостальные рефлексы на руках средней живости D = S, на ногах ниже средней живости D = S. Пальце-носовую и пяточно-коленную пробы выполняет удовлетворительно. Чувствительность не нарушена. Имеется болезненность при пальпации в точках позвоночной артерии, в паравертебральных точках шейной области, в надостных областях, в области верхне-медиальных углов лопаток, в области клювовидного отростка лопатки справа. Болезненность при движениях в правом плечевом суставе. Объем движений не ограничен. Общий анализ крови: гемоглобин 134 г/л, эритроциты 4,4 х 1012/л, ЦП 0,9, лейкоциты 8,0 х 109/л, эозинофилы 4%, палочкоядерные 4%, сегментоядерные 67%, лимфоциты 23%, моноциты 4%, СОЭ 3 мм/ч. Общий анализ мочи: удельный вес 1011, белок, сахар отрицательные. Анализ крови на ПТИ – 84%, глюкоза 4,2 ммоль/л, холестерин 5,5 ммоль/л, триглицериды 0,95 ммоль/л, липидный спектр не изменен. Анализ крови на кальций - 2,58 ммоль/л. Анализ крови на ТТГ – 6,45 мМЕ/л, сТ4 – 8 мкг% (норма 10-25 мкг%); сТ3 – 3,3 нг% (норма 4-8 нг%). УЗИ щитовидной железы от 26.01.02 г. Объем 21,2 см3, правая доля 23 х 21 х 44 мм, левая доля 22 х 23 х 42 мм. Перешеек 6 мм. Контуры ровные, 50 структура однородная, мелкозернистая, узловых образований не выявлено. Заключение: УЗ-признаки диффузного увеличения щитовидной железы I-II степени. ЭКГ от 15.02.02 г. Ритм синусовый, отклонение ЭОС влево, блокада передне-верхнего разветвления левой ножки пуча Гиса, неполная блокада правой ножки пуча Гиса, ЧСС 64 в 1 минуту. Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов головного мозга от 20.02.02 г. Кровоток по ОСА, НСА симметричный, ИЦС в норме. Кровоток по ВСА симметричный, ИЦС повышен. Скорость кровотока по ПА справа 20 см/сек, слева 24 см/сек. По НБАА кровоток асимметричный, S > D на 40%, антеградный. Венозный отток не нарушен. Спектр не изменен. Заключение: начальные проявления атеросклероза МАГ, снижение скорости кровотока по левой ПА. Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами. Скошенность передних рентгеновских углов С IIICIV. Задний спондилоартроз в сегментах CII-CIII, CIII-CIV, CVI-CVII. Нестабильность в сегменте CIII-CIV около 2 мм, уменьшена высота диска в сегменте CIII-CIV. Заключение: Остеохондроз позвоночника II степени. Электроэнцефалография от 19.02.02 г. Умеренные нарушения биоэлектрической активности регуляторного характера. Повышена возбудимость коры. Дисфункция правой лобно-передне-височной доли. Коротко-латентные слуховые вызванные потенциалы. Заключение: При проведении АСВП все компоненты ответов выделяются как при стимуляции левого, так и правого уха, достаточно стабильны. Отмечается межполушарная амплитудная асимметрия основных компонентов D < S и некоторая нечеткость 1, 2-го компонентов справа при стимуляции правого уха. Значения абсолютных латентностей в пределах нормы. По данным обследования следует думать о нарушении в периферической части слухового анализатора справа (рисунки 14, 15). Консультация окулиста. Заключение: на глазном дне артериосклероз сетчаток обоих глаз. 51 Рисунок 14. Коротко-латентные слуховые вызванные потенциалы больной П-вой Г.И., 1952 г.р. 52 Рисунок 15. Коротко-латентные слуховые вызванные потенциалы больной П-вой Г.И., 1952 г.р. 53 Консультация эндокринолога. Диагноз: Первичный гипотиреоз легкой степени тяжести, декомпенсация. Рекомендуется диспансерное наблюдение, Lтироксин с 25 мкг в возрастающей дозе до 100 мкг в сутки. Консультация кардиолога. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения III ф.кл. Атеросклеротический кардиосклероз. НК IIА стадии. Больной проведено лечение с назначением сосудистых препаратов, ноотропов, препаратов, улучшающих метаболизм головного мозга, НПВП. Комплексное лечение включало назначение L-тироксина после консультации эндокринолога. Больная была выписана на амбулаторное лечение с улучшением состояния в виде уменьшения болевого синдрома и кохлео-вестибулярных расстройств. В данном наблюдении синдром позвоночной артерии протекал на фоне гипотиреоза легкой степени тяжести. Положительная динамика в лечении была связана с назначением L-тироксина. В клинической картине преобладали проявления вестибуло-атаксического синдрома и астено-невротических расстройств. При осмотре отмечены проявления нейроостеофиброза в мышцах шейного отдела и плечевого пояса. В процессе динамического наблюдения за больной отмечено значительное улучшение состояния, обострения возникали реже, уменьшилась выраженность вестибулярных проявлений, астеноневротических расстройств, нормализовались показатели тиреоидных гормонов. 54 5.2. Особенности течения хронической недостаточности мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза Под нашим наблюдением находилась группа больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза в количестве 84 человека, из них 80 женщин и 4 мужчины. Средний возраст больных был 50,2 ± 1,28 лет, от 30 до 40 лет – 2 человека, в возрасте от 40 до 50 лет было 28 человек, от 50 до 60 лет – 44 человека, старше 60 лет – 10 человек (рисунки 16-18). Рисунок 16. Состав больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза исследуемой и контрольной групп по возрасту. старше 60 лет 10 50-60 лет контрольная группа 44 40-50 лет исследуемая группа 28 2 30-40 лет 0 20 40 60 Рисунок 17. Состав больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза исследуемой группы по возрасту. 12% 2% 53% 30-40 лет 33% 41-50 лет 51-60 лет старше 60 лет 55 Рисунок 18. Состав больных контрольной группы по возрасту. 20% 20% 60% 41-50 лет 51-60 лет старше 60 лет Длительность заболевания гипотиреозом составила до 1 года у 4 больных (5%), до 5 лет у 50 больных (60%), свыше 5 лет – 30 больных (35%) (рисунок 19). Рисунок 19. Распределение больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза исследуемой группы в зависимости от длительности течения гипотиреоза. 5% до 1 года 35% 60% до 5 лет свыше 5 лет Первичный гипотиреоз выявлен у 70 больных (95%), вторичный гипотиреоз у 4 больных (5%). Первичный гипотиреоз был обусловлен диффузным узловым зобом у 30 больных (35%), аутоиммунным тиреоидитом у 47 больных (56%), послеоперационный гипотиреоз у 7 больных (9%). Скрытый субклинический гипотиреоз выявлен у 32% (27 больных) со средними значениями ТТГ 5,7 ± 0,78 мМЕ/л. Средние значения ТТГ в исследуемой группе составили 9,2 ± 0,8 мМЕ/л. Средние значения Т4 – 4 ± 0,6 мкг%; Т3 – 62 ± 1,2 нг% В клинической картине заболевания отмечались симптомы, характерные для гипотиреоза: быстрая утомляемость, снижение работоспособности, нарушения сна, снижение памяти, сухость кожи, отечность лица и конечностей, приступообразные боли в области сердца. Артериальная гипертензия в исследуемой группе отмечена значительно чаще, чем в контрольной, соответственно 47% и 20%. Согласно статистическим исследованиям, связанное с возрастом постепенное повышение артериального давления более выражено у гипотиреоидных пациентов, чем у лиц с нормальной функцией щитовидной железы. В связи с этим гипотиреоз может быть отнесен к факторам 56 риска для развития гипертензии (Старкова Н.Т., 2002 г.). Сочетание с сахарным диабетом II типа выявлено у 7 больных (8,3%). Клинические проявления ХНМК соответствовали в исследуемой группе в большей степени поражению вертебробазилярного бассейна. Отмечено преобладание вестибуло-атаксического синдрома у всех больных. Таким образом, вместе с типичными проявлениями ХНМК у больных наблюдались симптомы, характерные для гипотиреоидной энцефалопатии. Больные предъявляли жалобы на головную боль в шейно-затылочной области, в височных областях, головокружение в виде неустойчивости при ходьбе, пошатывания, нарушения статики и координации движений, шум в голове, в ушах. По литературным данным при гипотиреоидной энцефалопатии больных беспокоит головокружение и в неврологическим статусе выявляются элементы мозжечковой атаксии. В исследуемой группе больных преобладали проявления вестибулоатаксического синдрома. Головокружения в исследуемой группе были несистемные (ощущение неустойчивости, мелькания, проваливания), часто головокружения зависели от перемены положения головы. Можно предположить, что в исследуемой группе больных возникновение вестибулярно-атаксических проявлений было связано в большей степени с состоянием лабиринтной артерии вертебрально-базилярного бассейна, а также с патологией вестибулярных ядер ствола головного мозга и мозжечковых систем. Расстройства статики и походки выражались небольшой неустойчивостью в пробе Ромберга, неуверенностью и пошатыванием при ходьбе. Вестибулоатаксический синдром проявлялся в сочетании с церебрастеническими нарушениями. Больные отмечали быструю утомляемость, трудности сосредоточить внимание на текущие события, тревожный сон с частыми пробуждениями, раздражительность, слезливость, подавленное настроение. Нейропсихологические исследование выявило нарушение нормальных отношений между процессами возбуждения и торможения, нарушение внимания, запоминания. Отмечено умеренное снижение памяти на текущие события. Нарушено запоминание при пробе из 10 слов. Интеллект сохранен, профессиональная память не нарушена (Лурия А.Р., 1973; Белова А.Н., 2002). В неврологическом статусе в исследуемой группе больных имелись рассеянные микросимптомы: асимметрия носогубных складок, ладонноподбородочный рефлекс Маринеску-Радовичи, глазодвигательные расстройства в виде слабости конвергенции, легкая гемигипестезия лица, часто в наружной зоне Зельдера, пирамидная недостаточность в виде повышения глубоких рефлексов или легкой анизорефлексии. Неустойчивость в пробе Ромберга, неточность при выполнении пальце-носовой и пяточно-коленных проб, неуверенность и пошатывание при ходьбе. Зрительные нарушения проявлялись в виде мушек и ряби в глазах, в ряде наблюдений отмечены фотопсии, приступообразное «потемнение» в глазах, частичное выпадение полей зрения, преходящая диплопия. Нарушения чувствительности (13%) были представлены 57 легкой гемигипестезией поверхностной чувствительности, преходящих парестезий. У 8 больных (7,6%) были синкопальные состояния. У 52% больных была болезненность в точках позвоночной артерии и паравертебральных точках шейно-грудного отдела. Нарушения липидного обмена выявлены у 20 человек (24%), отмечена гиперлипидемия (средние значения холестерина 8,2 ± 1,1 мМ/л, β-липопротеиды 64 ± 2 ед). На рентгенограммах черепа у 21% больных выявлены нейроэндокринные изменения в виде лобного гиперостоза, у 25% больных выявлены аномалии развития краниоцервикальной области: базилярная импрессия, платибазия, аномалия Арнольда-Киари. На рентгенограммах шейного отдела позвоночника изменения соответствовали по классификации Зекера остеохондрозу I степени в 13% наблюдений (11 человек), II степени – в 55% (47 человек), III степень остеохондроза – у 32% (26 человек) (рисунок 20). Рисунок 20. Состав больных с хронической недостаточностью мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза исследуемой группы в зависимости от степени остеохондроза. 13% I степень 31% II степень 56% III степень Выявлены следующие рентгенологические изменения: локальный кифоз, уменьшение высоты дисков, унковертебральный артроз, нестабильность в позвоночно-двигательных сегментах, спондилоартроз, остеофиты. Признаки остеопороза умеренно выраженного были у 5 больных (6%). Для подтверждения остеопороза произведены остеоденситометрия, исследование кальция в сыворотке крови, значения кальция были ниже нормы (1,8 мМ/л). Подобные результаты обследования свидетельствуют в пользу влияния вертеброгенного фактора в развитии ХНМК. По данным ультразвуковой допплерографии экстракраниальных сосудов, произведенной по стандартной методике с функциональными пробами, отмечены следующие изменения: асимметрия кровотока по ОСА у 4 больных, по ВСА – у 15 больных; по позвоночным артериям у 30 больных, по артериям верхних конечностей – у 12 больных, снижение скорости кровотока по ВСА у 4 больных (средние значения 22,3 ± 1,1 см/сек справа, 23,3 ± 1,0 см/сек слева), по позвоночным артериям у 64 больных (средние значения справа 23,4 ± 1,2 см/сек, слева 24,3 ± 1,1 см/сек), что достоверно меньше, чем в контрольной группе (р < 0,05). Скорость кровотока по основной артерии составила 36,8 ± 1,3 58 см/сек, что также меньше значений контрольной группы (р < 0,05). ИЦС по ВСА составил справа 0,54 ± 0,02; слева 0,52 ± 0,01; индекс СР справа равен 56 ± 3,4%, слева 58 ± 3,2%. По позвоночным артериям ИЦС справа 0,59 ± 0,02; слева 0,53 ± 0,02; индекс СР справа равен 65 ± 3,1%, слева 60 ± 3,2%. ИЦС по основной артерии равен 0,55 ± 0,01, индекс СР 60 ± 3,4%. По сравнению с контрольной группой имеется увеличение среднего значения индекса СР (р < 0,05) (таблица 2). Таблица 2. Параметры УЗДГ по магистральным артериям головы. Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов скорость кровотока (см/сек) индекс циркуляторного сопротивления индекс спектрального расширения (%) по внутренней сонной артерии справа ИГ** слева КГ ИГ справа КГ 22,3 ± 1,1 35,4 ± 1,2 23,3 ± 1,0 38,4 ± 1,1 0,54 ± 0,02 0,52±0,01 56 ± 3,4 49 ± 3,2 0,52 ± 0,01 по основной артерии по позвоночным артериям слева ИГ КГ 23,4 ± 1,2* 38,3 ± 1,1 ИГ КГ ИГ КГ 24,3 ± 36,8 ± 40,2 ± 1,2 42,4 ± 1,2 1,1* 1,3* 0,54 ± 0,53 ± 0,59 ± 0,020,56 ± 0,02 0,01 0,02 0,54 ± 0,01 0,55 ± 0,01 0,56 ± 0,02 58 ± 3,2 51 ± 2,9 65 ± 3,1* 54 ± 2,8 60 ± 3,2* 54 ± 2,9 60 ± 3,4* 53 ± 2,8 Примечание: * р < 0,05 в сравнении с контрольной группой; **ИГ – исследуемая группа, КГ – контрольная группа. В сосудах вертебробазилярного бассейна отмечается увеличение значения индекса сдвига порога ауторегуляции более единицы, что свидетельствует о преобладании констрикторных реакций. Явления ангиоспазма отмечены у 24 больных (29%) в каротидном бассейне и у 28 больных (33%) в вертебро-базилярном бассейне, в бассейне плечевой артерии у 12 больных (14%). Затруднения венозного оттока по глазным и позвоночным венам отмечались у 78 больных (93%), что превышает аналогичные показатели контрольной группы (60%). Гемодинамически незначимый стеноз ОСА был у 2 больных; ВСА – у 8 больных (9,5%). Изменения кровотока по позвоночным артериям при ротационной пробе отмечены у 34 больных (40%), проба на «скаленус»синдром была положительной у 20 человек (24%). Таким образом, по сравнению с контрольной группой отмечается уменьшение средних значений скорости кровотока в вертебробазилярном бассейне, атеросклеротический спектр, увеличение значений индекса СР, явления ангиоспазма, затруднение венозного оттока, признаки ортостатической неустойчивости в вертебробазилярном бассейне. Чаще, чем в контрольной группе отмечены положительные результаты функциональных проб с движениями в шейном отделе позвоночника. Результаты проведенного обследования в данной группе больных свидетельствуют о наличии у них хронической недостаточности кровообращения в вертебробазилярном бассейне, соответствующей I и II 59 стадиям (соответственно у 16,7% и 75% больных), у 7 больных (8,3%) отмечены признаки начальных проявлений недостаточности мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне. В клинической картине преобладали признаки вестибуло-атаксического, церебрастенического, астено-невротического, цефалгического, диссомнического, дисмнестического синдромов. Результаты лечения данной группы больных значительно улучшались при медикаментозной коррекции гипотиреоза: отмечалась положительная динамика в неврологическом статусе и при нейропсихологическом обследовании, нормализовались показатели артериального давления. Приводим характерное наблюдение. Больная Г-на, 1946 г.р. Учитель. Находилась в неврологическом отделении с 24 мая 2001 г. по 8 июня 2001 г. История болезни № 3486. Диагноз: Хроническая недостаточность мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне с частыми вегетативно-сосудистыми пароксизмами на фоне церебрального атеросклероза и артериальной гипертензии, шейного остеохондроза и гипотиреоза: вестибуло-атаксический синдром, цефалгический синдром, астено-невротическое состояние. Соп. Гипотиреоз легкой степени тяжести. Патологический климакс. Поступила с жалобами на приступообразную головную боль в шейнозатылочной области, боли и парестезии в руках, головокружение, неустойчивость при ходьбе, приступообразное повышение АД с генерализованным тремором, головной болью, головокружением и тошнотой. Из анамнеза известно, что головные боли, головокружение беспокоят в течение многих лет, в течение 4-х лет климактерический период, на фоне которого ухудшение состояния. Поступила на стационарное лечение в связи с усилением головной боли и головокружения. При осмотре: подкожно-жировой слой развит избыточно (ожирение II степени), АД 160 и 80 мм рт. ст. Пульс ритмичный, 68 в 1 минуту. В неврологическом статусе эмоционально лабильна. В пробе Ромберга неустойчива. Пальце-носовую и пяточно-коленную пробы выполняет неточно. Черепно-мозговые нервы без патологии. Сухожильные и периостальные рефлексы D = S, средней живости. Болезненность в паравертебральных точках шейно-грудного отдела позвоночника, в надостных областях, в области верхнемедиальных углов лопаток, в точках позвоночной артерии, в области сосцевидных отростков. Общий анализ крови: гемоглобин 120 г/л, эритроциты 3,9 х 10 12/л, лейкоциты 4,0 х 109/л, эозинофилы 1%, палочкоядерные 1%, сегментоядерные 79%, лейкоциты 17%, моноциты 2%, СОЭ 8 мм/ч. 60 Общий анализ мочи: удельный вес 1032, белок отрицательный, лейкоциты 0-1 в п/зр, эритроциты ед. изм, соли оксалаты. Анализ крови на ПТИ 93%, фибриноген - 3,55 г/л, глюкозу - 5,23 ммоль/л, холестерин – 5,3 ммоль/л, кальций – 2,36 ммоль/л. Кровь на гормоны щитовидной железы 01.06.01 г.: ТТГ 5,6 мкМЕ/мл, сТ4 7,98 нмоль/мл, сТ3 0,74 нмоль/мл. Анализ крови на глюкозу 30.05.01 г.: 9 часов – 4,8 ммоль/л, 12 часов – 4,2 ммоль/л, 15 часов – 5,4 ммоль/л. ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 68 ударов в минуту, нормальное положение электрической оси сердца. ЭХО-ЭС: смещение М-ЭХО на 1 мм слева направо. Ширина III желудочка 5 мм. Коротко-латентные слуховые вызванные потенциалы. Заключение: При проведении АСВП как при стимуляции левого, тик и правого уха все компоненты ответа выделяются, нестабильность и снижение амплитуды начальных компонентов ответа больше справа (1, 2 комп.), межполушарная амплитудная асимметрия 3-го компонента S < D, значения амплитуд в пределах нормы. По данным обследования следует думать о нарушении проведения в периферической части слухового анализатора с двух сторон, больше справа (рисунки 21, 22) 61 Рисунок 21. Коротко-латентные слуховые вызванные потенциалы больной Г., 1946 г.р. 62 Рисунок 22. Коротко-латентные слуховые вызванные потенциалы больной Г., 1946 г.р. 63 Рентгенография шейного отдела позвоночника от 25.05.01: выпрямление физиологического лордоза в сегменте СVI-CVII. Задний спондилоартроз в сегменте СVI-CVII. Нестабильность СV кзади на 0,3 см. Снижение высоты диска в заднем отделе СV-CVI. Верхний суставной отросток CVI наслаивается на тело CV и достигает реберно-поперечного отверстия. Суставная щель между суставными отростками в виде клина, открытого кпереди. Скошенность передне-верхнего угла CV, CVI. Обызвествление передней продольной связки у CVI и СVII – спондилез. Унковертебральный артроз в сегменте CIII-CIV. Заключение: Остеохондроз II-III ст. шейного отдела позвоночника. Разгибательный подвывих по Ковачу (рисунок 23). Рисунок 23. Рентгенограммы шейного отдела позвоночника больной Г., 55 лет, от 25 мая 2001 г. 64 Рентгенография черепа в боковой проекции, томограмма турецкого седла 8 и 8,5 см срезы. Определяется равномерный остеосклероз дна турецкого седла. Размеры его обычные, форма не изменена. Обызвествление задней ретроселлярной связки турецкого седла. Костно-деструктивных изменений костей черепа нет. Соотношение пластин черепа сохранено. Сосудистый рисунок и рисунок пальцевых вдавлений не изменен. Пневматизация пазух носа и основной пазухи сохранена. Заключение: Остеосклероз дна турецкого седла и обызвествление связки его – сложные нейроэндокринные нарушения. УЗИ щитовидной железы от 1.06.01. Перешеек 3 мм, правая доля 13 х 19 х 41 мм; левая доля 13 х 16 х 39 мм, контуры ровные, структура однородная. Консультация окулиста. На глазном дне – диски зрительных нервов ровные, четкие; артерии узкие, выпрямлены, местами уплотнены; вены расширены, полнокровные. Заключение: гипертоническая ангиопатия сетчаток обоих глаз. Консультация кардиолога. Диагноз: Гипертоническая болезнь II ст., кризовое течение, симпатоадреналовые кризы, климакс. Астено-депрессивное состояние. Консультация эндокринолога. Диагноз: Гипотиреоз I ст. Ожирение II ст. Рекомендуется диета; L-тироксин 25 мкг 1 раз утром. Консультация гинеколога. Диагноз: Климактерический синдром. Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов головного мозга от 31.05.01 г. Скорость кровотока по ОСА, НСА симметричный, ИЦС в норме. По внутренней сонной артерии кровоток симметричный, ИЦС повышен слева. По ПА кровоток асимметричный, справа 23 см/сек, слева 28 см/сек, D < S на 14 %. Отмечается изменение кровотока по обеим ПА при ротационных пробах. При компрессионных функциональных пробах патологии не выявлено. Соединительные артерии Виллизиева круга функционируют. Венозный отток затруднен по глазным венам. Спектр изменен по атеросклеротическому типу. Заключение: атеросклероз магистральных артерий головы, снижение скорости кровотока по правой ПА, затруднение оттока по глазным венам. Транскраниальная допплерография. Отмечается уменьшение скорости кровотока по СМАА, левой ПМА, основной артерии, по ПАА кровоток асимметричный, D > S около 40%. По другим артериям кровоток в пределах возрастной нормы. При компрессии гомолатеральной ОСА отмечается снижение кровотока на 42%, что говорит о недостаточности коллатерального кровообращения. Ультразвуковая допплерография сосудов верхних конечностей. Кровоток по лучевым артериям симметричный, слева с признаками вазодилатации. Пробы на наличие «скаленус»-синдрома и малой грудной мышцы положительные с обеих сторон. Больной проведен курс стационарного лечения с назначением вазоактивных препаратов, ноотропов, препаратов, улучшающих 65 микроциркуляцию, транквилизаторов, гипотензивных препаратов, L-тироксина. Больная выписана с улучшением на амбулаторное лечение к неврологу. В данном наблюдении хроническая недостаточность мозгового кровообращения развивалась у больной на фоне церебрального атеросклероза с артериальной гипертензией, вертеброгенной патологией в виде подвывиха по Ковачу и гипотиреоза, возникшего в климактерическом периоде. В клинической картине преобладали изменения, характерные для поражения вертебробазилярного бассейна: вестибуло-атаксический синдром. У больной отмечены синдромы шейного остеохондроза: подтвержденный данными УЗДГ «скаленус»-синдром. При осмотре отмечены проявления нейроостеофиброза в мышцах шейного отдела и плечевого пояса. Данные осмотра также выявляли признаки гипотиреоза и выраженные астено-невротические проявления. По результатам обследования гипотиреоз у больной можно отнести к легкой степени тяжести. Назначение L-тироксина вызвало положительную динамику в лечении хронической недостаточности мозгового кровообращения. 66 6. Лечение цереброваскулярных расстройств при гипотиреозе Учитывая, что цереброваскулярные нарушения при гипотиреозе часто проявляются в виде вертебробазилярной недостаточности или синдрома позвоночной артерии, обследование больных уже в поликлинических условиях включает исследование функции щитовидной железы. При лечении подобных больных следует учитывать особенности течения цереброваскулярной патологии при гипотиреозе: длительное течение обострений, выраженность вестибулоатаксического и астено-невротического синдромов, вертеброгенные нарушения, нарушения венозного тонуса. Комплексное патогенетическое лечение больных проводится с медикаментозной коррекцией гипотиреоза, что сокращает сроки лечения. Учитывая частоту вестибулоатаксического синдрома и жалобы больных на головокружение, лечение должно включать средства, снижающие возбудимость центральных и периферических отделов вестибулярного аппарата, подавляющие сопутствующие вегетативные реакции. Симптоматическое лечение головокружения включает антихолинергические, антигистаминные препараты, бензодиазепины, нейролептики, противорвотные, антисеротониновые препараты. При тяжелых вестибулярных пароксизмах рекомендуется назначение церукала, седуксена, димедрола, платифиллина парентерально. Результаты лечения данной группы больных улучшает воздействие на вертебральный синдром и экстравертебральные проявления шейного остеохондроза. Воздействие на сосудистые факторы риска включает коррекцию артериальной гипертензии, гиперлипидемии, сахарного диабета, отказ от курения. Коррекция артериальной гипертензии сложна, так как больным может угрожать не столько повышение артериального давления, а эпизоды гипотензии, связанные с приемом гипотензивных средств (Гусев Е.И. с соавт., 2001). Поэтому при развитии ХНМК необходимо не нормализовать артериальное давление, а стабилизировать его на несколько повышенных цифрах, предупреждающих ишемию мозга в условиях нарушенной его саморегуляции. Предпочтительно использовать гипотензивные средства в меньшей степени влияющие на мозговое кровообращение – ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, диуретики, бета-блокаторы. Следует избегать регулярного приема препаратов нифедипина (коринфара), провоцирующих колебания артериального давления и применяемых лишь в острых ситуациях для снижения артериального давления. При необходимости можно использовать препараты нифедипина пролонгированного действия (коринфар-ретард по 20 мг х 2 раза в день). При гематокрите более 45% – отказ от курения. Длительный прием антиагрегантов предупреждает повторные ишемические эпизоды. Рекомендуется ацетилсалициловая кислота (аспирин в дозе 100-300 мг в день, тромбоАсс, кардиомагнил 75 мг на ночь), дипиридамол 67 (курантил) 300-400 мг/сутки. У пациентов, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку, а также имеющих выраженный атеросклеротический стеноз магистральных артерий головы или сосудистые очаги при КТ или МРТ, целесообразен длительный прием антиагрегантов. При коагулопатиях и постоянной форме мерцательной аритмии показан прием антикоагулянтов. Тем не менее, антикоагулянты противопоказаны лицам с лейкоэнцефалопатией ввиду высокого риска внутримозговых геморрагий. Антагонисты кальция (нимодипин 30 мг х 3 раза в сутки), оказывают нейропротекторное и стабилизирующее влияние на мозговые сосуды. Другие антагонисты кальция плохо проникают через гематоэнцефалический барьер. Для коррекции гемореологических нарушений, вызывающих патологию мелких артерий – пентоксифиллин (трентал) 400 мг х 3 раза в сутки. Пентоксифиллин обладает антиагрегационными свойствами, ингибируя спонтанную агрегацию тромбоцитов и эритроцитов. За счет этого понижается вязкость крови и улучшается кровоснабжение тканей. Пентоксифиллин повышает содержание в плазме липопротеинов высокой плотности, что является положительным фактором при лечении больных атеросклерозом. Действие пентоксифиллина не связано с вазодилятаторным эффектом. Было показано, что пентоксифиллин не вызывает достоверного расширения средней мозговой артерии. При гиперфибриногенемии применяют тиклопидин (тиклид), при гиперлипидемии – эндурацин, ловастатин, пробукол. Вазоактивные препараты – препараты, потенциально направленные на преодоление перфузионного кризиса. К этой группе препаратов относят винпоцетин (кавинтон), семпион, стугерон, инстенон, пикамилон. Помимо основного действия они обладают частичным ноотропным эффектом, что делает эти препараты теоретически выгодными с точки зрения «комплексной монотерапии». Винпоцетин (кавинтон) – синтетический аналог алкалоида, выделенного из лекарственного растения малого барвинка. Особенность механизма действия состоит в способности одинаково воздействовать на расстройства клеточного обмена, кровотока и микроциркуляции, кроме того винпоцетин оказывает умеренное стимулирующее влияние на систему моноаминовых нейромедиаторов головного мозга. Кавинтон, влияя на мозговой обмен, увеличивает потребление и утилизацию глюкозы тканями мозга, улучшает переносимость гипоксии мозговыми клетками, переводит обмен глюкозы в энергетически более выгодное аэробное направление (Гусев Е.И. с соавт., 1998). Выраженный вазоактивный эффект проявляется значительным возрастание скорости кровотока по крупным интракраниальным артериям, особенно в каротидном бассейне. Сермион (ницерголин) характеризуется торможением негативных влияний избыточной активности катехоламинов на адренергические рецепторы. Неудобен в использовании из-за сильного депрессивного воздействия на центральную гемодинамику: отчетливое снижение АД, возникновение брадикардии и снижение минутного объема кровотока. Инстенон характеризуется как препарат, обладающий полимодальным действием. Он увеличивает интенсивность мозгового 68 кровотока в условиях ишемии за счет стабилизации механизма ауторегуляции, активирует ретикулярную формацию, нормализует основные механизмы клеточного метаболизма. Ницерголин (сермион) применяют в дозе 5-10 мг х 3 раза в сутки; 4 мг в/в или в/м; препараты барвинка – кавинтон (винпоцетин) 4,0 в/в кап.; 1 т. х 3 р/сутки, препараты гинкго билоба – танакан по 1 таб. х 2 р. Препараты с ноотропным действием: пирацетам (ноотропил) 1,6-4,8 г/сутки, энцефабол 300-600 мг/сутки, церебролизин 10 мл в/в кап. № 10, глиатилин 400 мг х 3 раза в сутки, семакс (АКТГ, лишенный гормональной активности). Ноотропил (пирацетам) является основным представителем группы ноотропных препаратов. После приема внутрь хорошо всасывается и проникает в различные органы и ткани, благодаря цикличности своей молекулы, свободно проникает через ГЭБ и накапливается в мозговой ткани через 1-4 часа после приема, максимальная концентрация в крови наблюдается через 0,5 – 1 час. Из спинномозговой жидкости выводится значительно медленнее, чем из других тканей. Биодоступность, независимо от лекарственной формы, составляет около 95% (часть дозы, поступившей в системный кровоток после внесосудистого введения). Практически не подвергается биотрансформации и на 2/3 выделяется почками в неизменном виде (в течение 30 часов). Ноотропил имеет по химической структуре сходство с γ-аминомасляной кислотой (ГАМК) и может рассматриваться как синтетический аналог этой кислоты (М.Д. Машковский, 1997). И хотя содержание ГАМК в мозге после назначения ноотропила не повышается, вместе с тем он способен усиливать ГАМКэргические тормозные процессы. Вместе с тем ноотропил влияет и на другие нейромедиаторные системы мозга. Установлено, что ноотропил усиливает синтез дофамина, повышает уровень норадреналина в мозге. Под влиянием ноотропила увеличивается содержание ацетилхолина на уровне синапсов. Особенно важными в многокомпонентном действии ноотропила являются нейрональное (нейропротекторное) и сосудистое (улучшающее мозговой кровоток) действие. Влияние ноотропила на метаболические и биоэнергетические процессы в нервной клетке заключается в активации синтеза белков, РНК, улучшения синтеза аденозинтрифосфата, антигипоксическое и мембраностабилизирующее действие. Сосудистое действие ноотропила обусловлено улучшением микроциркуляции и регионарного кровотока в ишемизированных участках за счет восстановления гибкости мембраны эритроцитов, уменьшения агрегации активированных тромбоцитов, уменьшения спазма сосудов без вазодилататорного эффекта и гипотензии. Ноотропил успешно применяется при лечении нарушенных функций вестибулярного аппарата. Нейротрофические препараты – церебролизин, актовегин. Помимо неорганических микроэлементов, препараты содержат органические вещества, такие как пептиды, аминокислоты, нуклеозиды, промежуточные продукты углеводного и животного обмена, липиды и олигосахариды. Сложность соединения определяет многогранную направленность действия. 69 Метаболическая регуляция осуществляется за счет интенсификации аэробного и анаэробного гликолиза, снижения уровня лактаацидоза, стимуляции внутриклеточного синтеза белка, снижения продуктов перекисного окисления липидов. Нейромодулирующий эффект препаратов заключается в стабилизации функционирования клеточных мембран, способствующей поддержанию клеточного гомеостаза. Важным свойством является снижение повреждающего действия свободных радикалов, а также выброса нейротоксических веществ – глутамата и аспартата. Под воздействием церебролизина и актовегина увеличивается потребление кислорода и глюкозы, что ведет к увеличению энергетического статуса клетки и оказывает положительное влияние на ее метаболизм. Нейротрофическое действие характеризуется повышением переживаемости нейронов центральной системы. При тенденции к прогрессированию заболевания лечение должно быть непрерывным. Смена ноотропов и вазоактивных средств каждые 2 месяца. Симптоматическое лечение включает прерывистое применение малых доз бензодиазепинов, при депрессии – антидепрессантов, при апатикоабулических синдромах – агонисты дофамина (бромкриптин). Несмотря на широкую популярность вазоактивных средств, их роль в лечении ХНМК окончательно не определена. Способность вазоактивных препаратов улучшать перфузию мозга не доказана. По литературным данным, учитывая раннее снижение реактивности мелких сосудов в пораженных зонах мозга, на фоне применения вазоактивных средств, возможен эффект обкрадывания в пользу интактных участков мозга с сохранной системой регуляции кровотока. Улучшение кровообращения в системе мелких мозговых сосудов может быть обеспечено с помощью препаратов, способствующих частичному восстановлению функции эндотелия (такой эффект, в частности, показан в отношении статинов), а также мерами, направленными на уменьшение вязкости крови (прекращение курения и т.д.). Хирургические лечение включает восстановительные операции на сосудах при патологической извитости, петлеобразовании. При стенозах более 75% – иссечение стенозированного участка, эндартерэктомия – удаление атеросклеротической бляшки с интимой артерий. Каротидная эндартерэктомия рекомендуется пациентам с атеросклеротическим стенозом сонных артерий при наличии легкого или умеренного (но не тяжелого!) когнитивного дефицита. Лечение синдрома позвоночной артерии при гипотиреозе должно быть комплексным с воздействием на все звенья патогенеза: механические, биомеханические, рефлекторные, физиотерапевтические и медикаментозные воздействия. Лечебные воздействия должны быть направлены на пораженный отдел позвоночника и на экстравертебральные вегетативно-сосудистые и нейродистрофические изменения. Медикаментозное лечение включает следующие препараты: анальгетики, дегидратирующие, гипосенсибилизирующие препараты при выраженном болевом синдроме в остром периоде, нестероидные противовоспалительные средства. При выраженных мышечно-тонических проявлениях назначают препараты с 70 миорелаксирующим действием, наиболее эффективный из которых тизанидин (сирдалуд) – центральный миорелаксант, действие которого связано с уменьшением высвобождения из интернейронов возбуждающих медиаторных аминокислот, в дозировке по 2 мг 3 раза в день. В зависимости от характера вегетативных расстройств назначают вегетотропные препараты. При исследовании кровотока по данным УЗДГ сосудов у больных с гипотиреозом отмечены усиление явлений ангиоспазма и венозной дисциркуляции. Для коррекции вазоспастических проявлений рекомендуется назначение альфаадреноблокаторов: пирроксана, ницерголина (сермиона), галидора. При синдроме позвоночных артерий для коррекции дисгемических расстройств в вертебробазилярном бассейне применяются вазоактивные препараты с венотонизирующим действием: кавинтон (по 4,0 мл), трентал (5 мл), эуфиллин (2,4% - 10,0 мл) внутривенно капельно. При гипотиреозе синдром позвоночной артерии протекает с выраженными вестибулярными проявлениями. Для купирования вестибулярных нарушений назначают натрия бромид внутривенно, транквилизаторы, атропинсодержащие препараты, антигистаминные средства, из которых наиболее эффективен бетасерк (в дозе 24 мг х 2 раза в сутки). Для купирования вегетативно-сосудистых пароксизмов в зависимости от их характера (вагоинсулярные или симпатоадреналовые) назначают холинолитики: атропинсодержащие препараты, платифиллин или адреноблокаторы: пирроксан. В первые дни обострения необходима иммобилизация пораженного отдела позвоночника, проведение постизометрической релаксации мышц. Для воздействия на нейродистрофические проявления наиболее эффективна ишемическая компрессия болезненных мышечных уплотнений. При недостаточном эффекте ишемизирующего разминания проводятся инфильтрационная терапия триггерных зон и лечебно-медикаментозные блокады. Медикаментозная коррекция гипотиреоза является важной составной частью в комплексном лечении данных больных. Лечение гипотиреоза состоит в применении препаратов тиреоидных гормонов. Наиболее целесообразно использовать L-тироксин, средняя доза которого составляет от 50 до 150 мкГ в сутки. По литературным данным при скрытом гипотиреозе проведение заместительной терапии не является обязательным. Рекомендуется наблюдать за больными, проверяя функцию щитовидной железы. Лечение начинают при снижении значений Т4 и появлении четких клинических признаков гипотиреоза. При скрытом гипотиреозе, когда базальный уровень ТТГ находится в диапазоне 5-20 мЕ/л, а уровни общего Т4 и свободного Т4 – нормальные, многие эндокринологи, особенно если имеется гиперхолестеринемия, назначают левотироксин. Пробный курс заместительной гормональной терапии проводится в расчете на то, что самочувствие больного улучшится, у него 71 прибавятся силы, снизится вес. При этом предполагается, что уровень Т4 до лечения недостаточен для поддержания эутиреоза (даже если Т4 находится в пределах нормы). Другая цель пробного лечения – выявление дисфункции щитовидной железы (Гершман Д., 1999). По результатам проведенных исследований у подобных больных отмечена недостаточная эффективность традиционного комплексного лечения цереброваскулярных расстройств: быстрое прогрессирование заболевания, более длительное течение обострения. Поэтому в комплексное лечение больных при скрытом гипотиреозе следует включать малые дозы L-тироксина. Левотироксин – это синтетический Т4 (натриевая соль тироксина). Левотироксин – средство выбора для заместительной гормональной терапии. В малых дозах обладает анаболическим действием. Лечение начинают с 12,5 мг с постепенным увеличением дозы до 50 мг утром однократно. В качестве контроля за адекватностью дозы ориентируются на результаты клинического обследования больного и показатели ТТГ. Применение малых доз L-тироксина у больных с вертеброгенными нейрососудистыми синдромами на фоне скрытого гипотиреоза позволяет достичь лучшей клинической эффективности и сократить сроки стационарного и амбулаторного лечения больного. 72 7. Цереброваскулярные расстройства при синдроме «пустого» турецкого седла В настоящее время в связи с использованием в диагностике заболеваний гипоталамо-гипофизарной области мозга метода МРТ стало возможным выявление «пустого» турецкого седла. Словосочетание «пустое» турецкое седло предложил C. Busch в 1951 году (Эгарт Ф.М., 2002). Синдром «пустого» турецкого седла (ПТС) характеризуется пролабированием супраселлярной цистерны в полость турецкого седла и распластыванием гипофиза по дну и стенкам турецкого седла, сопровождающимся эндокринными, неврологическими и зрительными нарушениями. ПТС – полиэтиологический синдром. Наиболее важными из предрасполагающих факторов являются недостаточность диафрагмы турецкого седла и повышение ликворного давления. В ряде наблюдений синдром ПТС диагностируется случайно. При синдроме ПТС возникают следующие изменения: 1) повышение давления в супраселлярном субарахноидальном пространстве, которое через неполноценную диафрагму усиливает воздействие на гипофиз (при внутричерепной гипертензии, гипертонической болезни и др.); 2) уменьшение размеров гипофиза и нарушение объемных соотношений между ним и турецким седлом, при нарушении кровоснабжения и инфаркте гипофиза или аденоме (при сахарном диабете, травмах головы, менингите и др.); в результате физиологической инволюции гипофиза (при заместительной терапии в менопаузе). ПТС, развивающееся после лучевого или хирургического лечения, является вторичным, а возникающее без предварительного вмешательства в области гипофиза – первичным (Бабарина М.Б., 1999). Нарушения эндокринной функции при синдроме ПТС крайне разнообразны. Встречаются как гипер-, так и гипосекреция тропных гормонов гипофиза. Нарушения отмечаются в диапазоне от субклинических форм, выявляемых с помощью стимуляционных проб, до выраженного пангипопитуитаризма. Это связано с множеством этиологических факторов и патогенезом образования ПТС. Наличие «пустого» турецкого седла возможно у больных с минимальной клинической симптоматикой и неизмененной эндокринной функцией (Старкова Н.Т., 2002). По данным Ф.М. Эгарт (2002 г.) в 80% находят ПТС у женщин, чаще после 40 лет, страдающих ожирением. По литературным данным описаны различные клинические проявления: зрительные нарушения, эндокринные расстройства. Но в литературе нет описания течения цереброваскулярной патологии у данных больных. При обследовании больных с цереброваскулярной патологией на фоне гипотиреоза МРТ выявила синдром «пустого» турецкого седла. Обследовано 40 больных в возрасте от 23 до 65 лет, из которых 13 мужчин и 27 женщин. Средний возраст больных составил 43,1 ± 2,8 года. Контрольная группа 73 состояла из 50 человек с цереброваскулярной недостаточностью без «пустого» турецкого седла (рисунки 24-26). Рисунок 24. Возраст больных исследуемой группы с синдромом «пустого» турецкого седла и контрольной группы. старше 60 лет 10 50-60 лет контрольная группа 44 40-50 лет исследуемая группа 28 2 30-40 лет 0 20 40 60 Рисунок 25. Состав больных с синдромом «пустого» турецкого седла исследуемой группы по возрасту. 20-30 лет 20% 5% 7,5% 27,5% 31-40 лет 41-50 лет 40% 51-60 лет старше 60 лет Рисунок 26. Состав больных контрольной группы по возрасту. 31-40 лет 14% 12% 28% 46% 41-50 лет 51-60 лет старше 60 лет 74 Проведено клиническое, лабораторное, рентгенологическое обследование. Электрофизиологическое обследование состояло из электроэнцефалографии, эхоэнцефалоскопии, исследование кровотока проводилось по данным ультразвуковой допплерографии сосудов. Всем больным проведена МРТ головного мозга, на которой определяется «пустое» турецкое седло (ПТС) (рисунок 27). 75 Рисунок 27. Магнитно-резонансная томограмма больной Г., 59 лет, от 23 ноября 2006 г. Клинический диагноз: Вертебробазиллярная недостаточность на фоне шейного остеохондроза и гипотиреоза: вестибулоатаксический, цефалгический и астеноневротический синдромы. Боковые желудочки мозга обычного расположения и конфигурации, симметричны, не расширены. III-й, IV-й желудочки не изменены. Супраселлярная цистерна расширена, пролабирует в турецкое седло, гипофиз в виде тонкой полоски до 0,2 см расположен на дне турецкого седла. На фоне диффузного расширения субарахноидальных конвекситальных пространств, борозд и сильвиевых щелей с умеренно выраженными атрофическими изменениями вещества мозга в конвекситальных отделах лобной области справа отмечается локальное расширение субарахноидального пространства с формированием ликворной кисты, размерами 3,0 х 1,6 х 2,7 см. Срединные структуры не смещены. Миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. В белом веществе лобных и теменных долей определяется с обеих сторон мелкие очаги демиелинизации от 0,3 до 0, 6 см. Заключение: МР картина наружной заместительной гидроцефалии. Арахноидальная киста лобной области справа. Очаговые изменения вещества мозга дистрофического характера. Признаки «пустого» турецкого седла. 76 Гипофиз значительно деформирован, ткань гипофиза представляет собой узкую истонченную полулунную полоску, выстилающую дно турецкого седла. Вертикальный размер гипофиза от 1 до 2 мм при норме от 3 до 8 мм. У 27 больных (90%) имеется первичное ПТС, у 3 больных (10%) – вторичное ПТС. Все больные предъявляли жалобы на головную боль различной локализации. 19 больных (63%) отмечали вестибулярные нарушения в виде вращательных головокружений, неустойчивости при ходьбе, шума и звона в голове. 10 больных (33%) беспокоили зрительные нарушения: диплопия, снижение остроты зрения, ограничение полей зрения. У 6 больных (20%) были пароксизмы симпато-адреналового характера. Синкопальные состояния отмечены у 2 больных (6,7%). Длительность заболевания составила от 3 до 20 лет. 15 больных (50%) страдают артериальной гипертензией. У 6 больных выявлена дисгормональная миокардиопатия. 9 человек страдают ишемической болезнью сердца, из них двое перенесли инфаркт миокарда. Сахарный диабет II типа диагностирован у 6 (20%) больных. Гипотиреоз отмечен у 15 человек, по данным УЗИ щитовидной железы у больных был диффузно-узловой зоб, аутоиммунный тиреоидит. Гинекологическая патология диагностирована у 14 женщин (46%): поликистоз яичников, аденомиоз, миома матки. 12 женщин находились в климактерическом периоде, у 5 из них была экстирпация матки. Ухудшение своего состояния женщины связывали с началом климактерического периода. 3 женщины перенесли ишемический инсульт с развитием пирамидной недостаточности. Ожирение разной степени отмечено у 16 человек (26,7%) (рисунок 28). 77 Рисунок 28. Сопутствующие заболевания у больных исследуемой группы с синдромом «пустого» турецкого седла и контрольной группы. сопутствующие заболевания Ожирение 10% 53% 24% Гинекологические расстройства 46% контрольная группа исследуемая группа 30% Ишемическая болезнь сердца 30% 4% 20% Дисгормональная миокардиопатия 40% 50% Артериальная гипертензия количество больных 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Зрительные нарушения включали снижение остроты зрения, битемпоральную гемианопсию, концентрическое сужение полей зрения, слабость конвергенции, парез отводящего нерва и наблюдались у 10 человек. На глазном дне венозное полнокровие отмечено у 10 больных, ангиопатия сетчаток у 15, частичная атрофия зрительных нервов у 3 больных и застойные диски зрительных нервов I степени у двух больных. Пирамидный синдром выявлен у 8 больных, расстройства чувствительности по гемитипу у 5, по полиневритическому типу у 4 человек. Статическая атаксия отмечена у 15 больных. При вертеброневрологическом исследовании у 14 больных отмечены мышечно-тонические и нейродистрофические изменения в шейной и межлопаточной областях, радикулопатия С6, С7, С8 (5 больных) (таблица 3). Таблица 3. Неврологические синдромы у больных исследуемой и контрольной групп. Неврологические синдромы Зрительные и глазодвигательные нарушения Пирамидный синдром Расстройства чувствительности Вестибуло-атаксический синдром Внутричерепная гипертензия Краниоцервикальные аномалии Исследуемая группа Число % больных Контрольная группа Число % больных 10 33,3 8 16 8 9 25 24 8 26,7 30 83 80 26,7 6 8 35 20 2 12 16 70 40 4 При исследовании гормонов явления гипотиреоза с увеличением тиреотропного гормона гипофиза и снижением Т4 (тироксина) и Т3 (трийодтиронина) отмечены у 15 человек (50%), причем у 12 больных это сопровождалось изменениями щитовидной железы, у 3 больных – гипотиреоз 78 вторичный на фоне аденомы гипофиза. У 3 больных наблюдалась гиперпролактинемия. При исследовании фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов значительное их увеличение отмечено у 6 больных в климактерическом периоде (рисунок 29). Рисунок 29. Эндокринные расстройства у больных с синдромом «пустого» турецкого седла исследуемой группы. На краниограммах признаки внутричерепной гипертензии были у 14 больных, наличие нейроэндокринных изменений в виде лобного гиперостоза, увеличения размеров турецкого седла было у 8 человек. Аномалии развития в виде базилярной импрессии, платибазии, высокого стояния зуба аксиса, шейных ребер, аномалии Кимерли были диагностированы у 8 больных. По данным МРТ аномалия Арнольда-Киари выявлена у 5 больных. На ЭЭГ у больных отмечены регуляторные и диффузные изменения биоэлектрической активности, дисфункция глубоких срединных структур, усиление восходящих активирующих влияний со стороны неспецифических срединных структур мозга. По результатам УЗДГ экстракраниальных сосудов в вертебробазилярном бассейне выявлены асимметрия кровотока по позвоночным артериям, снижение скорости кровотока по позвоночным артериям у 12 больных (40%), а у 2 больных и по основной артерии, имеется затруднение оттока по позвоночным венам у 10 больных. Функциональные пробы с движениями в шейном отделе позвоночника (ротация, разгибание) положительные у 10 человек (33%). В каротидном бассейне стеноз общей сонной артерии выявлен у одной больной, внутренних сонных артерий у 4 больных, асимметрия кровотока по надблоковым артериям и внутренним сонным артериям у 5 больных. Явления ангиоспазма и атеросклеротический спектр отмечены у 14 больных (46%). При исследовании кровотока по сосудам верхних конечностей у 6 человек выявлена асимметрия кровотока с явлениями ангиоспазма. Таким образом, среди больных с ПТС преобладают женщины (73%). Возраст и длительность заболевания колебались в широких пределах. Среди жалоб преобладали головная боль, вестибулярные, зрительные нарушения, а также жалобы вертеброгенного характера. 50% больных страдали артериальной гипертензией, у 20% наблюдались вегетативно-сосудистые пароксизмы симпато-адреналового характера. У 20% больных был сахарный диабет типа 2. 79 У 50% диагностирован гипотиреоз, преимущественно первичный. У 46% отмечена гинекологическая патология. В 53% наблюдений было ожирение. При обследовании неврологического статуса преобладали зрительные, глазодвигательные нарушения (33%), пирамидная симптоматика (26%), вестибулярные расстройства, атаксия (50%). В 46% наблюдались различные вертеброневрологические изменения. У 46% больных выявлен гипертензионногидроцефальный синдром, а также нейроэндокринные изменения на краниограммах. Краниоцервикальные аномалии отмечены у 43%. Данные УЗДГ подтверждают преимущественно сосудистые расстройства в вертебробазилярном бассейне (40%), наличие атеросклеротических изменений, нарушения сосудистого тонуса. Приводим наблюдение. Больная Ш-н М.А., 1946 г.р. Фармацевт. Проходила обследование и лечение амбулаторно в феврале 2002 г. Диагноз: Хроническая недостаточность мозгового кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне на фоне церебрального атеросклероза и артериальной гипертензии, шейного остеохондроза СV-CVI II степени и нейроэндокринных расстройств: вестибуло-атаксический синдром, цефалгический синдром. Соп. ИБС с нарушением ритма. Климактерическая дисгормональная кардиомиопатия. Обратилась к неврологу с жалобами на головные боли в шейнозатылочной области, приступообразное головокружение, неустойчивость при ходьбе, чувство страха, тревоги, пастозность на лице, боль в шейно-грудном отделе позвоночника. Из анамнеза известно, что имеет дочь, 1974 года рождения, беременность протекала с токсикозом. В 1992 году было удаление фибромиомы матки и придатков. Больна в течение 10 лет, ухудшение состояния в течение года. При осмотре: подкожно-жировой слой развит избыточно (ожирение I ст.), артериальное давление 170 и 100 мм рт.ст., отмечаются кризы с повышением АД до 200 мм рт.ст., ЧСС 84 уд/мин. Лицо пастозное. Эмоционально лабильна. В пробе Ромберга неустойчива. Черепно-мозговые нервы в норме. Сухожильные и периостальные рефлексы D = S, средней живости. Чувствительных расстройств не выявлено. Имеются болезненность при пальпации в точках позвоночной артерии, болезненные мышечные уплотнения в шейной области и мышцах плечевого пояса. Общий анализ крови, общий анализ мочи без патологии. Анализ крови на холестерин – 8,5 ммоль/л, триглицериды 4,68 ммоль/л (0,11 – 2,09 ммоль/л), кальций 2,76 ммоль/л (норма 2,2 – 2,7 ммоль/л), АЛАТ 17 у/л, АСТ 20 у/л. Кровь на гормоны от 2.03.02 г: пролактин 415 мМЕ/л (норма 109-406 мМЕ/л), кортизол 522 пК/л (норма 150-660 пК/л), ФСГ 60,5 мМЕ/мл (норма 1,8 – 10,5 мМЕ/мл), ЛГ 61,9 нМЕ/мл (норма 0,5 – 5,0 нМЕ/мл). 80 Кровь на гормоны щитовидной железы от 23.06.02 г. ТТГ 20,2 мкМЕ/мл, сТ4 6 нмоль/мл; от 05.07.02 г.: ТТГ 8,63 мкМЕ/мл, сТ4 7,42 нмоль/мл, сТ3 0,42 нмоль/мл. ЭКГ ритм синусовый, ЧСС 68 ударов в минуту, нормальное положение электрической оси сердца. УЗИ щитовидной железы от 1.03.2002 г. Объем 17 мл, перешеек 7 мм, правая доля 21 х 21 х 46 мм, левая доля 17 х 20 х 45 мм. Щитовидная железа диффузно уплотнена, средней тяжистости. Рентгенография шейного отдела позвоночника: в двух проекциях видны признаки остеохондроза СIII-CIV, СV-CVI с обызвествлением фиброзного кольца в сегменте СV-CVI, заострены полулунные отростки. Рентгенография грудного отдела позвоночника: умеренно выраженный остеохондроз в средне- и нижнегрудном отделе, выраженный деформирующий спондилез DVIII-IX, DIX-X, начальный спондилез DXII-LI. МРТ головного мозга (рисунки 30) производилась в аксиальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях в Т1 – W, Т2 – WI режимах и в режиме, взвешенном на протонной плоскости, при толщине срезов 6,0 и 7,0 мм. На серии МР-томограмм головного мозга определяется: 1. Умеренно выраженное симметричное (D = S) расширение центральных отделов (тел) обоих боковых желудочков. Ширина центрального отдела левого бокового желудочка 12 мм, правого бокового желудочка 12 мм. 2. Умеренно выраженное расширение III желудочка головного мозга, ширина его составляет 6 мм. 3. В латеральных отделах правой гемисферы мозжечка визуализируется зона пониженного МР-сигнала (как на Т1, так и на Т2-взвешенных томограммах), по форме – ближе к овоиду с относительно четкими, но неровными контурами, размерами: передне-задний = 13,0 мм, поперечный 10 мм, вертикальный 11,5 мм. Складывается впечатление о наличии внутри данного образования перегородки. Перифокальный отек отсутствует. Массэффекта на окружающие ткани не выявлено 4. Определяется «пустое» турецкое седло. Гипофиз значительно деформирован: ткань гипофиза представляет собой узкую выстилающую полулунную полоску, выстилающую дно турецкого седла. Вертикальный размер гипофиза – 1,0 мм (при норме от 3,0 до 8,0 мм). Остальные размеры гипофиза – в диапазоне нормальных величин. Воронка расположена по средней линии и отклонена кзади. Хиазмально-селлярная цистерна значительно расширена и пролабирует в полость турецкого седла. Область перекреста зрительных нервов без особенностей. Заключение: 1. Объемное образование (наиболее вероятно - киста) латеральных отделов правой гемисферы мозжечка. Целесообразно проведение повторной МРТ через 6 мес. с использованием внутривенного контрастирования. 2. Феномен «пустого» турецкого седла. 3. Внутренняя нормотензивная гидроцефалия I-II степени. 81 Рисунок 30. Магнитно-резонансная томограмма головного мозга больной Ш., 57 лет, от 2 марта 2002 г. 82 Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов головного мозга: сонные, позвоночные артерии в экстракраниальном отделе проходимы, ЛСК симметрична. Незначительное ЭВВ на ПАА, больше слева при поворотах головы. Кровоток по надблоковым артериям асимметричный, S > D в 2 раза. Гемодинамические пробы с компрессией ветвей НСА без особенностей. Передняя и задняя соединительные артерии функционируют. Спектр соответствует возрастным изменениям. Дисциркуляция в бассейнах внутренней сонной артерии в интракраниальном отделе. Фонокардиография. Заключение: Амплитуда I тона во всех точках в норме. II тон на аорте увеличен, расщеплен на 0,04 сек. На аорте среднеамплитудный, прилегающий ко II тону диастолический убывающий шум. Систола во всех точках свободна. По фазовому анализу синдром высокого диастолического давления. Консультация окулиста: на глазном дне ангиопатия сетчаток. Ангиосклероз сетчатки. Консультация терапевта: Диагноз: Гипертоническая болезнь II ст. ИБС с нарушением ритма (брадикардия). Климактерическая дисгормональная кардиомиопатия. В данном наблюдении хроническая недостаточность мозгового кровообращения развивалась на фоне эндокринных нарушений у больной с синдромом «пустого» турецкого седла и сопровождалась проявлениями гипотиреоза, патологическим климаксом с развитием дисгормональной кардиомиопатии, артериальной гипертензии. В неврологическом статусе преобладали проявления вестибуло-атаксического, цефалгического синдромов, астено-невротических расстройств. По данным МРТ у больной выявлены дисциркуляторные нарушения с наличием постишемической кисты в правой гемисфере мозжечка. Таким образом, наличие «пустого» турецкого седла сопровождалось выявлением нарушений функции щитовидной железы, яичников; сердечно-сосудистых расстройств. Возможно, что данные проявления связаны с наличием гипоталамической патологии. Таким образом, проведенное исследование показало, что синдром «пустого» турецкого седла может наблюдаться у больных с вегетативнососудистой формой гипоталамического синдрома, с хронической недостаточностью мозгового кровообращения на фоне гипотиреоза, сахарного диабета типа 2, дисфункции яичников и климакса. Рентгенологическое обследование и магнитно-резонансная томография выявляют краниоцервикальные аномалии, лобный гиперостоз, внутричерепную гипертензию. В клинической картине имеются проявления вестибулоатаксического синдрома, глазодвигательных расстройств, гипертензионногидроцефального синдрома и артериальной гипертензии. Выявление при обследовании больных синдрома «пустого» турецкого седла должно служить показанием для дальнейшего обследования нервной и 83 эндокринной системы: функции щитовидной железы, яичников, глюкозы крови; вегетативно-сосудистых расстройств гипоталамического генеза. Раннее выявление подобных изменений позволяет повысить эффективность проводимого лечения. 84 Заключение Изучив данные обследования больных можно утверждать, что хроническая недостаточность мозгового кровообращения при гипотиреозе чаще развивается у женщин. Клинические проявления хронической недостаточности мозгового кровообращения при гипотиреозе соответствуют преимущественно поражению вертебробазилярного бассейна и проявляются вестибулоатаксическим, церебрастеническим, цефалгическим синдромами. Выраженного угнетения когнитивных функций не отмечается. На развитие хронической недостаточности мозгового кровообращения при гипотиреозе значительно влияет вертеброгенный фактор. Течение синдрома позвоночной артерии у больных гипотиреозом имеет особенности в виде выраженного астено-невротического синдрома, наличия болезненных мышечных уплотнений в мышцах шейно-грудного отдела, плечевого пояса, чаще наблюдаются синкопальные приступы и вегетативнососудистые пароксизмы. Течение обострений синдрома позвоночной артерии при гипотиреозе длительное, зависит от медикаментозной коррекции гипотиреоза. На прием к неврологу ежедневно обращаются десятки больных, неврологические расстройства у которых обусловлены латентным или недиагностированным гипотиреозом, поэтому обследование больных уже в поликлинических условиях должно включать исследование функции щитовидной железы. Выявленные особенности течения цереброваскулярных расстройств при гипотиреозе следует учитывать в дифференциальной диагностике и проведении лечения. Исследование цереброваскулярных расстройств при гипотиреозе не только позволило получить новые данные, но и показало, что многие вопросы патогенеза, прогнозирования течения, эффективного лечения данных больных требуют дальнейшего изучения. 85 ЛИТЕРАТУРА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Алексеева Н.С., Камчатнов П.Р., Гордеева Т.Н. и др. Состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом вертебральнобазилярной недостаточности. // Журнал неврологии и психиатрии, 2000; 1000 : 6 : 46-51. Анисимова А.В., Кузин В.М., Колесникова Т.И. Клинико-диагностические критерии и некоторые вопросы патогенеза ранних стадий хронической ишемии головного мозга. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, Инсульт, 8, 2003. – с. 64-75. Антонов И.П. Классификация и формулировка диагноза вертеброгенных (спондилогенных) заболеваний нервной системы. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1983 г. – № 4, 2003. с. 481-486. Артериальная гипертензия, цереброваскулярная патология и сосудистые когнитивные расстройства. Актуальные вопросы. Краткое руководство для врачей / Под редакцией член-корр. РАМН З.А. Суслиной, А.В. Фонякина, Л.А. Гераскиной. – М.: 2006. – 48 с., ил. Бабарина М.Б. Эндокринные аспекты синдрома «пустого» турецкого седла. Нейроэндокринология. Клинические очерки. / Под ред. Е.И. Маровой. – Ярославль, 1999. – с. 331 – 352. Балаболкин М.И. Эндокринология. – М., Универсум паблишинг. – 1998. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Клеминская В.М. Фундаментальная и клиническая тиреодология (руководство). Учебное пособие. – М. ОАО «Издательство «Медицина». – 2007. – 815 с. Белова А.Н. Нейрореабилитация: руководство для врачей. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Антидор, 2002 г. – 736 с. Богданов Э.И. Материалы к оценке функций нервных образований позвоночной артерии: Автореферат дисс. … канд. мед. наук. – Казань, 1979. – 16 с. Болезни нервной системы: Руководство для врачей: в 2-х т. – Т.1/Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана. – М.: Медицина, 2003. – 744 с. Болезни щитовидной железы. Пер. с англ. / Под ред. Л.И. Браверманна. – М.: Медицина, 2000. – 432 с. Бродская З.Л. Рентгенологические показатели расстройств вертебробазилярного кровообращения при шейном остеохондрозе /В. кн.: Хирургическое лечение расстройств мозгового кровообращения в вертебробазилярной системе. – Новокузнецк, 1977. – с. 68-78. Валдина Е.А. Заболевания щитовидной железы: Руководство. 3-е издание. – СПб: Питер, 2006. – 368 с. Вегетативные расстройства: Клиника, лечение, диагностика. / Под ред. А.М. Вейна. – М.: Медицинское информационное агентство, 1998. – 752 с. 86 15. Верещагин Н.В., Борисенко В.В., Власенко А.Г. Мозговое кровообращение. Современные методы исследования в клинической неврологии. – М.: Медицина, 1993. – 208 с. 16. Верещагин Н.В. Клиническая ангионеврология на рубеже веков. // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1996. – № 1. – С. 11-13. 17. Верещагин Н.В., Моргунов В.А., Гулевская Т.С. Патология головного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. – М.: Медицина, 1997. – 287 с.: ил. 18. Верещагин Н.В. Нейронаука и клиническая ангионеврология: проблемы гетерогенности ишемических поражений мозга. // Вестн. РАМН. – 1993. – № 7. – С. 40-42. 19. Верещагин Н.В. Патология вертебрально-базилярной системы и нарушения мозгового кровообращения. – М.: Медицина, 1980. – 321 с. 20. Верещагин Н.В., Суслина З.А., Варакин Ю.Я., Ощепкова Е.В. Профилактика нарушений мозгового кровообращения. – М.: Минздрав России, НИИ неврологии РАМН, 2003. – 28 с. 21. Виберс Д., Фейгин В., Браун Р. Руководство по цереброваскулярным заболеваниям. Пер с англ. – М.; ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. – 672 с., ил. 22. Гершман Д. Гипотиреоз и тиреотоксикоз. // Эндокринология / Под ред. Н. Лавина. / Пер. с англ. – М., Практика, 1999. – с. 550-570. 23. Гордеева Т.Н. Вертебрально-базилярная недостаточность у лиц молодого возраста (клиника, церебральная гемодинамика и лечение): Дисс. … канд. мед. наук. М., 1998. 24. Гусев Е.И., Бурд Г.С., Боголепов Н.Н. Сосудистые заболевания головного мозга. – М.: Медицина, 1979. – 142 с. 25. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Бурд Г.С. Неврология и нейрохирургия. – М.: Медицина, 2000 26. Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Ясаманова А.Н., Колесникова Т.И., Кабанов А.А., Петухов Е.Б., Березов В.П. Этиологические факторы риска хронической сосудистой мозговой недостаточности и ишемического инсульта. // Журнал неврологии и психиатрии. Инсульт, № 1, 2001, с. 4145. 27. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина, 2001. – 238 с.: ил. 28. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Нейропротективная терапия ишемического инсульта. I. Первичная нейропротекция. // Журнал неврологии и психиатрии, № 5, 2002, с. 3-16. 29. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Нейропротективная терапия ишемического инсульта. II. Вторичная нейропротекция. // Журнал неврологии и психиатрии, № 6, 2002, с. 3-18. 87 30. Дедов И.И. Алгоритмы диагностики и лечения болезней эндокринной системы / Под ред. И.И. Дедова. – Москва, 1995. - 256 с. 31. Де Фритас Г.Р., Дж. Богусславский. Первичная профилактика инсульта. // Журнал неврологии и психиатрии. Инсульт, № 1, 2001, с. 7-19. 32. Заславский Е.С. Болевые мышечные синдромы в области плечевого пояса, руки и грудной клетки: Методические рекомендации для врачейкурсантов. – Новокузнецк, 1982. – 71 с. 33. Зенков Л.Р., Ронкин М.А. Функциональная диагностика нервных болезней (Руководство для врачей). – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медпрессинформ, 2004. – 488 с. 34. Иваничев Г.А. Болезненные мышечные уплотнения. – Казань, 1990. – 148 с. 35. Ионова В.Г., Суслина З.А. Реологические свойства крови при ишемических нарушениях мозгового кровообращения. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, Т. 7, № 3, 2002. с. 4-9. 36. Исмагилов М.Ф. Нарушение мозгового кровообращения – важнейшая медико-социальная проблема. Организация и перспективы развития помощи больным с мозговым инсультом в республике Татарстан. // Неврологический вестник. – 2003. – Т. XXXV, вып. 1-2. – с. 58-61. 37. Исмагилов М.Ф. Проблема цереброваскулярной патологии в Республике Татарстан. // Журнал неврологии и психиатрии. Инсульт, 5, 2002, с. 65-67. 38. Калинин А.П., Котов С.В. Неврологические расстройства при эндокринных заболеваниях. – М.: Медицина, 2001. – 272 с.: ил. 39. Калинин А.П., Неретин В.Я., Котов С.В.. Гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковая система и цереброваскулярная патология: современное состояние проблемы. // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, 1991, т. 91, вып. 1. – с. 134 – 138. 40. Калиновская И.Я. Стволовые вестибулярные синдромы. – М.: Медицина, 1973. – 223 с. 41. Камчатнов П.Р., Гордеева Т.Н., Кабанов А.А., Каралкин А.В., Сальникова Г.С., Б.А. Абусуева. Клинико-патогенетические особенности синдрома вертебрально-базилярной недостаточности. // Журнал неврологии и психиатрии. Инсульт, 1, 2001, с. 55-57. 42. Кандор В.И. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы и апоптоз. // Проблемы эндокринологии, 2002. Т. 48, № 1. 43. Кандор В.И. Синтез, секреция и метаболизм тиреоидных гормонов. // Руководство по клинической эндокринологии. / Под ред. Н.Т. Старковой. – СПб: Питер, 2002. – с. 122-127. 44. Карлов В.А., Стулин И.Д., Богин Ю.Н. и др. Ультразвуковая и тепловизионная диагностика сосудистых поражений нервной системы. – М.: Медицина, 1986. – 173 с. 88 45. Касаткина Э.П., Соколовская В.Н., Вертебробазилярная недостаточность. – М.: Медицина, 1988. – 211 с. 46. Кипервас И.П. Периферические нейроваскулярные синдромы. – М.: Медицина, 1985. – 176 с. 47. Кларк Т. Сейвин. Болезни щитовидной железы в пожилом возрасте. // Болезни щитовидной железы. / Пер. с англ. / Под ред. Л.И. Браверманна. – М.: Медицина, 2000, - с. 117 – 139. 48. Клиническая эндокринология: руководство (3-е изд.) / Под ред. Н.Т. Старковой. – СПб: Питер, 2002. – 576 с. 49. Кунцевич Г.И. Ультразвуковые методы исследования магистральных артерий шеи и артерий виллизиева круга. // Методы исследования в неврологии и нейрохирургии под ред.: Е.И. Гусева. – М.: «Нолидж», 2000. – с. 145-209. 50. Лелюк С.Э., Лелюк В.Г. Основные принципы гемодинамики и ультразвукового исследования сосудов. // Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике / под ред. Митькова В.В. – Т. IV. М.: Видар., 1997. – С. 185-194. 51. Лихачев С.А., Титкова Е.В. Семиотика вестибулярной дисфункции при острых нарушениях мозгового кровообращения ишемического характера в вертебрально-базилярной системе. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, Т. 8, № 5, 2003. с. 4-8. 52. Лори А. Кейн и Хусейн Гариб. Исследование состояния щитовидной железы: клинический подход. // Болезни щитовидной железы. / Пер. с англ. / Под ред. Л.И. Браверманна. – М.: Медицина, 2000, - с. 38 – 54. 53. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М.: Изд-во МГУ, 1973. 54. Луцик А.А., Шмидт И.Р., Миллер Л.Г. Рефлекторный ангиоспастический синдром позвоночной артерии / В кн.: Остеохондроз позвоночника. – Новокузнецк, 1973. – Ч. 1. – с. 131-137. 55. Михайлов М.К., Володина Г.И., Ларюкова Е.К. Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний позвоночника. – Казань: «ФЭН», 1993. – 135 с. 56. Михайлов М.К., Гилязутдинов И.А., Миндубаева Ф.З. Эндокраниоз и нейроэндокринные синдромы и заболевания. – Казань, Таткнигоиздат, 1994. – 100 с. 57. Наглядная эндокринология / Перевод с английского под редакцией чл.корр. РАМН, профессора Г.А. Мельниченко. – 2-е издание. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2008. – 120 с. 58. Назинян А.Г., Шмидт Т.Е. Возможности транскраниальной допплерографии при хронических нарушениях мозгового кровообращения. // Журнал неврологии и психиатрии, № 8, 2001, с. 35-39. 59. Никитин Ю.М. Поражение сосудов дуги аорты и их ветвей у больных с цереброваскулярными заболеваниями (клинико-допплеро89 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ангиографическое исследование): Дисс. … докт. мед. Наук. – М., - 1989. – 385 с. Никитин Ю.М. Ультразвуковая диагностика в неврологии и нейрохирургии. // Клиническая ультразвуковая диагностика: Руководство для врачей. В 2-х т. / Под ред. Мухарлямова Н.М. – М.: Медицина, 1987. – Т. 2. – С. 133-216. Никитин Ю.М. Ультразвуковая допплерография в диагностике поражений артерий дуги аорты и основания мозга. // Ультразвуковая допплеровская диагностика сосудистых заболеваний / Под ред. Ю.М. Никитина, А.И. Труханова. – М.: Видар, 1998. – С. 64-114. Очерки ангионеврологии. Под ред. З.А. Суслиной. – М.: Изд-во «Атмосфера», 2005. – 368 с. Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы: Руководство для врачей. – М.: Медицина, 1989. – 464 с. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (Вертебро-неврология): Руководство для врачей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: МЕДпрессинформ, 2003. – 672 с., ил. Потемкин В.В. Эндокринология. – М.: Медицина, 1986. – 432 с. Пышкина Л.И., Федин А.И., Бесаев Р.К. Церебральный кровоток при синдроме позвоночной артерии. // Журнал неврологии и психиатрии, № 5, 2000, с. 45-49. Роберт Вольпе. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы. // Болезни щитовидной железы. / Пер. с англ. / Под ред. Л.И. Браверманна. – М.: Медицина, 2000, - с. 140 – 172. Салазкина В.М., Брагина Л.К., Калиновская И.Я. Дисциркуляция в вертебро-базилярной системе при патологии шейного отдела позвоночника. М.: Медицина, 1977, 152 с., ил. Скворцова В.И., Платонова И.А., Творогова Т.В., Волковненко О.В., Демина Л.И., Островцев И.В. Влияние гормонов гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой, ренин-ангиотензиновой и тиреоидной гормональных систем на формирование дисциркуляторной энцефалопатии. // Журнал неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова, 2003; Т. 103: № 12: с. 2633. Соловьева А.Д., Вознесенская Т.Г., Чазова Т.Г., Дорожевец А.Н, Неврологический анализ церебрального истощения. // Журнал невропатологии и психиатрии. – 1988. – Т. 88. Вып. 10. – с. 67-78. Сосудистые заболевания нервной системы. Под ред. акад. АМН СССР Шмидта Е.В. – М.: Медицина, 1975. – 663 с. Старкова Н.Т. Структурные изменения щитовидной железы. Причины возникновения, постановка диагноза, методы лечения. // Проблемы эндокринологии, 2002. Т. 48, № 1. 90 73. Стулин И.Д. Ультразвук и другие неинвазивные методы в комплексной диагностике смерти мозга. // Ультразвуковая допплеровская диагностика сосудистых заболеваний. / Под ред. Ю.М. Никитина, А.И. Труханова. – М.: «Видар», 1998. – с. 283. – 296 с. 74. Стулин И.Д., Знайко Г.Г., Прохоров Н.Л. и др. Современная клиникоинструментальная диагностика смерти мозга. Материалы конференции НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. – М., 2006. 75. Стулин И.Д., Карлов В.А., Костин А.В. Транскраниальная допплеросонография в сочетании с другими методами в диагностике инсульта. // Журн. неврологии и психиатрии. – 1989. – Т. 89. – вып. 6. – С. 98-105. 76. Суслина З.А., Танашян М.М. Антиагрегантная терапия при ишемических цереброваскулярных заболеваниях. Пособие для практикующих врачей. – М.: НИИ неврологии РАМН, Научный центр по изучению инсульта Минздрава России, 2003. – 40 с. 77. Суслина З.А., Танашян М.М. Антитромботическая терапия в ангионеврологии. – М.: Медицинская книга, 2004. – 110 с.: ил. 78. Физиологические эффекты тиреоидных гормонов и механизм их действия. // Руководство по клинической эндокринологии / Под ред. Н.Т. Старковой. – СПб: Питер, 2002. – с. 127-130. 79. Хабиров Ф.А., Хабиров Р.А. Мышечная боль. – Казань, 1995. – 208 с. 80. Холин А.В. Магнитно-резонансная томография при заболеваниях центральной нервной системы. – СПб.: Гиппократ, 2000. – 192 с. – ил. 81. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – Изд-во Московского университета. – 1987. 82. Чазова И.Е. Лечение артериальной гипертонии как профилактика инсульта. // Журнал неврологии и психиатрии. Инсульт, 3, 2001, с. 3-7. 83. Челышева И.А. Характеристика церебральной гемодинамики при дисциркуляторной энцефалопатии. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, Т. 9, № 3, 2004. с. 32-35. 84. Чутков Л.С., Фролова Н.Л. Психовегетативные расстройства в клинической практике. – СПб., изд. Наука, 2005. – 176 с. 85. Шахнович А.Р., Шахнович В.А. Диагностика нарушений мозгового кровообращения. Транскраниальная допплерография. – М.: Ассоциация книгоиздателей, 1996. – 446 с. 86. Шмидт Е.В., Максудов Г.А. Классификация сосудистых поражений головного и спинного мозга. // Журн. невропатологии и психиатрии. – 1971. – Т. 71. - № 1. – С. 3-8. 87. Шмидт Е.В. Сосудистые заболевания нервной системы. – М.: Медицина, 1975. – 663 с. 91 88. Шмидт И.Р. Диагноз и дифференциальный диагноз синдрома позвоночной артерии в связи с шейным остеохондрозом / В кн.: Патология вегетативной нервной системы. – М., 1976. – с. 328-329. 89. Шмидт И.Р. Клиника и некоторые патогенетические механизмы поражения позвоночной артерии в связи с шейным остеохондрозом: Дисс. … канд. мед. наук. Новокузнецк, 1966. 90. Шток В.Н., Ронкин М.А., Алзимиров В.А. Дополнительные подходы к классификации типа и степени нарушений тонуса краниоцеребральных сосудов. // Журнал неврологии и психиатрии, 1996, 1, с. 79-82. 91. Эгарт Ф.М. Гипотиреоз. // Руководство по клинической эндокринологии / Под ред. Н.Т. Старковой. – СПб: Питер, 2002. – с. 150-165. 92. Эгарт Ф.М. Клиническая эндокринология: руководство (3-е изд.) / Под ред. Н.Т. Старковой. – СПб: Питер, 2002. – с. 119 – 131. 93. Эндокринология: национальное руководство / Под редакцией И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 1072 с. 94. Эндокринология / Под ред. Н. Лавина. Пер. с англ. – М., Практика, 1999. – 1128 с. 95. Энрико Л. Окампо и Мартин И. Серкс. Вопросы терапии гипотиреоза. // Болезни щитовидной железы. / Пер. с англ. / Под ред. Л.И. Браверманна. – М.: Медицина, 2000, - с. 173 – 193. 96. Яхно Н.Н., Левин О.С., Дамулин И.В. Сопоставление клинических и МРТданных при дисциркуляторной энцефалопатии. Сообщение 2: Когнитивные нарушения. // Неврологический журнал. – 2001. - № 3. – С. 10-19. 97. Aaslid R. Transcranial Doppler sonography. – Vienna: Sprmger-Verlag, 1986. – 177 p. 98. Babikian V.L., Wechsler L.R. Transcranial Doppler Ultrasonography. – St. Louis: Mosby, 1993. – 323 ð. 99. Becker G., Bogdahn U., Gehlberg C. et al. Transcranial colorcoded real-time sonography of intracranial veins. Normal values of blood flow velocities and finding in superior sagittal sinus thrombosis. J Neuroimag 1995 : 5 : 87-94. 100. Beck-Peccoz P., et al. Decreased receptor binding of biologically inactive thyrotropin in central hypothyroidism: Effect of treatment with thyrotropinreleasing hormone. – N Engl, J Med 312: 1085: 1985. 101. Bennett D., Wilson R., Gilly D., Fox J. Clinical diagnosis of Binswanger`s disease. // J. Neurol. – 1990. – Vol. 53, № 1. – P. 961-965. 102. Boado R.J., Romeo H.E., Chuluyan H.E. et al. Neuroendocrinology, 1994; 53 (4): 360-364. 103. Boelen A. et al. J Clin Endocrinol Metab 1993; 77 (6): 1695-1699. 104. Brismar K., Efendic S. Pituitary function in the empty sella syndrome // Neuroendocrinology. – 1981. Vol. 32, № 2. – P. 70-77. 105. Bryner J.R., Grunblatt R.B. Primary empty sella syndrome with elevated serum prolactin // Obstet and Gynes. – 1977. – Vol. 50, № 3. – P. 375. 92 106. Caplan L.R. Ultrasound diagnosis of cerebrovascular disease. Doppler Sonography of the extra- and intracranial arteries, duplex scanning. – Sttutgart; N.Y.: Georg Thieme Verlag. – 1993. - 397 ð. 107. Cleare A.J., McGregor A.M., O'Keane V. Neuroendocrine evidence for an association between hypothyroidism, redused central 5-HT activity and deression // Clin. Endocrinol. – 1995. – Vol. 43, N 6. – P.713 – 719. 108. De Bray J., Penisson-Besnier I., Dubas F. Extra- and intrakranial vertebrobasilar dissection: diagnosis and prognosis. J. Neur Neurosurg Psych 1998; 63:1:46-51. 109. Decher H. Hortstorungen beivertebrobasilaler Insuffizierz // Z. Laryng., Rhifol. – 1975. – Bd. 54. – H.9. – S. 728-734. 110. Dominique J.N., Wing S.D., Wilson G.B. Coexisting pituitary adenomas and partially empty sellas // J. Neurosurg. – 1978. – Vol. 48. – P. 23. 111. Filcher L., Brown M. J Clin Endocrinol Metab 1991; 5: 35-50. 112. Fine-Edelstein J.S., Wolf P.A., O′Leary D.H. et al. (1994). Precursors of extracranial carotid atherosclerosis in the Framingham study. Neurology 44 : 1046 – 50. 113. Floch-Prigent P. Computed tomographcal biometry, of the cervical spine on horizontal cross-sections every 6 mm // Morphol. Med. – 1983. – vol. 3. - № 3. – P. 135-141. 114. Gronholdt M., Sillesen H. Computer-assisted carotid plaque analysis corresponds well to subjective characterization. // Europ. J. of Ultrasound. – 1997. – V. 5. – N 1. – P. 4. 115. Mall M., Aulich A., Henneritici M. Trans-cranial Doppler ultrasonography versus arteriography for assessment of the vertebro-basilar circulation. // J . Clin. Ultrasound. – 1990. – V. 18. – P. 539-549. 116. Regli F. Die flüchtigen ischämischen zerebralen Attachen. Natürlicher Verlauf und Pathogenese. – Dtsch. med. Wschr., 1971, Bd 96, S, 525-530. 117. Tessler F., Rifkin M. Colour Doppler Imaging. // Energing Technology. – 1994. – N 5. – P. 17-20. 118. Travell J.G. A trigger point for hiccup. // J. Am. Osteopath. Assoc. 1977. – vol. 77. – P. 308-312. 119. Wang G.L. J Clin Med 1991; 104 : 764. 120. Woolf P. Crit Care Med 1992; 20 : 216-226. 93