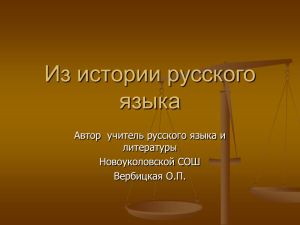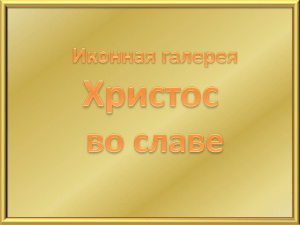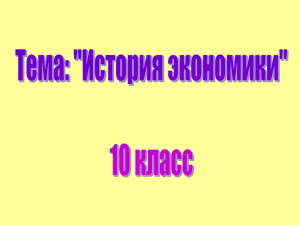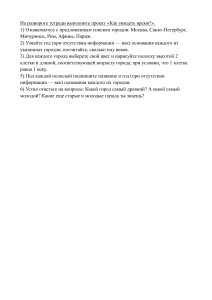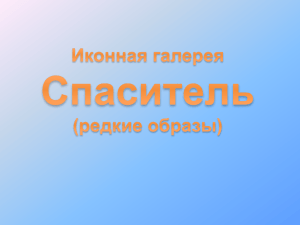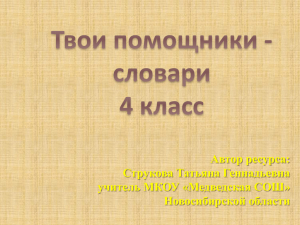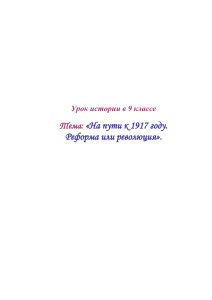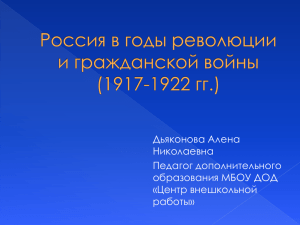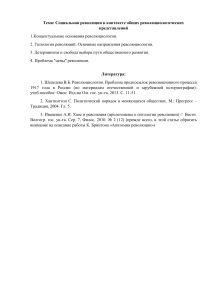пути русского имперского сознания Oitf. ----- Иван Солоневич век МОСКВА 2001 IFIIIIEIIEI ИРИН «МІСШ» Составитель серии M. Б. СМ ОЛИН Соловенп И. Л. Наша страна. XX век/ Сост., вступ. статья и примеч. М. Б. Смолина. — М.: Изд-во журнала «Москва», 2001. — 448 с. — (Пути русского имперского сознания). ISBN 5-89097-038-0 Изданные в нашей серии книги Ивана Лукьяновича Солоневича (1891— 1953) «Белая Империя» и «Россия в концлагере» были написаны в 30-е годы. Последние годы эмиграции И. Л. Содоневич провел в Аргентине, где основал газету «Наша страна*. В эти годы Иван Солоневич не уставал утверждать, что «Российская империя, даже в ее нынешнем, изуродо­ ванном и залитом русской кровью лике, есть результат самой высокой государственной культуры, какая только была на земле со времени па­ дения Римской империи». Любезно предоставленные существующей и поныне редакцией «На­ шей страны* книги и статьи Ивана Солоневича дают нам возможность в рамках нашей серии издать в наиболее полном объеме его замечатель­ ную публицистику, в большинстве своем ранее никогда не печатавшую­ ся в России. «Наша страна. XX век* - сборник работ 1940-1950-х годов, посвя­ щенных истории царствования Императора Николая II, тайнам Фев­ ральской революции и «антропологии* большевизма. © Редакция журнала «Москва», 2001 © М. Б. Смолин. Составление, вступительная статья, примечания, 2001 МОНАРХИЗМ КАК ЛЮБОВЬ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ИВАИА СОЛОИЕВИЧА Книги Ивана Лукьяновича Солоневича (1891—1953) «Белая Империя» и «Россия в концлагере», изданные в нашей се­ рии соответственно в 1997 и 1999 годах, были написаны в 1930-е годы. Закатные же годы жизни И. Л. Солоневичу пришлось про­ вести в Южной Америке, где он основал газету «Наша страна», свое последнее издание. В это время Иван Солоневич не уставал утверждать, что «Российская империя, даже в ее нынешнем, изуро­ дованном и залитом русской кровью лике, есть результат самой вы­ сокой государственной культуры, какая только была на земле со времени падения Римской империи». Книги и статьи Ивана Солоневича, любезно переданные нам существующей и поныне редакцией «Нашей страны», дают воз­ можность представить в наиболее полном объеме его замечатель­ ную публицистику, в большей своей части никогда не печатав­ шуюся в России. Настоящий том составлен из работ, в основном написанных в 40—50-е годы и посвященных истории царствования Императора Николая II, тайнам Февральской революции и «антропологии» большевизма. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ И ВАНА СОЛОИЕВИЧА 1 ноября 1891 года в Бельском уезде Гродненской губернии в семье молодого мелкого чиновника (впоследствии достаточно из­ вестного публициста), сына сельского священника Лукьяна Ми­ хайловича Солоневича и Юлии Викентьевны, в девичестве Ярушкевич, также из священнического рода, на свет появился первенец, названный Иваном. 6 Михаил Смолин Детство и юность Ивана Солоневича прошли в Гродно и Виль­ но. Учеба — в Гродненской гимназии. Аттестат зрелости он полу­ чил лишь в 1912 году, после сдачи экзаменов во 2-й Виленской гимназии. Еще в гимназические годы Иван начал печататься в газете «Се­ веро-западная жизнь»*. Этот начальный период политического опыта и писательства во многом уже сформировал его жизненные убеждения. Что такое поли­ тическая жизнь, И. Л. Солоневич почувствовал еще в 1910 году — в то время, когда во главе русского правительства стоял П. А. Столыпин, а в Таврическом дворце заседала самая консервативная из всех Государ­ ственных Дум, третья по счету. При всем внешнем спокойствии и ти­ шине тогдашнего момента русской истории в стране шла не затухав­ шая уже долгие годы политическая “гражданская война” — борьба за понимание значения национальной самобытности. Особое тактиче­ ское место в столыпинских реформах занимал курс на укрепление русского имени на окраинах. Наиболее ярким примером этого явилось введение русских избирательных курий в Западном крае, давших воз­ можность русским людям выбирать русских же в члены Государствен­ ной Думы. Борьба за русское дело в Западном крае была всегда доста­ точно опасна, особенно после убийства П. А. Столыпина в 1911 году, когда враги русских снова воспряли духом и подняли головы. Два или три раза, как пишет И. Л. Солоневич, ему пришлось отстаивать с ре­ вольвером в руках свою типографию от еврейских революционеров. Однажды пришлось даже стрелять; несколько выстрелов в воздух враз образумили нападавших. Здесь же, в газете «Северо-западная жизнь», он знакомится со своей будущей женой — Тамарой Владимировной Воскресенской (1894—1938), дочерью офицера. Она окончила с золотым шифром Казачий институт благородных девиц в Новочеркасске, а затем — Высшие женские курсы в Петербурге и была направлена в Минск преподавателем французского языка женской гимназии. С редак­ цией «Северо-западной жизни» Тамара Владимировна стала со­ трудничать в связи с шумным процессом Бейлиса, черпая материал для статей у своего дяди Алексея Семеновича Шмакова (1852— 1916), известного знатока еврейского вопроса. Женившись на Тамаре Владимировне, И. Л. Солоневич переезжает в Петроград. Там вскоре и рождается их единственный сын Юрий. Редактором и издателем газеты «Северо-западная жизнь» (выходила в 1909—1915 годах; в 1909—1911 годах называлась «Белорусская жизнь») был отец Ивана Солоневича, Л. М. Солоневич. Монархизм как любовь. Штрихи к портрету Ивана Солоневича 7 Иван Солоневич представлял то новое поколение русской мо­ лодежи, «здоровье* которого, и не только физическое (многие бы­ ли спортсменами), спасало от многих «освободительных* болезней своего времени. Начав с участия в спортивных занятиях польского «Сокола* (1908—1910) — организации славянской и патриотиче­ ской по духу, — Иван Солоневич стал одним из организаторов ви­ тебского русского «Сокола», а потом работал и в первом петер­ бургском. В своих спортивных достижениях И. Л. Солоневич особо отличился в 1914 году, заняв второе место на всероссийских состя­ заниях по поднятию тяжестей. В Петрограде И. Л. Солоневич поступает на юридический факуль­ тет университета и в начале Первой мировой устраивается на работу в известнейшую суворинскую газету «Новое время»: он делает обзоры провинциальной печати, работает в отделе информации. Шла война, и Иван Солоневич был призван в лейб-гвардии Кексгольмский полк. Но на фронт его не послали из-за сильной близорукости, а в школу прапорщиков не пустили, потому как, по его собственным словам, он «был слишком косноязычен». «Всероссийское взбалтывание» февраля 1917-го окончательно надорвало силы поколения, ослабленного смертью лучших на по­ лях никогда ранее не виданной по размаху Мировой войны. При­ шла долгая ночь революции. «По-видимому, — писал много позже Иван Солоневич, — один из основных педагогических приемов истории сводится к доведению до нелепости: нелепая мысль доводится до абсурда, и историческая реальность демонстрирует смущенным и изби­ тым школярам все опасности детского обращения со взрывча­ тыми веществами реальности. Русская интеллигенция десятиле­ тиями копила взрывчатые вещества. И играла кубиками пирок­ силиновых шашек. Случайная искра взорвала все: и игрушки и игроков»*. Студенты-спортсмены, среди которых был и Иван Солоневич, для поддержания порядка организовали студенческую милицию. Будучи начальником Васильевского отдела этой милиции, И. Л. Солоневич во время корниловского мятежа 1917 года нахо­ дился при атамане Дутове представителем от спортивного студен­ чества. Дутов со своими казаками должен был поддержать мятеж в Петрограде. Представляя организованных (около 700 человек) и отлично натренированных спортсменов-студентов, Иван Солоне- * Солоневич И. Л. Большевизм и крестьянство / / Наша страна. 1949. Михаил Смолин вич просил у Дутова оружия. Атаман потребовал невмешательства гражданских в военные дела... Бессмысленность и случайность стали управлять человеческой жизнью в России после Февраля. Жизнь самогб Ивана Солоневича отныне и вплоть до побега из СССР напоминала странную аван­ тюру, хождение по краю пропасти: риск попасть в руки ЧК был постоянным. С приходом большевиков к власти, с началом Гражданской войны братья Иван и Борис Солоневичи бегут из красного Петро­ града на белый юг, в Киев. Они работают на белых, добывая сек­ ретную информацию и ежедневно рискуя жизнью (как узнал позже И. Л. Солоневич, эту информацию в штабах белых никто не чи­ тал). Средний брат Всеволод (1895—1920) погибает в армии Вран­ геля. В 1920 году всю семью Солоневичей забирают в одесскую ЧК, а после выхода оттуда сотрудничество с белыми возобновляет­ ся. Однако эвакуироваться вместе с ними Ивану Солоневичу поме­ шала болезнь — сыпной тиф. На юге И. Л. Солоневич задерживается до 1926 года, работая “по спортивной части” в советских профсоюзах. В частности, в 1923 году он служит спортивным инструктором в Одесском продовольственном губернском комитете. В 1926 году, переехав в Москву, И. Л. Солоне­ вич стал инспектором ВЦСПС по физкультуре и спорту. По свиде­ тельству самого И. Л. Солоневича, он прочитал более 500 докладов, благодаря чему напрочь лишился «косноязычия», и написал поддюжи­ ны брошюр-руководств по физкультуре в профсоюзах. Но во все вре­ мя жизни под Советами его не покидало желание убежать из «комму­ нистического рая». Когда младший брат Борис (бывший инспектором физической подготовки Военно-Морских Сил), отбыв срок в концлагере в Солов­ ках и ссылку в Сибири за подпольное руководство скаутским движе­ нием, вернулся в Москву, братья стали основательно готовиться к по­ бегу. Жена Ивана Солоневича заключает фиктивный брак с немецким техником и, получив германское подданство, в 1932 году уезжает в Берлин. Первая попытка побега была предпринята в 1932 году, через Карелию. Но братья не знали, что это район магнитных аномалий — их компасы неправильно показывали направление. Они заблудились, Иван заболел — братьям пришлось вернуться. Вторая попытка была еще менее удачна: Бориса, Ивана и его сына Юрия, несмотря на их сопротивление (их опоили снотворным, но и даже в полусонном со­ стоянии Борис успел сломать челюсть одному из чекистов), сотрудни­ ки ГПУ арестовали в поезде по пути в Мурманск. Братьям дали по 8 лет концлагеря, а Юре - 3 года. Монархизм как любовь. Штрихи к портрету Ивана Солоневича 9 Претерпев всевозможные мытарства советских лагерей, Солоневичи смогли бежать из Свирского лагеря, и 14 августа 1934 года Иван Солоневич с сыном Юрием удачно переходят финскую границу. Бо­ рису Солоневичу удалось это двумя днями раньше. Попав в Финлян­ дии в фильтрационный лагерь, Иван Лукьянович, взяв взаймы каран­ даш и бумагу, начинает описывать все то, что пережил в СССР. Так зародилась знаменитая книга «Россия в концлагере», принесшая авто­ ру мировую славу и финансовую независимость. «Россия в концлаге­ ре» создавалась два года. Все это время Солоневичи разгружали мешки и бочки в Гельсингфорском порту. В Финляндии Иван Солоневич прожил около двух лет (1934—1936). И. Л. Солоневич рвался в бой с коммунистами, хотел издавать газету. Но в Финляндии это было невозможно — слишком тесно экономически (лесной экспорт) и территориально она была связа­ на с СССР. Финские власти не разрешили издание. Ему удалось достать визу в Болгарию. «Россия в концлагере» разошлась при жизни Ивана Солоневича в полумиллионе экземпляров на разных языках мира. Гонорары с иностранных изданий позволили писателю начать издавать в 1936 году в Софии газету «Голос России». Он старался организовать на основе кружков любителей газеты «Голос России» сплоченную организацию народно-монархического направления, хотел воспитать тот здоровый монархический слой общества, который смог бы, вернувшись в Россию, встать во главе возрождающегося Отечества. Подобная деятельность не осталась незамеченной советскими спецслужбами: 3 февраля 1938 года в редакции «Голоса России» прогремел взрыв. Погибли жена Ивана Солоневича Тамара Влади­ мировна и секретарь Николай Петрович Михайлов. Вскоре прекра­ тилось и издание «Голоса России». Весной 1938 года И. Л. Солоневич переезжает в национал-социали­ стскую Германию — единственное место, где он мог чувствовать себя в безопасности от преследований советских властей. Находясь в Гер­ мании, он организует в Болгарии новое издание — «Нашу газету», первый номер которой вышел 19 октября 1938 года, последний — 18 января 1940 года. С началом Второй мировой войны издавать газету стало невозможно, и она прекратила свое существование. В 1940 году была предпринята попытка создания журнала «Роди­ на», но всемирное военное столкновение народов развеяло иллюзию возможности из Германии редактировать журнал в Болгарии. Тем бо­ лее что в 1940 году И. Л. Солоневич был приглашен для организации пропаганды финским Генеральным штабом — в то время шла совет- 10 Михаил Смолин ско-финская война. “Моя задача, — писал И. Л. Солоневич о своей работе, — сводилась с тому, чтобы убедить финское правительство принять лозунг. «Борьба за нашу, но и за вашу свободу*”*. Вернувшись обратно в Германию, И. Л. Солоневич продолжал пы­ таться объяснить немцам, что о России нельзя составлять представле­ ние по русской художественной литературе, что в случае войны в бой пойдут не литературные «обломовы» и «маниловы», а все те же рус­ ские мужики, победившие и Карла XII, и Наполеона, и что не стоит обманываться вывеской «СССР* — в этом государстве живет все тот же русский народ. Это не могло нравиться властям Германии, и геста­ по не оставляет в покое непокорного писателя: несколько раз его арестовывают и наконец ссылают в провинцию — в Темпельбург, где он и проживет, бедствуя, во время всех перипетий Второй ми­ ровой войны... После войны он попал в английскую оккупационную зону, где бедовал до 1948 года, когда решился переехать в Аргентину. Иван Солоневич так описал эти события: “Я со своим ударным батальо­ ном в лице сына, его жены и двух внуков высадился в Буэнос-Ай­ ресе 29 июля этого года. Мы ехали на итальянском пароходе... Де­ нег у нас не было ни копейки... За четыре месяца наши штабс-ка­ питаны, до сих пор мне вовсе неизвестные, набрали денег для газе­ ты, окружили нас всех истинно трогательными заботами и утвер­ ждают, что «Наша страна» не пропадет”**. Уже 18 сентября 1948 года начинает выходить газета «Наша страна», благополучно издающаяся до сих пор. Иван Солоневич снова пытается «монархизм чувства... дополнить монархизмом хо­ лодного разума» (Парламент и собор / / Наша страна. 1950. № 40). В Аргентине он публикует главную книгу своей жизни — «Народ­ ную Монархию» (1952). Как писал сам И. Л. Солоневич, этот ка­ питальный идеологический труд посвящен «познанию русского на­ рода и его трагической судьбы. Ни один из выживших народов ми­ ра такой трагической судьбы не имел»***. По доносу недоброжелателей И. Л. Солоневича высылают из Аргентины. Он оседает в Уругвае и продолжает писать для «На­ шей страны*. Умер Иван Солоневич 24 апреля 1953 года в итальянском госпитале в Монтевидео вскоре после перенесен­ ной операции рака желудка. мСолоневич И. Л. Два занавеса / / Наша страна. 1949. № 33. 10 декабря. Солоневич И. Л. Идеи — люди — организация / / Наша страна. 1948. № 8. 25 декабря. Солоневич И. Л. Народная Монархия. — Буэнос-Айрес, 1973. С. 136. Монархизм как любовь. Штрихи к портрету Ивана Солоневича 11 ЛЮБОВЬ К НАЦИИ И ГОСУДАРСТВУ «Я должен сознаться совершенно откровенно, — писал на исхо­ де своего жизненного пути Иван Солоневич, — я принадлежу к числу тех странных и отсталых людей, русских людей, отношение которых к русской монархии точнее всего выражается ненаучным термином: любовь. Таких же, как я, чудаков, на Русской земле бы­ ло еще миллионов под полтораста»*. Чтобы понять отношение Ивана Солоневича к монархии, охарактеризованное им самим как любовь, никак не уйти от об­ ращения к тому национальному подъему, который ощутила луч­ шая часть образованного общества в последнее имперское деся­ тилетие, и особенно во время Первой мировой (или, как она тогда называлась, Второй Отечественной) войны. Немало лю­ дей, в том числе и пишущих, начали тогда определять свое от­ ношение к Родине, к Монархии, к нации столь иррациональ­ ным словом, как любовь. Именно такое наполнение этих высоких понятий, осмысляемых прежде вс.его в ключе любви к своему, родному, было очень харак­ терно для полемики, шедшей тогда в прессе между правыми и ли­ бералами. В газете «Новое время», где во время войны начал со­ трудничать Иван Солоневич, эта тема звучала отчетливее прочих у Михаила Меньшикова (1859—1918), Василия Розанова (1856—1919) и Льва Тихомирова (1852—1923). Всех троих И. Л. Солоневич вы­ соко ценил, судя по оценкам этих авторов в его текстах, и, по-ви­ димому, считал своими учителями, восприняв у них традиции рус­ ской политической публицистики. Время между революциями 1905 и 1917 годов было дано как бы в долг исторической России — для попытки осмыслить револю­ цию, государственность, значение национального единства, роль интеллигенции, значимость Церкви и прочие политико-философ­ ские и религиозно-философские вопросы. Сколько было написано в эти годы! Мыслители как бы торопи­ лись, точно предчувствуя, что свободно высказаться, спокойно по­ размыслить вскоре не будет дано. И хотя историческая Россия дан­ ную ей передышку между революционными штурмами не смогла полностью использовать для выхода из идейного кризиса, этот пе­ риод все же для русского самосознания в целом не прошел зря. ' Солоневич И. Л. Великая фальшивка Февраля. — Буэнос-Айрес, 1954. С. 153. 12 Михаил Смолин В последнюю декаду жизни Империи начали свою писатель­ скую деятельность многие молодые авторы, ставшие вскоре круп­ ными мыслителями. Тогда же начал свою публицистическую дея­ тельность и Иван Солоневич. На него не могли не оказать влияния споры, которыми жила интеллектуальная среда той поры... Немалую роль здесь сыграл, как ни странно, журнал «Рус­ ская мысль* под редакцией П. Б. Струве, при котором журнал в 1910-е годы занял более консервативную позицию по отноше­ нию к революции и развернул на своих страницах полемику о национализме. Среди прочих статей в «Русской мысли* были напечатаны «Этюды о национализме* молодого консерватора—юриста Д. Д. Муретова, вызвавшие широкий отклик в интеллигентской среде и оп­ ределявшие национализм как персоналистское пристрастие к на­ циональному Эросу. «Национализм не претендует на справедливость, — писал он, — и всякий раз, когда он стремится объективно, логически доказать преимущества своей народности над всеми другими, он облекается в чуждую ему по существу форму... Откровенный и сознавший сущность свою национализм не боится сознаться в том, что он не может доказать и объяснить оснований своей веры и своей любви к своему народу. Национализм делит в этом отношении участь всякой личной любви... Безнравственно ли пристрастие, составляющее сущность на­ ционализма? Оно ни нравственно, ни безнравственно, ни доб­ родетель, ни порок. Божественное оно или дьявольское? Носит лицо Христа или Антихриста? Ни то, ни другое: оно глубоко человечно... оно ге­ ниально. Полезно оно или вредно? Опять-таки — ни то, ни другое: оно действенно, оно есть форма народного сознания, вне которой не может быть народного, т. е. общего цепи поколений, творчества*’. Эти «Этюды» поддержал Струве и резко осудил князь Е. Тру­ бецкой, критикуя в стиле Соловьева народность как языческое на­ чало и в противовес этому утверждая человечество как христиан­ ский принцип. Правда, либеральные мыслители так и не привели до сего времени логического основания, почему нужно под «ближ­ ними» подразумевать «человечество*. На каком, собственно, осно­ вании любовь к конкретному «человечеству» мы вслед за либера- Муретов Д. Д. Этюды о национализме / / Русская мысль. 1916. Кн. I. Монархизм как любовь. Штрихи к портрету Ивана Солоневича 13 лами должны полагать христианской, а любовь к народу — языче­ ской? Неужели только исходя из демократического принципа большинства — из того, что человечество количественно значи­ тельно больше любой народности? Но ведь на стороне национа­ листов есть не менее весомые доводы в защиту любви к своей народности как чувства родственности, из которого — и только из него — может вырасти христианская любовь к ближнему. В любви к нации есть глубокие качественные, положительные черты — большей близости, большей родственности и большей возможности реализовать саму христианскую любовь для каж­ дого человека. Любовь к своей нации, любовь к своей семье, любовь к своей общине, любовь к Церкви как обществу верую­ щих тождественны «семейной любви». И Церковь, и нация — большие родственные семьи, как, впрочем, и человечество — семья, объединенная общим родством в Адаме. Здесь уместно вспомнить довод П. Е. Астафьева в пользу любви к народности. Он утверждал, что человек, лишенный всякой к себе любви, не может любить никого из ближних просто потому, что это чувство ему незнакомо, — ведь недаром заповедь «возлюби ближнего» имеет критерием этой любви сравнительный ход мысли: «как самого себя», то есть изначально предполагается необходи­ мость и естественность отношения с любовью к себе. Христианст­ во даже в отношении Создателя любовь к Нему сравнивает с лю­ бовью к самому себе: «люби Бога больше, чем самого себя». По­ этому, не любя свою нацию, невозможно научиться хотя бы ува­ жать другие, так же как невозможно любить всякого ближнего, по­ ка не научишься любить всякого родственного. Таким образом, любовь к родственному является ступенью в достижении христианской любви к ближним; а национализм - лю­ бовью, подобной всякой личной любви человека к человеку. Любовь к личности, к индивидууму до конца никогда не мо­ жет быть объяснена: любой человек до известной степени есть тайна, его душа — «потемки», а не раскрытая для всех книга. Но все же это чувство можно объяснить, хотя не полно и дале­ ко не все его проявления. Любовь к родному естественна, прирожденна у любого здо­ рового духовно и физически человека. Любовь к нации, к сво­ ему государству действительно сродни любви к женщине, — любви, выделяющей из множества — одного, из разнообразия — лишь свое, родственное. Рождаясь на свет, человек принимает определенные обяза­ тельства в любви к своей нации, как бы обручается с ней. С 14 Михаил Смолин возрастом человек может «не обвенчаться*, нарушить верность своей нации, что означает разрыв с родственным, добровольное изгойство. Безусловно, такая любовь пристрастна, то есть избирательна и субъективна, но она естественна и другой быть не может, как не может не быть избирательна и пристрастна любовь к своей жене, к собственным детям, признаваемым самыми лучшими хотя бы лишь только потому, что они твои. Эта любовь-пристрастие, или, как в другом месте Д. Д. Муретов говорит о национализме, «вид политического исступле­ ния», распространялась консервативными мыслителями и на го­ сударство. Подобные взгляды, скажем, характерны для профес­ сора П. Е. Казанского. Национальное сознание, по П. Е. Казанскому, есть сознание живой солидарности со своим культурно-историческим нацио­ нальным типом, содержанием которого является любовь к сво­ ему народу и желание служить преимущественно во благо ему. Подобная солидарность дает возможность развития и достойно­ го существования не только всей общности в целом, но и каж­ дому ее члену в отдельности. Внешнее постоянное усложнение борьбы за жизнь рождает закономерный поиск естественных союзников в среде родствен­ ников и членов своего национального общества. Почему, собст­ венно, и чувство патриотизма для профессора П. Е. Казанского исходит из того же источника, что и национальное сознание. Ощущение, что каждый член государственного организма дела­ ет общее дело во благо каждого гражданина, утверждал П. Е. Ка­ занский, должно воспитывать и взаимную солидарность. «Пат­ риотизм есть сознание своей политической принадлежности к оп­ ределенному государству и своей жизненной общности с ним, сознание своей политической национальности***. Причем нормой он считал поглощение нации государством. Чувство, любовь к государству (патриотизм) должно было, по его мнению, перевешивать чувство национальности. Государст­ во для него важнее: оно вмещает в себя народность. «Государ­ ство, — писал он, — поглотило в себе разные народности. В этом смысле можно говорить, что государство есть, пожалуй, также народность, и считать своего рода национализмом»**. Казанский П. Е. Введение в курс международного права. — Одесса, 1901. С. 6 -7. ** Казанский П. Е. Народность и Государство. — Одесса, 1912. С. 10. Монархизм как любовь. Штрихи к портрету Ивана Солоневича 15 Итак, и патриотизм, и национализм понимался русскими консерваторами начала XX столетия как исконное чувство люб­ ви-пристрастия к своему государству и своей нации. В этом смысле Иван Солоневич находился в русле уже выработанного в начале XX столетия, осознанного и ставшего традиционным исключительно личного для каждого индивидуума пониманияотношения к Отечеству и народности. Его любовь к монархии, к Русскому Самодержавию так же пристрастна и носит характер глубоко переживаемого религиозно-политического и иррацио­ нально национального чувства. «Русский царизм, — пишет он, — был русским царизмом: го­ сударственным строем, какой никогда и нигде в мировой исто­ рии не повторялся. В этом строе была политически оформлена чисто религиозная мысль. “Диктатура совести”, как и совесть вообще, — не может быть выражена ни в каких юридических формулировках, — совесть есть религиозное явление. Одна из дополнительных неувязок русских гуманитарных наук заключа­ ется, в частности, в том, что моральные религиозные основы русского государственного строительства эта “наука” пыталась уложить в термины европейской государственной юриспруден­ ции. И с точки зрения государственного права — в истории Мо­ сковской и даже Петербургской империи ничего нельзя было понять; русская наука ничего и не поняла. В “возлюби ближне­ го своего, как самого себя” никакого места для юриспруденции нет. А именно на этой православной тенденции и строилась русская государственность. Как можно втиснуть любовь в пара­ графы какого бы то ни было договора?»*. Отказ от монархии был воспринят им как отказ от тысячелет­ ней русской истории. Монархия в России была его политическим идеалом, чаянием нормальной, спокойной, тихой и налаженной жизни, когда каждый занимается своим делом, а не безумного «массового порыва деятельности», когда все занимаются сразу всем, да еще и с катастрофическим энтузиазмом. «Народ, в его це­ лом, — писал И. Л. Солоневич, — править не может — как не мо­ жет “весь народ” писать картины, лечить зубы, командовать ар­ миями, проектировать мосты. Здесь нужен “специалист”, которому народ будет доверять. В наших русских условиях таким “специали­ стом” был Царь»**. * Солоневич И. Л. Миф о Николае II / / Великая фальшивка Февраля. Буэнос-Айрес, 1954. С. 152. ’* Родина. 1940. № 3. 16 Михаил Смолин МИКРОТОМИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТКАПИ В РАБОТАХ ИВАНА СОЛОПСВИЧА «Жизнь страны — всякой страны, — настаивал Иван Солоневич, — определяется не героическими подвигами, не стаханов­ скими достижениями, не пятилетними или четырехлетними планами и не декламацией об этих планах; она определяется миллиардами маленьких усилий сотен миллионов маленьких людей. Эта жизнь, как это отметила даже и философия, разно­ образна до крайности»*. Этот взгляд на суть социальных процессов далее был сформули­ рован им в таких словах: «Будущая наука об общественных отно­ шениях (сейчас у нас ее нет) займется, вероятно, и тем, что я бы назвал микротомией социальной ткани. То есть: оставит в покое де­ корации и декламации и начнет изучать процессы, совершающиеся в клетках социального организма»**. Для исследования органов и тканей животных и раститель­ ных организмов ученые-биологи используют специальный инст­ румент — микротом, который способен срезать тончайшие слои исследуемого объекта. Историку, социологу или политологу очень редко случается описать то или иное событие, столь же проникнув в его внутрен­ ний смысл, столь же его прочувствовав, сколь на это способен ум­ ный и внимательный современник, свидетель самого события. Свидетель находится внутри события, он видит, слышит все, что происходит, участвует сам в историческом процессе и потому с наибольшей точностью может передать атмосферу истории, ее ди­ намику и, наконец, смысл, вкладываемый в нее современниками. По мере отдаления исследователя от события труднее становит­ ся восстановить в полном объеме и передать психологический портрет прошедшего, воссоздать и объяснить строение социальной ткани исследуемого времени и порожденных им явлений. Именно поэтому свидетельства современников бесценны и ничем не заме­ нимы, и если их нет, то ученому приходится домысливать недос­ тающее. «Мелочи» исчезают в таких ситуациях полностью, а из них, как правило, и вырастают большие социальные события. Так возникает проблема генезиса глобального события. Глобальные со­ бытия закрывают от взора современников, а значит и от последую­ ’ Солоневич И. Л. Диктатура импотентов. — Буэнос-Айрес, 1949. С. 121. ** Там же. С. 150. Монархизм как любовь. Штрихи к портрету Ивана Солоневича 17 щих исследователей, события малозначащие, из которых суммиру­ ются глобальные. Социология, изучающая общественные исторические процессы и склонная заниматься глобальными макротомическими вопроса­ ми, традиционно остается крайне глуха к сфере малых социальных срезов — к изменениям микротомическим. В этом смысле Иван Солоневич — уникальный общественный свидетель и социальный «копиист» первой половины XX столетия, времени мировых потрясений и социальных катастроф, в которых, по его собственному признанию, он участвовал лично, «своей шку­ рой». Судьба Ивана Солоневича удивительна: он попадал в места наибольшего социальнрго движения как будто специально для то­ го, чтобы оставить о них свои письменные «фотографии». Лишенная сухой схематичности, демонстративной системности и других «научных* атрибутов, писательская манера Ивана Солоне­ вича своеобразна и рационалистична. Его книги и статьи ценны в первую очередь точными слепками с социальной психологии со­ циалистических, национал-социалистических и просто демократи­ ческих обществ, которые он знал изнутри, живя в них, их «микро­ томией социальной ткани», и только потом — их анализом. В сво­ ем писательстве он констатировал лично увиденное и лично пере­ житое. Это свидетельство о социализме — каков он есть в его жиз­ ненных реалиях — из первоисточника, при этом автор имел воз­ можность сравнивать гитлеровский Рейх со сталинским СССР, до­ революционную Империю — с послереволюционной Россией. Он, пожалуй, самый современный писатель из классиков рус­ ского консерватизма. Его слог наиболее доходчив до слуха постсо­ ветского читателя, его простота носит черты миссионерско-поли­ тические, и потому не понять его мысль невозможно, если только изначально не питать глубокого предубеждения к его личности или его писаниям. Он перенял одну из базовых установок русской пуб­ лицистики —откровенно беседовать со своим читателем — и гени­ ально продолжил традицию имперской публицистики — импер­ ской по размаху тем и интимности разговора, когда с читателем говорят доверительно, как с самым близким и дорогим другом, го­ ворят, как писали бы в письме к постоянному и тонкому, поверен­ ному в душевных делах товарищу. У великих мастеров русского слова имперское величие и лично­ стная, интимная душевность сливались в удивительное единство, рождая вечные творения человеческого духа. Потрясающая откро­ венность, открытость в писательстве — дар уникальный, и он при­ сущ Ивану Солоневичу в полной мере. 18 Михаил Смолин Если говорить об учителях Ивана Солоневича, то необходимо назвать по меньшей мере три имени: М. О. Меньшиков, В. В. Ро­ занов и Л. А. Тихомиров. Феномен Ивана Солоневича возрос из публицистического мастерства Михаила Меньшикова, из его «Пи­ сем к ближним», стиль которых Иван Солоневич в своих произве­ дениях довел до глубокой степени доверительности; из логичности и синкретичности таланта Льва Тихомирова, даже не всего Тихо­ мирова, а конкретно его книги «Монархическая государствен­ ность», с которой Иван Солоневич не расставался во всех перипе­ тиях своей эмигрантской жизни; из своеобразной микротомичности личной жизни Василия Розанова. Иван Солоневич не мог не читать розановские «Уединенное» и «Опавшие листья» (они выходили именно тогда, когда Иван Лукь­ янович уже жил в Петрограде и работал в «Новом времени»). Он не мог не перенять у своего любимого писателя интимной довери­ тельности к читателю и внимания к кажущимся мелочам, тонко и убедительно перенеся их на социальную ткань. Интересно объяснял особость своего писательства сам В. В. Ро­ занов: «Я ввел в литературу самое мелочное, мимолетное, невиди­ мые движения души, паутинки быта»; «У меня есть какой-то фети­ шизм мелочей. “Мелочи” суть мои “боги”»*. Влияние корифеев русской мысли старшего поколения на И. Л. Солоневича, на его стиль и его мысль нисколько не умень­ шают его собственной значимости и оригинальности вклада в рус­ скую политическую мысль. Семипудовый богатырь с добродушной улыбкой, не потеряв­ ший благожелательности и вкуса к жизни, Иван Солоневич являл собой особый тип оптимистического политического публициста. Отвергая всякую отвлеченную философию и любые системные доктрины, он подчеркнуто прост и доходчив в своих книгах и статьях. Не будучи балагуром-рассказчиком или писателем-эстетом, для которых основной задачей являлось желание произвести впечатление своими текстами, он своей главной целью ставил не­ обходимость достучаться до сердца читателя. Для Ивана Солоневи­ ча публицистический текст — это действенное оружие, всегда на­ правленное своим творцом точно в цель. Он ведет простой разго­ вор с читателем, и это разговор бывалого и сильного человека, ко­ торый убежден в своей правоте, проверенной многими испытания­ ми и многолетней борьбой. ' Цит. по: НиколюкинА. Н. Розанов. — М., 2001. С. 278. Монархизм как любовь. Штрихи к портрету Ивана Солоневича 19 Вероятно, человеку, не прошедшему, как Иван Солоневич, весь ад социальных экспериментов, будет трудно понять всю глубину того отвращения, которое он питал ко всяческим революциям и социализмам. Революцию, как он удачно выразился, чаще всего описывали с «преобладанием романа над уголовной хроникой», всегда пытаясь выдумать какой-нибудь литературный ход, чтобы чистую уголов­ щину прикрыть благородной идеальной романтикой или хотя бы разбавить кровавую реальность флером вымысла. И. Л. Солоневич называл такой подход бессовестным. Революция — это всегда раздражение. Как говорил еще Васи­ лий Розанов, «никогда не настанет в ней (революции. - М. С.) то­ го окончательного, когда человек говорит: “Довольно! Я — счаст­ лив! Сегодня так хорошо, что не надо завтра"... И всякое “завтра” ее обманет и перейдет в “послезавтра”... В революции нет радости. И не будет. Радость — слишком царственное чувство, и никогда не попадет в объятия этого лакея»*. Революция принципиально пер­ манентна и разрушительна. Героическая и энергическая фигура Ивана Солоневича никак не вписывалась в кладбищенскую тишину советской нормы. «Со­ ветская власть, — писал Иван Солоневич в 1938 году о поколении «несгибаемых ленинцев», — выросла из поражения и измены, и она идет по путям измены и поражения. Она была рождена шпио­ нами, предателями и изменниками, и она сама тонет в своем же собственном шпионаже, предательстве и измене. На двадцатом году революции революционное поколение схо­ дит с исторической арены, облитое грязью, кровью и позором: бо­ лее позорного поколения история еще не знает. Очень небольшим утешением для нас может служить то обстоятельство, что русских людей в этом поколении очень мало. Это какой-то интернацио­ нальный сброд с преобладающим влиянием еврейства — и с по­ пыткой опереться на русские отбросы»**. Вся русская история сродни жизни христианина и представляет собой череду духовных подвигов и греховных падений, накоп­ ления и оскудения, государственного строительства и анархиче­ ского разрушения. Двадцатый век был веком, когда маятник на­ циональной психологии давал наибольшее отклонение от царского, срединного пути, избранного нашими предками в конце позапрошлого тысячелетия, — пути построения автаркийного * Розанов В. В. Уединенное. — М., 1990. С. 107. ** Наша газета. 1938. № 6. 20 Михаил Смолин расширяющегося православного мира. Особую роль в этом со­ блазне поиска нетрадиционных для нации путей сыграли идеи демократии и революции, знамена которых к концу XX столе­ тия пропитались русской кровью, позором государственной из­ мены и духом национального предательства. Им нет никакого исторического оправдания, и они будут вспоминаться с таким же ощущением стыда, как эпоха «панамского скандала» во Франции или как времена «великой депрессии» в США. Иван Солоневич жил и писал в самые сложные времена Ве­ ликой Смуты XX века, но не потерял надежды на возрождение дорогого Отечества и всегда отвечал сомневающимся в его по­ литическом оптимизме таким образом: «Очень многие из моих читателей скажут мне: “ Все это, может быть, и правильно — но какой от всего этого толк? Какие есть шансы на восстановлен ние Монархии в России?” И я отвечу: приблизительно все сто процентов»*. Михаил Смолин Солоневич И. Л. Миф о Николае II / / Великая фальшивка Февраля. — Буэнос-Айрес, 1954. С. 156. ЦАРЕУБИЙЦЫ Над десятками миллионов болыиевицких убийств ка­ ким-то страшным, символическим рекордом, непревзойденным по своей гнусности “высшим достижением” большевизма — маячит и будет маячить в веках убийство Государя Императора и его Семьи. Здесь нельзя говорить даже о расстреле — это казнь предполага­ ет суд. Людовик XVI предстал перед каким-то — пусть и неправо­ мочным, но все-таки судом. Людовику были предъявлены какието — не совсем уж вымышленные — обвинения в сношениях с “иностранными интервентами” и в попытке отстоять свой престол штыками иностранных монархов. Николай II никаких “интервен­ ций” не предпринимал. Ни в каких “заговорах против республики” не участвовал. Никаких обвинений ему предъявлено не было, и никаким судом он судим не был. Это было убийство — исключи­ тельное по своей жестокости и гнусности: убийство детей на глазах отца, и матери — на глазах детей. Это убийство лежит тяжелым и кровавым пятном на совести русского народа, и в особенности на совести тех, кто в свое время был близок к Государю. Не потому, что народ или эти круги участвовали в убийстве, а потому, что ни­ чего не было предпринято для спасения человека, который так просто, так безропотно сложил с себя власть и вверил свою судьбу и судьбу своей Семьи русскому народу. Народ не сумел оправдать этого доверия. Народ виноват в этом меньше, чем его верхи. Помню: обретаясь более или менее в “низах народа”, я все предполагал, что где-то, в ближайшем окружении Государя, есть некто толковый и преданный, кто не допустит дальнейшего изде­ вательства над Государем и его Семьей. Кто нам, “низам”, в нуж­ ный момент отдаст какой-то приказ, скажет, что нужно делать? Никого не оказалось. Никто ничего не сказал. То пресловутое “средостение”, которое устами “августейших салонов” — выража­ ясь языком “Царского вестника” — пускало гнуснейшие сплетни о Царской Семье, то “средостение”, которое рукой Дмитрия Павло­ вича бабахнуло первую пулю нашей “великой и бескровной" и ос­ татки которого в эти дни с похоронными минами будут стоять на панихидах и делать вид, что молятся за упокой души Царственного Мученика, — это средостение вильнуло хвостом и исчезло в поли­ 22 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век тическое небытие. Царь и Его Семья были предоставлены во власть озверелого совдепа. Ничто для их спасения предпринято не было. В этом и наша с вами, господа штабс-капитаны, вина. О личности и о царствовании Николая II уже написаны де­ сятки томов и, вероятно, будут еще написаны десятки тысяч. Слишком трагична — и индивидуально и исторически — судьба этого человека и связанная с ней судьба России. Слишком за­ манчив для романиста элемент “рока”, элемент иррационально­ сти в этой судьбе — начиная с сабельного удара японского са­ мурая, через Ходынку, болезнь Наследника, через Распутина, через “трусость и предательство”, сплетни и “гнуснейшие инси­ нуации”, неудачные войны, отречение и, наконец, до трагиче­ ской гибели в екатеринбургском подвале. Я не собираюсь пи­ сать никаких мемуаров: покойного Государя я видел всего два раза в жизни — и видел его, так сказать, с низов. Но может быть, эти отрывочные воспоминания представят некоторый ин­ терес... хотя бы для будущего романиста. Первый раз это было в дни трехсотлетия Дома Романовых на Невском проспекте. Я был, так сказать, в состоянии толпы, сквозь ко­ торую — без всякой охраны, но с большим трудом — пробивалась коляска Государя. Со мною рядом стояли два моих товарища по уни­ верситету: один — левый эсер, другой — член польской социали­ стической партии. Над Невским гремело непрерывное “ура” — и оба моих товарища кричали тоже “ура” во всю силу своих молодых легких: обаяние русского Царя перевесило партийные программы. Я не кричал “ура” — кажется, никогда не кричал в своей жизни. Я всматривался в лицо Этого Человека, на плечи которого “случай­ ность рождения”, возложила такую страшную ответственность за судьбу гигантской Империи. В его жестах было что-то ощупываю­ щее и осторожное: как будто он боялся — привык уже бояться, — что малейшая неосторожность может иметь необозримые последст­ вия для судеб ста восьмидесяти миллионов людей... Вероятно, бы­ ло и еще что-то — чего я тогда не заметил: мысль о том, что из-за сплошной стены этих восторженных лиц может протянуться рука, вооруженная браунингом или бомбой. Коляска протиснулась дальше. Крики толпы передвинулись по направлению к Адмиралтейству. Мой пэпээсовский* при­ ятель несколько конфузливо, как бы оправдываясь перед моей невысказанной иронией, сказал: — А симпатичный все-таки бурш. * ППС — польская партия социалистическая. Цареубийцы 23 Почему он сказал “бурш” — я этого не знаю. Вероятно, не зна­ ет и он сам — нужно же было что-то сказать. Двадцать один год спус­ тя этот товарищ — поляк, и сейчас не так чтобы очень социалист, — переслал мне, заведомому и неизлечимому монархисту, из Польши в Гельсингфорс, почти тотчас же после нашего побега, свою финансо­ вую помощь. Без помощи мы бы голодали, как в концлагере... Но это к теме не относится... Второй раз это было в начале войны в Минске, через который Го­ сударь проезжал, направляясь в Ставку. Я в те времена не был совсем уже “в низах”. Издавал газету “Северо-западная жизнь” и получил би­ лет в собор, где в присутствии Государя служилась обедня. Обедня прошла не столь молитвенно, сколько торжественно, и после нее Го­ сударь прикладывался к иконам. Перед одной из них он стал на коле­ ни — и на подметке его сапога я увидел крупную и совершенно ясно заметную заплатку. Заплата совсем не вязалась с представлениями о русском Ца­ ре. Проходили годы, и она, оставаясь для меня неким симво­ лом, стала все-таки казаться плодом моего воображения. Толь­ ко в прошлом году, в Софии, я в разговоре с отцом Г. Шавельским, который хорошо знал Царскую Семью, вопросительно упомянул об этой заплате: была ли она возможной? Отец Геор­ гий рассказал мне несколько немного смешных и очень трога­ тельных анекдотов о том, например, как Наследник донашивал платья своих старших сестер. Эта заплата стала неким символом — символом большой лич­ ной скромности. И с другой стороны — большой личной трагедии. Царская Семья жила дружно и скромно: по терминологии тогдаш­ них сумасшедших огарочно-санинских времен это называлось ме­ щанством. Та группа (“первая группа” — по терминологии “Цар­ ского вестника”), которая уже по социальному своему происхожде­ нию стояла выше всякого “мещанства”, пускала слухи о распутин­ ских оргиях в Царском дворце — вот та самая “первая группа”, ко­ торая ныне официально простила первой советской партии убий­ ство Царской Семьи и столь же официально возглавляет вторую советскую партию. Так, как будто обе советские партии только и были озабочены: первая — чтобы расчистить путь этой “группе” и вторая — чтобы привести ее к власти... Что же касается Распутина — то его еще нужно очистить и от великосветских сплетен, и от холливудского налета. Тогда, кроме кутежей и женолюбия, ничего предосудительного и не останется. Но это — его частное дело. “Первая группа” тоже не отличалась ни трезвостью, ни целомудри­ ем. Петр I не лез в трезвенники, а Екатерина II не жила по уста­ 24 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век вам институтов благородных девиц. Что обоим не помешало заслу­ жить имя великих. Частная жизнь — кому какое дело? Но в данном случае “частная жизнь” была не только вывернута наизнанку, не только заляпана грязью, “инсинуациями самого грязного свойства”, но и в этом виде “доведена до сознания на­ родных масс”. Можно сказать, что Ее Величество Сплетня одолела Его Величество Царя. Царь — заплатил своей жизнью. Россия за­ платила двадцатью годами тягчайших страданий — но сплетня про­ должает свое победное шествие. По крайней мере, по нашему за­ рубежью... Меняются объекты и приемы, но сама она остается веч­ но девственной и юной. В подсоветской России сплетня как-то повывелась. Может быть потому, что не до нее. Страданиями двадцати лет выжжена сплетня и о Царской Семье. В сознании подсоветских масс — в особенно­ сти крестьянства — образ Николая II сконструировался совсем не в том аспекте, которого ожидали убийцы. Не Николай Кровавый, не Николай Последний, а Царь-Мученик, заплативший жизнью за свою верность России, за верность тому слову, которое он дал от имени России, и проданный своим “средостением”. О жизни и о гибели Государя ходит масса слухов — в большинстве случаев со­ вершенно апокрифических, создаются легенды, путей которых ни­ кто проследить не в состоянии. И именем Государя как бы воз­ главляется тот многомиллионный синодик мучеников за землю Русскую, к которому каждый день сталинской власти вписывает новые имена. Для монархической идеи нет оружия более сильного, чем легенды и мученический венец. Призрак Царя-Мученика бро­ дит по России, и он тем более страшен для власть имущих, что его ни в какой подвал не затащишь. ЗА ТЕНЬЮ РАСПУТИНА ВОЗРОЖДЕНИЕ ХОЛЛИВУДА На холливудских экранах мировой печати — в том числе и эмигрантской — снова мечется пресловутая распутинская тень. Снова обсуждаются причины крушения Империи. Эмигрант­ ская публицистика уровнем своего понимания снова пытается пе­ рещеголять холливудских режиссеров. Становится и грустно, и противно. Вопросу о крушении Империи и Монархии посвящены две книги: И. Якоби и профессора Перса. Первая старается обелить память погибшей Царской Семьи. Вторая тщательно разыскивает причины падения Империи за кулисами трона. Книга Перса запол­ нена “документальными” данными об этой закулисной борьбе. Об этих данных П. Милюков выражается очень осторожно: профессор Перс “слишком доверчиво относится к своим источникам, ценя их свежесть, но не критикуя их достоверности”. И отмечает “несоот­ ветствие между изображением и реальной действительностью”. Ре­ альной действительности книга профессора Перса никак не отве­ чает. Ив. Тхоржевский1 в “Возрождении” считает Якоби “убогим черносотенным лубком”. “Часовой” в связи с ней туманно пишет об “ошибках Короны”. Статья Тхоржевского вся посвящена дока­ зательствам того, как распутинщина убила “душу монархии”, и на­ мекам на тему о том, как-де слабоволие Государя и болезненность Государыни привели к “надругательству над русской служилой че­ стью", и, наконец, описанию того, как “солдатский сапог растоп­ тал Монархию”. По тхоржевско-холливудскому сценарию выходит так, что и Империю, и Монархию погубил-де пьяный мужик. Распутинская борода, а также и прочие вторичные и первичные признаки таин­ ственного старца заслонили собою и историю России, и преступле­ ния правящего слоя, и военный разгром, и тяжелую внутреннюю борьбу, и безлюдье, и бесчестность — все заслонили. Осталась од­ на пьяная борода, решившая судьбу России. Чем не Холливуд? Эта банально-дурацкое, тхоржевско-холливудское, детективно­ сенсационное представление о роли Распутина слишком уж на­ стойчиво и назойливо вдалбливается в сознание всего мира — в 26 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век том числе и в сознание русской эмиграции. Это представление на­ сквозь лживо. Для всех виновников гибели Империи и Монархии Распутин — это неоценимая находка. Это козел отпущения, на спину которого можно перевалить свои собственные грехи. Это щит, под прикрытием которого так просто и так легко болтать о болезненности Императрицы и о слабоволии императора: сами-де виноваты, зачем были болезненными, зачем были слабовольными. Давайте бросим холливудскую пинкертоновщину и поставим вещи на свое место. Вещи, поставленные на место, будут распола­ гаться приблизительно так. Вся внутренняя история России есть по преимуществу — если не исключительно — история борьбы Монархии с правящим сло­ ем, во имя подчинения этого слоя общенациональным или — если хотите — общенародным интересам. Правящий слой всегда против этого подчинения боролся. Народные низы всегда поддерживали общенародную линию. Борьба началась с удельного периода — с подчинения “прав” удельных князьков задачам обороны страны. Род Калиты окончательно сломал этих князьков. Поэтому-то для одного из этих князьков — Курбского род Калиты был родом “из­ давна кровопийственным”. “Кровопийственный род” собрал землю Русскую в один кулак. Князьки пытались овладеть этим кулаком изнутри. Иван Грозный разгромил и эти попытки — в стиле и спо­ собами, которые вообще были свойственны тому времени. Но Иван Грозный понимал историю несколько лучше Ивана Тхоржевского. В своем знаменитом воззвании из Александровской слободы он сознательно обратился к “черной сотне", к низам, теперь сказа­ ли бы — “к улице”. Улица его и вывезла. Если из нашего истори­ ческого понимания изъять влияние низов, влияние “улицы”, то мощь русской Монархии будет совершенно непонятна: откуда все собиратели земли Русской брали силы для борьбы с уделами, с бо­ ярством, с местничеством, с “верховниками”, с крепостниками и с прочими милыми людьми? Силы эти давали низы. Петр Великий получил уже прочно сколоченное здание самодержа­ вия. Но и ему пришлось начать свою политическую карьеру с очеред­ ного разгрома застойного, чванного, неработоспособного слоя. Отсюда и Алешка Меньшиков, и Курпатов, и Ежов, и прочие. До периода им­ ператриц внутренняя история России шла по, так сказать, путям Адольфа Гитлера. Demeinnutz vor Eigennutz: раньше всего — общена­ родное благо. А ежели этому благу не хотите подчиниться доброволь­ но — то “у меня есть палка, и я вам всем отец”. При императрицах внутренняя история России пошла, так ска­ зать, вспять. Временщики, заговоры, дворцовые революции, царе­ За тенью Распутина 27 убийства. Люди, пришедшие к власти путем дворцовых переворо­ тов и цареубийств, не могли не считаться с авторами этих перево­ ротов. Судьба супруга не могла не мерещиться Екатерине. Нужно было идти им на уступки. Вот и “матушка-царица”. Она была ма­ тушкой для десятков своих любовников, но она едва ли была та­ кой же матушкой для миллиона крестьян, раздаренных этим лю­ бовникам. Александр I не мог не оглядываться на судьбу своего от­ ца: отсюда его либеральное модничанье. Попытка декабристов была предпоследней попыткой очередно­ го гвардейского переворота — последняя попытка была сделана в феврале 1917 года. Декабристы натолкнулись на гвардейского му­ жика и были разбиты. Николай I — Николай Палкин, как его об­ зывают большевики, — собрал в своем железном кулаке те силы, без которых александровская реформа была бы технически невоз­ можной. Палка Николая I подготовила манифест Александра II. Сын и внук Царя-Освободителя с колебаниями, неизбежными во всяком человеческом деле, продолжали политику императоров, а не императриц: подчинения всей страны вот этому самому “об­ щему благу”. Но Николаю II пришлось действовать в тот период, когда правящий слой догнивал окончательно. Цифры — беспорные и беспощадные цифры дворянского земельного оскудения — это только, так сказать, ртутный столбик общественного термометра; температура упала ниже тридцати трех — смерть. Слой, который не мог организовать даже своих поместий, — как мог он организовать государство? Я, конечно, не говорю об исключениях типа Столыпина. Я го­ ворю о слое. Николай II попал в то же положение, о котором го­ ворил Ключевский: “Московский государь, которого ход истории вел к демократическому полновластию, должен был действовать по­ средством очень аристократической администрации”. На низах эта администрация была сильно разбавлена оппозиционными разно­ чинцами. На верхах она была аристократической сплошь. Слой умирал — полуторавековое паразитарное существование не могло пройти даром: не трудящийся да не живет. Без войны смена прошла бы, конечно, не безболезненно', но, во всяком случае, бескровно. Однако на Николая II свалились две войны — и ни одной правящий слой не сумел ни предотвратить, ни организовать. Слою оставалось или взять вину на себя, или пе­ реложить ее на плечи Монархии. Левая часть правящего слоя перекладывает вину без всякого за­ зрения совести: “проклятый царский режим”. Правой части такой образ действия все-таки неудобен — и вот тут-то и подвертывается 28 Салоневич И.Л. Наша страна. XX век Распутин. Дело же, конечно, вовсе не в Распутине. Дело в том, что война свалилась на нас в момент окончательной смены пра­ вящего слоя. Один слой уже уходил, другой еще не пришел. Вот отсюда-то, а вовсе не от Распутина, и произошло безлюдье, “министерская че­ харда”, “отсутствие власти” и — также трагическая безвыходность положения Царской Семьи. Отсюда же “кругом трусость и изме­ на”. Смертный приговор Царской Семье был вынесен в “августей­ ших салонах”, большевики только привели его в исполнение. ШАНТАЖ За кулисами всякой монархии, всякой республики, всякой чело­ веческой жизни вообще есть своя скандальная хроника. Скандаль­ ной хроники Екатерины II хватит еще на добрый десяток писа­ тельских и режиссерских поколений. Скандальной хронике Орло­ вых и Зубовых распутинская, конечно, и в подметки не годится — однако ни орловская, ни зубовская хроника для борьбы против престола использованы не были. Дело не в хронике, дело в тех слоях, которые эту хронику ис­ пользуют. Великосветское общество — и правое, и левое — очень напоми­ нает мне пронырливого фотографа-шантажиста, который забрался в семейный альков, нащелкал там целую серию порнографических открыток и — под угрозой политического шантажа — пустил эти открытки по белу свету. Распутинская открытка оказалась, кроме того, еще и фальшивкой. Господа Тхоржевские, вероятно, совсем забыли одно маленькое, очень маленькое обстоятельство: в годы войны почти ничего не го­ ворилось о политическом влиянии Распутина. Говорилось совсем другое: Царица — шпионка и любовница Распутина. Распутин — шпион и любовник и Царицы, и Великих Княжон. Вот что говори­ лось. А кто это говорил? Солдаты на фронте или князья в тылу? Откуда шла эта клевета? Из “августейших салонов” или из окопов? От “рабоче-крестьянских масс” или из кулуаров и с трибуны Госу­ дарственной Думы? Люди, которые пускали эту клевету, не могли не знать, не име­ ли права не знать, что жизнь Наследника Престола, — жизнь, ко­ торую так ждала не только Царская Семья, но и вся Россия, зави­ села от страшной гипнотической силы "пьяного мужика”. Мог ли Государь, уступая клевете, пожертвовать жизнью Наследника? За тенью Распутина 29 Могла ли Государыня — Императрица и мать, отдать жизнь На­ следника в угоду той же клевете? Сейчас с гемофилией борются средствами официальной медицины. Но и сейчас полное изле­ чение, в особенности в молодом возрасте, невозможно — даже и средствами протеинотерапии. В те годы удаление Распутина фактически означало бы смертный приговор сыну и Наследни­ ку Престола. Тема отцовской любви сейчас, в эмиграции, разрабатывается по поводам совсем другого характера. Люди, которые на всех перекре­ стках мазали дегтем клеветы трагедию Царя-отца и Царицы-мате­ ри, нынче вдруг воспылали всяческим преклонением перед отцов­ скими чувствами. Да, шпион... Но, вы понимаете, все-таки сын*... Наследник-Цесаревич шпионом не был. Почему же люди, эти же самые люди, клеветой добивались смертного приговора Наслед­ нику Престола? Честь служилого слоя? Почему честь служилого слоя не была задета любовниками Екатерины? БЕЗ ГРИМА Давайте попробуем смыть с Распутина холливудский грим. Пья­ ница? Можно подумать, что Тхоржевский воспитывался в институ­ те самых благородных в мире девиц и что ни на какие банкеты он никогда не хаживал. Петр I был пьяницей. Александр III выпивал более чем изрядно. В какой-то степени было пропито и Белое Движение. Если это и порок, то никак не индивидуальный: “весе­ лие Руси”. Женолюб? Обратимся к Петру и Екатерине, которых никто по этому поводу не травил. Какая среда предъявляла эти об­ винения? Та среда, для которых отечество находилось в вилле Родэ и которая публично купала в аквариумах голых “французинок”, — тоже, подумаешь, Катоны, стражи семейных добродетелей, вестал­ ки обоего пола, девственники петербургских кабаков! Взяточниче­ ство? После убийства Распутина у него самого не оказалось ни ко­ пейки. Политическое влияние? Его не могло не быть — но оно, к сожалению, оказалось недостаточным. Да, Распутин был за сепа­ ратный мир. Что было бы, если бы его влияние оказалось доста­ точно сильным? Если бы в 1916 году Россия приняла германские предложения: Галиция, проливы? Как жили бы мы с вами, господа ’ Николай Абрамов — сын генерала Абрамова, начальника Русского общевоинского союза. Николай Абрамов оказался агентом большеви­ ков в Софии. — Примеч. издателей 1942 года. 30 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век штабс-капитаны, и как жила бы Россия! Не знаю, провидел ли “таинственный старец” ави фаворабль, пермисьон де сежур, нансеновские паспорта и прочие доказательства доблестной со­ юзнической верности — но кое-что в этом роде не так уж труд­ но предвидеть. Назначение Протопопова? Так позвольте вас спросить: почему это Протопопов, пока он был товарищем председателя Государственной Думы, являлся столпом общест­ венности и избранником земли Русской? А как попал в минист­ ры — сразу же стал “германским агентом” и “ставленником Распутина”? Что же, на пост товарища председателя Думы его тоже Распутин посадил? Если мы начнем слой за слоем смывать с Распутина его холливудский грим, то под этим гримом обнаружится пьяный, разврат­ ный и необычайно умный мужик. Этот мужик был действительно целителем, и он действительно поддерживал своим гипнозом жизнь Наследника. Разговоры о его влиянии чрезвычайно сильно преувеличены. Основного — сепаратного мира — он так добиться и не смог. Жаль. Основного и мы добиться не можем. Это основное заключа­ ется в следующем вопросе: в какой степени круги английского масонства, кровно заинтересованные в войне “до последней ка­ пли крови русского солдата”, использовали распутинскую вер­ сию, стали поперек дороги сепаратному миру и вложили ре­ вольвер в нехитрую руку Дмитрия Павловича? В какой степени в этом участвовали еврейские круги? Почему теперь в “бодро­ сти” тот же Дмитрий Павлович снова, как и в 1917 году, пред­ лагает Англии — а в нынешних условиях, значит, и еврейству, — ту же войну до той же последней капли крови не совсем уже того русского солдата? И почему, как и в годы войны, тот же Дмитрий Павлович, один из фактических убийц русской Монар­ хии, снова воспылал союзническими чувствами? В какой степе­ ни сэр Бьюкенен повторил роль лорда Уитворта, а Дмитрий Павлович — роль Зубова? И чей “социальный заказ” выполня­ ют ныне люди, морально оправдывающие убийц Распутина? В редакции “ Возрождения” много бывших масонов. Может быть, они лучше меня знают этот вопрос. Если мы точно таким же путем начнем смывать великосветский ірим с правящего слоя — то под этим гримом мы увидим и раз­ вратников, и пьяниц, и стяжателей, и взяточников. На все это можно было бы и наплевать — если бы все это не сопровождалось полным упадком государственного чутья. Когда человек делает де­ ло — ему можно и должно простить и пьянство, и разврат: его За тенью Распутина 31 личное дело. Прощали Петру, прощали Екатерине, прощали Гете, прощали Байрону. Никого не касается. Частное дело. “Пей, да де­ ло разумей”. Правящий слой и пил, и дела не делал. Не делал как раз того дела, для которого он был поставлен историей, — органи­ зации и обороны страны. ОДИНОЧЕСТВО И БЕЗЛЮДЬЕ Одиночество, в которое попала Царская Семья, есть неоспори­ мый исторический факт. Это одиночество Государь объяснил с предельной сжатостью и яркостью: “Кругом предательство, тру­ сость и измена”. Господа Тхоржевские пытаются объяснить и пре­ дательство, и трусость, и измену только одним фактом — Распути­ ным. Даже Милюков на такое упрощение не решается. Для челове­ ка, привыкшего мыслить культурно, этот вариант уж слишком глуп. “Распутинскою пьяной похвальбой впервые было разрушено в сердцах служивого слоя обаяние русской монархии”. “Для слу­ живого слоя Распутин был нож острый”. “Государь часто (но ред­ ко до конца!) противился внушениям Императрицы, исходившим от Распутина”. “Деятельность Распутина была надругательством над русской служилой честью”. “Оттуда явилась и жутко росла мертвящая пустота вокруг трона”. “Самым важным и самым пре­ ступным было генеральское непротивление. Но тут сыграло роль то, что у многих душа опустошена и отвращена от власти правдой о Распутине” (подчеркнуто Тхоржевским). Вот предельные дости­ жения тхоржевского понимания. Поставим вопрос так: а что есть правда о Распутине? Кто правду, ежели она и была, пускал по всей стране? И кто над этой “правдой” воздвигал вавилонские башни грязи, травли и клеветы? И засим еще один вопрос: только ли Распутин был виноват в “мертвящей пустоте вокруг трона” и только ли его влиянием объясняется “жуткое безлю­ дье” на верхах нашего административного аппарата? Сейчас, четверть века спустя, мы все стали необычайно умны­ ми, необычайно опытными. “Ошибки Короны” обсуждаются все­ ми, кому не лень. И не приходит в голову вот такого рода простая мысль. А что мог сделать Государь? Уступить? А кому именно ус­ тупить? Клеветникам? Клеветники и без уступки добились своего. Передать всю власть Государственной Думе? Будем реалистичны: это означало бы передачу всей власти Павлу Милюкову со всеми вытекающими отсюда Керенскими последствиями. Мы уже знаем, что именно получилось из власти, полученной Государственной 32 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Думой в марте 1917 года. Подобрать из среды правящего слоя луч­ ших людей? А где они были, вот эти лучшие люди? Почти четверть века тому назад “лучшие люди” и клеветой, и ядом разорвали оковы “проклятого царского режима” или “проклятого распутинского режима”. Почти четверть века под­ ряд эти “лучшие люди” имели безграничные возможности для проявления своих государственных талантов. Где же они, эти Столыпины и Сидорчуки, которых Корона не догадалась поста­ вить у власти? Было Временное правительство. Была Белая Ар­ мия Деникина. Была Белая Армия Колчака. Была Белая Армия Миллера2, Юденича, Унгер-Штернберга3, Булак-Балаховича4. Существует до сих пор призрак Белой Армии Архангельского5. Где же во всем этом калейдоскопе хоть один государственный талант, которого Николай II не догадался поставить у власти? Мы еще можем спорить о военных талантах наших генералов — невеликие были таланты, прости Господи. Но в государствен­ ном и организационном отношении это была одна сплошная, жуткая, стопроцентная бездарь. Из всех этих движений самым сильным было Белое движение юга России. Вот что пишет о военных и невоенных талантах генерала Деникина мой присяж­ ный хулитель А. Керсновский (Царский вестник. № 662): “Франко6 — это Деникин, каким бы он должен был быть. Располагая страной с семидесятимиллионным населением (уже отошедшим от большевиков и разочаровавшимся в них), он (Деникин) умудрился иметь на фронте в решительную мину­ ту под Орлом всего десять тысяч штыков — и ничего больше до самого Новороссийска... Имея до ста тысяч офицеров, он не пустил их на фронт, а запер в склепы, кокаиноманию, сыпняк и наганы подоспевших к зиме чекистов. А на фронте не то что каждый офицер — каждый солдат был на счету. В строй ставили только что взятых красноармейцев... Портовые пакгаузы ломились от навезенной англичанами аму­ ниции и одежды. А на фронте строили обмундирование из случай­ ной сарпинки, набивали за пазуху соломы, чтобы грела, стаскивали с пленных их опорки. Поезда не ходили. Водопровод не работал. Города сидели без хле­ ба. Деревни сидели без мануфактуры. Юркие личности меняли валюту на кокаин... Стрельба... Грабеж... Никто ничего не знал. Никто ничего не делал. Благообразные сенаторы попивали чаек в Особом совеща­ нии. Милые дамы стучали на машинках в Осваге. Действительные статские советники писали патриотические стихи... Это — правление генерала Деникина... За тенью Распутина 33 Франко твердо знал азбуку государственного деятеля — те истины, о которых генерал Деникин и не догадывался. А имен­ но: 1) тыл — опора фронта; 2) второй шаг делается только по­ сле первого — и 3) соловья баснями не кормят. Это как раз три аксиомы гражданской войны. Он и стал действовать так, чтоб победить. Никаких «особых со­ вещаний» — а настоящее правительство. Никаких уполномоченных — а настоящие министры. Никаких посулов какого-то «учредитель­ ного собрания» в неопределенном будущем — а сейчас же насущ­ ные мероприятия, реформы и законодательство. Порядок, толковость, организованность сопровождали армии генерала Франко с первого дня до последнего. Ничего общего с вакханалией белого тыла нашей гражданской войны. И результаты разные. У Франко — победный парад в Мадриде. У Деникина — сложенные в штабели трупы в Новороссийске. Вот что значит быть лишенным всякого намека на организаторские способности!” Керсновский говорит: “Генерал Деникин лишен всякого намека на организаторские способности”. Я говорю проще и короче: "Ге­ нерал Деникин — бездарность”. Керсновский не разлагатель, а я разлагатель. Мои предположения о том, что генерал Франко учел опыт нашей белой борьбы, Керсновский отрицает начисто. “Со­ вершенно немыслимо утверждать, что Франко в какой-то степени учел русский опыт. Он его не знает и даже не подозревает о его существовании”. Думаю, что прав Керсновский, а не я. Но тем худшие выводы мы должны сделать о Деникине. Такой же бездар­ ностью был Сухомлинов. Прошло двадцать пять лет. Во главе воо­ руженных сил, пусть и мифических, стоит генерал Архангельский. Никого более молодого, более яркого и более дееспособного не нашлось? Ежели этот человек стоит во главе недавно крупнейшей зарубежной организации — то это можно объяснить только двумя способами: или лучшего не нашлось, или ничего лучшего не пус­ тили. Выбирайте любое объяснение. Все, что было толкового среди правящего слоя, Государь пы­ тался найти и поднять. Но он был окружен слишком рлотной стеной. П. А. Столыпин был найден и поднят случайно: “моло­ дой саратовский губернатор”. И карьера его была головокружи­ тельной, в обход всякого чиновничьего местничества. А ведь как травила Петра Аркадьевича вот та же придворная велико­ светская бюрократическая среда — конечно, с неизбежной по­ мощью еврейского либерализма. Все, что было в этом правящем слое ценного, Монархия пыта­ лась найти. За двадцать лет рассеяния и полной свободы действия Солоневич И.Л. Наша страна. XX век 34 в этом слое не нашлось, кроме генерала Врангеля, ни одного цен­ ного человека. Слой сгнил. Слой стал политическим импотентом. Польская поговорка говорит, что из пустого сосуда и сам Соломон ничего налить не может. Из разложившегося слоя никакая монар­ хия ничего взять не может. Для того чтобы хотя бы здесь, в эмиг­ рации, продвинуть к жизни новые силы, весь этот слой должен быть разбит и сброшен со всякого политического расчета. Один из моих корреспондентов, профессор-металлург, пишет мне: “Да что Вы все сваливаете на Сухомлинова. Сухомлинова-то кто назначил? Царь. Стало быть, Царь и виноват”. Стало — Васька и тать, Стало, Ваське и дать — Таску. Это обвинение бьет мимо цели — мимо Монархии. Монарх не обязан строить железные дороги, снабжать армию сапогами и пу­ леметами, вырабатывать национальную военную доктрину, повы­ шать урожайность полей, заботиться о преподавании русской исто­ рии в низших и средних школах. Это не его дело. Его дело найти людей и поручить им эту работу. А где найти, если людей нет? Прочтите воспоминания Деникина, как его травили верхи Акаде­ мии Генерального штаба. Да и так ли уж Деникин был лучше Су­ хомлинова? Да и вы, господа офицеры, безо всяких распутинских влияний, никого ведь лучше Архангельского не нашли. А чем Ар­ хангельский лучше Сухомлинова и Деникина? И как Государю бы­ ло верить этим людям, когда единственная “правда”, которую го­ ворили Государю, звучала приблизительно так: — Ваше Величество, заклинаю именем России, Ваша жена — шпионка и любовница Распутина! Другой правды не говорили — и теперь не говорят. Вот ска­ зал же Сухомлинов: мы готовы до последней пуговицы. Устраи­ ваются же ныне благотворительные банкеты. Так где же они, эти люди, которым Царь, Царица и Распутин не дали возмож­ ности проявить свои блестящие организаторские таланты? Где была у всех этих людей их элементарнейшая честь и где эту честь можно разыскать сейчас? ВОПРОС О ЧЕСТИ Во всей распутинской истории самый страшный симптом не в распутинском пьянстве. Самый страшный симптом — сим­ За тенью Распутина 35 птом смерти, это отсутствие общественной совести. Вот темпе­ ратура падает, вот — нет реакции зрачка, вот — нет реакции со­ вести. Совесть есть то, на чем строится государство. Без совести не помогут никакие законы и никакие уставы. Совести не ока­ залось. Не оказалось элементарнейшего чувства долга, который бы призывал наши верхи хотя бы к защите элементарнейшей се­ мейной чести Государя. Поставим вопрос так. На одну сотую секунды допустим, что распу­ тинская ірязь действительно была внесена внутрь Царской Семьи. Да­ же и в этом случае элементарнейшая обязанность всякого русского че­ ловека состояла в следующем: по рецепту генерала Краснова, правда, уже запоздалому, — виселицей, револьвером или просто мордобоем затыкать рот всякой сплетне о Царской Семье. Я плохо знаю Англию, но я представляю себе: попробуйте вы в любом английском клубе пустить сплетню о королеве, лю­ бовнице иностранного шпиона, — и самые почтенные джентль­ мены и лорды снимут с себя сюртуки и смокинги и начнут бить в морду самым примитивным образом, хотя и по правилам са­ мого современного бокса. А наши, чорт их подери, монархисты не только не били морду, а сами сладострастно сюсюкали на всех перекрестках: “А вы знаете, Распутин живет и с Царицей, и с Княжнами”. И никто морды не бил. Гвардейские офицеры, которые приносили присягу, которые стояли вплотную у трона, — и те позволяли, чтобы в их присутствии говорились такие вещи. Я помню, в 1916 году наивным и малость провинциальным сту­ дентом я попал в салон баронессы Скопин-Шуйской: ох, как чесались руки. Очень грешен: никому в морду не дал. Просто встал и ушел. Потом мне передавали: такого рода мужика баро­ несса приглашать больше не будет. Ну и не нужно. Иван Тхоржевский ляпает в “Возрождении” совершенно гнус­ ную вещь, гнусную до вони, до отвращения: о том, что “русская монархия была растоптана солдатскими сапогами”. Позвольте вас спросить, многоуважаемый кандидат в канцлеры Империи Российской: откуда вы это взяли? Разве русский.солдат, который миллионами умирал на фронте, пускал по миру клевету о Царице — шпионке и любовнице шпиона? Разве русский солдат громогласничал с думской трибуны о глупости и измене? Разве русский солдат организовал “генеральское непротивление” по Тхоржевскому и “бездарность” по Орехову? Наконец, разве рус­ ский солдат наполнял собою казармы запасных батальонов Петер­ бурга, казармы, наполненные петербургскими дворниками и масте­ ровыми? При чем здесь солдатский сапог? Сапог вооруженного и 36 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век невооруженного народа? Где и когда выступал этот сапог против монарха? Вспомните, каким мрачным и трагическим молчанием была встречена на фронте весть об отречении Государя! Фраза Тхоржевского напоминает мне утверждение “Часового”, что в мировую войну не было солдат. Не знаю. Суворовых и Ско­ белевых действительно не было. Но русский солдат и бился, и умирал ничуть не хуже, чем при Суворове и Скобелеве. Ничуть не хуже суворовского умирал и офицерский состав. Разве их вина, что вместо Суворова был Сухомлинов и вместо Скобелева — Архан­ гельский? Разве они, эти солдаты и офицеры, обязаны были забо­ титься о снабжении и об организации армии? Русский солдат и русский офицер сделали безмерно больше того, на что могла рас­ считывать самая буйная и самая требовательная фантазия. Прочти­ те немецкие мемуары о том, как цепь за цепью гибли эти “солдат­ ские сапоги”, дорываясь до штыкового боя. Ведь от этаких описа­ ний в душе вспыхивает и восторг, и ненависть: восторг перед фан­ тастическим мужеством того самого русского солдата, который был и при Суворове, и при Скобелеве, — остался и при Сухомлинове, и ненависть по адресу слоя, среди которого уже не было и не мог­ ло быть ни Суворовых, ни Скобелевых. Нет, не солдатский сапог растоптал Монархию. Ее растоптала кле­ вета августейших салонов, клевета думской трибуны, клевета еврей­ ской печати. Клевета душила и задушила Монархию, так же как она здесь, в Зарубежье, душит всякую живую силу молодой России. Все как прежде: небо лилово, Те же травы на той же земле. Все те же три кита, на которых основывался наш правящий слой: безмозглость, бездарность и бесчестность. Простите, если я снова обращусь к личной иллюстрации того, что действительно ничего не изменилось. Я живу в Германии полтора года. Полтора года подряд мне упорно и настойчиво, с видом самого дружеского расположения и желанием “по-дружески предупредить”, говорят самую несус­ ветную дрянь о моих соратниках по фронту, А. В. Туркуле и А. В. Мельском. Я это пишу, в частности, для того, чтобы над всякими дальнейшими разговорами, по крайней мере со мной, поставить наконец точку. Я не знаю, что это — эмигрантская сумасшедшинка или пере­ несенные за рубеж черты характера умирающего слоя? Вот прихо­ дят ко мне трое представителей нашей интеллигенции с предложе­ нием дружеских услуг по поводу статьи в "Штюрмере”. За тенью Распутина 37 — Только вы знаете, кто статью написал? Это Мельский! О том, что Мельский написал эту статью, уже получены сооб­ щения из Праги, Белграда и Парижа — значит, действует какая-то всеэмигрантская организация клеветы. Симпатичным интеллиген­ там я говорю: — Послушайте, Мельский пишет в “Нашей газете”, Мельский шлет ей свои приветствия, Мельский работает для “Белой библиоте­ ки”. И вот тот же Мельский будет публично расписываться в том, что он работает в газете врага Германии и еврейского наймита? — Ну, вы знаете Мельского — он хитрый. И кроме того... — Никаких “кроме того”. Признайтесь, что вы говорите вздор. И “кроме того”, никому больше этого вздора не рассказывайте. Интеллигенты ушли обиженные. В тот же день другие интелли­ генты уверяли меня, что в квартиру Туркула — две комнаты с кух­ ней — ежедневно ящиками возят водку и коньяк. Те же интелли­ генты пришли ко мне с сенсационной новостью: вы знаете, Мель­ ский снова получил немецкие деньги и выпускает свой “Вестник”. Немецкие деньги Мельский действительно получил — из ломбарда. Приезжаю в Берлин и захожу в заваленную бумагами комнатушку — канцелярию РНСД, кабинет Мельского. Нужно перестукать на немецкой машинке двадцать страниц некоего документа. Машинки нет. Где она? Пошла в ломбард вместе с часами и костюмом. На полученные немецкие деньги выпушен очередной номер “Вестника”. Когда номер разойдется, машин­ ка и часы будут выкуплены. Ну что делать? Что делать? И как доказать иностранцам, что эта бесконечная серия сплетен, клеветы и доносов не есть свой­ ство русского народа, свойство “славянской души”, а есть свой­ ство слоя, который ушел и который никогда не вернется. Не вернется не только к власти, а может быть, не вернется и в Россию. Почти одновременно я получил ряд писем от недавних подсоветских. Основной тон: нельзя эту публику пускать в Рос­ сию. Первым делом нужно устроить фильтр. Фильтр нужно уст­ роить обязательно. Пусть сеятели “разумного, доброго, вечно­ го” , клеветы, фальшивок и доносов останутся здесь и пусть утучняют доблестями и бодростями своими парижские тротуары или балканские кабаки. У Государя Императора в данных исторических условиях был только один путь — путь Ивана Грозного, Петра Великого и Нико­ лая I. Самым беспощадным образом придавить и продавить всю эту гниль. Организовать новую опричину, новых потешных, новые шпицрутены или, применяясь к условиям эпохи, нынешних герман­ 38 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ских штурмовиков. Найти новых Меншиковых, а может быть, и Ску­ ратовых. Но для этого нужна была беспощадность, которой у Государя Императора не хватило. Повторяю еще и еще раз свою парадоксальную фразу: Государь Император для данного слоя был слишком большим джентльменом. Он предполагал, что такими же джентльменами окажутся и близкие ему люди, и эти люди, повинуясь долгу присяги или, по меньшей ме­ ре, чувству порядочности, отстоят, по крайней мере, его семейную честь. Не отстояли даже его семейной чести. Ничего не отстояли. Все продали и все предали. Исторически это было местью за Ивана Гроз­ ного. Но всякая месть — это в большинстве случаев месть самому се­ бе. Правящий слой “отомстил” и убийством Семьи, и своим собствен­ ным самоубийством. Свое собственное самоубийство он заканчивает в эмиграции. У Государя Императора не хватило беспощадности. Мы должны из этого извлечь свой собственный урок. Государь ушел из жизни, может быть, и не героем. Но он ушел мучеником. “На крови мучеников со­ зижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее”. Сейчас, после ре­ волюции, распутинская клевета русской Монархии уже не одолеет. Ни Перса, ни Тхоржевского русский народ читать не будет. Холливудский фильм русский народ не смотрит и смотреть не будет. Профессорский и генеральские мемуары до него не дойдут. Но мученическая гибель Царской Семьи, всей Семьи, до него уже дошла. Если не верите мне, перечитайте Карла Альбрехта, немца, бывшего коммуниста, нынешне­ го социалиста, человека, который и мне никак не может простить моего монархизма. — А какое вам, собственно, дело до моего русского монархизма? Вам, немцам, я никаких советов не даю. — Нет, как вы можете говорить о монархии? Монархия — это гнет, нагайки, нищета. Словом — стрижено-брито. Но все-таки Карл Альбрехт отыскал в русских избах царские портреты, спрятанные под иконами Христа Спасителя. Вот это есть факт, факт чудовищного значения. А мемуары? Чепуха мемуары. Русскую историю будет определять русский мужик. Он ее всегда определяет. Определит также и солдатский сапог — сапог вооруженного русского мужика. Кое-кого он действительно растопчет. Растопчет беспощадно и окончательно. Свою статью, пересыпанную намеками на безволие Государя и бо­ лезненность Государыни, Тхоржевский заканчивает в нестерпимо вы­ соком штиле: “Став на колени, жарко молимся мы о них и с ними. Чистый блеск их мученического венца благословит будущую Россию”. За тенью Распутина 39 И о жаркой молитве позвольте мне уж остаться при особом мне­ нии. Право на жаркую молитву, да еще и на “молитву с ними”, нужно заслужить. Нужно заслужить покаянием. Собственным покаянием. Ес­ ли, говоря условно, Милюков кается за счет Тхоржевского, а Тхоржевский кается за счет Милюкова — грош цена обоим покаяниям. Есть и такой в эмиграции дядя — очень известный генерал, ныне председа­ тель одного из отделов Общества ревнителей памяти Государя. Этот ревнитель в те дни, когда больная Царская Семья находилась под аре­ стом в Царском Селе, отклонил просьбу Государыни приехать навес­ тить больных Княжон: ему, видите ли, было политически неудобно. Вот этакий дядя будет “жарко молиться”. И будет жарко каяться... за чужой счет. За счет солдат, офицеров, мужиков, рабочих, политиче­ ских противников и политических соседей, но только, избави Бог, не за свой собственный счет. Ибо если покаяться за свой собственный счет, тогда нужно закрыть и орган еврейского либерализма “Послед­ ние новости”, и орган застойной редакции “Возрождения”. Пред­ ставьте себе Милюкова, который встал бы на колени и начал бы жар­ ко каяться в своей “глупости и измене”. Представьте себе Деникина, который честно сказал бы русскому Зарубежью: “Господа, не повто­ ряйте моих ошибок”. Держи карман шире! Милюков свалит на Дени­ кина, Деникин — на Керенского, Керенский — Корнилова, Тхоржевский — на русского солдата, Архангельский — на немцев, и все они вместе взятые — на Солоневича. Вот кто разлагатель! Вот кто разводит в эмиграции бездарность, безмозглость и бесчестность! У всех этих людей, у каждого из них, есть святое, заветное место. У Милюкова оно в еврействе. Вы можете посадить Милюкова на кол, но о вине еврейства он не скажет ни слова. У Тхоржевского, скажем, во внутренней линии со всеми ее предками и потомками. Ежели он заик­ нется, его съедят. И у нас есть наше святое, заветное место — это память мучениче­ ской Царской Семьи, Семьи, которая была затравлена потрясающе подлой и бесчестной клеветой. И мы, может быть, вправе обратиться к бывшим и проектируемым канцлерам Империи Российской с самой настоятельной просьбой: не лезьте в это святое место грязными сапо­ гами разговорчиков о слабоволии Государя, об истеричности Госуда­ рыни и о предательстве со стороны русского солдата. Ежели вы хотите судить судом истории — судите раньше всего самих себя. Судите рань­ ше всего свою собственную бездарность, безмозглость и бесчестность. И не обливайте грязью Великих Молчащих Мучеников: Царя, Царицу и Народ. РАБОТА ШТАБС-КАПИТАПОВ (СХЕМА) 1 БЕСПОЩАДНОСТЬ Резкий антисемитский курс, взятый в последнее время в Германии, не может не поставить перед мировым еврейством и такого рода проблемы: что будет с тремя-четырьмя миллионами русского еврейства в том случае, если в России возьмут верх анти­ семитские силы. Русское еврейство всегда было идейною базой всего мирового еврейства. В такой же степени, как германское ев­ рейство было культурно-технической, а англо-американское — фи­ нансовой. Было бы совершенной нелепостью предполагать, чтобы мировое еврейство так уж бросило на произвол судьбы — на про­ извол и Германии, и России — эту четырехмиллионную (считая с Польшей — семи-восьмимиллионную) массу своих наиболее ак­ тивных соплеменников. Очень маловероятно, чтобы мировое ев­ рейство не сделало попытки отстранить от уст русского еврейства чашу расплаты за все то, что двадцать лет делается в России. Со­ вершенно невероятно, чтобы мировое еврейство не попыталось вбить клин между национальной Германией и национальной Россией, разбить два антисемитских государства на враждующие лагери и выиг­ рать свою еврейскую войну и немецкими, и русскими руками. Нужно иметь в виду и еще одно обстоятельство. Решение рус­ ского вопроса в ту или иную сторону тесно связано с решением судьбы всего мирового еврейства. Рождением национальной и анти­ семитской России, находящейся в союзе с национальной и антисе­ митской Германией, фактически будет решена судьба почти поло­ вины мирового еврейства. В орбиту влияния этих двух националь­ ных гигантов не могут не попасть и Польша с ее тремя-пятью мил­ лионами еврейского населения (точной статистики здесь вообще нет), Румыния, Прибалтика, может быть, и Венгрия. Я не склонен преувеличивать ни организованности, ни актив­ ности мирового еврейства. Но здесь дело идет не о пустяках. В американских банках сконцентрировано около пятнадцати милли­ ардов золотых долларов, которые некуда девать. Работа штабс-капитанов 41 Платить в конечном счете будет все тот же безвестный и безот­ ветный налогоплательщик, акционер и рантье. Риск невелик. А риск русско-германского союза грозит еврейству потерей всех его по­ зиций, в Европе во всяком случае, а может быть, и во всем мире. В данный момент нет еще никаких объективных указаний на такие попытки. Однако политика должна не только констатировать то, что есть, но и предусмотреть то, что еще может быть. Такая по­ пытка может быть сделана. Русские люди, которые галдят о ста­ линском патриотизме, не понимают того, что они работают на за­ тяжку большевистской власти еще на несколько лет, а может быть, и на несколько десятков лет. Они не понимают того, что террито­ рию можно отдать, но можно и вернуть, но что уже нельзя вернуть тех тридцати миллионов русских жизней, которые погибли за вре­ мя великой и бескровной. Большинство из этих людей не понима­ ет, впрочем, решительно ничего. Как видите, прогноз о близком падении большевизма я делаю с некоторой оговоркой. Эту оговорку я не считаю особенно угрожающей, но нужно считаться с возможностью и такого поворота дела. Эта возмож­ ность, в частности, указывает нам на наш долг бороться с больше­ визмом до полного и окончательного его уничтожения. Не подда­ ваться ни на какую провокацию, какой бы гуманитарной или пат­ риотический характер она ни имела. Со всей доступной нам беспо­ щадностью смотреть в лицо беспощадным фактам жизни. В большевистской истории уже были случаи и гуманитарной провокации. Американская администрация помощи (АРА) спасла от голода около двух миллионов людей. Вместе с этими людьми она спасла советскую власть. Советская власть с тех пор уморила еще двадцать восемь миллионов. Во что обошлось России амери­ канское человеколюбие? Под патриотическими лозунгами русское офицерство пошло в Красную Армию — в Красной Армии его было больше, чем в Белой: идеологам военной касты не следует забывать и этого обстоятельства. Под теми же патриотическими лозунгами большевистская власть ис­ пользовала это офицерство для борьбы с Польшей и потом расстреля­ ла это офицерство в подвалах ГПУ и уморила в лагерях и ссылках. Те же патриотические лозунги единой и неделимой оттолкнули и фин­ скую, и германскую, и японскую, отчасти даже и польскую помощь (с Польшей дело, впрочем, обстояло гораздо сложнее). Во что обошелся и во что еще обойдется России этот патриотизм? Люди, которые удирали под защиту гетмана Скоропадского и поддерживавших его немецких штыков, в том числе и П. Н. Ми­ 42 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век люков, здесь же, в Киеве, обливали грязью и Скоропадского, и немцев. Скоропадский и немцы переправляли оружие и людей ге­ нералу П. Н. Краснову, генерал Краснов переправлял их генералу Деникину, генерал Деникин блюл свои белоснежные ризы и из этих белоснежных риз сшил саван и для себя, и для России. Сотни тысяч русской интеллигенции были спасены немецкими штыками. Десятки тысяч были вывезены из Петербурга и Москвы экстерриториальными “державными поездами”. В Петербурге и Моск­ ве были организованы украинские консульства, и на петербургских, ярославских, рязанских и прочих паспортах ставился пресловутый штамп: “С боку украинского генерального консульства перешкод не мае”. Сенаторы и гвардейцы, инженеры и профессора без всяких “пе­ решкод” перекочевывали в Киев и там плотно, всем своим седали­ щем, усаживались на союзную платформу. Сидят и до сих пор. ...Все это я говорю к тому, что победа близка, но что обеспе­ ченной ее считать нельзя. Враг должен быть добит окончательно. Нельзя допускать никакой провокации ни под лозунгами челове­ колюбия, ни под лозунгами патриотизма. Все те, кто из-за непони­ мания или трусости, из-за глупости или измены, платно или бес­ платно, словом или делом зовут нас к каким бы то ни было ком­ промиссам с большевистской властью, все они — враги России и, следовательно, все они — наши враги. Ежели им хочется защищать сталинские территории — пусть идут по стопам графа Игнатьева. Но нужно им сказать, что от имени национальной эмиграции раз­ говаривать они не имеют никакого права. Наша непримиримость к большевикам должна быть и последо­ вательной, и беспощадной. Штабс-капитанская масса имеет возможность добиться мо­ ральной изоляции вольных и невольных — яже ведением и яже неведением — агентов и попутчиков большевизма. Это наш мо­ ральный долг, и это моральная основа нашей штабс-капитан­ ской работы здесь. ПАША РОЛЬ Массы русской эмиграции никак не могут участвовать в перево­ роте. Помочь этому перевороту они могут только очень косвенным путем, беспощадно борясь со всякими попытками примиренчества, по мере всех своих сил изолируя большевизм от всяких нынешних и будущих, возможных и невозможных, мыслимых и немыслимых попутчиков, соратников и союзников. Для этой изоляции русское Работа штабс-капитанов 43 зарубежье сделало уже очень много, не следует преуменьшать его огромных заслуг. Но эта работа должна идти и дальше, стано­ вясь с каждым днем все более и более беспощадной: к моменту неизбежной операции найдется очень много трусов. И провока­ торов тоже. И если уж нужно “не посрамить земли Русской”, то не посрамим ее по крайней мере какими бы то ни было ком­ промиссами с большевизмом. Чем яснее будут для Красной Армии полное одиночество боль­ шевизма во всем мире, полная безнадежность сговора Сталина с кем бы то ни было, полная изоляция и Сталина и Коминтерна, и ГПУ, и той же Красной Армии, пока она остается Красной Арми­ ей, тем быстрее и тем успешнее будут созревать предпосылки для внутреннего переворота. Двухмиллионному русскому зарубежью, рассеянному по всему зем­ ному шару, мы не можем предъявлять требований наших воинствен­ ных шпаргалок. Отдельные лица, может быть и группы лиц, находя­ щиеся в особых психологических, материальных, географических и прочих условиях, могут ваять на себя и задачу непосредственной борь­ бы. Но они будут исключениями, которых масса в большинстве случа­ ев не может и поддержать. Такая работа не может говорить о себе пуб­ лично, ибо о ней будут знать и те, кому надо, и те, кому не надо. Но перед всей, всей почти без исключения, русской эмиграцией стоит другая задача, в данный момент не менее важная, вполне исполнимая и чрезвычайно конкретная. Вот она. Послесоветская Россия вынырнет из большевистского пожари­ ща в виде массы, очень сплоченной в одном отношении и совер­ шенно аморфной в другом. Эта масса будет сплочена — точнее го­ воря, она уже сплочена общностью переживаний и общностью на­ строений. Это будет сто пятьдесят — сто семьдесят миллионов лю­ дей, находящихся на таком умственном уровне, на каком никогда и нигде не находился еще ни один народ. Это будет масса, зака­ ленная, как рессорная сталь, — не как хрупкая сталь быстрорежу­ щих инструментов. Она выработала в себе невероятное упорство, или, точнее, то качество, которое по отношению к стали определя­ ется термином “вязкость”. Эта масса привыкла к невероятной за­ трате энергии, ибо каждый шаг советской жизни требует проявле­ ния этой энергии — иначе люди гибнут. Но эта масса не имеет и не может иметь никакой, я бы сказал, рабочей идеи — как в науке бывают рабочие гипотезы. Общие идеи у нее будут. И эти общие идеи почти целиком сов­ падают с нашими. Именно поэтому штабс-капитан окажется своим человеком. Это я гарантирую категорически. Надеюсь, очень неда­ 44 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век леко то время, когда штабс-капитаны смогут проверить на деле правильность моей гарантии. В числе общих идей будут, как нечто безусловное, следующие: национальное единство России (то же “ни пяди земли”, но только после большевиков), соци­ альная справедливость (мужику — землю, рабочему — профес­ сию, никаких ни сословий, ни каст). Самой основной целью всего строительства явится хозяйственное строительство — в этом совершенно правы штабс-капитаны, приславшие мне письмо за подписью П. Азанчеева (см. “Нашу газету” № 2). Не­ сомненно — возрождение православия с какими-то мне еще не­ известными, но, конечно, не догматическими поправками. Не­ сомненно, полная изоляция еврейства — антисемитизм в самых последовательных формах. Не будет никакого спора между принципами республиканской и единоличной власти. Наши де­ мократы могут даже и не рыпаться — не стоит! Но в пределах принципа единоличной власти, вероятно, будет спор между мо­ нархией и диктатурой: между единоличной властью, традицион­ ной и наследственной, и такой же единоличной властью реши­ мости, таланта, а может быть, и гения. Здесь возможен компро­ мисс по типу итальянского. Наконец, правящий слой, который я здесь называю служилым слоем и на который, по моей терми­ нологии, будет возложена государева служба, там именуется технократией. Разница не только в термине, но и в некоторых оттенках. Я буду стоять за свой термин. Думаю, что он победит. Как провести грань между технократией, бюрократией и жидократией? Термин государевой службы вводит моральный фак­ тор, и мужику он понятен. Мужик же будет решать все. Вот то общее, чем мы будем располагать. Дальше начинается неизвестность. Советские люди не могут рассеять этой неизвест­ ности. Люди распылены в человеческую пыль. Каждый думает очень много, но думает только про себя. Обмениваются мыслями только с самыми близкими, то есть с людьми, находящимися в кругу того же жизненного опыта, тех же переживаний и тех же знаний. Нет никакой возможности обобщить даже и этот опыт. Наглухо заколочен опыт всего мира. Неизвестны ни усилия амери­ канского “мозгового треста”, ни план де Манна, ни организация фашистской Италии, ни тем более рождение национал-социали­ стической Германии. От всего этого остается оскаленная карикату­ ра “кровавого фашизма”, и под этой карикатурой советские люди могут разглядывать все что им угодно и догадываться о всем что им угодно. Но знать — не знают ничего. Неизвестны ни поиски современной политической мысли, ни усилия современной фило­ Работа штабс-капитанов 45 софии, ни новые методы хозяйствования, ни новое оформление старой национальной идеи. Ничего это неизвестно. Неизвестно и еще многое. ШТАБСКАПИТАПЫ И ШКРАББІ Из общей сложности, невероятной запутанности проблем на­ шего национального возрождения я возьму только одну — народ­ ное образование. И из этой проблемы я возьму только одну част­ ность — среднюю школу, то есть школу, в основном выковываю­ щую подрастающее поколение служилого слоя. Я не буду идеализировать старых гимназий. Они были не очень плохи, но, во всяком случае, и не очень хороши. Они могли быть и должны быть гораздо лучше. Но и этот несовершенный аппарат среднего образования разбит вдребезги, без остатка. Программы средней школы судорожно метались между общим образованием, дальтопланом, политехнизацией, комплексом, политизацией и черт знает чем еще. Старые преподаватели вымерли. В новой препода­ вательский состав влилось процентов пять идейных работников пе­ дагогики и процентов девяносто пять самых что ни на есть отбро­ сов — полуинтеллигенции и даже четвертьинтеллигенции. В школу пошло все худшее (не морально, а интеллектуально), как в армию пошло все худшее — тоже не столько морально, сколько интеллек­ туально. Школьный работник, пресловутый и злополучный “шкраб”, — загнанное, забитое, неграмотное и нищее существо, безраздельно подчиненное любой активистской сволочи, запуган­ ное до потери сознания всякими уклонами в преподавании не только истории, но даже и математики, окруженное доносами со стороны школьного и пионерского актива и совершенно беззащит­ ное против всяких уездных держиморд. Этот шкраб в среднем не знает ровно ничего. Он не знает, как нынче поставлено преподавание в национал-социалистической Германии, в фашистской Италии и даже в демократической Аме­ рике. Я не буду утверждать, что он убежден в превосходстве совет­ ской школы над остальными школами мира. Но лучшего он не знает ничего. Он не знает даже старой школы. Он не знает и того, что наша школа, при всех ее недостатках, во многих отношениях была впереди всех школ мира, что женская школа была вообще впереди всех школ мира. Ну и так далее. Сотни тысяч людей, так или иначе связанные со школьной жизнью в СССР, после того как в этот СССР будет вбит оконча­ тельный кол, окажутся в положении полной растерянности: чему 46 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век учить и как учить? Ничего этого они знать не будут. Высшее школьное руководство Москвы вообще не годилось никуда, да и то разгромлено. Остатки от этого разгрома — в большинстве пар­ тийные остатки — они будут ликвидированы или нырнут в неиз­ вестность, чтобы вынырнуть где-нибудь в Ашхабаде в роли чис­ тильщиков сапог. Так вот, что мы можем сделать при этом неиз­ бежном стечении обстоятельств? Педагогических кадров в эмиграции почти нет. Те, что есть, в большинстве, к сожалению, немного стоят. От 1917 года они ша­ рахнулись приблизительно к 1817 году — такой процесс, впрочем, пережила и значительная часть эмиграции вообще. Законный кон­ серватизм и вполне законная реакция против оплевывания всего русского выродилась в какую-то закостенелую архаичность. Это очень опасная болезнь эмиірации. Но, конечно, и среди эмигрантских педагогов найдутся люди широкой педагогической мысли и культуры. В числе наших штабскапитанов, тех, которые не смогли получить никакой законченной квалификации, имеется какой-то процент, вероятно под девяно­ сто, который ни при каких мыслимых условиях к военной профес­ сии не вернется, — об этом намекает генерал А. В. Туркул в ново­ годнем номере “Часового”. Но среди этих штабс-капитанов есть очень много людей, которые даже за рулем такси изучали русское прошлое, у которых осталось то, что чрезвычайно будет важно для грядущей русской школы, — чувство патриотизма и дисциплины (это давала военная школа, но этого не давала гимназия). У этих людей имеется общий культурный уровень, неизмеримо превы­ шающий уровень советского шкраба. Попробуем помечтать... Допустим, что из нескольких десятков тысяч штабс-капитанов нам удалось бы собрать, скажем, только пятьсот человек. Собрать, конечно, не физически, в одном месте, а духовно — в одной работе. Эти пятьсот человек должны рассмат­ ривать себя не как будущих командиров полков, а как будущих ди­ ректоров гимназий — это не утопия, а реальность. Эти пятьсот че­ ловек за время, оставшееся перед ними в эмиграции, ознакомятся лично со школьным опытом тех стран, в которых они живут. Вспомнят свой старый школьный опыт. Сядут за педагогическую литературу, в том числе и советскую, ибо в ней хоть немного, но все-таки отражается нынешнее положение советской школы и со­ ветских школьников. И вот, путем взаимной переписки — и непо­ средственно, и через некий штабс-капитанский шкальный центр — выработают некоторые основные положения возрождения русской школы из советского кабака. Допустим, что все это будет сделано Работа штабс-капитанов 47 очень несовершенно и очень кустарно. Но ведь там после больше­ виков не будет и этого! Работа такой школьной іруппы — на пер­ вое время по крайней мере — не будет иметь никакой конкуренции. Партийная верхушка исчезнет. Шкраб, растерянный и обалделый, будет рад всякому толковому указанию. Если это указание на фоне обшей аморфности и распыленности будет дано от имени какойто, пусть и небольшой, организации, оно получит характер непре­ рекаемого авторитета. Этот авторитет может быть поддержан педа­ гогической литературой, и переводной, и оригинальной, которую мы должны или подготовить, или хотя бы наметить уже и здесь. Что будет знать этот шкраб о работе старой русской школы, совре­ менной германской и американской? Ничего не будет знать. Кто ему об этом расскажет? Кроме вас, господа штабс-капитаны, рас­ сказать некому. Просто некому — и больше ничего. 2 Я еще раз повторю свою основную мысль. Та работа, о которой я в этих статьях говорю, не находится ни в каком противоречии с активной антибольшевистской работой сегодняшнего дня. Подго­ товка эмиграции к будущему служению России не заменяет и не отменяет необходимости и сейчас, в данный момент, всеми имею­ щимися в нашем распоряжении способами вести борьбу против большевизма. Об этих способах писали слишком много, и я не бу­ ду повторяться, — тем более что наиболее действенные способы печатному обсуждению не подлежат. Подготовительная работа для будущего не должна заслонять ак­ тивной борьбы в настоящем. Простите за повторение одной и той же мысли. Но я боюсь, что здесь может повториться старая исто­ рия с РОВС. Я веду борьбу не против РОВС, а против его руко­ водства. Я это повторял раз двадцать пять, но даже и это не поме­ шало паки и паки обвинять меня в борьбе с РОВС вообще. Неко­ торые вещи приходится повторять весьма неоднократно. В предыдущей статье я дал пример только одной из линий под­ готовки будущего служилого слоя. При большом запасе скромно­ сти можно утверждать, что служилого слоя из наших штабс-капи­ танов не выйдет, и что максимум, на который можно рассчиты­ вать, — это на подготовку нескольких сот, а может быть и тысяч культурных специалистов. Специалисты же эти все равно уже име­ ются в эмиграции. Так что “готовить” к чему-нибудь И. И. Сикор­ ского есть предприятие вздорное. При крайнем оптимизме можно 48 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век предположить, что зарубежный штабс-капитан может стать основ­ ным стержнем государственного строя будущей России. Я не вижу никаких ни принципиальных, ни практических дово­ дов против теории крайнего оптимизма. Наш век очень богат вся­ кого рода эмиграциями. Была чешская эмиграция, которая верну­ лась на родину во главе с Массариком, Бенешем и Крамаржем и организовала государственный строй Чехословакии по своему разу­ мению — по крайней мере до Мюнхена. Был в эмиграции и Мус­ солини. Пилсудский со своими полковниками тоже был в эмигра­ ции — даже и в тюрьме, круто ломал свою внешнеполитическую ориентацию и все-таки пришел к власти. Именно он и его полков­ ники определили политический строй Польши и сколотили ее пра­ вящий слой. Был в эмиграции Хорти. Был в эмиграции даже и Ле­ нин. Таким образом, теория крайнего оптимизма имеет под собою достаточно прочные исторические предпосылки. Можно утвер­ ждать, что в послереволюционные годы власть, как правило, при­ ходит из эмиграции. Можно утверждать также, что русская эмигра­ ция — явление беспримерное в истории мира, как по количеству, так и по качеству этой эмиграции. Потрясающая политическая слабость этой эмиграции, как мне кажется, объясняется только од­ ним: старый правящий слой слишком долго засиделся на ее верхах. В результате этого все наиболее энергичное и талантливое от поли­ тической работы вообще ушло. Почти во всех областях человече­ ской деятельности наше зарубежье имело или имеет мировые име­ на: Шаляпин, Бунин, Лифарь, Туржанский, Юркевич, Сикорский, Ипатьев и очень, очень много еще. Но мы ленивы и нелюбопыт­ ны. Этим нелюбопытством грешны, впрочем, все мы. Грешны и наши “имена”. Игорь Иванович Сикорский раза три обещал мне дать свои воспоминания о том, как в Америке не верили, что он именно тот Сикорский, а не самозванец, как он работал в шахтах и как собирал свой первый американский самолет. Придется пи­ сать самому. Итак, зарубежье имело и имеет: Шаляпина — первого певца в мире, Лифаря — первого балетмейстера в мире, Сикорского — первого авиаконструктора в мире и целый ряд других имен, о ко­ торых еще можно спорить, то ли они занимают первое место, то ли, допустим, третье. Согласитесь сами, что наши политические имена ни в какой степени не находятся на уровне вот этих людей. Сикорский — это самое последнее слово авиационной мысли. По­ ставьте рядом с ним генерала Архангельского, и все остальное бу­ дет вам совершенно ясно. А из всех организаций зарубежья РОВС является самой влиятельной. И РОВС в течение двадцати лет ни­ Работа штабс-капитанов 49 как не может решить: то ли ему заниматься политикой, то ли не заниматься, то ли признать принцип монархии, то ли не призна­ вать, то ли дать землю мужику, то ли не давать — вот и получилась дыра. Нынче эту дыру наспех, перед самым шапочным разбором, пытаются заткнуть кто чем может, в том числе и я: ежели не за­ ткнуть, то эмиграция как общественно-политическая сила потонет. Это, кажется, довольно простая мысль и довольно очевидная, но вот пойдите вдолбите. Я этим никак не хочу утверждать, что зарубежные русские уче­ ные, конструкторы, инженеры, врачи, артисты, аірономы и прочие и прочие не будут нужны России даже и в том случае, если они не выработают никакой национальной политической программы. Ко­ нечно, будут нужны. И. И. Сикорский будет нужен при всяком мыслимом стечении обстоятельств. Будут нужны и другие. Но если они не будут объединены единством хотя бы элементарнейшей идейной программы, они окажутся распыленными, они попадут в положение своеобразных послесоветских “спецов”, оторванных от процесса национального возрождения великого народа. Им не бу­ дут платить. С ними не будут считаться. Они не принесут в Россию того самого важного, в чем Россия сейчас нуждается больше всего. Подготовительная работа зарубежья может быть, в самых грубых чертах, разбита на две части. Одна часть — это наша общая идейная установка. Ее нужно оформить и закрепить. В ней не должно быть места никаким двусмысленностям, никакому непредрешенчеству. Нужно идти или за монархию, или против монархии — третьего не дано, и всякие оговорки только путают карты. В тесноте нашей бе­ женской жизни много вопросов может быть запутано случайностями вот именно этого беженского бытия. Но и здесь, в эмиграции, мы должны твердо установить свою регулятивную идею. Да, могут быть всякие извивы и загибы исторических событий, но сквозь все это мы будем стремиться к восстановлению российской Монархии. И об этом стремлении мы должны сказать русскому мужику прямо и ясно — без всяких “постольку-поскольку”. Нам нужна полная определен­ ность в земельном, рабочем, национальном вопросе, и эту опреде­ ленность мы должны зафиксировать точно, черным по белому, а не месить еще двадцать лет болото непредрешенчества с его совдепским “постольку-поскольку”. Думаю, что “Наша газета’ , не­ смотря на все упреки в отсутствии “положительной работы”, вот именно эту работу, весьма положительную и насущно необходи­ мую, в общем все-таки проделала. Выковала некое единство миро­ ощущения без всяких “постольку-поскольку”. 50 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Дальше начинается вторая часть, для нашего российского ха­ рактера, может быть, самая трудная: черновая подготовительная работа. Ни первой, ни второй части в России сделать некому. Как, например, распорядиться с совхозами? С колхозами? С крупной и мелкой промышленностью? С самоуправлением? С еврейством? Таких вопросов в России обсуждать нельзя. Обсуждать публично и соборне можем только мы, больше некому. Сговариваться можем только мы — больше некому. После крушения коммунизма страна окажется на некотором распутье. В этот момент нужно ей дать ка­ кую-то бесспорную для большинства, элементарнейшую, скажем больше, грубо-утилитарную программу. Точнее, две программы. Одну, говорящую о постройке всего здания Российской империи, и другую — о сооружении временных бараков на месте этой буду­ щей стройки. Одну — о праве на землю вообще и другую — о том, что делать с землей в ближайшие два-три года и что делать с зем­ лей для десяти-двадцати миллионов концпагерников, ссыльных и прочих вольных и невольных переселенцев. Если мы сумеем офор­ мить и нашу регулятивную идею, и ряд наших технических про­ грамм, мы автоматически явимся решающей силой стройки буду­ щей России. Нет никаких принципиальных препятствий. Есть только вопрос о том, сумеем и успеем ли. Наша проірамма должна быть ясна и проста. Она должна быть выражена ясным и простым языком. Она должна исходить из ис­ тории нашей Империи — самой древней в современном мире, и из нашего национального единства, которое мы создали раньше всех современных государств, за исключением, может быть, Франции. Она должна исходить из тех процессов, которые с исторической неизбежностью назревали в предреволюционные годы, из пережи­ ваний, опытов и сдвигов революционных лет и из ныне сущест­ вующего объективного положения вещей. Эта программа должна быть нашей руской программой. У нас слишком большой истори­ ческий опыт, и у нас нет никакой необходимости списывать чьи бы то ни было чужие программы. Нам еще очень много придется брать технического опыта Запада (гораздо меньше, чем это было до войны), а по поводу западноевропейского идейного багажа еще нужно подумать. Большевистская революция изуродовала нормальный рост на­ циональной жизни. Одни процессы она ускорила в несколько раз, другие затормозила, третьи обострила до состояния перманентной гражданской войны. Одним из неизбежных, исторически обуслов­ ленных, процессов была постепенная смена старого правящего Работа штабс-капитанов 51 слоя. Эта смена, в частности, выражалась в непрерывном оскуде­ нии дворянства. За десятилетие с 1905 по 1916 год площадь кресть­ янской земли выросла с 172 миллионов гектаров до 216 миллио­ нов. Помещичьи земли за тот же период времени уменьшились с 82 до 62 миллионов. Если предположить, что этот темп перехода земли от дворянства к крестьянству продолжался бы без револю­ ции, то в 1926 году дворянство имело бы только около 40 миллио­ нов гектаров, а в 1936-м не имело бы ни клочка. Это есть цифро­ вой показатель перенесения национального экономического цен­ тра тяжести. Революция бешеным темпом и кровавым грабежом ускорила этот процесс оскудения дворянства с тем, чтобы в эпоху коллективизации отобрать земли у крестьян и перевести всю стра­ ну на крепостное положение. Я привожу этот пример исторической неизбежности только как од­ ну из иллюстраций к тому процессу, который развивался во всех об­ ластях народной жизни. И этой иллюстрацией я очень хотел бы пре­ дупредить наше зарубежье от той архаичности, которая проглядывает и в программах, и в стиле, и в воспоминаниях, и в литературе, и паче всего во вздохах. За этими вздохами и за этим стилем скрывается со­ циально-политическая реакция. Она скрывается и в боязни смотреть в лицо будущему, скрывается и в том же непредрешенчестве, в отсутст­ вии живой политической мысли, в безоглядной идеализации всего прошлого, в этаком квасном патриотизме. Для квасного патриотизма существует только Святая Русь — остается только кричать осанну. Грешной Руси нет вовсе, и каяться совершенно не в чем. О Руси глу­ пой не подымается даже и вопроса. А ведь было все — была и Святая Русь, была и грешная Русь, была и глупая Русь. Был старец Зосима, но были и Базаров и Раскольников. Был, кроме того, и Акакий Ака­ киевич. Был Рымник, но была и Цусима. Квасной патриотизм ничего, кроме славы, не видит. Квасной патриотизм оставляет или пытается оставить нас на уровне если не каменного века, то кремниевых ружей. Квасной патриотизм пытается отнять у нас возможность использова­ ния самого сильного оружия: честного учета ошибок и слабостей на­ шего прошлого. Прошлое окрашивается под стиль сплошной “уры”, простите за родительный падеж. В большинстве случаев эта “ура” зву­ чит чрезвычайно великолепно. В качестве одного из образцов такого великолепия я позво­ лю себе привести полностью статью полковника Одынецкого в № 46 “Сигнала”*. * См. статью полковника Одынецкого “Выше голову” в “Нашей газе­ те” № 15. — Примем, изд. 52 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Прочтите ее. Она написана очень искренне и очень ярко. Она блещет полным отсутствием каких бы то ни было мыслительных усилий. Так, как будто мы, русское зарубежье, переживши за по­ следнюю четверть века черт знает что, являемся двухмиллионной группой новобранцев, которых надо воспитывать в соответствую­ щем направлении. С точки зрения полковника Одынецкого все об­ стояло замечательно великолепно. Самое, может быть, великолеп­ ное — это похвала почтенного французика Ларусса1 в воздаяние за проигранную кампанию. Да, проиграли войну, но зато Ларусс по­ хвалил — какая честь! Тот самый Ларусс, который о Суворове пи­ сал: “Un general russe assez habile mais sans scrupules. Battu par Massena”... Совершенно непотребными потерями выиграли войну против азиатской Турции, потом проиграли японскую, потом про­ играли мировую, потом проиграли гражданскую, и сейчас сидим в дыре. Как будто бы все это абсолютно бесспорно. Полковник Одынецкий согласен с тем, что были ошибки — очень уж много их было. Но он не согласен с тем, что был позор. Трудно сказать. Ме­ жду мировоззрением военного ведомства и мировоззрением всей страны есть все-таки некоторая разница. Проигрыш Крымской кампании вся страна восприняла как позор. Для всей страны Ковно было позором. Позвольте уж нам, отбросив в сторону всякие ведомственные традиции и всякие ведомственные самолюбия, по­ заботиться о том, чтобы такого позора нам в будущем переживать не пришлось. Анализируя причины наших поражений, мы не име­ ем права считаться ни с какими ведомственными самолюбиями, в том числе и с военно-ведомственными. И никакого мыслящего че­ ловека громогласное “ура” полковника Одынецкого ни в чем ре­ шительно не убедит. Полковник Одынецкий совершенно безна­ дежно путает дух армии, традицию армии и организацию армии. Дух армии — это просто-напросто производное от русского народ­ ного духа. От духа, по-видимому, наиболее боеспособного народа в мире. Традиция армии складывается и из суворовской традиции, которую нельзя оставить такою, какая она нам была известна: ее нужно изучить, поднять, сделать знакомой каждому русскому му­ жику и каждому русскому рабочему. Это есть традиция величайше­ го полководца мира, единственного полководца, который в девя­ носто трех своих сражениях не потерпел ни одного поражения. Но куропаткинских традиций мы возрождать не будем. Традиция ар­ мии, в том числе гвардии, была основана на сословном принципе, который не может быть возрожден. Традиционный цук Николаев­ ского училища не может быть возрожден. Традиционный, остав­ шийся от крепостных времен, разрыв между солдатской и офицер­ Работа штабс-капитанов 53 ской массой не может быть возрожден. С рутиной, косностью и бюрократизмом, которые вошли в традицию организации армии, мы будем бороться всеми доступными нам средствами. Традиции должны быть пересмотрены. Традиция касты должна быть разру­ шена: и касты, и сословия должны быть заменены корпоративным принципом. Ни в каком случае страна не может допустить того, чтобы в какой-то еще неизвестной нам войне героическая русская армия, составленная из героических русских офицеров, мужиков и рабочих, снова пошла в бой, вооруженная худшим оружием, чем ее противники. Все это нужно пересмотреть и передумать. И полковник Одынецкий, вместо того чтобы кричать “ура” перед во­ ображаемыми новобранцами, сделал бы во много раз лучше, если бы он ясно сознал свой долг профессионального военного, долг военной интеллигенции вообще, и сказал бы нам, на основании своего опыта, что именно мы должны стараться оставить из всей той суммы слагаемых, которые создают боеспособность армии, что мы должны отбросить, как явно непригодное. Но полковник Оды­ нецкий предпочитает провозглашать нечленораздельное “ура”: все было замечательно великолепно. Если мы обратимся к представи­ телям других ведомств, то мы увидим, что в каждом из этих ве­ домств тоже все было замечательно благополучно. Если и были ошибки, то ошибки были только в соседних ведомствах. И если все это великолепие вы сложите в одну общую сумму, то окажется совершенно непонятно: откуда поражения и откуда дыра? С ошибками в ведомстве учреждений Императрицы Марии можно и мириться: Аллах с ними. Благородные девицы могут приседать и так и этак, правильно или неправильно оперировать subjonctif, от этого ничего не меняется. Более тяжелы ошибки церковного или школьного ведомства, но и они не ставят под угрозу жизнь страны. Ошибки ар­ мии — мы знаем уже, чем они оплачиваются... И если мы будем говорить о национальной гордости — то да­ вайте будем говорить откровенно. Без всяких “ура”, без “шапками закидаем”, без гвардейского патриотизма: нация гордится мно­ гим — и поэтами, и учеными, и столицами, и усадьбами, но по-на­ стоящему она гордится только армией. Сейчас армия перестала быть кастой и стала вооруженным народом. Народ — и вооружен­ ный, и невооруженный — хочет видеть свою армию и доблестной, и героической, и все такое, но прежде всего он хочет видеть свою армию непобедимой. Значение армии — это победа. Если победы нет, все остальное имеет второстепенное значение. Или не имеет никакого значения. Или имеет вредное значение. Многие из тра­ диций старой армии были вредными традициями. Люди, отстаи­ 54 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век вающие прошлое во всей неприкосновенности его поражений, со­ вершают вредную работу. Они мешают устранить те препятствия, которые лежали на пути к непобедимости армии. Полковник Одынецкий, несмотря на всю искренность, совершает едва ли не по­ лезную работу. Вредную работу совершают те, кто борется против попыток осознать, продумать и объяснить причины наших пораже­ ний и нашей нынешней катастрофы. Пример полковника Одынецкого я привожу как самый свежий, может быть, и самый яркий. За этим примером тоже стоит своеоб­ разная традиция. Традиция, пожалуй, катастрофическая. Она сво­ дится к следующему. Охранительная тенденция истории России охраняла то, что в этой истории было проверено веками. В формуле, на которую наши либералы вылили бесконечное количество грязи, это зву­ чало так: за веру, царя и отечество. Но охранительные тенден­ ции впали в косность. Национальные элементы России оказа­ лись хуже вооруженными, чем элементы разрушения, — точно так же, как наша армия в течение всего столетия оказывалась вооруженной хуже, чем ее противники. Идея революции захва­ тила всю печать и проникла в народные массы. Бердичевский фармацевт оказался вооруженным самым современным орудием политической аргументации, в распоряжении штабс-капитана не оказалось почти никаких аргументов. Бердичевский фарма­ цевт мог разъезжать в первом классе международного вагона, а “нижний чин” — защитник Родины и все такое, не имел права ездить в трамвае. Идейная работа за веру, царя и отечество в душе этого нижнего чина велась, с одной стороны, фармацев­ том и с другой стороны, штабс-капитаном. Силы были неравны. Идейная борьба за веру, царя и отечество отступила в казармы, в полицейские участки, в казенные проповеди церковного ве­ домства. Идейная борьба против веры, против царя и против отечества захватила и кафедры, и газеты, и университеты, и сельских учителей, и семинаристов из духовного звания, и ар­ тистов из Художественного театра. Честно отсиживались: мужик и штабс-капитан. И тот, и другой оказались невооруженными. Наша задача заключается, в частности, в том, чтобы для нашей и нынешней, и грядущей борьбы за веру, царя и отечество мы бы­ ли бы вооружены самым современным оружием: и идейным, и ог­ нестрельным, и организационным, и агитационным, и каким хоти­ те еще. Всякий человек, который станет утверждать, что во всех этих отношениях мы были вооружены хотя бы только удовлетвори­ тельно, говорит, может быть, лестную, но заведомую ложь. Он ме­ Работа штабс-капитанов 55 шает нашему перевооружению. Он, следовательно, готовит нам очередное поражение. Красивые, пряничные сказки о прошлом — это опасная вещь. Они могут быть, очень сладкими, и эти пряники, и эти сказки. Но они лживы. В лихорадке нашей катастрофы нам нужна хининная горечь правды. 3 Я пока оставляю в стороне идейно-творческую работу, то есть работу по творчеству и оформлению тех новых идей, на которых неизбежно будет строиться наша страна. Может быть, в этой рабо­ те, в самом стержне ее, будет гораздо больше оформления, чем творчества. Грядущие пути России определяются целым рядом не­ избежностей, и здесь нужно говорить не столько о творчестве, сколько о попытках уловить эти неизбежности и следовать по их путям. Это и есть основная мысль книги*, над которой я работаю: попытки уловить эту неизбежность и сформулировать ее со всей доступной ясностью и яркостью. Может быть, всю мою работу следовало бы начать с этого. Книга М. 3. Никонова-Смородина о земельном вопросе в Рос­ сии ставит вопрос в совершенно той же плоскости: что есть в этой проблеме неизбежного и как мы можем помочь наиболее безболез­ ненному рождению в мир этой неизбежности. Никонов-Смородин намечает ряд конкретных путей для наших зарубежных штабс-ка­ питанов. Мы с ним не сговаривались. Тем характернее то почти полное совпадение умонастроений, которое имеется у всех нас, мыслящих и недавних подсоветских людей. В частности, М. 3. Ни­ конов-Смородин берет на себя, пока только принципиально, рабо­ ту по организации штабс-капитанского земельного центра. Эти центры, по моей мысли, должны быть сконструированы так. Мы здесь, в эмиграции, имеем целый ряд специалистов, ве­ роятно, по всем областям народной жизни. Иногда эти люди являются очень крупными специалистами. Иногда они теорети­ ки — иногда практики. Кроме них, есть огромная масса людей, которые, не являясь специалистами, или работают в данной об­ ласти, или хотят работать. Возьмем для примера вопрос о народном образовании, которого я коснулся в своей первой статье о штабс-капитанской работе. До­ пустим — несколько забегая вперед, — что у нас уже есть та ос‘Белая Империя”. — Примеч. изд. 56 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век новная идейная база, на которой, по нашему мнению, должна быть построена будущая народно-образовательная работа. По существу эта база, еще неоформленная или плохо оформленная, у нас уже есть: России нужно поколение, воспитанное на прин­ ципах религии, государства, нации, семьи, уважения к труду и к собственности как к результату труда. Поколение, воспитанное на принципах не разрушения, а творчества. Поколение, “воору­ женное самым современным оружием”, максимально трениро­ ванное и умственно, и душевно, и физически. Конечно, все это нужно сформулировать точнее. Допустим, что мы найдем или нащупаем человека или группу людей, которые возьмут на себя практическую разработку конкрет­ ных методов народного образования — и низшего, и среднего, и высшего, общего и специального, школьного и внешкольного. Эта группа, этот школьный центр, должен связаться со всеми людьми нашего рассеяния, которые или работают, или интересуются, или хотят работать и интересоваться вопросами народного образова­ ния. Как только вы, хотя бы поверхностно, познакомитесь с этой областью, сейчас же возникнет целый ряд отдельных проблем, ко­ торые будущей России неизбежно придется решать. Проблемы эти будут и широкого, так сказать принципиального характера, напри­ мер вопрос о религиозном воспитании в школе, вопрос о совмест­ ном или раздельном обучении мальчиков и девочек, вопрос о со­ вмещении дисциплины с индивидуальностью и прочее в этом роде. Возникнет и ряд других вопросов, более узкого характера. Следует ли нам отдать физическому воспитанию ту подавляющую роль, ка­ кую оно имеет в англосаксонских странах, или взять французский уклон в классицизм и гуманитаризм? При конечной детализации этих вопросов мы дойдем до методики преподавания разных пред­ метов в разных школах и разных странах. У нас накопится огром­ ный материал. Наш школьный центр должен этот материал сумми­ ровать и создать из него нечто вроде схематических программ. Программы эти, конечно, не могут быть полны и не будут полны. Но если они, хотя бы только на первое время, хотя бы и не полно­ стью, заткнут ту вопиющую дыру в народном образовании, с кото­ рой нам придется иметь дело после большевиков, — то и это будет для России неоценимой услугой. К сожалению, область педагогики относится к числу тех, в ко­ торых русская эмиграция очень слаба. Русских школ почти нет. В иностранные школы русских людей по разным причинам не пуска­ ют. Наш зарубежный опыт, опыт чисто русских школ, по-видимому (я в этом не совсем уверен), имеет очень мало ценного. В рус- Работа штабс-капитанов 57 ской зарубежной школе, как, впрочем, и во всех делах нашего за­ рубежья, получается очень неблестящий переплет. Если школа на­ циональна, то она архаична до полной неприспособленности к со­ временной жизни. Если школа более или менее приспособлена, то она находится под либерально-еврейским влиянием. И в одной, и в другой, в каждой по-своему, калечат подрастающее русское по­ коление. В одной школе его воспитывают неприспособленным тех­ нически, в другом — неприспособленным идейно. В аграрной области наше положение значительно лучше. Почти во всех странах мира, по преимуществу в Чехословакии, Югосла­ вии и Болгарии, много русской молодежи окончило сельскохозяй­ ственные школы — и средние, и высшие. Много людей, в особен­ ности во Франции, осело на землю. Очень значительная масса са­ мой разнообразной русской эмиграции занята на сельском хозяй­ стве в Северной Америке, — и в Канаде, и в Соединенных Штатах. Есть русские агрономы и на Аляске и в Африке. М. 3. НиконовСмородин в своей книге захватывает по преимуществу юридически организационную сторону будущей сельскохозяйственной жизни в России, но он только мельком говорит о тех основных технических задачах, которые будут поставлены в, так сказать, общероссийских масштабах: повышение урожайности, использование машиннотракторных станций, улучшение поголовья. Однако помимо этого перед Россией встанет ряд других проблем, не очень второстепен­ ного свойства. Я попытаюсь перечислить некоторые из них. На первом месте стоит борьба с суховеем, борьба с засухой или, говоря более широко, борьба со среднеазиатскими песками. Теоре­ тическая мысль подсоветской России сделала уже очень много в этом направлении. Практически из этой борьбы не получилось почти ничего. Был намечен целый комплекс мероприятий: плоти­ ны на Волге, искусственное орошение левобережья, облесение, за­ сухоустойчивые растения. На, так сказать, крайнем фланге этих проектов стоит искусственная ионизация воздуха (еще Д. Менделе­ ев предвидел, что таким путем можно вызвать дождь), солнечные машины для добывания колодезной воды и даже регулировка тая­ ния памирских ледников. Из всех этих проектов, кроме обычной большевистской халтуры, не вышло ровно ничего. Но среди них есть не только утопические проекты. Очень возможно, что те рус­ ские люди, которые сейчас работают в области сельского хозяйст­ ва, например, в Африке, могут собрать чрезвычайно ценный опыт в деле освоения пустыни. Вспомните рассказ о селе Устиновке 58 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век “марокканского уезда”, помещенный в № 14 “Нашей газеты”. Там очень мельком говорится о том, как группа русских офицеров обосновалась в африканской пустыне и процветает там. Там, в “марокканском уезде”, те же “лесовые красные пески”, как у нас в Закаспийской области, тот же климат и то же отсутствие воды. Устиновские переселенцы собираются ехать “только в Россию”. Вот пусть в эту Россию они привезут свой опыт, и пусть этим опытом они поделятся с русскими людьми и по ту, и по эту сторону рубе­ жа. А сколько таких людей, нам еще неизвестных, копается в чу­ жой земле и тоже мечтает о России. Разве не будет с нашей сторо­ ны преступлением, если их опыт — в большинстве случаев тяже­ лый, а иногда и мучительный — так уж бесследно пропадет для на­ шей будущей стройки? Не будем скромничать зря: вопросы о борьбе с суховеем, с засухой и с песками касаются территории, превышающей терри­ торию Германии приблизительно в восемь раз. Есть и другой вопрос, который касается территории, равной почти половине России. Пояс вечной мерзлоты захватывает 47 процентов всего пространства СССР. И здесь подсоветская мысль пыталась поставить вопрос об использовании для человеческой жизни этой гигантской территории. И здесь из этих попыток, кроме халтуры, не получилось почти ничего. Вспомните те приполярные огурцы, которые управление Беломорско-Балтийским лагерем разводило около Медвежьей Горы. Но кое-что все-таки сделано. Основан Игарский порт, который нам все-таки понадобится. Организовано несколько сот звероводческих ферм, из которых большинство по­ гибли от той же пресловутой бесплановости и бескормицы, от ко­ торой гибнут не только горностаевые соболи, но даже бараны и свиньи. Но кое-что осталось. Остался по преимуществу опыт. И по преимуществу горький опыт. Я очень мельком и только из советских источников знаю об американском опыте с нашими северными оленями. В Советской России оленье поголовье вымерло почти все. Товарищи раскулачи­ вали лопарских, самоедских и якутских кулаков, коллективизиро­ вали важенок, устраивали фантастические приполярные коопера­ тивы, которые почему-то обозначались математическим термином “интегральной кооперации”, заводили оленьи молочно-товарные фермы — словом, даже такой неприхотливый зверь, как северный олень, и тот передох. В колчаковские дни американцы вывезли на Аляску около семисот штук северных оленей и на берегах Юкона занялись, оленеводством. Пока товарищи обгоняли и перегоняли Работа штабс-капитанов 59 Америку, на Аляске создана целая отрасль новой сельскохозяйст­ венной промышленности. Один из советских специальных журналов грустно констатиро­ вал тот факт, что американская буржуазия нынче зарабатывает на этих оленях больше, чем она в свое время зарабатывала на джеклондоновской золотой лихорадке. Почтенное советское заведение, Главное управление Северного морского пути, сокращенно име­ нуемое Главсевморпуть, должно, по замыслу советского законода­ теля, разрабатывать весь комплекс мероприятий по освоению севе­ ра. Сюда входит и Северный морской путь, и проект северной же­ лезной дороги, которая должна была пройти приблизительно по шестидесятой параллели, и рыболовство, и звериные промысла, и продвижение на север злаковых растений, но паче всего и прежде всего — передвижка на север всяческого нежелательного в других местах населения. Эту главную функцию главного управления Се­ верного морского пути выполняло Главное управление лагерями ОГЛУ — ГУЛАГ. Игаркой заведует тоже ГУЛАГ. Звероловством, рыболовством и прочими вещами заведует опять же ГУЛАГ. Не­ давний начальник и строитель всей этой “империи ГУЛАГа”, това­ рищ Берман, нынче переведен в почтово-телеграфное ведомство. По некоторым предыдущим примерам можно утверждать, что от почты до подвала один шаг. Пожелаем счастливого пути. Большевизм, надо отдать ему справедливость, умеет ставить не­ которые проблемы. Проблемы и интересные, и нужные. Больше­ вистский лозунг — догнать и перегнать Америку — совсем не пло­ хой лозунг. А почему бы нам в самом деле и не перегнать? На гулагах и кроликах, на стахановцах и расстрелах никуда уехать нель­ зя и никого перегнать невозможно. Но и гулаги, и стахановцы, и расстрелы канут в кровавую яму большевистской истории. Дого­ нять — во всяком случае. Догонять ежели не в рассуждении амери­ канских демократических идей, на которые мы можем и напле­ вать, то в рассуждении американской техники, без которой нам обойтись никак нельзя. Россия имеет почти все климаты мира, за исключением чисто тропического. Россия имеет все формы хозяйства, начиная от форм каменного века и кончая самыми современными заводами. Возможности приложения человеческой мысли и человеческого труда в России практически безграничны. Теоретически безгранич­ ны возможности русского богатства и русской мощи. И богатство, и мощь не создаются по щучьему слову. Они создаются трудом миллионов и миллионов людей, трудом упорным и, главное, ос­ 60 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век мысленным. Осмысленности нашего труда нам очень не хватало в истории нашего развития. По приблизительным подсчетам нашей редакции, в числе на­ ших подписчиков имеется 672 агронома. Это, конечно, не армия, но это очень сильный отряд. Он силен еще и тем, что он разбро­ сан на пространстве всего земного шара. Здесь наша разбросан­ ность перестает быть слабостью и становится силой. Люди разбро­ саны по всем почвам и климатам земного шара. Они могут учесть весь опыт человечества в его наиболее современном выражении. Нет худа без добра. Такого благоприятного случая нам, надо наде­ яться, не представится больше никогда. Давайте использовать этот случай до конца. Не нужно преуменьшать огромных трудностей этой работы — но не нужно и останавливаться перед ними. Всего, что нужно, мы сделать не успеем. Мешает двадцатилетняя общественная спячка эмиграции. Мешает страшное наше безденежье. Мешает разочаро­ ванность эмигрантской массы в каком бы то ни было начинании: столько раз обещали, столько раз обманывали, столько раз проси­ ли денег, которые потом утекли в неизвестно какие дыры. Поме­ шает, вероятно, и краткость срока, оставленного нам историей. Ста процентов мы сделать не успеем. Но если мы сделаем даже де­ сять, то и это не пропадет. Сущность вопроса заключается в том, что эта работа не может пропасть, не может остаться бесплодной ни при каком мыслимом случае. Ни при каком мыслимом случае она не может стать вредной ни для нынешнего зарубежья, ни для будущей России. Всякая кроха знания и опыта, подобранная здесь и принесенная в Россию, будет нужна во всяком мыслимом случае. Сколько именно этих крох мы сумеем и успеем принести — зави­ сит от нас, только от нас и больше ни от кого. Организацию этой работы я схематически представляю себе так. Подбираются люди или группы людей по самым разнообразным специальностям. Например, центры по земельному или школьному вопросу. Эти центры могут находиться в разных странах. Работа их будет носить строго легальный характер, и едва ли следует ждать скорпионов со стороны даже наиболее дружественных наших сосе­ дей. Адрес каждого такого центра сообщается в “Нашей газете”. Центр берет на себя переписку и связь со всеми имеющимися в за­ рубежье людьми, которые желают работать в этой области. В газете отводится место для обсуждения возникающих вопросов. Отдель­ ные темы могут издаваться или в виде брошюр, или в виде книг, или — по очень узким специальностям, интересующим только не­ большой круг людей, — в виде гектографированных листовок. Об- Работа штабс-капитанов 61 Щий штабс-капитанский центр утверждает некоторые основные положения, которые мы будем считать обязательными для всей на­ шей работы. Отдельные центры разрабатывают и утверждают ряд специальных программ и проблем. По этим проблемам и програм­ мам идет дальнейшая подготовка людей, которые собираются спе­ циализироваться в этой области. Ко дню Христова Воскресения России мы можем принести ей какие-то, пусть очень приблизи­ тельно и грубо сформированные, но ясные и точные ответы на во­ просы о том, что нужно делать завтра и послезавтра. Повторяю еще раз: в условиях неизбежного идейно-организационного хаоса послесоветской России такие программы не явятся, конечно, все­ исцеляющим средством, но они явятся теми точками, вокруг кото­ рых будет накристаллизовываться дальнейшая работа России. Я не хочу быть чересчур оптимистичным. На основании четы­ рехлетнего эмигрантского опыта я знаю уже очень много горьких истин. Самая эмигрантская попытка самой очевидно нужной рабо­ ты будет встречена и издевательствами, и штыками, и клеветой, и бойкотом — как до сих пор непроходимым бойкотом встречают “руководящие круги” нашу идею значка “Готов за Россию”. Каза­ лось бы, чего проще и бесспорнее? Казалось бы, уж тут-то никако­ го психологического треста быть не может. Сейчас Германия вво­ дит допризывную подготовку своей молодежи через своих штурмо­ виков (Штурм-Абтейлунг). Эта подготовка основана на том же принципе и примерно по той же программе, что и значок “За Рос­ сию”. Вводится также и значок как таковой. Казалось бы, о чем спорить и зачем бойкотировать? Но вот хоть кол на голове теши. Но отесывать все колья и на всех головах у меня все-таки нет ни­ какой возможности. Эти головы — они давным-давно ничегошень­ ки выдумать не могут. Но у них хватает упорства противостоять каждой свежей мысли и каждой инициативе. Убеждать их в чем бы то ни было — дело, по-видимому, абсолютно безнадежное. При­ дется идти не только мимо этих людей, что было бы не так трудно, придется разбивать их сопротивление, что в наших условиях труд­ но до чрезвычайности. Будет еще труднее и материальный вопрос. Для такой работы нужны люди, которые отдавали бы ей если и не все, то большую часть своего времени. У нас нет людей, которые жили бы процентами с капитала и отдавали бы свободное время бесплатной общественной работе. Необходимость вводить в свой организм какое-то количества белков, углеводов и прочего есть очень прозаическая необходимость, но все-таки необходимость. И есть еще одно: нелюбовь к малым делам. Большинство из нас все ищет “дел исполинских”, щучьих слов, героических подвигов 62 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век или героических поз ниспровержения большевизма на непри­ миримых собраниях или за примирительной рюмкой. Но пуш­ кинский “труд упорный” все еще “тошен”. А дело идет именно о труде, черновом, настойчивом, незаметном труде для будуще­ го нашей Родины. Мне кажется, что организации нашего зарубежья, которые начинают не с труда, а с лозунгов, вот именно поэтому и обре­ чены на полное бессилие. Лозунг — это, конечно, тоже непло­ хо. Но это слишком легко. Это ни к чему не обязывает. Но это почти ничего не создает. Это прежде всего не создает тех кад­ ров, на которые могла бы опереться мало-мальски широкая ор­ ганизация, — и все они виснут в воздухе и болтают в простран­ стве и ногами, и языком. Нам, господа штабс-капитаны, придется выбираться из очень глубокой дыры и делать очень трудное дело. Но если мы начнем его делать, пусть даже и не “самоотверженно”, а просто добросове­ стно и серьезно, — у нас появятся возможности, о каких мы сей­ час и не мечтаем. С нами будут считаться те силы, которые нынче с эмиграцией не считаются никак. У нас будут те пути, которые двадцать лет для русского зарубежья были закрыты наглухо. И са­ мим себе, и иностранцам, и подъяремной России мы должны по­ казать и доказать, что мы являемся огромной культурно-творче­ ской силой, а не человеческой пылью, оторвавшейся от обломков былых крушений. Разных обломков от разных крушений, начиная от Милюкова и кончая Зинкевичем. Наш долг перед Родиной в данных условиях может быть выпол­ нен только трудом. ШТАБСКАПИТАПЫ СОВДЕПИИ КОИСТА ТАЦИЯ И ЭМИГРАЦИЯ Этот иронический подзаголовок взят в, так сказать, разъясне­ ние одной русской газете, которая упрекнула меня в недостаточ­ ном знании русского языка. У меня уже написана статья о русском языке вообще и о русском языке в эмиграции. Там я подробно объясняю, в частности, и “констатацию”, и “типический”, и мно­ гое другое, еще (или уже) не слышное людям, забывающим рус­ ский язык. Приходится объяснять даже иронию. Как-то я сыронизировал над тем, что я-де являюсь в эмиграции “самой крупной величиной”, — вот сколько грязи выливают. Такого рода ирониче­ ским “доказательством от противного” я могу оперировать и сей­ Работа штабс-капитанов 63 час. Нет ни одного органа в эмиграции, который не крыл бы меня и почем зря — но и также почем не зря. “Возрождение” ругает из номера в номер, регулярно и настойчиво: ежели бы у меня было время разыскивать возрожденческие противоречия — я на эту тему мог бы написать даже и две брошюры, — но возрожденческая... кожа выделки не стоит. В последнем номере “Часового” моей од­ ной персоне посвящены целых четыре статьи: чем же, прости Гос­ поди, не “знаменитость”? В последнем номере “Возрождения” Ив. Тхоржевский ляпнул целую статью: “Конец Солоневича” — статья напомнила мне старую, милую и очень мудрую сказку: сказку о том, как мыши кота хоронили. Ив. Тхоржевский обрадовался рано — если бы тут и было чему радоваться. Радоваться и рано, и нечему. Меня хоронили — и в последовательном порядке: милюковцы, младороссы, возвращенцы, РОВС, внутренняя линия. Раз десять хоронил собственный брат. И ничего — вполне жив. И даже на ру­ ках могу стоять. Юра иронизирует: “Теперь Ватик стал на собст­ венные ноги”. От одних лишних похорон ничего не прибавится и не убавится. И еще неизвестно, кто и над чьей безвременной мо­ гилой будет неутешно рыдать. It’s the ong way to Tipperary. На этом пути сорвутся еще многие. МОЛЧАПИЕ И ИСТИНА ЛЕВ ТОЛСТОЙ О САМОДЕРЖАВИИ, КОНСТИТУЦИИ, РЕВОЛЮЦИИ И ПОГРОМАХ О САМОДЕРЖАВИИ: Если спросите у русского народа, чего он хочет: самодержавия или конституции, то 90 процентов его вам ответит, что они за само­ державие, то есть за ту форму правления, с которой свыклись. На­ род ждет, что царь, как отнял у помещиков крепостных, так отни­ мет у них и землю. Если же будет конституция и у власти станут болтуны-адвокаты, живодеры и прогоревшие помещики, то он ска­ жет, что земли ему не получить. (Яснополянские записки. Т. 1. С. 85) О КОНСТИТУЦИИ: Так и у нас (как во Франции. — И. С.) конституция не будет со­ действовать уменьшению насилия, а скорее увеличению его. (Там же. Т. 1. С. 85) О РЕВОЛЮЦИИ: Если была бы революция, то выдвинулись бы такие люди, как Ма­ рат и Робеспьер, и было бы еще хуже, чем теперь. (Там же. Т. 1. С. 86) О ПОГРОМАХ: Они (черная сотня. — И. С.) противодействуют насильственному разрушению существующего порядка. Не верю, что полиция подстре­ кает народ. Это и о Кишиневе и о Баку говорили. Это грубое выра­ жение воли народа. Народ видит насилие революционной молодежи и противодействует ей, а ей нужны волнения. (Голос минувшего. 111, 26) И наконец, о расстреле гапоновской рабочей демонстрации на площади Зимнего дворца 9 января 1905 года: Царская власть — это известное учреждение, как и церковь, куда не пускают собак. К царю можно обращаться по известным, строго определенным формам. Все равно как во время богослужения нельзя Молчание и истина 65 спорить со священником, так и всякое обращение к царю, помимо ус­ тановленного, недопустимо. Как же он будет принимать рабочих электрического завода ? После них придут депутаты приказчиков, по­ том "Московских ведомостей" и т.д. Царь не может выслушивать представителей петербургских рабочих. (Яснополянские записки. Т. 1. С. 81) В предыдущем номере “Нашей страны” были приведены мысли Льва Толстого о самодержавии, конституции и погромах. О философии Льва Толстого можно придерживаться самых разнообраз­ ных точек зрения. Но сейчас, после конституции и революции, никто в мире не может оспаривать истинно потрясающей точности толстов­ ских пророчеств. В самом деле: была конституция. И у власти стали: “болтуны и адвокаты” (Керенский), живодеры (Терещенко1), “прого­ ревшие помещики” (князь Львов2) и, наконец, “такие люди, как Ма­ рат и Робеспьер” (Ленин и Троцкий). И народ “земли не получил” — от него отняли и ту, которая у него была. Об общественной стороне деятельности Льва Толстого можно при­ держиваться самых разнообразных точек зрения. Есть точка зрения, которая считает Льва Толстого “голосом мировой совести”. Были и другие: продался-де человек масонам. Теоретически мыслима и третья: Лев Толстой в свое время занимал на литературно-общественном рын­ ке то же место, какое сейчас занимает Бернард Шоу. Интересно было бы знать: какие мысли записывает Бернард Шоу “не для печати”? Может быть, и он понимает действительность несколько иначе, чем это сформулировано в его печатных выступлениях? Может быть, и у него где-то записаны пророчества о будущем английского пролетариа­ та под славным водительством английской рабочей партии? Очень многие великие люди мира сего действуют почти по евангельскому за­ вету: Богу — Богово, карманное — в карман. Лев Толстой знал, чем кончится наша конституция и наша революция, — сейчас в этом не может быть никакого сомнения. Он знал, что девяносто процентов русского народа стояло за самодержавие — и не только против респуб­ лики, но даже и против конституции. Лев Толстой знал, почему имен­ но эти девяносто процентов стоят за самодержавие, ибо эти девяносто процентов знали, что “царь, как отнял у помещиков крепостных, так отнимет у них и землю”, то есть что “самодержавие” — и в глазах де­ вяноста процентов народа и в глазах самого Толстого — стояло за на­ род, а не за “помещиков и фабрикантов”. Все это Лев Толстой знал. Знал это не он один. Это знали, я бы сказал, все разумные лю­ ди России. Это, по толстовской статистике, знало все крестьянст­ во. Это же знал и Лермонтов: 66 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Настанет год, России черный год. Когда царей корона упадет. Знал это Тургенев, давший первые литературные портреты про­ горевших революционных помещиков. Знал это Достоевский, предсказавший будущую и конституцию и революцию почти с та­ кой же точностью, как и Лев Толстой. Знал это Розанов (“револю­ ция делается мошенниками”). Знал это и А. Белый: Люди, вы ль не узнаете Божией десницы? Сгибнет четверть вас от глада, мора и меча. Знал это и Герцен: в некоторые светлые минуты своей жизни он проговаривался о будущем царстве социализма. Знали это и Лесков, и Столыпин, и Менделеев, и Павлов. Все это знали все первые мозги России. Знали все это и ее последние свинопасы. Ничего этого не знал ни один русский профессор философии, истории, литературы, черной магии и красной магии. Если у вас есть возможность где-нибудь разыскать труды нашего по­ койного светоча общественных наук профессора Новгородцева3 — найдите, прочитайте и подумайте: это есть сплошной идиотизм. Профессор Новгородцев в 1916 году закончил свой пудовый "труд", где черным по белому было доказано, что социализм умирает, — труд был выпущен в свет уже после русской рево­ люции. Но и это бы еще ничего. В 1922 году, уже в эмиграции, этот труд был переиздан, и в предисловии к эмигрантскому из­ данию наш маститый ученый гордо подтверждает научность своих методов и точность своих предсказаний: социализм уми­ рает. А в 1922 году Европа была социалистической сплошь. Ес­ ли вы вспомните пророчества и деяния профессора Милюкова, то, оставаясь на почве прозаической реальности и называя ве­ щи своими именами, вы едва ли найдете для его пророчеств и деяний более подходящий термин, чем тот же идиотизм. Если вы соберете в некое целое прогнозы эмигрантской профессуры об эволюции советской власти — то вы, вероятно, согласитесь с моим кощунственным выводом: в области “общественных отно­ шений” никто не говорил и не делал больше глупостей, чем профессура общественных наук. ...Так было — так будет. Теперь поставим вопрос в несколько другой плоскости. Свои диагнозы и прогнозы Лев Толстой сделал и в те годы, когда рус­ Молчание и истина 67 ское самодержавие травили со всех сторон. И когда он сам, Лев Толстой, только что выпустил свое знаменитое “Не могу молчать”. Вопрос заключается в следующем: почему вот обо всем этом Лев Толстой все-таки смог промолчать? Его настоящие мысли о само­ державии, конституции, революции и погромах были зафиксирова­ ны только в “Яснополянских записках”, в, так сказать, стенгазете Ясной Поляны, — в печати они опубликованы не были. Представь­ те себе гипотетический случай: в те годы, когда на самодержавие выливали всю ірязь, какая только залежалась на профессорских кафедрах, партийных митингах, газетных фельетонах, в сумасшед­ ших домах интеллигентских вечеринок и в публичных домах про­ грессивной печати — вот выступает “голос мировой совести” и го­ ворит то, что знает: что народ стоит за самодержавие и против конституции; что самодержавие стоит за народ, а не за помещиков; что никаких погромов самодержавие не устраивало; что гибель самодержавия приведет к керенщине “болтунов-адвокатов” и к террору “Маратов и Робеспьеров”, — то, как вы ду­ маете, какой резонанс имел бы “голос мировой совести” в тогдаш­ нем, еще не совсем социализированном мире? Но когда дело коснулось “самодержавия” — “голос мировой со­ вести” набрал полный рот воды. Голос мировой совести был воз­ мущен неравноправием индусов в Южной Африке — но не издал ни одного звука против неравноправия русского крестьянства в России. Голос мировой совести занимался всякими поисками вся­ ческих “правд”, но правды о России он не сказал. А ведь он эту правду знал с такой степенью точности, как, может быть, никто другой. И никто другой не предсказал дальнейшего хода конститу­ ционных и революционных событий с такой степенью краткости и яркости, с какой предсказал это Лев Толстой. Но обо всем этом Лев Толстой “мог молчать”. И — промолчал. Какая-то часть читателей “Нашей страны” училась в наших до­ военных университетах, о которых В. Розанов выражался так не­ почтительно и даже непечатно. В этих непечатных университетах нам преподавали: Милюковы, Новгородцевы, Устряловы4, ТуганБарановские5, Ивановы-Разумники — и наполняли наши головы тем вздором, который, как мне кажется, сейчас должен быть бы совершенно очевидным для всякого нормального человека. Кто — в наших университетах — познакомил нас с истинно страшной сводкой предупреждений и предсказаний всех первых мозгов Рос­ 68 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век сии — от Карамзина до Розанова? От Ломоносова до Менделеева? От Лермонтова до Блока? Ведь дело шло о жизни и смерти: “сгиб­ нет четверть вас от глада, мора и меча”. Четверть — по крайней мере четверть — уже “сгибла”. Сколько сгибнет еще? И какие но­ вые профессора появятся еще на нашем кровавом горизонте — с новыми пророчествами о новом невыразимо прекрасном будущем, о новой великой и бескровной революции, о перевоспитании коекак оставшихся русских людей по самым научным основам самого-самого нового “изма”? Мы теперь имеем право сказать: Лев Толстой “молчанием предал истину”, — истина рыночного спроса не имела. Не очень великий спрос имеет она и сейчас. Даже сейчас, когда за систематическое предательство истины мы уже заплатили такой страшной ценой. Подзаголовок “Нашей страны” — “Русский монархический ор­ ган” — вызвал у наших читателей ряд застенчиво-конфузливых чувств, в особенности у североамериканских читателей: “Ах, как это можно — так прямо и ляпнуть: монархический орган — монар­ хия у нас, в САСШ, вовсе не в моде”. “Наша страна”« не есть орган модных выкроек, и никак не собирается, как бы то ни было, оглядываться даже на самую модную окраску сегодняшних мисс: пусть уж себе мисс красят­ ся как им будет угодно. Их, мисс, с двух сторон прикрывают (или только прикрывали) два океана. Нас “прикрывала” монар­ хия. И если в Германии, я, рискуя виселицей, не сошел с пози­ ций самодержавия и прочего, что с самодержавием связано, — то было бы наивно предполагать, что мнение мисс — даже и мужеского пола, может что-то изменить в направлении “ Нашей страны” — она или будет “русским монархическим органом” или ее вовсе не будет. Я очень боюсь, что под влиянием иностранных мод — а так­ же и субсидий — у нас в эмигрантской печати на доселе небы­ валую высоту поднят дух молчальничества. Все ходят кругом да около, все оглядываются на всех мисс — и даже мадемуазелей. Помещают аккуратненькие отчеты о панихиде по Государе Им­ ператоре Николае Александровиче — и молчат о его Преемни­ ке. Пишут о традициях Императорской Армии и не говорят ни слова о том, так что же значит “Императорская Армия” без Императора? Лейб-гвардия Его Величества — полк имени Лей­ бы Давидовича Троцкого? Так, что ли? Молчание и истина 69 Вся та страшная цена, которую мы все заплатили, — даже и мы, выжившие, — это есть, если хотите, Божья кара, если хотите — ло­ гические последствия нашей измены основам нашего националь­ ного бытия. Панихидами эту измену искупить нельзя. Мы должны дать себе совершенно ясный отчет хотя бы в том, что: а) все пер­ вые умы России и б) все ее последние свинопасы приблизительно одинаково оценивали реальность русской государственности. Но — между первыми умами и последними свинопасами затесалась наша цитатная интеллигенция, которая не понимала ничего, которая подрывала все, которая не научилась ничему и которая ничему научиться не может. Но она, эта цитатная интеллигенция, опреде­ ляла собою рынок, — и закону рыночного спроса и предложения подчинился даже и Лев Толстой: “молчанием предал истину”. Он не дожил до кары за это предательство, кара упала на его детей и внуков — на нас, на наших детей и наших внуков. И сей­ час в эмиграции продолжается, собственно, то же: И много понтийских Пилатов, И много лукавых Иуд Христа своего распинают, Отчизну свою продают. И снова одни скромно служат панихиды, другие столь же скромно обещают нам новый философский рай. А третьи продол­ жают по всем кафедрам и газетам мира размазывать старый вздор о самодержавии, угнетавшем народ, и о народе, свергнувшем само­ державие, о великом Феврале прогоревших помещиков и болтунов-адвокатов, о величайшем Октябре Маратов и Робеспьеров. Пе­ речитайте любую Кускову6 любого пола, подвизающуюся в любой газете на любом языке: ведь никто из этих Кусковых никогда не посмеет сослаться на Жуковского, Пушкина, Лермонтова,. Гоголя, Тургенева, Достоевского, Менделеева, Толстого — на их высказы­ вания о монархии и на их предсказания о том, что будет после ее свержения. Кусковы это сделать не посмеют. На нас, на немногих пишущих монархистах эмиграции, лежит за­ дача поистине исключительной тяжести: расчистка вековых авгиевых конюшен, до самой крыши набитых “научным” навозом, оставшимся после Милюковых и Новгородцевых. Должны ли и мы, немногие, пи­ шущие монархисты, “молчанием предавать истину” и готовить внукам нашим то, что наши деды приготовили нам? ЦАРЬ И ПОМЕЩИКИ У большинства новой эмиграции в одной груди живут две души. Одна душа стремится к монархии. Другая — оглядывает­ ся на “помещиков”: вот, придет Царь, а вместе с ним придут и “помещики”. Я не очень большой сторонник помещиков, но скло­ нен полагать, что даже “помещики” очень намного лучше колхо­ зов. Более-, так сказать, мыслящая часть и старой и новой эмигра­ ции очень обеспокоена той возможностью, что на престоле окажется “идиот” — почему-де мы должны подчиняться “идиоту”? Есть люди, говорящие о технической невозможности восстановле­ ния монархии: все равно-де американцы не допустят. Есть и дру­ гие возражения и опасения. И тем не менее монархическое движение в эмиграции находит­ ся на таком подъеме, на каком оно не находилось еще никогда. Самая основная слабость этого движения заключается в том, что оно растет, так сказать, ощупью. Что люди все-таки не до конца убеждены и в моральных и в политических основах русской мо­ нархии, и, наконец, что очень многие люди о реальной истории русской монархии, в сущности, и понятия не имеют. Об иностран­ цах, конечно, и говорить нечего. Я сейчас работаю над популярной книжкой на эту тему — стра­ ниц этак на сто—сто двадцать. Когда эта книжка появится в печа­ ти и появится ли вообще — это еще неизвестно. Эта статья — с ее продолжениями — является, так сказать, суррогатом будущей книжки. В “Белой Империи” и в книге о монархии все данные этих статей обоснованы документально — в статьях это было бы затруднительно. Но даже в статье каждому человеку, хотя бы са­ мым поверхностным образом знающему русскую историю, можно логически доказать, что русская монархия с “помещиками” не имеет ничего общего. Рабство во всех его формах было явлением общим для всех стран мира. В России оно приняло формы крепостного права, которого рус­ ское крестьянство не может забыть и до сих пор. Те экономические и социальные условия, которые во всем мире тянули к крепостному праву, существуют и у нас. Но у нас, кроме того, существовала монар­ хия, которая стояла поперек дороги рабства во всех его формах. Царь и помещики 71 Великие князья — и потом цари московские — были, по фор­ мулировке социалистического историка И. Бундакова-Фундаминского1, “усердными борцами за крестьянские вольности”. Перед Петром I крестьянин был крепок земле — как дворянин был кре­ пок службе: это было ограничение военного подчинения, а не ча­ стной собственности. Социально-экономические условия как во всех странах мира, так и в Московской Руси создавали тенденцию к превращению военно-служивых отношений в частнособственни­ ческие. “Сильные люди” пытались превратить подчиненных в ра­ бов — и цари боролись именно с “сильными людьми”. До тех пор пока у нас существовала царская власть, крестьянин был лично свободен, хозяйственно независим и судебно равноправен. Конец крестьянским вольностям пришел с концом царской власти. Под царской, или монархической, властью мы, прежде всего, понимаем законную наследственную власть — а не власть захват­ чиков, — и понимаем власть, а не ее вывеску. После того как ре­ формы Петра I совершенно разгромили все русское самоуправле­ ние, суд присяжных, народное представительство и всю государст­ венную традицию Москвы, царской власти у нас не было — от смерти Петра I до восшествия на престол Павла I. Матушки цари­ цы никакой властью не были, ибо на престол они подымались на штыках какого-нибудь Измайловского полка и эти же штыки были реальной властью в стране. Гвардия в те времена состояла исклю­ чительно из дворянства. В течение лет сорока после смерти Петра I рядом последова­ тельных законов было оформлено крепостное право. Екатерина II могла проливать слезы над “мучениями рода человеческого”, но ничего сделать была не в состоянии: ее убрали бы в два счета. Па­ вел I — первый царь, законно взошедший на престол, — сразу же взялся за крепостное право. Его манифест о трехдневной барщине был его смертным приговором. В “Белой Империи” я привожу все законодательные акты Павла I — по перечню академика Шмурло2, чтобы показать: ни в одном из этих актов не было ничего, реакци­ онного. Но Павел I был смертельной угрозой для нашего “шляхет­ ства” — и его убрали. Александр I для крестьянства сделать не успел ничего: его цар­ ствование было занято наполеоновскими войнами. Когда Николай I вступил на престол, то он оказался в таком положении: армия, полиция, земля, администрация, культура — все находится в руках шляхетства, — в руках рабовладельческого сословия. Было совершенно ясно: никакая лобовая атака ни к чему не приведет. Николай I начинает, по его собственному выражению, “партизан­ 72 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век скую войну против рабства” — создает свой бюрократический ап­ парат, опираясь на который его сын, Александр II, имел возмож­ ность ликвидировать почти полуторавековое состояние рабства од­ ним росчерком пера. Реформами Александра II были довольны не все. Вопрос, одна­ ко, заключался в том, что самые насущные интересы страны и на­ ции требовали поддержки дворянства: худо ли, хорошо ли, но дво­ рянство оставалось единственным культурным слоем с какими-то общественными и административными навыками — вне дворянст­ ва в стране почти никакой культуры не было. Отсюда и, казалось бы, двойственная политика Александра III: с одной стороны — Крестьянский банк и с другой стороны — Дворянский банк. Шла, так сказать, “передача земли трудящимся”, но — шла и поддержка дворянства, которое нужно было превратить из “поместного слоя” в просто культурный слой. Столыпинская реформа, проведенная вопреки всей нашей “общественности”, была, собственно, заклю­ чительным аккордом в ликвидации последствий XVIII века. В последние годы царствования Николая II крестьянство скупа­ ло у дворян около трех миллионов десятин в год. Если бы не было революции, то к середине тридцатых годов дворянское землевладе­ ние практически перестало бы существовать. Когда революция отдала мужику “всю землю”, то оказалось, что к своей собственной земле мужик этот получил прибавку толь­ ко в 13% (тринадцать процентов) — из-за тринадцати процентов революции, конечно, устраивать не стоило. Но те, кто ее устраи­ вал, конечно, знали, что цари стояли за “народ”, а не за "помещи­ ков”, что больше вот этих тринадцати процентов взять неоткуда, что без “дворянства” русской культуре, а может быть и русской го­ сударственности, грозила бы форменная катастрофа и что вообще, если уж говорить о народолюбии, то истинными народолюбцами были именно Цари. Мы всегда склонны забывать то обстоятельство, что Российская империя является самым старым государственным образованием в Европе. Что Российская империя — или, что то же, русский народ — экспериментально прощупала все существующие в истории формы правления. И что русское самодержавие и религиозно, и морально, и политически не имеет почти ничего общего с европейским абсо­ лютизмом. В Европе монарх был только “первый среди равных” — вооруженный властью приказчик правящего феодального слоя. В России царь был представителем народной массы. От Андрея Боголюбского, который впервые заложил основы русского самодержа­ вия, до Николая II, которому не удалось их удержать, — никогда Царь и помещики 73 народ не шел против Царя и никогда Цари не действовали против народа. Сам “гениальнейший” отметил тот факт, что даже Разин и Пугачев — и те были “царистами”. А и сам "гениальнейший” рас­ полагает “полномочиями”, на какие никакой Иван Грозный пре­ тендовать бы не стал. Сущность русской монархии, как мне кажется, чрезвычайно проста — при всей сложности постройки этой монархии. Эта сущ­ ность, как мне кажется, вытекает из православного мировоззрения — самого оптимистического религиозного мировоззрения, какое только было дано в человеческой истории. Это мировоззрение предполагает, что “мир во зле лежит”, но что человек есть все-таки Сын Божий. Довольно логическим продолжением этих двух мыслей и является русское самодержавие — то есть не европейский абсолютизм. Русский народ исключительно одарен политически — если бы этого не было, то Империя не была бы создана. Русский народ пе­ репробовал все мыслимые формы правления и нашел свою собст­ венную. Смысл этой собственной политической системы, как мне кажется, очень прост: поставь некоего человека вне всяких земных соблазнов. И поставь его не по принципу выбора, а по принципу случайности. ЧЕТЫРЕХХВОСТКЛ Если мы начнем выбирать, то мы никогда ни до чего не догово­ римся. Для Пушкина Петр Великий был “гигантом на бронзовом коне”. Для Толстого он был только вечно пьяным сифилитиком. С моей точки зрения — очень еретической, конечно, - Петр Вели­ кий есть просто выдуманная фигура: такого Петра, какого нам ри­ суют русские профессора истории, никогда в этой истории не су­ ществовало. Так что если бы Александр Сергеевич, Лев Николае­ вич и Иван Лукьянович стали бы выбирать, то по всем человече­ ским соображениям из этого ничего не вышло бы. Так как все трое вышеуказанных дядей — как и все двести миллионов осталь­ ных, решительно никакими женственными душами не обладают, то они стали бы драться — а это тоже происходило в нашей исто­ рии. Одни гетманы чего стоили! Народ, попавший в исключительно тяжелые географические и политические условия, народ, обладающий исключительным поли­ тическим талантом — в результате своего религиозного восприятия мира и своих насущнейших политических потребностей, — он, 74 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век этот народ, создал русскую монархию. Низинные люди Владимира, поставившие Андрея Боголюбеко го почти на всероссийский пре­ стол, новгородская конница, “изменившая” Новгороду в Шелонской битве, московские сотни, которые ставили Великим князьям и Царям ультиматумы: “никаких конституций”, украинская воль­ ница, голосовавшая “за царя московского”, — и так далее вплоть до “Дикой дивизии”, находившейся под личным командованием брата Царя, — все они шли по одной линии. Никогда, нигде, ни в одном случае русский народ против Царя не выступал. За исключением Петра Первого никогда ни один Царь против народа не выступал. Русский Царь есть, так сказать, функ­ ция русского национального “я”. Но только русского. По вопросу о русской монархии мне приходилось разговаривать даже с американцами: те уж абсолютно ничего не понимали. Раз­ ница во мнениях была, так сказать, непреодолимой: какой-то кентуккийский клерк, попавший на оккупационный пост в Германии, совершенно искренне предполагал, что я, рваный и кое-как запла­ танный “ди-пи”, являюсь чем-то вроде готтентота. Я — рваный и кое-как заплатанный "ди-пи”, предполагал — предполагаю и сей­ час, — что мистер Бэббит из какого-то Кентукки ничем сущест­ венным не отличается от просто идиота. Проложить мост между готтентотом и идиотом — вещь технически затруднительная. Ос­ новная же разница заключалась вот в чем. Он, мистер Бэббит, который за триста лет своего государст­ венного существования ничего, кроме долларов, не делал и не сделал, считает, что он, Бэббит, кого-то там выбирает и что-то там определяет. И что обо всем, что полагается знать, он знает с достаточной степенью точности. Я, Иван Российский, знаю с предельной степенью точности, что в области политики я, Иван Всероссийский, о целом ряде вещей не имею и не могу иметь никакого понятия. Если вопрос идет о “национализации” или о “выкупе в казну”, до­ пустим, железных дорог, то тут я, так сказать профессиональный по­ литик, могу сказать только одно: уж тут-то кто-то кому-то будет да­ вать взятки. Эго есть единственное бесспорное, о чем я знаю. И если какая-то партия будет предлагать мне, Ивану Лукьяновичу, голосовать за или против “национализации” или “выкупа в казну” железных до­ рог, то я, Иван Лукьянович, буду считать, что эта партия считает меня идиотом. Как если бы какая-то еще не существующая партия предло­ жила бы мне голосовать за мое пролетарское право производить хи­ рургические операции. Или за мое столь же пролетарское право дири­ жировать оперным оркестром. Я не хирург и не дирижер. Но я не хо­ Царь и помещики 75 чу, чтобы какие-то хирурги оперировали меня по тому принципу, ко­ торый сформулирован в немецком врачебном анекдоте: “Как долго вы, доктор Майер, думаете лечить герра Миллера?” — “Судя по костюму — до ста марок”. Я не хочу, чтобы русские железные до­ роги переходили бы или не переходили бы в казну по тому же принципу ста марок. Я хочу — как хотят и сотни миллионов вся­ ких людей России, чтобы — по формулировке Пушкина — был в России человек, который стоял бы выше всего — даже и выше за­ кона. Чтобы где-то наверху был человек, а не конституция. Чтобы была человечность, а не “буква закона”. Чтобы была, по формули­ ровке В. Соловьева, “диктатура совести”, а не диктатура доллара или диктатура “товарища маузера”. Чтобы где-то, на для меня не­ досягаемых верхах, был бы человек — заранее нами всеми освобож­ денный от всяких соблазнов лежащей во зле земли, человек, для которого — по праву его рождения и по долгу его рождения — ни­ чего, кроме блага русского народа, больше не нужно. Пока этого человека не будет, ни я, а также вы Россию своим до­ мом чувствовать не будете. Ни я, ни вы не будете уверены ни в одном завтрашнем дне. Для меня и для вас — осознанно или неосознанно — монархия вовсе не есть “форма правления”, одна из десятков форм, предложенных нам всем всеми нашими бердяями. Монархия, русская монархия, есть точка кристаллизации всего нашего прошлого — но также и всего нашего будущего. Без монархии у нас никогда ничего не выходило. И никогда ничего не выйдет. Я — волею судеб — попал в положение, так сказать, профес­ сионального политика. Для профессионально профессионального политика нет ничего хуже монархии: она обрезает крылья востор­ женным взлетам какого-нибудь Иванова к каким попало взяткам. Но она же, монархия, обрезает и мои публицистические возмож­ ности... Я, конечно, стал профессиональным политиком — но я все-таки не стал профессиональным жуликом в политике. Если я веду борьбу — то никак не за свою власть и не за власть моей пар­ тии или моей философии. Эта борьба не совсем свободна от неко­ торых чисто эгоистических мотивов. Эгоистические мотивы сво­ дятся к тому, что я хочу жить в России, и еще к тому, что без Ца­ ря в России никакого житья не будет. Это товарищи Абрамовичи или подтоварищи Левицкие могут предполагать, что они такие ум­ ные, что из любой шпаргалки могут высосать рецепт перестройки всех наших одиннадцати веков. Я этого не предполагаю. Но вместе с этим я предполагаю, что я объективно умнее и Абрамовича и Ле­ вицких. Я знаю границы своих возможностей — границы, очерчен­ ные тысячью лет. Абрамовичи, Милюковы, Левицкие и прочие 76 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век просветители полагают, что тысячелетний народ — народ великих страданий, великого мужества и великого упорства, — они могут переделать и перевоспитать каждый по своей шпаргалке. Я ни на какие шпаргалки не надеюсь никак. Я питаю органическое отвра­ щение ко всем шпаргалкам мира. У меня, как у всякого иного че­ ловека, в особенности русского человека, могут быть разные не­ достатки. Но комплекса неполноценности в числе их нет. И нет никакого комплекса зависти к Русскому Царю: я знаю, что Рус­ ский Престол — это не дансинг, а это почти Голгофа. И если я бу­ ду подчиняться, то уж никак не дансингам четыреххвосток-демократий, а Голгофе Русского Престола. Российская государственность строилась на Православии, а не на юриспруденции. Все попытки перевода с православного языка на язык “конституций” суть попытки безнадежные. Но эта безнадежность не играет почти никакой роли: все равно бу­ дет Россия и будет Русский Царь. И все равно будущее за нами. Не за долларами и не за парабеллумами — будущее за совестью. И единственная в истории человечества форма правления, ко­ торая была основана на совести — есть русская монархия. В ней не только будущее мое или ваше, Великороссии или Бело­ руссии — в ней будущее всего человечества. МИФ О НИКОЛАЕ II В свое время я изрек некую истину: “Гений в полити­ ке — это хуже чумы”. В те времена эта истина была сообщена поч­ ти без доказательств. Несколько позже по поводу нее меня свирепо допрашивали в гестапо: кого это я, собственно, имел в виду? Я от­ вечал невинно: конечно, Сталина. Еще позже я пытался обосно­ вать эту истину так: гений — это человек, выдумывающий нечто принципиально новое. Нечто принципиально новое, естественно, входит в конфликт со всем, что называется старым. Но так как жизнь человеческого общества базируется на целой сумме старых навыков, верований, традиций и чего хотите еще, то гению остается одно: попробовать сломать “косность среды” методами вооруженных доказательств. Из этого никогда ничего путного не выходило. Гений в политике — как и в других областях человеческой жизни, кроме науки — поставляет ничем незаменимый матери­ ал для экранных и литературных Холливудов всех эпох. О док­ торе Дженкинсе, который нам с вами дал оспенную прививку, вы, я полагаю, не знаете или почти ничего или вовсе ничего. Вероятно, не знают о нем и сестры милосердия. Но о Екатери­ не Великой исписаны целые библиотеки романов и накручены миллионы верст фильмов. Я не занимаюсь никаким утопизмом и никаким прожектерством и не собираюсь предлагать Холливуду фильм из жизни Дженкинса или Менделеева. Но нынеш­ нему русскому читателю стоит предложить некоторые, в общем, довольно простые соображения из числа тех, которые нам в го­ лову не приходили — пока голова была в безопасности. Итак: Ганнибал был, вероятно, величайшим полководцем исто­ рии: его “Канны” с тех пор пытались “догнать и перегнать” все полководцы мира и никому это не удалось. Ганнибал действитель­ но “чуть-чуть” не захватил Рим. Но Карфаген он погубил оконча­ тельно. И в изгнании покончил жизнь самоубийством. Цезарь был тоже гением. Римскую демократию он заменил пер­ вым в европейской истории тоталитарным режимом, Рим не спас и был зарезан своим лучшим другом — почти как Троцкий. Карл Великий резал публику налево и направо, никакой импе­ рии не создал, и вообще у него ни из чего ничего не вышло. 78 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век В гении попал и наш Петр I. Его карьера кончилась более мир­ но: капитуляция всей армии на Пруте, опустевший престол, почти сто лет порнократии и крепостное право. Был гением Наполеон: Ваграм и Аустерлиц, свод законов и стихи Гейне о двух гренадерах — коронный номер Шаляпина. Даже и Лермонтов соблазнился: Хвала, он русскому народу Великий жребий указал И миру вечную свободу Из мрака ссылки завешал. Какую это свободу, каким это народам мог завещать наследник Цезаря и предшественник Сталина — остается мало понятным. Но, в общем, это кончилось так: Франция обескровлена вконец, Европа ра­ зорена, тираны и казаки — в Париже, а гений — на острове Святой Елены. Потом был “гений Гитлера”. Теперь живет еще “гений Стали­ на”. Подождем. Гениев по осени считают. В числе тех еретических мыслей, которые в свое время были вы­ сказаны в моей газете, была и такая: Николай II был самым умным человеком России. Сейчас, восемь лет спустя, в мою фразу о Нико­ лае II я внес бы некоторое “уточнение”: с момента его отречения от престола во всей мировой политике более умного человека не было. Или, еще точнее — или осторожнее: никто ничего с тех пор более ум­ ного не сделал. Напоминаю исторический и общественный ход событий. У нас по­ сле гибели Николая II погибли: Милюков, Керенский, Троцкий, Буха­ рин и еще несколько сотен талантливых людей. И мы вместе с Милю­ ковым, Керенским, Троцким, Бухариным и еще несколькими сотнями столь же умных людей тоже катимся со ступеньки на ступеньку. В Германии с тех пор выведены в исторический и прочий рас­ ход Вильгельм II, Веймарская конституция и гитлеровский Третий Рейх. Немцы за это время проделали тот же процесс, что и мы. Или почти такой же. После устранения двух реакционных монархов в притоне Лиги На­ ций собрался “цвет человечества”. Цвет человечества лил потоки крас­ норечия и водопады шампанского. Клемансо1, “отца победы”, — вы­ шибли вон. Вильсона2, отца “четырнадцати пунктов”, — вышибли вон. Ллойд Джорджа3, отца “торговли с людоедами”, — тоже вышиб­ ли вон. Ни из чего ничего не вышло: ни из примирения с Германией, ни из разоружения Германии. Ни из помощи Белой Армии, ни из признания большевиков. Ни из посредничества между Японией и Ки­ таем, ни из попыток посредничества между Японией и Китаем, ни из попыток посредничества в греко-турецкой войне. Я в свое время пи­ Миф о Николае II 79 сал, что удостоверения Лиги Наций следовало бы печатать на бланках желтых билетов. У М. Алданова4 есть очерки заседаний Лиги Наций, которые, вероятно, являются мировым рекордом в области политиче­ ского репортажа. Прочтите их — и не пеняйте на желтый билет. Итак, вот: был цвет человечества. Самые избранные из самых из­ бранных. Они произносили по сто красивых слов в минуту. Кое-кто и по триста. За это время шла война в России, шла война на Дальнем Востоке, шла война в Турции, шла война в Испании. Были и “инци­ денты”: польский генерал захватил литовскую Вильну. Муссолини за­ хватил Абиссинию. Лига Наций говорила: ах, как нехорошо! Потом Гитлер захватил Рейнскую область. Потом Австрию. Потом Чехию. К моменту абиссинской войны “англичанин-мудрец” оказался без сна­ рядов: флот снарядов не имел. К моменту гитлеровских неприятностей тот же мудрец страшно боялся... французского подводного флота. Словом, под прикрытием цвета человечества мирно зрел плод Второй мировой войны. Потом было сто десять союзных дивизий против пяти немецких — и, под прикрытием этого блефа, Гитлер съел Польшу. Сталин помогал, французы безмолвствовали. Потом Гитлер съел Францию — и Сталин был очень доволен. Потом у Гитлера оказались развязаны руки — и Сталин оказался лицом к лицу со своим вчераш­ ним другом, союзником и почти благодетелем: на советском фронте германские самолеты питались сталинскими же смазочными маслами. Потом товарищ Сталин был лучшим другом Черчилля. Потом все это временно задержалось на линии Штеттин—Триест. А — что будет еще потом? Нет, я не считаю Николая II “гением”... Очень трудно было бы считать “гением” и Александра 1. В 1814 году “Лигой Наций” был он. Собственно, в единствен­ ном числе. Никто повешен не был. Ни одного клочка земли у Франции отнято не было. Даже и от миллиардной контрибуции “всеевропейский жандарм” отказался. Не было ни репараций, ни репатриаций. Ни революций, ни войн. Не было концентра­ ционных лагерей, хотя нечто вроде колхозов у нас уже было: военные поселения. Военные поселения нам “втемяшили в го­ лову”. А знаете ли вы, что военные поселения были введены — как и колхозы — на самом строгом основании самой современ­ ной науки? И проект выработал наш ученый историк профессор князь Щербатов5. К сожалению, Александр I некоторое фило­ софское образование все-таки имел. Так что колхозы академика Щербатова были проведены в жизнь. Потом всю вину за них свалили на Аракчеева. О том, чего говорить не надо, наука уме­ ет не говорить. Словом, в 1814 году была “кровавая реакция . В 1918-м был бескровный прогресс. Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Основное преимущество монархии (повторяю еще раз: я говорю только о русской монархии) заключается в том, что власть получает средний человек, и получает ее по бесспорному праву случайности: по праву рождения. Он как козырный туз в иіре, правила которой вы признаете. В такой игре такого туза даже и аллах не бьет. Этот средний человек, лишенный каких бы то ни было соблазнов богат­ ства, власти, орденов и прочего, имеет наибольшую в мире свободу суждения. Американский писатель мистер Вудсворт — бывший коммунист и потом бывший банкир (может быть, раньше банкир и только потом коммунист) мечтал о том, как было бы хорошо, если бы на мирных и мировых конференциях заседали просто булочни­ ки, сапожники, портные и прочие, — хуже Лиги Наций все-таки не было бы. Говоря очень грубо, русская монархия реализовала вудсвортовскую мечту: средний человек, по своему социальному положению лишенный необходимости “борьбы за власть” и поэто­ му лишенный, по крайней мере, необходимости делать и гнусно­ сти. Ошибки будет, конечно, делать и он. Но меньше, чем кто бы то ни было другой. ...Мы живем в мире втемяшенных представлений. Мы называем: Петра I — Великим, Александра I — Благословенным и Сталина — ге­ нием. Поставим вопрос по-иному. При Петре I Швеция Карла XII, которая Германией Вильгельма II, конечно, никак не была, дошла до Полтавы. Александр I, которого история называет Благословенным, пустил французов в Москву — правда, Наполеон был не чета Карлу. При Сталине, Гениальнейшем из всех Полководцев Мира, немцы опустошили страну до Волги. При Николае II, который не был ни Великим, ни Благословенным, ни тем более Гениальнейшим, немцев дальше Царства Польского не пус­ тили — а Вильгельм II намного почище Гитлера. При Николае II Россия к войне готова не была. При Сталине она готовилась к войне по меньшей мере двадцать лет. О Шведской войне Ключевский пишет: “Ни одна война не была так плохо подготовле­ на”. Я утверждаю: никогда ни к одной войне Россия готова не была и никогда готова не будет. Мы этого не можем. Я не мшу годами соби­ рать крышки от тюбиков, и вы тоже не можете. Я не хочу марширо­ вать всю жизнь, и вы тоже не хотите. А немец — он может. В 1914 го­ ду Германия была, так сказать, абсолютно готова к войне. Это был предел почти полувековой концентрации всех сил страны. Эго было как в спортивном тренинге: вы подымаете ваши силы до предела ва­ шей физиологической возможности. Больше поднять нельзя, и нельзя Миф о Николае II 81 отказаться от выступления. Так было и с Германией Вильгельма. С Германией Гитлера был почти сплошной блеф. Поэтому война с Германией была неизбежна. Это знал Нико­ лай II, и это знали все разумные и информированные люди страны — их было немного. И их травила интеллигенция. Один из самых ре­ акционных публицистов этой эпохи, сотрудник “Нового времени” М. О. Меньшиков, повторил литературный фокус Катона Римско­ го. Катон каждую свою речь кончал так: “Прежде всего нужно раз­ рушить Карфаген”. М. О. Меньшиков каждую статью кончал так: “А есть ли у нас достаточно пулеметов?” До русско-германской войны была еще и русско-японская неудача. Война с Японией была так же неизбежна, как и война с Германией, — хотя и по другим причинам. Нам был нужен выход из всей Сибири, японцам никак не было нужно, чтобы мы этот выход имели бы под самым их носом. Истории с пресловутыми лесными концессиями на Ялу имеют точно такое же значение, как те обвинения, которые в ночь на 22 июня 1941 года герр Риббентроп предъявил Советскому Союзу, — стопроцентная ерунда. Войну с Японией мы прозевали и потом проиграли. В общем, она была повторением Крымской войны: чудовищные расстояния между страной и фронтом, морские коммуникации противника и — о чем историки говорят глухо или не говорят вовсе — фантастиче­ ский интендантский грабеж. В Крымскую войну дивизии сража­ лись в валенках с картонными подметками. В Крымскую войну этим промышляли сыновья декабристов, в японскую — их правну­ ки. В Мировую Великий Князь Николай Николаевич вешал ин­ тендантов пачками: воровства не было. Итак, неизбежная, но прозеванная война, недооценка противника, восемь тысяч верст по единственной и еще недостроенной железной дороге: японцы так и начали войну — пока дорога еще не достроена, никаких особых неудач, середняцкое командование — героическая ар­ мия — и, как в 1917 году, “кинжал в спину победы” — тыловые части российского интендантства. Русская революционная интеллигенция идет на штурм. Революция 1905 года. В революции 1917 года немец­ кие деньги ясны. О японских деньгах в революции 1905 года наши ис­ торики говорят так же глухо, как и о задушевных планах декабристов. Или — о письмах Бакунина царю. Словом, соединенными усилиями японцев, интендантства и интел­ лигенции война проиграна. Наступает “Дума народного гнева”. Дума народного гнева, а также и ее последующее перевоплощение, откло­ няет военные кредиты: мы — демократы и мы военщины не хотим. Николай II вооружает армию путем нарушения духа Основных Зако­ 82 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век нов: в порядке 86-й статьи. Эта статья предусматривает право правительства в исключительных случаях и во время парламент­ ских каникул проводить временные законы и без парламента — с тем, чтобы они задним числом вносились бы на первую же парламентскую сессию. Дума распускалась (“каникулы”), кре­ диты на пулеметы проходили и без Думы. А когда сессия начи­ налась, то сделать уже ничего было нельзя. Так вот, одним из самых основных воителей против вооружения русского солдата был профессор П. Н. Милюков. И когда выяснилась недостаточность этих пулеметов — то именно профессор П. Н. Милю­ ков и обвинил Николая II в “глупости или измене”. М. О. Меньшиков был прав: с 1906 до 1914 года “пулеметы” были самой важной проблемой государственного существования России. По плану Николая II перевооружение русской армии и пополнение ее опустевших арсеналов должно было завершиться в 1918 году. Русско-германская война началась в 1914 году по той же причине, как русско-японская в 1905-м: пока не был закончен Великий сибир­ ский путь и пока не было кончено перевооружение русской армии. Только и всего. Япония не могла ждать, как не могла ждать и Герма­ ния. Как в 1941 году не мог больше ждать Гитлер. Итак, началась война. Правительство Николая II наделало много ошибок. Сейчас, тридцать лет спустя, это особенно видно. Тогда, в 1914-м, это, может быть, так ясно не было. Основных ошибок было две: то, что призвали в армию металлистов, и то, что не повесили П. Н. Милюкова. Заводы лишились квалифицированных кадров, а в стране остался ее основной прохвост. В день объявления войны П. Н. Милюков написал в “Речи” пораженческую статью, “Речь” всетаки закрыли; потом Милюков ездил извиняться и объясняться к Ве­ ликому Князю Николаю Николаевичу, и тот сделал ошибку: “Речь” снова вышла в свет, а Милюков снова стал ждать “своего Тулона”. Ту­ лон пришел в феврале 1917 года. Это были две основные ошибки. Правда, в те времена до “мобили­ зации промышленности” люди еще не додумались, а политических противников вешать принято не было: реакция. Впрочем, своего сэра Кэзмента англичане все-таки повесили. Поплакали, но повесили. В 1939 году Сталин с аппетитом смотрел, как немцы съели пооди­ ночке Польшу, Голландию, Бельгию и, главное, — Францию. И — ос­ тался со своим другом, с глазу на глаз. В 1914 году положение на французском фронте было, собственно, таким же, как и в 1940-м: Жоффр6 расстреливал целые дивизии, чтобы удержать их на фронте. Германская армия двигалась с изумительно той же скоростью, как и в 1871-м и в 1940-м. Русские реакционные железные дороги справились Миф о Николае II 83 с мобилизацией армии на две недели раньше самого оптимистическо­ го расчета русского Генерального штаба. И самого пессимистического расчета германского Генерального штаба. Но наша мобилизация за­ кончена все-таки не была: расстояния. Николай II — по своей Высо­ чайшей инициативе, лично по своей, бросил самсоновскую армию на верную гибель. Армия Самсонова7 погибла. Но Париж был спасен. Была спасена, следовательно, и Россия — от всего того, что с ней в 1941—1945 годах проделали Сталин и Гитлер. Ибо если бы Париж был взят, то Франция была бы кончена. И тогда против России были бы: вся Германия, вся Австрия и вся Турция. Тогда дело, может быть, не кончилось бы и на Волге. Я еще помню атмосферу этих дней. Паника. Слухи. Измена. Глупость. Мясоедов, Сухомлинов, Распутин. Потом — после войны — Фош® и Черчилль с благодарностью вспоминали “глу­ пость или измену”, которая спасла Париж, спасла союзников — и чуть-чуть было не спасла Россию. Потом — война зарылась в землю. Русские, немецкие, француз­ ские, английские и прочие военные полуспецы, пишущие военные истории, разбирают военные ошибки — Жоффра и Форша, Николая Николаевича и Алексеева, Николая II и Черчилля, Гинденбурга9 и Людендорфа10. Я стою на той точке зрения, что все это не имеет вовсе никакого значения. И по той совершенно простой причине, что на всех фронтах были одинаковые генералы, делавшие одинаковые ошибки, и что, в конечном счете, эти генералы и эти ошибки вырав­ нивались автоматически. Сегодня запоздал Ренненкампф11, завтра за­ поздает Макензен12. Не судят, конечно, только победителей. Нужно же иметь козла отпущения. Иногда, впрочем, роли несколько переме­ шиваются: жертва поражения становится символом грядущей победы, так случилось с нашими декабристами. Я не знаю, насколько наши генералы были хуже или лучше гер­ манских. Я не знаю, был ли Куропаткин действительно такой бездар­ ностью, как у нас принято думать. Да, подбор и выдвижение высшего командного состава были поставлены отвратительно — об этом пишет и Деникин. Да, русская военная доктрина была чисто германской — о Суворове забыли начисто и зубрили Клаузевица. Но приблизительно так же был поставлен подбор генералитета и в германской армии. И она тоже базировалась на Клаузевице. Общая подготовка германской армии была неизмеримо выше нашей: вся страна сотню лет экономи­ чески, психологически и профессионально готовилась к войне — “по­ следней и решающей”. Во всяком деревенском трактире был свой по­ четный стол, за который могли садиться: аристократия деревни и уча­ стники войны — орденоносцы. Если в каждой деревне так делается сто лет, то это, конечно, действует. У нас это просто не было возмож­ Солоневич И.Л. Наша страна. XX век но — как и собирание тюбиков. Вся машина германской армии была сколочена гораздо крепче нашей — это помогло мало. Наша машина, как и всегда в нашей истории, сколачивалась на ходу. Недавнее про­ шлое этой машины было очень плохо: две неудачные войны — Крымская и японская, отвратительное положение офицерства — нищего, забитого, презираемого “общественностью” и преследуе­ мого революционерами, общепринятая пропаганда против милита­ ризма, империализма, золотопогонников, опричников, и прочее и прочее. И это, впрочем, помогло мало. Первые дни и месяцы вой­ ны продемонстрировали поистине изумительный сдвиг: вчерашних опричников носили на руках. Вчерашние демонстранты и револю­ ционеры перли добровольцами. Толпы и десятки тысяч человек ходили с царскими портретами. И вот тут-то наши последующие историки нам говорят: даже и этого подъема Николай не сумел ис­ пользовать. А — как было “использовать”? Оглядываясь на эти героические и решающие годы, я теперь ду­ маю, что во всей России было только три человека, которые точно знали, чего они хотели: Николай II, Милюков и Ленин. Русского на­ рода, в сущности, не знал никто из них. Николай II его просто не мог знать во дворце, да еще и в нерусском Петербурге. Но Николай II действовал на основании традиции — и традиция более или менее совпадала и с общим инстинктом русского народа. Николай II хотел: победы, укрепления престола и замены Государственной Думы чемто, по крайней мере, более приличным. Милюков и Ленин хотели власти, и только власти. И никакие приличия на их дороге не стояли. Биография Ленина более или менее известна. В своей книге “Две ин­ теллигенции” я привожу самые основные этапы политической биогра­ фии Милюкова. Эго или полная бессовестность, или полная безмозг­ лость. Или и то и другое вместе взятые. Что в 1914 — 1916 годах озна­ чал рецепт: “использовать народный подъем”? Или — “протянуть руку народу”? Или — “найти общий язык со страной”? Только одно — пе­ редать всю власть в руки Милюкова — Ленина. То есть организовать полусовдеповское временное правительство уже в 1914 году. Подъем был действительно небывалый. Не потому ли Милюков сменил вехи и стал проповедовать захват Дарданелл? Еще летом 1917 года Ленин на митинге клялся и божился, что и он за войну до полной победы, — это Ленин, прибывший в Питер битком набитый немецким золотом и немецкими чеками! На этом митинге я первый раз увидел Ленина. Оратор он был отвратительный: картавил, путался, потел и волновался страшно. Пролетариат Ленину не верил ни на ко­ пейку, и ленинская речь все время прерывалась ироническими возгла­ сами. Было действительно трудно: на немецкие деньги изворачиваться Миф о Николае II 85 о полной победе. Но Ленин знал, чего он хочет. Знал и Милюков. Не потому ли странные личные симпатии этих двух людей — Ленин не­ сколько раз писал: из всех наших противников Милюков самый ум­ ный. Милюков все время сворачивал на эволюцию советской власти. Очень вероятно, что в наследники этой эволюции метил он сам: милюковского дара предвидения хватило бы и на эго. Так вот: война. Еще до нее, после Столыпина, — начало перековки русской интеллигенции. Осенью 1912 года у нас в университете еще были забастовки и “беспорядки”. Еще вмешивалась полиция. Зимой 1913 — 1914 годов мы уже обходились и без полиции — мы просто би­ ли социалистов по губам. Это было, конечно, некультурно. Но стран­ ным образом это помогало лучше, чем полиция. Получивши несколь­ ко раз по морде, центральные комитеты и члены центральных студен­ ческих комитетов РСДРП и СР как-то никли и куда-то провалива­ лись. Осенью 1914 года студенчество поперло в офицерские школы — добровольцами. Правительство старалось не пускать: весь мир предпо­ лагал, и Германия тоже, что война продлится месяцев шесть. Прави­ тельство дорожило каждой культурной силой. Народные учителя от воинской повинности были освобождены вообще. Студентов реза­ ли по состоянию здоровья: меня не приняли по близорукости. Не думаю, чтобы когда бы то ни было и где бы то ни было существо­ вало правительство, которое держало бы свою интеллигенцию в та­ кой золотой ватке и была бы интеллигенция, которая так гадила бы в эту ватку. Но уже и до 1914 года был перелом. В 1914 году наступил геологический сдвиг. Что было делать Николаю II и что было делать Милюкову? Снарядов не было все равно. И никакой энтузиазм не мог нако­ пить их раньше, чем года через два. Союзных поставок не было вовсе — мы были начисто отрезаны от внешнего мира. Стали строить заводы военного снаряжения и в непотребно короткий срок построи­ ли Мурманскую железную дорогу; кстати, в свое время постройка Си­ бирскою пути шла почти в полтора раза скорее, чем современная ей постройка Тихоокеанского пути. “Стратегия войны” была проста до очевидности: нужно как-то продержаться. К тому именно времени от­ носится почти анекдотический визит американской комиссии на рус­ ские военные заводы. Комиссия должна была их инспектировать. Ко­ миссия осмотрела казенные военные заводы и довольно поспешно уе­ хала обратно в САСШ: наши заводы оказались очень новы и очень нужны и для САСШ. В своей книге о социализме я ставлю и такой вопрос. Казенные заводы были казенными заводами, то есть предпри­ ятиями социалистического типа. Нигде во всей русской литературе я не нашел не только ответа на вопрос, но даже и вопроса: чем обкяс- 86 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век нить их блестящую работу? Этим наша “наука” не поинтересовалась, а может быть, и некоторый процент “социализма” был бы вовсе не так утопичен и при “самодержавии”... Имейте в виду: все эти годы я провел в качестве репортера. Может быть, мне когда-нибудь удастся написать о том, как шла в России настоящая борьба за власть: не о декоративных заседа­ ниях, комиссиях, блоках, соглашениях, программах, обещаниях, восклицаниях и прочем — а о том, что совершалось на низах: в казармах, на заводах, на Обводном канале, в полицейских уча­ стках и ночлежках. Так, например, последние предреволюцион­ ные месяцы я был рядовым лейб-гвардии Кексгольмского пол­ ка. Это был не полк, и не гвардия, и не армия. Это были ли­ шенные офицерского состава биологические подонки чухонско­ го Петербурга и его таких же чухонских окрестностей. Всего в Петербурге их было до трехсот. Как могло правительство прово­ ронить такие толпы? Летом 1917 года я говорил об этом Б. Са­ венкову — он тогда был военным министром. Савенков обозвал меня паникером. Что было делать Николаю II? Только одно — готовить победу. Что было делать П. Милюкову? Только одно — срывать победу. Ибо если бы конец 1917 года — как на это рассчитывал Николай II - принес бы России победу, то карьера П. Н. Милюкова и вместе с ней все на­ дежды и все упования русской революционной интеллигенции были бы кончены навсегда. “Пятидесятилетний план” Николая II, его деда и его отца, его предков и его предшественников был бы “выполнен и перевыполнен”. Россия одержала бы победу — под личным командо­ ванием Царя. При каком бы то ни было участии русского Царя в ка­ кой бы то ни было “лиге наций” ничего похожего на женевский пуб­ личный дом не было бы возможно. При консолидированной России никакой Гитлер не попер бы на Вторую мировую войну, Гитлер так и писал: “Русская революция есть для нас указующий перст провиде­ ния” — провидение подвело. В 1930-х годах при соблюдении довоен­ ного промышленного темпа Россия приблизительно обогнала бы САСШ — не по всем показателям, но по очень многим. Мы с вами не сидели бы здесь — но это, конечно, не имеет никакого значения. Имеет значение другой вопрос: что стало бы с “эпохой войны и рево­ люций”, на которую нацеливался ведь не только один Ленин. Для русской революционной интеллигенции, как для Японии 1905 года, для Германии 1914-го или Сталина в 1947 году — выхода бы не было. О том, что Сталин в 1947 году не мог действовать иначе, чем он дейст­ вовал, я пишу в другом месте. Сейчас скажу только очень схематиче­ ски: принятие плана Маршалла означало бы подчинение капиталисги- Миф о Николае II 87 ческим методам, а эти методы Сталина бы съели. Очищение Венгрии или Польши или прочего в этом роде означало бы создание в Венгрии или Польше или в прочих — правительства и армии, исполненных предельной ненависти и к коммунистам и к коммунистам-завоевателям. СССР оказался бы охваченным тесным кольцом стран и народов, на которых не могла бы подействовать никакая коммунистическая пропаганда. В СССР пришлось бы вернуть еще и еще сотни тысяч солдат и офицеров Красной Армии. И на границах СССР держать но­ вые миллионы — защиту против вчерашних “сателлитов”. Пришлось бы поставить крест над мировой революцией и ждать капиталистиче­ ской консолидации всего мира, консолидации, которая в конечном счете не может не взять за горло русский отряд мировой революцион­ ной сволочи — всех этих коммунистов, энкаведисгов, погонщиков и палачей. Их от пяти до десяти миллионов. Под ними — вечно, хотя и глухо, бурлящее море народного недовольства. И в этой обстановке принять план Маршалла? 1916 год был последним годом интеллигентских надежд. Все, конечно, знали это, и союзники и немцы, знал это, конечно, и Милюков — что армия наконец вооружена. Что снаряды уже в из­ бытке и что 1917 год будет годом победы над немцами и над рево­ люцией. Но тогда — конец. Не только для Милюкова, но и для всей интеллигентской традиции. Ибо она, эта традиция, будет раз­ громлена не только фактически — победой, одержанной без нее, — но и принципиально: будет доказано, что процветание, мир и мощь России достигнуты как раз теми антинаучными методами, против которых она боролась лет двести подряд, и что ее методы, научные и философские, не годятся никуда и что, следовательно, она и сама никуда не годится. То, что в России произошло 19 февраля 1861 года, с “науч­ ной” точки зрения есть чудо: вмешательство надклассовой лич­ ной воли в самый страшный узел русской истории. Что, если путем такого же “чуда” и Царь и народ найдут пути к развязанию и других узлов? Ведь вот — уже при министерстве С. Ю. Витте Николай II повелел разработать проект введения восьми­ часового рабочего дня — восьмичасового рабочего дня тогда еще не было нигде. Этот проект был пока что утопичен, как был утопичен и манифест Павла I об ограничении барщины тремя днями в неделю. Но он указывал направление и ставил цель. Направление было указано верно, и шестьдесят лет спустя цель была достигнута. Что, если русское самодержавие достигнет русских целей и без Милюкова? Или человечество - человеческих целей и без Стали­ Солоневич И.Л. Наша страна. XX век на? 1916 год был двенадцатым часом русской революции и русской революционной интеллигенции: или сейчас, или никогда. Завтра будет уже поздно... И вот российская интеллигенция бросилась на заранее подго­ товленный штурм. Вся ее предыдущая вековая деятельность выяс­ нила с предельной степенью ясности: ни за каким марксизмом, со­ циализмом, интернационализмом — ни за какой философией рус­ ская масса не пойдет. Вековая практическая деятельность социалистических партий доказала с предельной степенью наглядности: никакая пропаганда против царской власти не имеет никаких шансов на успех, и рабо­ чие и тем более крестьянство такой пропагандой только отталкива­ ются — центральные комитеты социал-демократической и социалреволюционной партии рекомендовали своим агитаторам ругать помещиков и фабрикантов, но совершенно обходить закон о царе. Революцию можно было провести только под патриотическим со­ усом. Он был найден. Кто начал революцию?.. В 1914 — 1917 годах самое страшное изо­ бретение революции было сделано петербургской аристократией. Это — распутинская легенда. Напомню: он был единственным, кто поддерживал жизнь Наследника престола, который был болен гемо­ филией. Против гемофилии медицина бессильна. Распутин лечил гип­ нозом. Это была его единственная функция — никакой политической роли он не играл. При рождении и при почти конце этой легенды я присутствовал сам. Родилась она в аристократических сплетнях — рус­ ская аристократия русской монархии не любила очень — и наоборот. В эмигрантской литературе были и подтверждения этого расхождения. Эмигрантский военный историк Керсновский, идеолог офицерства — или, еще точнее, офицерской касты, — писал: “Сплетня о царице — любовнице Распутина родилась в “великосветских салонах”. За эту сплетню милюковцы ухватились руками и зубами: это было то, чего не хватало. “Проклятое самодержавие” на массы не действовало ни­ как. Но царица — изменница, шпионка и любовница пьяного мужи­ ка? И царь, который все это видит и терпит? И армия, которая за все это платит кровью?” Санкт-Петербург — как историческая баба. Трибуна Государствен­ ной Думы стала тем же, чем сейчас для товарища Молотова служит трибуна всех конференций: не для организации мира, а для разжига­ ния революции. Милюков гремел: “Что это — глупость или измена?” Военная цензура запрещала публикацию его речей — они в миллионах оттисков расходились по всей стране. Я никак не думаю, чтобы они действовали на всю страну. Но на Петербург они действовали. Возь- Миф о Николае II 89 миге в руки энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (Т 65 С. 270). Там сказано: Инородческое население живет около столицы, окружая ее плот­ ным кольцом и достигая 90% общего числа населения. По переписи 1891 года 85% указали русский язык в качестве не родного языка”. Но даже и Санкт-Петербург — город с тремя именами, чужой город на чужом болоте — был только одним из симптомов. Уже в Смутное время семибоярщина советовала полякам вырвать цар­ ский престол из Москвы и унести его куда-нибудь подальше. Этот проект и был реализован при Петре — один из вариантов европей­ ского разгрома русской государственной традиции. Страна в исте­ рике не билась. Но в Петербурге, куда всякие милюковцы собра­ лись “на ловлю счастья и чинов”, денег и власти — все равно ка­ ких денег и какой власти, — в Петербурге была истерика. В марте 1917 года толпы шатались по городу (“с красным знаменем впе­ ред — обалделый прет народ”) и орали “ура” — своим собствен­ ным виселицам, голоду, подвалам и чрезвычайкам. Итак, лозунг был найден. Патриотический и даже антимонархиче­ ский — что и было нужно. Царь — дурак, пьяница и тряпка. У него под носом его жена изменяет с изменником Распутиным, он ничего не видит — царя нужно менять. Позвольте рассказать один из заключительных штрихов распу­ тинской истории. У меня был старый товарищ юности — Евгений Михайлович Братин. В царское время он писал в синодальном органе “Коло­ кол”. Юноша он был бездарный и таинственный, я до сих пор не знаю его происхождения, кажется, из каких-то узбеков. В русской компании он называл себя грузином, в еврейской — евреем. Потом он, как и все неудачники, перешел к большевикам. Был зампредом харьковской чрезвычайки и потом представителем ТАСС и “Извес­ тий” в Москве. Потом его, кажется, расстреляли: он вызван был в Москву и как-то исчез. Летом 1917 года он перековался и стад работать в новой газете “Республика”, основанной крупным спекулянтом Гутманом. В те же времена действовала Чрезвычайная следственная комиссия по делам о преступлениях старого режима. Положение комиссии было идиот­ ским: никаких преступлений — хоть лавочку закрывай. Однажды при­ шел ко мне мой Женька Братин и сообщил: он-де нашел шифрован­ ную переписку Царицы и Распутина с немецким шпионским центром в Стокгольме. Женьку Братина я выгнал вон. Но в “Республике” под колоссальными заголовками появились братинские разоблачения: тек­ сты шифрованных телеграмм, какие-то кирпичи. Чрезвычайная ко­ 90 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век миссия, однако, обрадовалась до чрезвычайности, — наконец-то хоть что-нибудь. ЧК вызвала Братина. Братин от “дачи показания” отка­ зался наотрез: это-де его тайна. За Братина взялась контрразведка — и тут уж пришлось бедняге выложить все. Оказалось, что все эти теле­ граммы и прочее были сфабрикованы Братиным в сообществе с ка­ кой-то телефонисткой. Вообще за такое изобретение Братина следовало бы повесить, как, впрочем, и Милюкова. Но дело ограничилось только скандалом: из “Республики” Братина все-таки выгнали вон — его буржуазно-рево­ люционная карьера была кончена и началась еще хуже. Потом, лет двадцать спустя, я обнаружил следы братинского вдохновения в одном из американских фильмов. Так пишется история. Истории Государственной Думы у нас нет. То, что есть, — такая же чушь, как и братинский шифр. Напомню о том, что классической формой русского народного представительства были Соборы. То есть деловое представительство, а не партийное. Напомню и еще об одном обстоятельстве: англо-американский парламентаризм есть внепартий­ ный парламентаризм. По закону и традиции в парламент попадает тот, кто получил хотя бы относительное большинство голосов, — это соз­ дает систему двух партий, из которых ни одна не имеет никакой про­ граммы. Работа партии мистера Эттли — это первый в истории Вели­ кобритании опыт превращения отсталого английского острова в пере­ довую европейскую страну. До этого ни тори, ни виги, ни консервато­ ры, ни либералы не имели никаких программ. Не имеют их ни рес­ публиканцы, ни демократы в САСШ. Не имели программ и русские Соборы. В первую же Государственную Думу хлынули десятки про­ грамм и революционных программ. Дума пришла — и положила ноги на стол. Ее разогнали — без всякого ущерба для кого бы то ни было. Но не было использовано предостережение нашего единственного теоретика монархии — бывшего террориста Льва Тихомирова. Он пи­ сал, что в положении о Государственной Думе “национальная идея от­ сутствует, так же как и социальная”, — нет органической связи с жиз­ нью страны. До Тихомирова, после манифеста 1861 года, Ю. Самарин писал: “Народной конституции у нас пока быть не может, а конститу­ ция не народная, то есть господство меньшинства... есть ложь и об­ ман”. Так наша Дума и оказалась: ложью и обманом. Монархия без народного представительства работать не мо­ жет. Это было ясно Алексею Михайловичу и Николаю Алексан­ дровичу. Но Николай Александрович поддался теориям госу­ дарственного права и допустил перенос на русскую точку зре­ ния западноевропейского парламентаризма, который и у себя на родине, в Западной Европе, успел к этому времени проде­ Миф о Николае II 91 монстрировать свою полную неспособность наладить нормаль­ ный государственный быт. Лев Тихомиров предлагал народное представительство по старомосковскому образцу: Церковь, зем­ ство, купечество, наука, профессиональные союзы, кооперация промысла и прочее. То есть представительство, органически связанное с органически выросшими общественными организа­ циями. Вместо этого мы получили монопольное представитель­ ство интеллигенции, начисто оторванной от народа, “беспоч­ венной”, книжной, философски-блудливой и революционно­ неистовой. В Государственную Думу первого созыва так и попа­ ли наследники “Бесов” и Нечаева, сотоварищи Азефа и Савин­ кова, поклонники Гегеля и Маркса. Никому из них до реальной России не было никакого дела. Они были наполнены програм­ мами, теориями, утопиями и галлюцинациями — и больше все­ го жаждой власти во имя программ и галлюцинаций. А может быть, и еще проще: жаждой власти во имя власти. Сегодняшнее НКВД с изумительной степенью точности воспроизводит на практике теоретическое построение Михайловского и Лаврова, художественно отраженное в “Бесах”. Я более или менее знаю личный состав НКВД. Только окончательный идиот может предполагать, что у всех расстрельщиков есть какая бы то ни было “идея”. Вот от всего этого нас всех и пытался защищать Николай II. Ему не удалось. Он наделал много ошибок. Сейчас, тридцать лет спустя, они кажутся нам довольно очевидными, — тридцать лет тому назад они такими очевидными не казались. Но нужно сказать и другое: ис­ тория возложила на Николая II задачу сверхчеловеческой трудности: нужно было бороться и с остатками дворянских привилегий, и со всей или почти со всей интеллигенцией. Имея в тылу интендантов и интел­ лигентов, нужно было бороться и с Японией и с Германией. И между “царем и народом” существовала только одна — одна-единственная связь, чисто моральная. Даже и Церковь, подорванная реформами Ни­ кона и синодом Петра, — Церковь, давно растерявшая свой мораль­ но-общественный авторитет, давным-давно потеряла и свой собствен­ ный голос. Сейчас она служит панихиды. Тогда она не шевельнула ни одним пальцем. Никто, впрочем, не шевельнул. Так был убит первый человек России. За ним последовали и вторые и десятые: до сих пор в общем миллионов пятьдесят. Но и это еще не конец... Проблема русской Монархии, Николая II в частности, — это вовсе не проблема “реформы правления”. Для России это есть вопрос о “быть или не быть”. Ибо это есть вопрос морального порядка, а все то свое, что Россия давала или пыталась дать миру и самой себе, — все 92 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век то, на чем реально строилась наша история и наша национальная лич­ ность, — было основано не на принципе насилия и не на принципе выгоды, а на принципе моральных исходных точек. Отказ от них — это отказ от самого себя. Отказ от Монархии есть отказ от тысяч лет нашей истории. Если рассматривать вещи с точки зрения, допустим, А. Ф. Ке­ ренского, то эта тысяча лет была сплошной ошибкой. Сплошным насилием над “волей народа русского”, выраженной в философии Лейбница, Руссо, Сен-Симона, Фурье, Гегеля, Канта, Шеллинга, Ницше, Маркса и Бог знает кого еще. Разумеется, всякий Лейбниц понимал “волю русского народа” лучше, чем понимал это сам рус­ ский народ. Если мы станем на такую точку зрения, то тогда нуж­ но поставить крест не только над всем прошлым, но также и над всем будущим России: ибо если одиннадцать веков были сплош­ ной ошибкой и сплошным насилием, то какой Лейбниц сможет гарантировать нам всем, родства не помнящим, что в двенадцатом веке будет мало-мальски лучше — даже и в том невероятном слу­ чае, если рецепты Лейбница будут применены без конкуренции со стороны других рецептов, рожденных органами усидчивости других властителей дум. Если за одиннадцать веков своего существования нация не смогла придумать ничего путного, то какое основание предполагать, что в двенадцатом или пятнадцатом она найдет чтото путное в картотеке очередного аспиранта на кафедру философ­ ской пропедевтики? Русская история, при всей ее огромности, в сущности, очень проста. И если мы будем рассматривать ее не с философской, а с научной точки зрения — даже и отбрасывая в сторону какие бы то ни было “эмоции”, то на протяжении одиннадцати веков мы мо­ жем установить такую связь явлений. Чем было больше “самодержавия”, тем больше росла и крепла страна. Чем меньше “самодержавия”, тем стране было хуже. Ликвидация самодержавия всегда влекла за собою катастрофу. Вспомним самые элементарные вещи. Расцвет Киевской Руси закончился ее почти феодальным “удельным” разделом, то есть ликвидацией самодержавной вла­ сти — Киевскую Русь кочевники смели с лица земли. После смерти Всеволода Большое Гнездо самодержавие никнет опять и Россия попадает под татарский разгром. Прекращение династии Грозного вызывает Смутное время. Период безвластных императриц организует дворянское крепо­ стное право. Миф о Николае II 93 Свержение Николая II вызывает рождение колхозного крепост­ ного права. Итак, в течение одиннадцати веков лозунг “долой самодержа­ вие” был реализован пять раз. И ни одного разу дело не обошлось без катастрофы. Это, может быть, и не совсем “наука”. Но есть все-таки факт. Це­ лая цепь фактов, из которых при некотором напряжении нормальных умственных способностей можно было бы извлечь и некоторые поли­ тические уроки. Я очень боюсь, что русская интеллигенция этих уро­ ков не извлекла. Между ней и действительностью висит этакий бу­ мажный занавес, разрисованный всякими небылицами. И всякая не­ былица кажется ей реальностью. И всякая мода — законом природы Около ста лет тому назад французский политический мыслитель Токвиль13 писал: “Нет худших врагов прогресса, чем те, кого я бы на­ звал профессиональными прогрессистами, — люди, которые думают, что миру больше не требуется, как радикальное проведение их специ­ альных программ”. Русская интеллигенция в своей решающей части вот и состояла из “профессиональных прогрессистов”. И у каждого была “специальная программа”, и каждый был убежден в том, что ми­ ру ничего больше не требуется. На путях к реализации всех этих про­ грамм стояла традиция, в данном случае воплощенная в Царе. Русская профессионально-прогрессивная интеллигенция ненавидела Царя лю­ той ненавистью: это именно он был преградой на путях к невырази­ мому блаженству — военных поселений, фаланстеров, коммун и колхозов. Профессионально-прогрессивная интеллигенция была профессионально-прогрессивной: она с этого кормилась. Верхи рус­ ской культуры к этой интеллигенции, собственно, никакого отноше­ ния не имели. От Пушкина до Толстого, от Ломоносова до Менделее­ ва — эти верхи были религиозны, консервативны и монархичны. Сре­ ди людей искусства были кое-какие отклонения — вот вроде толстов­ ского Николая Палкина. Среди людей науки, кажется, даже и откло­ нений не было. Но эти верхи “политикой не занимались” — политика была в руках профессиональных прогрессистов, революционеров, Не­ чаевых, Савинковых, Милюковых и азефов. Профессионалы давали тон. Я очень хорошо знаю быт дореволюционной сельской интелли­ генции. Она жила очень плотно и сытно. Всем своим нутром она тя­ нулась к Церкви и к царю. Все “Русские богатства” настраивали ее против Церкви и против царя. Но “Русские богатства” были, конечно, прогрессом. Церковь и царь были, конечно, реакцией. Так шаталось сознание низовой интеллигенции. Так оно было разорвано на две час­ ти: в одной был здоровый национальный и нравственный ин­ стинкт, в другую целыми толпами ломились властители дум. И лю- 94 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ди не знали, что почать: “ложиться спать или вставать”. Подымать агротехнику и тем подрывать возможности “черного передела” или агитировать за “черный передел” и для этого тормозить агротехни­ ку как только можно. Нужно ведь революционизировать деревню. Так оно и шло, через пень в колоду. Но низовая интеллигенция была искренняя. С моей личной точки зрения, властители дум были почти сплошной сволочью — в буквальном смысле этого слова. Они, в общем, делали то же, что в эмиграции делали профессора Милюков и Одинец: звали молодежь на каторжные работы и сами пожинали гонорары. Молодежь — бросала бомбы или возвращалась в СССР, и ее “жертвы” властите­ ли дум записывали на свой текущий счет. Никто из них повешен не был, и почти никто не попал даже и на каторгу. Что же касает­ ся ссылки — то она играла решительно ту же роль, как развод для киноартистки: реклама, тираж и гонорары. Известные представления всасываются с млеком всех фило­ софских ослии. Они становятся частью и умственного и — что еще хуже — эмоционального багажа: “Старый режим” , “тюрьма народов”, “кровавое самодержавие”, “отсталая царская Россия” — вся эта потертая мелкая и фальшивая монета котируется на ин­ теллигентском черном и красном рынке и сейчас. Не совсем по прежнему паритету, но все-таки котируется. Да, конечно, так плохо, как при Сталине, не было и при старом режиме. Даже при старом режиме. Но зачем же возвращаться к “старому режиму”? Попробуем новый. Какой новый? А какой-нибудь. По Иванову, Петрову, Степову. По Бердяеву, Шестову, Сартру. Или по Буха­ рину, Левицкому. Или по Махно, Григорьеву, Улялаеву. Только нс по живому опыту одиннадцати веков. В наших русских условиях на страже настоящего прогресса стояла монархия — и только она одна. Это она защищала Россию от таких прогрессивно мыслящих людей, как Батый или Наполеон, и от таких философски образованных рабовладельцев, каким был вольтерианский помещик или марксистский чекист. И в те периоды, когда мо­ нархия слабела, для России наступила катастрофа. Эго есть очевидный исторический факт. Носители прогрессизма делали, делают и будут делать все от них зависящее, чтобы эту очевидность замазать или, по крайней мере, извратить. И у всякого из них будет своя “специальная программа”, рожденная в схоластической реторте, как был рожден гетевский Гомункулус. И у всякого будет своя специальная галлюцина­ ция. Иногда — и по несколько галлюцинаций... Миф о Николае II 95 Гомункулус поумнеть, конечно, не мог. Профессиональные про­ грессисты тоже не могут. Одни из них, философы, будут заниматься фабрикацией призраков, другие, приват-доценты, будут Добчинскими и Бобчинскими, вприпрыжку, “петушком, петушком”, трепать за каж­ дым Хлестаковым каждого варианта “самой современной” филосо­ фии: только бы не отстать от века. Никаких методов общественной санитарии, которые охранили бы всех нас от философов, гомункулу­ сов, призраков, приват-доцентов, галлюцинаций и просто от общест­ венной хлестаковщины, современная общественная медицина еще не придумала. Старая русская эмиграция в ее подавляющем большинстве нашла достаточно эффективный способ: просто не принимать ничего этого мало-мальски всерьез. Но с новой эмиграцией дело обстоит зна­ чительно хуже. Старая эмиграция в ее массе имела время кое о чем подумать. У новой этого времени не было. Старая эмиграция за эти тридцать лет могла сравнить Россию мирного времени и заграницу мирного времени. Новая из лагерей ГУЛАГа попала в лагеря УННР. Старая эмиграция эти тридцать лет жила в условиях свободы печати — новая очутилась в атмосфере цензуры, лицензий и партийности. В ста­ рой России свобода печати была ограничена левыми кругами, не пра­ вительством — об этом писал еще и А. Герцен. На территориях новой эмиграции свободы печати нет. Одна партийная жвачка об одном не­ выразимо прекрасном будущем заменена другой партийной жвачкой о другом невыразимом будущем. Никаких фактов о прошлом России, революции и эмиграции новым русским беженцам не сообщено. Не сообщено, как готовилась и как родилась великая и бескровная, не сообщено о том, так что же за эти тридцать лет думали и писали обо всем этом Деникин и Троцкий, Адланов и Бунин, Керенский и Ми­ люков, Черчилль и Гитлер, евразийцы и фашисты, сменовеховцы или даже такие, как я. Нет истины кроме истины и Гомункулус — пророк ее: он уж знает, как помудрее приспособиться к философии. И вместо старой дюжины призраков строится новый — порядкового номера чертовой дюжины. Есть в мире головы, в которых все тринадцать пе­ реплелись в одну-единую неразбериху... В течение одиннадцати веков русской истории русская националь­ но-политическая традиция была воплощена в русской монархии. Если бы традиция была неудачна — удачна не всякая традиция, — то в дан­ ных исторических и географических условиях великая нация расти бы не могла. Она — выросла. В течение последних десятилетий русской истории эта традиция была воплощена в Николае II. Если Николай II был так плох, как его рисуют профессиональные гомункулусы, то Рос­ сия не имела бы самого быстрого в мире хозяйственного роста и вой­ на 1914 — 1916 годов не остановилась бы на границах Царства Поль- 96 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ского. Николая II можно рассматривать как личность — это, может быть, было бы очень интересно с точки зрения исторического рома­ ниста. Его можно рассматривать как носителя традиции — и тогда придется установить тот исторический факт, что носители этой тради­ ции за очень немногими исключениями были ее рабами. Но также — и ее героями и ее мучениками. Что ни Павел I, ни Александр II не были убиты “за реакцию” — они были убиты за прогресс. Павел, ко­ торый взялся за освобождение крестьян, и Александр, который это за­ кончил. Что никакими тиранами, деспотами и прочим никто из них не был, но что все они стояли поперек дороги гомункулусам и фило­ софам, профессиональным проірессистам и профессиональным рево­ люционерам. Цареубийства 1801, 1881 и 1918 годов — все они были победой реакции. 1801 год отбросил освобождение крестьян, 1881-й — восстановление народного представительства, 1918-й закрепостил рус­ ский народ на основе комбинированного метода Батыя и Салтычихи. Что сейчас сказать о личности и о работе Николая II? Президент Французской республики Лубэ14 писал о нем: “Он предан своим идеям. Он защищает их терпеливо и упорно. У него надолго продуманные планы, которые он постепенно проводит в жизнь. Царь обладает сильной душой и мужественным, непоколеби­ мым верным сердцем. Он знает, куда он идет и чего он хочет”. Уинстон Черчилль пишет: “Представление о царском режиме как об узкосердечном и гнилом отвечает поверхностным утверждениям наших дней. Но один только взгляд на тридцатимесячную войну против Германии и Австрии дол­ жен изменить это представление и установить основные факты. По тем ударам, которые Российская империя пережила, по катастрофам, которые на нее свалились, мы можем судить о ее силе... Почему мо­ жем мы отрицать, что Николай II выдержал это страшное испытание? Он наделал много ошибок — какой вождь не делает их? Он не был ни великим вождем, ни великим царем. Он был только искренним про­ стым человеком со средними способностями.... На тех высотах челове­ чества, где все проблемы сводятся к еда* или «нет*, где события пере­ растают человеческие способности, решение принадлежало ему: война или не война? направо или налево? демократия или твердость? Спра­ ведливость требует признания за ним всего, чего он достиг. Жертвен­ ное наступление русских армий в 1914 году, которое спасло Париж, упорядоченный отход, без снарядов, и снова медленно нарастающая сила. Победы Брусилова — начало нового, мощного и непобедимого, чем когда бы то ни было. Несмотря на большие и страшные ошибки, тот строй, который был в нем воплощен, которому он давал жизнен­ ный импульс, — к этому моменту уже выиграл войну для России... Миф о Николае II 97 Пусть его усилия преуменьшают. Пусть чернят его действия и оскорб­ ляют его память — но пусть скажут; кто же другой оказался более пригодным? В талантливых и смелых людях, в людях властных и чес­ толюбивых, в умах дерзающих и повелевающих — во всем этом не­ хватки не было. Но никто не смог ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависели жизнь и слава России. На пороге побе­ ды она рухнула на землю, заживо пожираемая червями”... (К сожале­ нию, приходится цитировать по немецкому переводу книги “Мировой кризис”. Т. 1. С. 221 — 222). Президент Лубэ был республиканцем, Черчилль был монархистом. Третий вариант “формы правления” представлял собою Гитлер. О мо­ нархах он отзывался в тоне крайнего презрения: все они были дурака­ ми — один он, Гитлер, умный. Это писалось, конечно, до 1941 года. До обсуждения личности и деяний Николая II Гитлер не снисходит. Но в его “Майн кампф” есть формулировка того положения, в кото­ ром очутилась Германия в 1916 году. Вот она: “Победу России можно было оттянуть — но по всем человеческим предвидениям она была неотвратима”. Гитлер даже не пишет о “победе союзников”, он пишет только о победе России. Собственно, он повторяет то, что говорит и Чер­ чилль: в 1917 году Россия стояла на пороге победы. И средний че­ ловек — Николай II — несмотря на его “страшные ошибки”, вел и почти привел Россию к этой победе. Где были бы мы с вами, если бы черви не уготовали нам всем — всему миру — катастрофы фев­ раля 1917 года? И как мы можем исторически, политически и в особенности морально, квалифицировать тех людей, которые еще и сейчас что-то талдычат о народной революции 1917 года — о двух или даже четырех народных революциях? В феврале 1917 года свершилось заранее и задолго обдуманное величайшее преступле­ ние во всей истории России: черви профессиональных прогресси­ стов сознательно и упорно подтачивали “жизнь и славу России”. Подточили. Никак не меньше шестидесяти миллионов русских лю­ дей заплатили своими жизнями за этот философский подвиг. “Слава России” стала “притчей во языцех и поношением челове­ ков”. Когда-то Святая, Русь стала предметом ужаса, отвращения и ненависти собственно во всем мире. Оставшиеся, миллионов то ли двести, то ли только сто восемьдесят, вот уже три десятка лет про­ водят на каторжных работах — во имя призрака. Что ждет их зав­ тра? Сталинская коммунизация или атомная ликвидация? И что возникнет послезавтра? Какие новые философские и партийные колодки будут навязаны на шею двумстам миллионам, которые тридцать лет подряд ничего, кроме колодок, не знали? Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Самая основная, самая решающая проблема нашего националь­ ного бытия заключается в отказе от всяких призраков — то есть от всякой лжи. И активной, и тем более пассивной лжи. Лжи, которая замалчивает — как замолчаны были планы декабристов или как за­ молчала вся наша историография роль русских царей. Мы обязаны знать факты — от этого и почти только от этого зависит все наше будущее, и личное и национальное. Николай II есть факт, взятый, так сказать, вдвойне. И как лич­ ность, и как представитель традиции. Он — средний искренний чело­ век, “со средними способностями”, верно и честно до гробовой доски — или до Ипатьевского подвала, делал для России все, что он умел, что он мог. Никто иной не сумел и не мог сделать больше. Его “убрали”. Но, хотя и не таким способом, были убраны и Вильгельм, и Клемансо, и Вильсон, и даже тот же Черчилль, но всем им была дана возможность довести русскую победу до западного ее конца. Для Рос­ сии никто не делал и не сделал больше, чем сделали ее цари. Но и для мира, всего мира никто не делал и не сделал больше, чем сделали они. Николая I звали жандармом, и Александра III назвали Миротвор­ цем — в сущности, оба названия совпадают. Все они — от Александ­ ра I до Николая II, честно хотели мира и для мира могли сделать больше, чем кто бы то ни было другой. Совершенного мира не бы­ ло и при них — но без них мира стало намного меньше. И их ненави­ дели все, кто в грядущей каше “эпохи войн и революций” видел спи­ ритическую материализацию своих философских призраков. С их па­ мятью будут бороться все те, кто строит новые призраки и на этих но­ вых призраках планирует строить свою власть. И все те, кто против монархии, есть сторонники своей власти. Во имя своего призрака. Может быть, с нас всех всего этого уже хватит? Проблема Николая II, как и проблема русской монархии вообще, есть главным образом моральная проблема. Эго не вопрос о “форме правления", “конституции”, “реакции”, “прогрессе” и всяких таких вещах. Эго есть вопрос о самой сущности России. О нашем с вами ду­ ховном “я”. Что, в самом деле, может предложить Россия миру? Самую совре­ менную систему канализации? В этом отношении мы никогда не смо­ жем конкурировать с немцами. Самую совершенную систему накопле­ ния долларов? Мы в этом отношении никогда не сможем конкуриро­ вать с американцами. Самую лучшую систему торговли с людоедами? М ы в этом отношении никогда не сможем конкурировать с англича­ нами. Мы всегда будем отставать и в канализации, и в долларах, и в людоедах. Просто потому, что и канализация, и доллары, и людоеды интересуют нас меньше, чем немцев, американцев и англичан. “Не Миф о Николае II 99 имей сто рублей, но имей сто друзей”. Нас главным образом интересу­ ют человеческие отношения с людьми. И в общем, при всяких там подъемах и спадах, человеческих отношений человека к человеку в России было больше, чем где бы то ни было. И в общем, наша Импе­ рия отличается от всех иных именно тем, что от времени колонизации волжского междуречья до 1917 года в этой Империи не было завое­ ванных народов. В этой “тюрьме народов” министрами были и поля­ ки (граф Чарторийский15), и грек (Каподисгрия16) и армяне (ЛорисМеликов17) и на бакинской нефти делали деньги порабощенные Манташевы и Гукасовы, а не поработители Ивановы и Петровы. В те вре­ мена, когда за скальп индейца в Техасе платили по пять долларов (детские скальпы оплачивались в три доллара), русское тюремное пра­ вительство из кожи лезло вон, чтобы охранять тунгусов и якутов от скупщиков, водки, сифилиса, падения цен на пушнину и от периоди­ ческих кризисов в кедровом и пушном промысле. Была “завоевана”, например, Финляндия. С Финляндией получился фокус, какого нико­ гда с сотворения мира не было: граждане этой “окраины” пользова­ лись всеми правами русского гражданства на всей территории Импе­ рии — а все остальные граждане всей остальной Империи не пользо­ вались всеми правами в Финляндии. В частности, Финляндия запре­ тила въезд евреев — по какому бы то ни было поводу. Это в свое вре­ мя ставило перед нашими профессиональными прогрессистами истин­ но головоломную задачу: защищая независимость Финляндии, им приходилось защищать и еврейское неравноправие. Вообще, если вы хотите сравнить быт тюрьмы и быт свободы — то сравните историю Финляндии с историей Ирландии. Сейчас обо всем этом люди предпочитают не вспоминать. Ибо ка­ ждое воспоминание о русской государственной традиции автоматиче­ ски обрушивает всю сумму наук. Если вы признаете, что в самых тя­ желых исторических условиях, какие когда-либо стояли на путях госу­ дарственного строительства, была выработана самая человечная госу­ дарственность во всей мировой истории, то тогда вашу философскую лавочку вам придется закрыть. Тогда придется сказать, что не Нико­ лаю II нужно было учиться у Гегеля, а Гегелям нужно было учиться у Николая II. Этого не может признать никакой приват-доцент. Ибо — что же он будет жрать без Гегеля? И чем будет он соблазнять свое шашлычное стадо? В течение одиннадцати веков строилось здание “диктатуры совес­ ти”. Люди, которые это здание возглавляли, были ббльшими рабами этой совести, чем кто бы то ни было из нас. Они несли большие поте­ ри, чем пехота в Первой мировой войне: из шести царей — от Павла 1 до Николая II — три погибли на посту: Павел I, Александр II и Нико- 100 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век лай II — ровно пятьдесят процентов. И Павел, и Александр, и Нико­ лай были убиты, конечно, вовсе не за реакцию, сумасшествие, проиг­ рыш войны и прочее: они все были убиты главным образом за русское крестьянство. Павел начал его освобождение, Александр — кончил, и Николай ликвидировал последние остатки неравноправия. Павла объ­ явили сумасшедшим. В моей книге я привожу все его законодатель­ ные мероприятия, среди всех них нет ни одного неразумного, ни од­ ного реакционного, ни одного, под которым мы и сейчас, полтора­ ста лет спустя, не могли бы подписаться обеими руками. Но его сделали сумасшедшим, как Александра II — реакционером и Ни­ колая II — пьяницей и дураком. Это было необходимо для вящей славы науки и НКВД. Русский царизм был русским царизмом: государственным строем, какой никогда и нигде в мировой истории не повторялся. В этом строе была политически оформлена чисто религиозная мысль. “Дикта­ тура совести”, как и совесть вообще, не может быть выражена ни в каких юридических формулировках — совесть есть религиозное явле­ ние. Одна из дополнительных неувязок русских гуманитарных наук заключается, в частности, в том, что моральные религиозные основы русского государственного строительства эта “наука” пыталась уло­ жить в термины европейской государственной юриспруденции. И с точки зрения государственного права в истории Московской Руси и даже петербургской Империи ничего нельзя было понять — русская наука ничего и не поняла. В “возлюби ближнего своего, как самого себя” никакого места для юриспруденции нет. А именно на этой, пра­ вославной, тенденции и строилась русская государственность. Как можно втиснуть любовь в параграфы какого бы то ни было договора? Я должен сознаться совершенно откровенно: я принадлежу к числу тех странных и отсталых людей, русских людей, отношение которых к русской Монархии точнее всего выражается ненаучным термином: любовь. Таких же, как я, чудаков, на Русской земле было еще мил­ лионов под полтораста. Под полтораста миллионов есть и сейчас. Нужно, кроме того, сказать, что термин “любовь”, во-первых, страш­ но затрепан и, во-вторых, совершенно неясен. Любовь к Богу и лю­ бовь к севрюжине с хреном, совершенно очевидно, обозначают разные вещи. Я очень охотно могу себе представить, что ряд русских монар­ хистов питали и питают к Монархии точно такие же чувства, как и к севрюжине: хороша была севрюжина! К числу этих людей я не при­ надлежу: никаких севрюжин у меня в царской России не было. Как не было их и у остальных полутораста миллионов чудаков. Мы были са­ мым бедным народом Европы, или, точнее, самыми бедными людьми Европы. И в то же время мы были самыми сильными людьми мира и Миф о Николае II 101 самым сильным народом истории. Мы были бедны потому, что нас раз в лет сто жгли дотла, и мы были сильны потому, и только потому, что моральные соображения у нас всегда перевешивали всякие иные. И если люди в течение одиннадцати веков обломали всех кандидатов в гениальные и гениальнейшие — от обров до немцев и от Батыя до Гитлера, то потому и только потому, что в России они видели мораль­ ную ценность, стоящую выше их жизни. Ценность, стоящая выше жизни, может быть истерией или религией. Можно, конечно, доказы­ вать, что все одиннадцать веков русский народ пребывал в состоянии перманентной истерики и, как истерическая баба, требовал над собой кнута. Эту точку зрения очень охотно разрабатывала немецкая обще­ ственная мысль. Если судить по доктору Шумахеру, то истоки этой мысли не иссохли и сейчас. Стоя на общепринятой научной точке зрения, мы можем сказать, что русский царь был “властителем” над ста восемьюдесятью миллио­ нами “подданных”. Юридически это будет более или менее верно. Психологически это будет совершеннейшим вздором. Русский царь был единственным в России человеком, который не имел свободы со­ вести, ибо он не мог не быть православным, не имел свободы слова — ибо всякое его слово “делало историю” — и не имел даже свободы пе­ редвижения, ибо он был, конечно, русским царем. Да, цари жили во дворцах. Это кажется очень соблазнительным для людей, которые во дворцах не живут. Люди, которые по долгу службы обязаны иметь дворцы, предпочитают из них удирать. Ни­ колай II не стоял, конечно, в очереди за хлебом и икрой — я силь­ но подозреваю, что даже и мистер Уинстон Черчилль имеет в сво­ ем распоряжении что-то кроме официальных 2500 калорий, пола­ гающихся по карточкам. Вероятно, мистер Трумэн18 шлет ему по­ сылки КАРЕ. Николай II был, вероятно, самым богатым челове­ ком в мире. Ему “принадлежал”, например, весь Алтай. На Алтае мог селиться кто угодно. У него был цивильный лист в тридцать миллионов рублей в год: революционная пропаганда тыкала в нос “массам” этот цивильный лист. И не говорила, что за счет этих тридцати миллионов существовали императорские театры с вход­ ными ценами в семнадцать копеек — лучшие театры мира, что из этих тридцати миллионов орошались пустыни, делались опыты по культуре чая, бамбука, мандаринов и прочего, что на эти деньги выплачивались пенсии таким друзьям русской монархии, как се­ мья Льва Толстого. И когда русская династия очутилась в эмигра­ ции, то у русской династии не оказалось ви копейки, никаких те­ кущих счетов ни в каких иностранных банках. Другие династии о черном дне кое-как позаботились... 102 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Но пока что мы с очень большой степенью точности переживаем судьбу нашей монархии: погибла она — гибнем и мы. Страшное убий­ ство Царской Семьи было, так сказать, только введением в тридцати­ летнюю работу ВЧК—ОГПУ—НКВД. Я никак не склонен ни к какой мистике; но вот эта тридцатилетняя работа — не является ли она ка­ ким-то возмездием за нашу измену Монархии, нашей Родине, нашему собственному национальному “я”? Платим, впрочем, не мы одни: весь мир тонет в грязи и в свинстве, какие при наличии русской Монархии были бы немыслимы вовсе, как немыслима была бы и Вторая мировая война. Русская революция была для Гитлера "указующим перстом провидения”, это именно она указала ему путь к войне, к славе и к виселице. Сколько людей, кроме Гитлера, видят в ней тот же указую­ щий перст — и в том же направлении: начиная от Милюкова и кон­ чая теми еще даже и не новорожденными идеями, которые так скром­ но и так жертвенно собираются усесться на престоле русских царей. Я недавно отправил в САСШ рукопись моей новой книги. Моя первая книга — “Россия в концлагере” — была переведена на ше­ стнадцать иностранных языков и имела общий тираж что-то около пятисот тысяч экземпляров. Следовательно, можно рассчитывать и на какой-то успех этой книге. Но можно рассчитывать и на пол­ ный провал: я пытаюсь доказать республиканским янки, что все их представления о русской Монархии есть совершеннейший вздор. Вообще говоря, люди не любят доказательства такого рода: каждый считает, что уж он-то никаким вздором не одержим. Может быть, другие, но только не он. У него, у каждого данного человека в ми­ ре, достаточно и информации, и ума. Так, например, вероятно, считает и французский мужик, голосующий за коммунистов. Так, конечно, считает и американский фермер, голосовавший против войны с Гитлером за несколько месяцев до вступления Америки в эту войну. Очень большие запасы и информации и мозгов находи­ лись в распоряжении германской интеллигенции в 1938 году. И еще большие — у русской до 1917 года. А дела с каждым годом идут все хуже и хуже. Попробуйте вы доказать янки,, что с чем-то у него не в порядке — или с информацией, или с мозгами, или с тем и другим одновременно! Тема о русской Монархии может похоронить книгу. Можно ли от­ казаться от этой темы, “молчанием предать истину”, нейтрально смот­ реть на всю ту ложь, которую, увы, наша же интеллигенция пустила по всему миру о наших “коронованных зверях” — о Царе-Освободи­ теле Александре II и о Царе-Искупителе — Николае II? И я пишу: от этой темы я отказаться не могу, ибо это вопрос о жизни или смерти России. Но может быть — и не только России. Что станет со всем ми­ Миф о Николае II 103 ром, если диктатуре бессовестности дадут время для массовой продук­ ции атомных бомб? Очень многие из моих читателей скажут мне: все это, может бытъ, и правильно — но какой от всего этого толк? Какие есть шансы на восстановление Монархии в России? И я отвечу: приблизительно все сто процентов. ...Из всех доводов против Монархии имеет самое широкое хожде­ ние такой: “А с какой же стати я, Иванов Самый Седьмой, стану под­ чиняться Николаю II?” Иванов Самый Седьмой забывает при этом, что, живя в государстве, он все равно кому-то подчиняется. Забывает и еще об одном: он подчиняется не Николаю II, а тому принципу, ко­ торый в Николае II персонифицирован и которому Николай II подчи­ нен еще в большей степени, чем Иванов Самый Седьмой. Царь есть только первый слуга монархии, и это очень тяжкая служба: пятьдесят процентов потерь за 116 лет! Нигде в мире, кроме России, такой служ­ бы не было, и нигде в мире, кроме России, люди не старались в меру юридической и моральной возможности отказаться от бремени Мономахова венца. Обычно это было технически невозможно. Но когда по­ являлась лазейка — то вот Николай Павлович усердно присягал Кон­ стантину Павловичу, Константин Павлович столь же усердно присягал Николаю Павловичу. Можете ли вы себе представить такое же сорев­ нование между Троцким и Сталиным? Если у нас, не дай Господи, произойдет то, что эмигрантские простецы называют “национальной революцией”, то к власти при­ дут наследники нынешней коммунистической банды — в СССР больше некому, и бывшая Святая Русь в октябре 2017 года будет праздновать столетний юбилей взятия Зимнего дворца — и ника­ кой историк не посмеет сказать о шестидесяти миллионах убитых и замученных русских людей: ибо у власти будут сидеть наследни­ ки убийств и убийц. Что к этому времени остается от бывшей Свя­ той Руси — для наследников банды будет так же безразлично, как сегодняшним политическим наследникам Конвента совершенно безразлично, что осталось от Франции и что останется. Да, мил­ лионы моих “братьев” пали жертвой в борьбе роковой. Зато я, Иванов Самый Седьмой, унаследовал их штаны — не снимать же мне их, в самом деле? Да, были муки рождения новых штанов, сшитых по последнему слову философской моды, — вот видите, какие замечательно свободные просторные штаны! Штаны, напол­ ненные свободой, равенством и братством — четырьмя сотнями правительств, из которых за полтораста лет ни одно не в состоя­ нии удержать страну в истории человечества, страну, поставленную в самые лучшие в Европе условия, страну, которая как в 1814-м, 104 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век так и в 1948 году может держаться только на русской крови или американских долларах. Уберите русскую кровь в 1914-м или в 1942 году или американские доллары в 1918-м или 1948-м — и с прекрасной Францией будет кончено: ее разорвут на клочки ее собственные налогоплательщики. Но это ничего. В 1948 году Франция празднует годовщину револю­ ции 1848 года. И никто не краснеет — ни за себя, ни за Францию. Так при “национальной революции” наши внуки, может быть, не будут краснеть за золотое сердце товарища Дзержинского. Найдутся деньги, найдутся профессора, и найдутся исторические объяснения: муки ро­ ждения новых штанов... Всех ста процентов нигде в мире нет. Всегда остаются какие-то проценты или доли процента, какие не может учесть никакое че­ ловеческое предвидение. Но по всему человеческому провидению, республиканская форма правления у нас невозможна никак. Для нее не было почвы в 1917 году, когда еще оставались земское и го­ родское самоуправления, Церковь, буржуазия и прочее. Что оста­ нется для нее в 195? году? Совершенно атомизированная масса, которая если не пойдет за “веру, царя и отечество”, то совершенно неизбежно влипнет в новый тоталитарный режим. И вовсе не по­ тому, что в эмиграции имеются тоталитарные партии — а только потому, что единственным сырьем для какой бы то ни было “орга­ низации” в России окажутся остатки коммунистической партии и советской бюрократии. Если не будет Монархии — то тогда к вла­ сти придут они. Они будут называть себя “советской интеллиген­ цией”. Они будут “советской бюрократией”. И всеми силами по­ стараются воссоздать режим, который в наилучшей степени при­ строит бюрократию, — то есть тоталитарный режим. Настоящая угроза будущему России — если исключить внешние опасности — заключается только и исключительно в тех последышах ВКП(б), которые под всякими “национальными” и даже “демократи­ ческими” восклицательными знаками продолжают нынешнюю тради­ цию ВКП(б). Эго, кажется, начинают понимать даже и наши социа­ листы. Это значит, что даже и Р. Абрамович чему-то научился. Может быть, можно было бы кое-кого научить и еще вот чему. Русское “самодержавие” было “куполом”, под которым уживались чисто республиканская форма правления в Финляндии и чисто абсо­ лютистская форма правления в Бухаре. Мирно потрясали кулаками перед самым носом друг у друга самые крайние монархисты вроде Пуришкевича и самые левые социалисты вроде Ленина; пускать в ход эти кулаки Монархия не позволяла ни Пуришкевичу, ни Ленину. При Монархии было хозяйство капиталистическое, но при той же Монар­ Миф о Николае II 105 хии у нас был такой процент социалистического хозяйства, какого не было больше нигде в мире. Как нынче доказать мистеру Эттли, что Николай II был большим прогрессистом и даже социалистом, чем ли­ дер английской рабочей социалистической партии? Раньше всего условимся: если под национализацией или социал-демократизацией чужих кошельков понимать истинный со­ циализм, то ни Николай II, ни мистер Эттли социалистами не яв­ ляются. Оба они с точки зрения чистого марксизма являются “социал-соглашателями”. Николай II их “скупал в казну”. Мистер Эттли национализирует английский банк — русский всегда был го­ сударственным. Эттли проектирует бесплатное обучение — оно у нас при Николае II было уже фактически бесплатным. Мистер Эттли заводит государственное хозяйство — такого государственно­ го хозяйства, как при Николае II и в его время, ни у кого в мире не было, да, вероятно, нет и сейчас: были казенные заводы, казен­ ные имения, было огромное земское хозяйство, были артели, коо­ перация, были церковные поместья, которые стояли на очень вы­ сокой технической ступени, и были “удельные имения”, которые играли роль лабораторий для всего русского сельского хозяйства. Если под социализмом подразумевать “общественный сектор на­ родного хозяйства”, а не грабеж среди красного дня, то тогда с со­ вершенной неизбежностью нужно будет сказать, что Николай II был не меньшим социалистом, чем мистер Эттли. Если вам попадется моя книга “Диктатура импотентов”, то вы, ве­ роятно, установите тот факт, что я занимаю самый крайний фланг не­ примиримости по адресу всякого социализма. Но здесь я хочу конста­ тировать то совершенно очевидное обстоятельство, что режим царской России давал свободу конкуренции всем людям и всем хозяйственным формам страны: и капиталистической, и земской, и государственной, и кооперативной, и артельной, и даже общинной. Свобода конкуренции есть свобода жизни. Свобода конкурен­ ции есть свобода проявления вашего творческого “я”. Всякая госу­ дарственность как-то ограничивает и свободу конкуренции и сво­ боду “я” — вводит таможенные пошлины и воинскую повинность. Но всякая разумная форма государственности ограничивается пре­ делами самого необходимого, очевидно необходимого, крайне не­ обходимого. Но когда возникает истина из шести больших букв, то за тем забором из восклицательных знаков, которым она себя ок­ ружает, неизбежно организуется застенок, в котором святые отцы философской инквизиции будут определять мое право пахать зем­ лю, шить сапоги, писать книги или компонировать оперы. И тогда пропадет хлеб, обувь, литература и вообще — все. 106 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Задача объединения всей разумной части эмиграции заключается в ее объединении против всякого тоталитарного режима — режима ВКП(б) или XV — это совершенно безразлично. Задача всякого разум­ ного русского человека заключается в том, чтобы смотреть в лицо фактам, а не в рожу галлюцинациям. Сговориться мы можем только относительно фактов — пусть с оговорками, разницей в оценках и от­ тенках. Но нет никакой возможности сговориться о галлюцинациях — тех вариантах невыразимого будущего, каких еще никогда не было, какие ни на каком языке действительно невыразимы никак. Я призываю людей следовать украинскому лозунгу: “Волим под Царя московского православного”, ибо это есть единственная, единственно реальная, веками проверенная гарантия того, что мы и дальше не будем катиться, почти по Горькому, все вперед и ни­ же, как все мы фактически катимся уже тридцать лет. Никакой иной гарантии нет. И все нынешние обещания стоят столько же, сколько нам уже обошлись все предшествующие. Давно забытый Автор сказал: “Берегитесь волков в овечьих шкурах — по делам их узнаете их”. Сравните то, что нам обещали овечьи шкуры и сто, и пятьдесят, и тридцать, и десять лет тому назад — со всем тем, что сейчас реализовано и во Франции, и в России, и в Германии. Не верьте никаким обещаниям. Не стройте никаких галлюцинаций. Не слушайте никаких философов ни с какими писаными торбами: в этих торбах ничего, кроме спирохетов, нет. О СЕПАРАТНЫХ ВИСЕЛИЦАХ В № 12 “Нашей страны” в статье “По стопам 1613 года” попалась очень неудачная формулировка о сепаратистах, “которые пусть уж подождут... до виселицы”. Это, так сказать, редакционный недосмотр, в том числе и мой. Местные аргентинские украинцы ока­ зались обиженными. Может быть, и кое-кто другой. Формулировка о виселице оказалась неудачной главным образом вследствие ее кратко­ сти. Я вообще уклонялся от тем о наших российских сепаратизмах просто потому, что этот вопрос считаю совершенно третьесортным. В тех “Тезисах Народно-имперского движения”, которые были нами выпущены перед войной, решение “национального вопроса” было предложено в такой форме. Российская империя есть наш общий дом, имеющий нашу об­ щую крышу и общие внешние стены. Но в пределах этого дома ка­ ждая народность имеет свою собственную квартиру, в которой она может устраиваться как ей будет угодно — с некоторыми, однако, условиями: не поджигать общего дома и не устраивать в своей соб­ ственной квартире складов взрывчатых веществ, воровских прито­ нов или нарушения общественной тишины и спокойствия. Каждый человек Империи может говорить, писать, учиться и само­ управляться на каком ему угодно языке. Может знать общегосударст­ венный язык, но имеет полное право и не знать. Может вводить в свою школу этот язык — но имеет право и не вводить. Однако: язык правительства, армии, транспорта, связи и пр. — должен быть языком общегосударственным. Словом, никто никого не заставляет любить русский язык. Не любишь — не надо, тебе же будет хуже. Никакого нового изобретения тут нет. За некоторыми исключения­ ми на Руси так и было. Ключевский пишет, что “Москва не любила ломать местных обычаев” — но не любил этого и Петербург. Финлян­ дия и Бухара управлялись собственными законами и на собственном языке. Польша до завоевательных своих восстаний — тоже. В Прибал­ тике очень долгое время официальным языком оставался — как и был — немецкий язык. На Кавказе дело было сложнее: один Дагестан во времена советской “коренизации” имел шестнадцать официально признанных языков. Один грузинский имел три официально признан­ ных наречия. В результате этого советский Кавказ был довольно точ­ 108 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ной копией Вавилонской башни после смешения языков. Но, в об­ щем — с поправками на всякие ошибки и промахи, — дело шло при­ близительно к тому предложению, которое и было сформулировано в “Тезисах”. Весь вопрос, собственно, заключается не в том, будут ли латыши говорить по-латышски — конечно, будут. И даже не в том, будут ли они говорить по-русски — будут те, кто захочет пробиться в жизни. Весь вопрос заключается в том и почти только в том, что ни русское правительство, ни русский народ во всех трех его ветвях — ве­ ликорусской, малорусской и белорусской — никогда не признавали и, по всей вероятности, никогда не признают своей какой бы то ни было отделенное™ друг от друга. Отделение Украины от Великороссии оз­ начает гибель. И Великороссии, и Украины. Таким образом, то, что я написал о сепаратистах и о виселицах, не касается никак ни латышей, ни грузинов. Политические и про­ чие обстоятельства почти наверняка приведут Латвию ко включе­ нию в состав Российской Империи, но с чисто моральной точки зрения мы никак не вправе считать латвийских или грузинских се­ паратистов какими бы то ни было изменниками. Включение При­ балтики в состав Империи неизбежно потому, что тысячелетний порыв России к морю не может быть остановлен соображениями о “самоопределении вплоть до отделения”. Но это все есть вопросы, так сказать, технические, вопросы, никак не грозящие бытию Рос­ сии. Украинский сепаратизм грозит бытию всей России — то есть и Великороссии и Малороссии. Украинский сепаратизм, кроме того, вырос на целой серии сплошных подлогов. Самостийные разговоры об эксплуатации Москвой Украины — это есть, конечно, сплошной вздор. Московская впасть прекратила беско­ нечную гетманскую резню, и общерусскими усилиями были разгром­ лены и татары, и Польша, и Турция — веками и веками поддержи­ вающие Украину в состоянии пустыни или пепелища. Общерусскими усилиями были построены железные дороги, Кривой Рог и Донбасс, гавани и университеты. Общерусскими усилиями были разгромлены и Наполеон и Гитлер. Эго все, как мне кажется, совершенно очевидно. Это совершенно очевидно для каждого среднего великорусского, ма­ лорусского или белорусского хлебороба или сапожника. Но доказы­ вать все это профессиональным самостийникам нет никакого смысла. Они ничего этого не будут слушать не потому, чтобы все это было не­ правдой, а потому, что все это им невыгодно. Я — стопроцентный белорус. Так сказать, “изменник родине” по са­ мостийному определению. Наших собственных белорусских самостий­ ников я знаю как облупленных. Вся эта самостийность не есть ни убеж­ дение, ни любовь к родному краю — это есть несколько особый ком­ О сепаратных виселицах 109 плекс неполноценности: довольно большие вожделения и весьма малая потенция — на рубль амбиции и на грош амуниции. Какой-нибудь Янко Купала, так сказать белорусский Пушкин, в масштабах большой культуры не был бы известен вовсе никому. Тарас Шевченко — калиб­ ром чуть-чуть побольше Янки Купалы, понимал, вероятно, и сам, что до Гоголя ему никак не дорасти. Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Или — третьим в деревне, чем десятым в Риме. Первая решающая черта всякой самостийности есть ее вопиющая бездарность. Если бы Гоголь писал по-украински, он так и не поднял­ ся бы выше уровня какого-нибудь Винниченки1. Если бы Бернард Шоу писал бы на своем ирландском диалекте — его бы никто в мире не знал. Если бы Ллойд Джордж говорил только на своем кельтском наречии — он остался бы, вероятно, чем-то вроде волостного писаря. Большому кораблю нужно большое плавание, а для большого плава­ ния нужен соответствующий простор. Всякий талант будет рваться к простору, а не к тесноте. Всякая бездарность будет стремиться отгоро­ дить свою щель. И с ненавистью смотреть на всякий простор. Когда я говорю о бездарности, я не говорю только об отсутст­ вии таланта. Понятие бездарности включает в себя как неотъемле­ мую часть понятие — также и тщеславие. Есть целая масса очень хороших, очень разумных людей, которые не блещут никакими та­ лантами, но которых никто не обзовет бездарностями: ну не дал Бог таланта — значит, не дал. Бездарность надувается, пыжится, на цыпочки становится, бездарность, прежде всего, претенциозна. Бездарность обвиняет весь мир в том, что весь мир не оценил ее дарований. И бездарность ненавидит весь мир за то, что весь мир не несет к ее ногам благодарственных даров за бездарность. Без­ дарность автоматически связана с ненавистью. Тарас Шевченко, конечно, великим талантом никак не был. Я люблю его поэзию, и я знаю ее. Это не Гете и не Байрон, не Пуш­ кин и не Лермонтов, и даже не Кольцов и Никитин. Он писал тро­ гательно-провинциально-детские стишки. Они очень напоминают стихи моего сына — в возрасте лет двенадцати: Я ем сосиску — ах, как вкусно! Что это — сказка или сон? Ведь в животе безмерно грустно: Давно уже пустеет он. Очень трогательные стишки — для двенадцати лет. Трога­ тельность Шевченки усугубляется его трагической крепостной судьбой; но ведь крепостная судьба — это не национально-ук­ раинское явление. И его призыв: Солоневич И.Л. Наша страна. XX век по Кайданы порвите И ворожьей злою кровью Землю напоите... — имел в виду не только крепостное право. Он имел в виду брат­ скую резню. Кое-кто из наших единомышленников исписывает горы бумаги для исторических, лингвистических и даже краниологических до­ казательств того, что великороссы, малороссы и белорусы — это только три ветви одного и того же народа. Я думаю, что все эти доказательства более или менее не нужны. В краниологии все рав­ но никто ничего не понимает — даже теоретики расовой теории, а что касается лингвистики, то я бы привел Шевченко: Думы мои, думы мои, Лихо мене з вами. Чого стали на папиру Смутными рядами? Что вас витер ни розвияв, Як суху былину? Что вас лихо ни прислало, Як свою дытину? Как видите, никакого перевода на общерусский язык не нужно никак. Янка Купала: Партизаны, партизаны, белорусские сыны! За неволю, за кайданы режце гитлерау паганых, Каб не ускресли век яны. Не даваце гадам силы над собою распрасцерць, Рыйце загодзя магилы, вырывайте с живых жылы, Кроу за кроу, а смерць за смерць! Как видите — тоже никакого перевода не нужно. Нужна, я бы сказал, орфографическая корректура. Так что ни лингвистика, ни краниология тут решительно ни при чем. Вопрос вовсе не в них — вопрос в дружбе или в ненависти. НЕНАВИСТЬ Пройдя неслыханные в истории человечества муки и испыта­ ния, все три ветви одинаково русского народа и одинаково право­ славного народа сошлись наконец под скипетром Царя Москов­ О сепаратных виселицах 111 ского православного. Больше всего для этого сделали великороссы. Меньше всего от этого выиірали они. Великороссы есть наиболее старинная ветвь русского народа — они и без нас, белорусов, и без “вас”, “украинцев”, освободили себя и от татар и от поляков. А вот что бы мы, белорусы, делали без великороссов? Или — что бы­ ло бы без великороссов с Украиной? Турецкая, польская или не­ мецкая колония? Или такое же пустынное пепелище, каким Ук­ раина была под властью попеременно гетманов — павших гетманов польских королей, турецких султанов или крымских турок? Кто и за кого пролил больше крови: кацап за хохла или хохол за кацапа? И какой смысл взвешивать эту кровь? Пройдя неслыханные в истории человечества муки и испыта­ ния, три ветви одного и того же одинаково русского и одинаково православного народа наконец построили свой общий отчий дом. Я — белорус и, кроме того, крестьянского происхождения. Ко мне, белорусу, приходят милостивые государи, которые пытаются вбить клин ненависти между мной, “кривичем”, и другим Иваном — “москалем”. Другие сеятели ненависти приходят к другому Ивану — Галушке и пытаются вбить еще более острый клин нена­ висти между ним, Иваном Галушкой, и тем же Иваном Москалем. У этих милостивых государей нет за душой ничего, кроме бездар­ ности и ненависти. Больше — ничего. Я очень хотел бы оговориться: ни с каким московитским импе­ риализмом это не имеет ничего общего. Я не люблю очень многих людей. Я питаю ненависть к некоторому, довольно ограниченному, количеству людей. Но если я к кому бы то ни было питаю искрен­ нее отвращение, так это к самостийникам. Это отвращение не носит политического характера. Это есть моральное отвращение. Баварская самостийность была бы нам по­ литически очень выгодна: она расколола бы Германию и свела бы на нет немецкую угрозу всему славянству. Однако — к баварским самостийникам я питаю почти такие же чувства, как и к украин­ ским: чувства отвращения — ибо и они, баварские самостийники, сеют ненависть среди разных ветвей одного и того же немецкого народа. Но у Баварии есть, может быть, некоторые основания: язык, который больше отличается от литературного немецкого, чем шевченковский от литературного русского, разные религии и разное историческое прошлое. Но все-таки противно. Мы как-то провели целое лето у баварского города Обинга, и туземцы не же­ лали с нами разговаривать, потому что считали нас “проклятыми прусаками”. Мне лично приходилось убеждать огородников и са­ пожников в том, что я — русский, а не пруссак. С политической 112 Солонеет И.Л. Наша страна. XX век точки зрения это было приятно. Но ведь русская политика никогда не строилась на принципе разделения людей и племен. И если бы мы строили нашу русскую политику на, скажем, английских нача­ лах — то моральный смысл существования русской государствен­ ности перестал бы существовать. А мы все — сознательно или бес­ сознательно, исходим из того предположения, что наша государст­ венность или имеет свой моральный смысл, или не имеет никакого. В лингвистическом и религиозном отношении Германия поде­ лена гораздо глубже, чем Русь в ее трех ветвях. Исторически Гер­ мания имеет гораздо больше основания для вражды к Пруссии, чем Белоруссия или Украина — к Москве: Пруссия завоевывала ос­ тальную Германию, и Пруссия втянула остальную Германию в две мировые войны. Москва была нам, белорусским и малорусским “украинцам”, помощницей и освободительницей. Если бы не “москали”, то я, Иван Лукьянович, и до сих пор был бы крепост­ ным или полукрепостным пастухом какого-нибудь польского пана из гродненского воеводства. Если бы не москали, то Украина стала бы колонией: или Вильгельма II или Гитлера — вероятно, еще не последнего. Если бы в Первую и во Вторую мировую войны за на­ шей белорусской или малорусской спиной не стояла бы спина на­ шего старшего брата — “москаля” мы бы погибли. И если Польша, Австрия, Венгрия и Германия десятилетиями и десятилетиями оп­ лачивали украинских самостийников, то никакой украинский хле­ бороб не поверит, что они это делали во имя его, украинского хле­ бороба, интересов. И никакой украинский хлебороб за самостий­ ную Украину голосовать не будет — как он за самостийную Украи­ ну не голосовал никогда. ПЛЕБИСЦИТ Когда я говорю о голосовании, под ним я понимаю несколько разнообразные способы выражения народной воли. От “волим под Царя Московского, православного” — до истинно классической встречи петлюровской армии и деникинских казаков в Киеве у здания Городской Думы в 1919 году: большевики покидали Киев и в него с двух сторон входили две армии, белая и самостийная. Со­ вершенно случайно мне пришлось быть живым свидетелем одного исторического симптома. С Фундуклеевской на Крещатик вливались мощные колонны каких-то серожупанников — петлюровской гвардии, одетой и воо­ руженной немцами. Со стороны Липок туда же проскочил какойто казачий отряд, едва ли больше двух-трех десятков нагаек. Каза­ О сепаратных виселицах 113 ки сразу атаковали петлюровскую армию, и атаковали ее нагайка­ ми. Петлюровская армия бежала сразу — и только с Фундуклеевской улицы кто-то стал строчить из пулемета. Если бы я сказал, что петлюровская гвардия состояла из тру­ сов, — это было бы глупым утверждением. Украинский парень есть существо исключительно боеспособное — императорская гвардия пополнялась главным образом этими украинскими парнями, — и, как я писал в своем меморандуме А. Гитлеру, украинский мужик настроен патриотичнее великоросского — как и белорусский. Серожупанники бежали вовсе не потому, что они струсили, а потому, что никто из них не собирался проливать своей крови из-за петлю­ ровского балагана. Чрезвычайно боеспособное украинское кресть­ янство родило из своей среды банды, или “армии”, Махно и Гри­ горьева, — “банды” или “армии”, которые воевали и с белыми и с красными, но у которых не было никакого оттенка самостийности: это было общерусское явление, возникшее на территории Украи­ ны. Никто никогда ни за каких Мазеп, ни Петлюр2 не воевал. Га­ лицийские корпуса — чисто галицийского состава, организованные тем же Петлюрой, — не знали, куда им приткнуться, и переходили то к Белой, то к Красной армии — но за Петлюру они не выпусти­ ли ни одного патрона. Всенародные голосования проводятся разными способами. Ко­ гда в битве у реки Шелони новгородские низовые люди просто пе­ решли на сторону Москвы — это тоже было голосование. Бегство серожупанников по Крещатику было, конечно, голосованием. Но были и другие. В результате предшествующих событий часть Украины — При­ карпатская Русь — попала под владычество чешской демократии — по бенешевскому образцу. Бенешевская демократия обещала вся­ кие вещи, в том числе и самоуправление Прикарпатской Руси. Бы­ ло проведено совершенно официальное голосование по вопросу о языке управления и преподавания. Несмотря на все усилия товари­ ща Бенеша3 и присных его, за русский язык высказалось восемьде­ сят шесть процентов населения. Восемьдесят шесть процентов. В тот короткий промежуток времени, когда Великая Петлюра балага­ нила — при немецкой поддержке в Киеве, — русская обществен­ ность подняла вопрос о плебисците. И петлюровский министр Ва­ силий Шульгин4 сказал прямо: никаких там голосований — ибо мы знаем, что голосование будет в пользу русского языка. Погово­ рите, пожалуйста, с любым самостийником — первым встречным и поперечным: ни на какое голосование он не согласится никак. И по тем же самым соображениям. 114 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ИНТЕРЕСЫ Я — стопроцентный белорус. Я прожил на Украине около вось­ ми лет. Мне, белорусу, какая-то сволочь пытается доказать, что ве­ ликоросс есть мой враг — что малоросс есть тоже враг: если мы са­ моопределимся на три части, то возникнут весьма серьезные тер­ риториальные разногласия между Украиной и Белоруссией по по­ воду моего Пружанского уезда, в котором люди говорят на сме­ шанном малорусско-белорусском наречии. Вероятно, возникнут какие-то войны из-за Пинских болот: почему нет? Я, белорус, ве­ роятно, должен буду получить какую-то визу, чтобы проехать из Минска в Пинск, причем если Пинск попадет в распоряжение петлюровцев, то я визы и вообще не получу: империалист. А в Минск, вероятно, никто не пустит грузинских империалистов, ру­ ками товарища Сталина-Джугашвили подчинивших себе все три великих народа — великорусский, малорусский и белорусский. И для того чтобы переслать бочонок нежинских огурцов из Нежинска в Курск, нужно будет получить разрешение по крайней мере двух внешторгов. Ведь все это понимает каждый великорусский,. малорусский, белорусский и грузинский мужик, сапожник, металлист и футбо­ лист. Никто из них ни за какую самостийность голосовать не будет — ни бюллетенями, ни пулеметами. Никто никогда не голо­ совал и никто никогда голосовать не будет. Мазепа, Скоропадский5 и Петлюра — и Карл XII, и Вильгельм II, и Адольф Гитлер проверили это на своем собственном опыте. Наполеон, который был, конечно, умнее их всех вместе взятых, категорически отказал­ ся от проекта вооружения украинского казачества: “Я могу их по­ садить на коней — но как их потом ссадить?” УБЛЮДКИ В своей книге о “Диктатуре импотентов” я делаю попытку доказать тот факт — или то, что мне кажется фактом, — что ре­ волюция рождается из биологической неполноценности и их во­ ждей и их масс. Отсюда такой не вполне салонный заголовок этой работы. В этой работе я никаких самостийников не каса­ юсь. Но эта же гипотеза — гипотеза об ублюдках — довольно точно приложима и к мазепинцам. Гнездом украинского сепаратизма была Галичина. Я не могу здесь излагать ее истинно трагическую историю. Но эту историю я, О сепаратных виселицах 115 может быть, чувствую острее, чем любой великоросс: у нас в Бело­ руссии было немногим лучше. В результате чудовищного политиче­ ского, хозяйственного и религиозного давления все, что было стойкого в Галичине, бежало — то в САСШ, то в Россию. В Рос­ сии это все, разумеется, растворилось в общерусском море сразу. В САСШ произошел довольно парадоксальный процесс: около мил­ лиона галичан определили собою просоветскую ориентацию и рус­ ской Церкви и русской общественности: это вот те “украинские мужички”, которые имеют в Северной и в Южной Америке и свои фермы и свои авто и которые стоят за “отца народов”, ибо в “отце народов” они видят Россию. Они политически абсолютно безгра­ мотны. Но они, галичане, волыняне, малорусы и белорусы — все они русские патриоты. Тот советский календарь, из которого я привел стишки Янки Купалы, пропитан, можно сказать, самым шовинистическим русским патриотизмом. И если в СССР Ста­ лин “разделяет, чтобы властвовать”, то здесь, в Америке, ком­ партия объединяет, чтобы взрывать. Именно галичане САСШ определили голосование приходов в московскую юрисдикцию митрополита Феофила: “Красная или белая — все равно наша Родина и наша Церковь”. В политическом отношении это может иметь катастрофические последствия. Но мы говорим о морали: морально эти мужички пра­ вы, а технически виноваты мы, отдавшие оружие “нового” “Рус­ ского” “слова” в распоряжение черт его знает кого. Но сейчас не в этом дело. Дело сейчас в том, что “украинский народ” — под Пол­ тавой и на Крещатике, в Чехословацкой Республике и в САСШ — всегда и всякими способами голосовал за Россию. Во имя совер­ шенно очевидных, совершенно бесспорных общих интересов — и экономических, и политических, и религиозных, и каких хотите еще. Кто же, собственно, голосует против? Наша “ирредента”, гнездо украинской самостийности, было свито в Галичине на немецкие и отчасти на польские деньги. И под влиянием немецкого и польского давления. В результате денег и давления возник слой самостийных ублюдков. Мы можем молиться о воссоединении церквей. И можем ра­ ботать для этого. Но никто, имеющий разум, не может отри­ цать, что униатская форма этого объединения есть облыжная форма: под внешней этикеткой Православия “массам” предла­ гается или продается совсем другое. Это есть ублюдочная форма религии. Язык галицийской самостийности есть ублюдочный язык — западный вариант украинского наречия, насквозь про­ питанный полонизмами. Национальное сознание галицийских 116 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век самостийников относится к области психиатрии: если Украина бу­ дет самостийна, то именно они, галицийские самостийники, будут то ли воеводами, то ли зондерфюрерами. Два раза такая форма бы­ ла сделана: в 1918 и в 1942 годах. И когда я писал о “виселицах”, то это было очень неточно: не “Москва” будет вешать эту публику, ее будут вешать сами же “украинцы”. И в особенности украинцы, которые попали на положение “ди-пи” и под контроль галиций­ ских самостийников. Вот те стесняться не будут. В том лагере, к которому наша семья была приписана последние годы в Германии, — лагере Хайденау, самостийная галицийская полиция лагеря офи­ циально высекла галицийскую девушку, вышедшую замуж за пол­ тавского украинца: как вы думаете, как будет реагировать этот ук­ раинец на галицийского зондерфюрера? Вопрос об украинской самостийности я не считаю серьезным вопросом. Но, может быть, я и ошибаюсь. Кто в 1916 году счи­ тал Ленина серьезной величиной? Величиной Ленин стал глав­ ным образом на немецкие деньги. Не совсем исключается воз­ можность того, что на те же деньги станут величиной и гали­ цийские сепаратисты. В трагических условиях нашей географии наша общерусская власть должна проявлять возможный макси­ мум осторожности: то есть Лениных и Сталиных, а также Пет­ люр и Коновальцев вешать заблаговременно. А не ожидать, пока они станут отправлять на тот свет миллионы и десятки миллио­ нов и кацапов, и хохлов, и полещуков. Вот, собственно, это почти все, что я хотел сказать своей так плохо средактированной фразой о виселицах. ТОВАРИЩИ ЭНТУЗИАСТЫ' Так как мне, вероятно, еще не раз придется выступать на радио, то я хочу сразу же представиться моим слушателям в СССР. Зовут меня Иван Лукьянович Солоневич, родом я из кре­ стьян Гродненской губернии, а из СССР бежал в 1934 году. В Мо­ скве я был инструктором спорта при ВЦСПС и написал штук пять книжек по спорту и туризму, писал в спортивной печати и даже кое-что организовывал. Так что те физкультурники, у которых по­ литграмота еще не совсем отбила память, мое имя, вероятно, пом­ нят. Здесь, за границей, я написал несколько книг об СССР, изда­ вал и издаю антибольшевистскую газету — так что советчики меня помнят, даже и те, у которых политграмота отбила всякие мозги. Да и я советчиков не забуду, для этого есть основания. Бежали мы из СССР всей семьей разными способами. Я и мой сын по дороге попались и были посажены в концлагерь ББК и бе­ жали уже оттуда. Этот риск входил в мои расчеты. Но какой расчет был бежать? Мои расчеты сводились к следующему. В результате Октябрь­ ской революции к власти в России пришла просто сволочь. То есть сволочь и больше ничего. В первые революционные годы в ком­ партии еще были всякие мечтатели, фантазеры, идеалисты, изуве­ ры и прочее и прочее. То есть люди с вывихнутыми мозгами — но все-таки не сволочь. Вот вроде Бухарина, Томского, Фрунзе — я лично знал всех трех. Они, эти люди, действительно мечтали о благе трудящихся всего мира. Сволочи же и на трудящихся, и на благо, и на весь мир было в высокой степени наплевать: сволочь хотела портфеля и пайка, власти и денег. Сволочь хотела такого строя, при котором она бы, сволочь, имела: и портфели, и паек, и власть, и деньги. Сволочи было много. У сволочи были пулеметы. Сволочь грозила вождям: за что же мы кровь проливали, братишечки? В годы так называемой новой экономической политики, о кото­ рой в СССР сейчас не очень принято вспоминать, культурная, или просто грамотная, часть этой сволочи присосалась ко вся­ кого рода частникам, нэпманам, артелям и прочим, брала взят-* * Эта статья написана по заказу русского отдела “Радио Мадрид”. 118 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ки, купалась в сале, самогоне и в девках и жила припеваючи. Для нее революция была закончена. Ее взгляды выражал Буха­ рин: помните его предложение “обогащаться”. Другие армии сволочи — вот те, кто раньше, до нэпа, действовал в отрядах по раскулачиванию, по заготовкам, по продразверсткам, в загради­ тельных отрядах и прочих разновидностях общественного бан­ дитизма, — так и остались, так сказать, с разинутыми пулемета­ ми: а куда деваться, а мы-то за что кровь проливали — хотя и чужую кровь, не свою. Вожделение этих армий выражал собою Сталин. И Сталин зарезал Троцкого, Бухарина, Рыкова, Каме­ нева и прочих и прочих растленных псов вовсе не потому, что Сталин был “гением”, а Бухарин и прочие были идиотами, а просто потому, что всякие там “блага трудящихся” были на сто­ роне Бухариных, а на стороне Сталина были просто пулеметы. И пулеметы были на стороне сволочи, которая хотела: портфе­ лей, пайков, денег и власти: за что же, братишечки, и в самом деле боролись? Ликвидация нэпа и коллективизация деревни на базе ликвида­ ции кулака как класса обошлась народам России примерно в три­ дцать миллионов человеческих жизней и вызвала такое хозяйствен­ ное положение, когда недоедание сменяется голодом, а голод ино­ гда облегчается до недоедания — и это в стране, которая до рево­ люции вывозила в год около миллиарда пудов хлеба и где хлеб не стоил вроде как бы ничего: хоть пруд пруди. Но эта же сталинская политика давала портфели, пайки, власть и деньги миллионам пя­ ти сволочи. Были ликвидированы все “частные предприниматели” в России — начиная от мужика, потом ремесленника, потом тор­ говца, потом промышленника, — и надо всеми ними были постав­ лены коммунистические чиновники: с портфелями, пайками, вла­ стью и наганами. Вышел, правда, просчет: портфель оказался дырявым, пайки — голодными, власть сажать, ссылать и расстреливать рабочих и крестьян была очень сильно ограничена такой же властью со стороны вышестоящей сволочи. Но — что было делать. Куда пойдешь, кому скажешь? Говорить было некому, и уйти было некуда. По дороге к портфелям, пайкам, власти и прочему сво­ лочь наделала столько преступлений, нагромоздила столько тру­ пов, что хода назад не было никакого: у всякого сосланного, уморенного, расстрелянного оставались все-таки отцы, братья или сыновья, — и в стране, по колено залитой кровью, сволочи везде мерещились судьи, мстители и виселицы. И в самом деле: вот сегодня летит к чертовой матери наша род­ ная, наша советская, наша кровавая власть; куда пойдут все эти работники МВД и колхозов, партии и шпионажа? Что делать им и Товарищи энтузиасты 119 куда им деваться? Или мести, или на виселице болтаться? Они, как огромная кровавая пиявка, присосались к рабочим, к крестьянам и интеллигенции и действуют совсем по словам революционной пе­ сенки, которую наши социалисты распевали на мотив “Марселье­ зы” до революции (сейчас уже не поют): Твоим потом жиреют обжоры, Твой последний кусок они рвут... Голодай, чтоб они пировали, Чтоб в постыдной игре биржевой Свою совесть и честь продавали, Чтоб глумились потом над тобой. Биржевой иіры, впрочем, сейчас в СССР нет — есть другие иг­ рушки, вот вроде советских капиталовложений в китайскую ком­ партию, финансирования европейских забастовок, подкупа комму­ нистической сволочи во всем мире и прочего и прочего в том же роде — и все это за ваш счет, мои дорогие и мои бывшие земляки: дерут семь шкур с русского мужика — и все это для того, чтобы сволочь окончательно бы упрочила свои портфели и окончательно освободилась бы от угрозы виселицы. Все это происходит далеко не в первый раз: так было во вре­ мена “великой” французской революции, так было во времена столь же великой германской. Французская кончилась тем, что союзники пришли в 1814 году в Париж, германская — тем, что почти те же союзники пришли в Берлин в 1945 году. Так же кончится и великая русская революция: придется, как раньше Франции и Германии, воевать против всего мира, и шансов на победу в этой войне никаких... Вот это — кроме Германии — мне было ясно уже в 1932 году, когда мы окончательно спланировали свой побег из Москвы. Во­ прос стоял так: побег — это риск головами или, по крайней мере, свободой. Жизнь в СССР — это, собственно, тот же риск: или го­ ловами или, по крайней мере, свободой. Но при побеге есть всетаки шанс на какую-то человеческую жизнь — в СССР нет ни од­ ного шанса. Конечно, при некоторых духовных склонностях мож­ но было бы пойти в ряды погонщиков, сыщиков и палачей и за это быть приписанным к распределителю номер первый, но для такого рода деятельности у меня никаких талантов не было. И вот мы сбежали. В последние годы много, очень много русских людей попало за границу. Заграница эта была весьма второсортная. В Герма­ нии уже с 1933 года тоже вводился социализм, не совсем еще такой, как в СССР, но такого же типа. Там тоже была единая и единственно научная философия, единая и железная партия, 120 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век единый и гениальный вождь. И была такая же сволочь, как и в России. Мужик был уже почти коллективизирован, свиней и коров у него уже было мало, но такого раздора, как в России, народ еще не переживал — хотя и шел к этому. Так вот: вы са­ ми своими глазами видели, как живут люди в так называемых буржуазных странах. Но вы не видели и не могли видеть одно­ го: как живут люди на свободе: Люди, которые не боятся ника­ кой партии и никакой полиции, никаких конфискаций или со­ циализации, — люди, которые могут свободно говорить, сво­ бодно ездить и свободно работать. Главное — свободно рабо­ тать. Ибо если для человека важна свобода слова, то еще важ­ нее свобода труда — умственного и физического, художествен­ ного и промышленного, сельского и фабричного. Когда-то, в 1911 году, наш гениальный мыслитель Василий Васильевич Розанов писал: “Социализм заключается вовсе не в распределении народного богатства, а в том, что на шею одного трудолюбца сядет четырнадцать дармоедов и ни жить, ни рабо­ тать ему не дадут”. Примерно так и случилось. Правда, четыр­ надцати дармоедов пока еще нет, но на каждой русской шее уже сидит достаточно, многоэтажная профессионально-партий­ ная бюрократия и не дает ни работать, ни жить. И не даст ни­ когда, пока ее не “ликвидируют как класс”. Я боюсь, что в Рос­ сии ее ликвидировать некому, как некому было во Франции и в Германии: на одной стороне, коммунистической, — организа­ ция, радио, пулеметы, танки, шпионы и даже ядовитые газы, как это было при подавлении кубанского, сибирского и прочих восстаний. На другой стороне, народной, — дезорганизованная и совершенно безоружная масса. Войсковые части, которые что-то могли бы сделать, находятся вдали от центров страны и опутаны тройной сетью шпионажа. Но — война все-таки будет. И война будет идти не против Гитлера, который действительно был бы еще хуже Сталина, а против Запада, главным образом против САСШ, которые от России вообще ничего не хотят: ни территорий, ни контрибуций, но которые, как и все мы, хотят, наконец, жить по-человечески — без советских угроз, без граж­ данских войн, которые по всему миру организует Кремль, и во­ обще без всего того, чем промышляют наши коммунистические товарищи. Эти товарищи будут драться до конца тоже, вероят­ но, все-таки не все. Чем раньше они будут ликвидированы, тем меньше будут потери и России, и ее народов. Мы здесь, в эмиг­ рации, ко всему этому, в меру наших сил, готовимся — готовь­ тесь и вы. И если вы хотите знать, кто является истинным ком­ мунистом, то я вам скажу: тот человек, который вне коммуни­ стического строя годится только для двух вещей: для очистки Товарищи энтузиасты 121 уборных или для украшения виселиц. Все те люди, которые мо­ гут работать вне коммунистического строя, то есть все рабочие, крестьяне и интеллигенция, все имеющие свое беспартийное ремесло, — это только жертвы коммунизма, а не его сторонни­ ки. Они уже выросли при данном строе, и деваться им было не­ куда. Почти по русской пословице: “Со сволочью жить — посволочному и выть”... А мы с вами, Бог даст, встретимся еще где-нибудь на Кривоко­ ленном переулке, зайдем в трактир и поговорим о том, чтобы и нашим внукам, и нашим правнукам, и нашим праправнукам заве­ щать основной завет для всякого народа: никогда и ни под каким соусом никакой революции не устраивать, ибо революция есть ве­ ликий обман и больше ничего. Тот же В. В. Розанов писал: “В революции никогда не будет сегодня — будет только завтра, и всякое завтра обманет и перейдет в послезавтра... В революции никогда не было и не будет никакой радости — ибо никогда это царственное чувство не попадет в объятья этого лакея...” Так и вышло: всякая завтрашняя пятилетка переходит в после­ завтрашнюю, а ни хлеба, ни радости — как не было, так и нет. РАЗБИРАТЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ Суздаль и Москва не для тебя ли По уделам землю собирали? М. Волошин ЕЩЕ О ФИЛОСОФИИ Начиная приблизительно от Рюрика и кончая нашими днями, шел тысячелетний процесс собирания Русской земли. Обыч­ ное, так сказать иловайское, понимание русской истории приписывает заслуги этого “собирания” великим князьям, потом царям, потом им­ ператорам. Эти заслуги имеются, конечно, вне всякого сомнения. Су­ воров был, конечно, великим полководцем. Но если бы ему дали итальянских солдат, то я сильно опасаюсь, что Рымника не взял бы даже и Суворов. Карл Великий, императоры Священной Римской им­ перии, Католическая церковь, Наполеон и теперь Гитлер приложили невероятные усилия к собиранию земли европейской. Однако, как мы установили чисто экспериментальным путем, за полторы тысячи лет из этого ничего не вышло. Год тому назад я из Брюсселя поехал в Антверпен — 40 минут езды — и там установил невероятный для ме­ ня, русского, факт, что на вопросы, заданные на французском языке, люди отвечать не желают: поворачиваются спиной или, в лучшем слу­ чае, отвечают что-то по-фламандски. При таких настроениях собрать что бы то ни было — предприятие весьма затруднительное. Карл Ве­ ликий и Наполеон, может быть и Гитлер, были, вероятно, истинно ве­ ликими людьми. Однако у них не вышло решительно ничего. Мос­ ковские великие князья были, так сказать, исторически невзрачны­ ми фигурами — однако у них и у их преемников кое-что все-таки вы­ шло: Империя “окнами на пять земных морей”. Одна шестая часть земной суши, двадцать два миллиона квадратных верст и полтораста народностей. Эти полтораста народностей не давали покоя европейской фи­ лософии: нет, не может быть! Вот у нас, в Голландии или в Бель­ гии, в Ирландии или в Германии, народы и племена друг друга не­ навидят. А если есть “господствующее племя”, так оно ірабит: за­ чем же иначе и господствовать? Совершенно очевидно: великорос­ сы тоже грабят — иначе зачем же им “господствовать”? А осталь­ ные сто сорок девять народов, народностей и племен ненавидят Разбиратели Русской земли 123 великороссов — как же иначе? Словом, “колосс на глиняных но­ гах”. Толкнуть — и развалится. Основное отличие европейской истории от нормального че­ ловеческого здравого смысла заключается в том, что для фило­ софии никакие факты необязательны. Казалось бы довольно очевидным: об эти глиняные ноги разбились такие стальные го­ ловы, как татарские и польские, шведские и французские, даже вильгельмовская и гитлеровская. Глиняные ноги стоят. От ос­ тальных голов не осталось даже и черепков. Казалось бы: факт. И не только один, а Бог знает сколько фактов. Но — как я уже имел смелость утверждать, для философии факты необязатель­ ны. Совсем по Гегелю: тем хуже для фактов. Русская интеллигенция воспитана на европейских: философии, истории философии, государственном праве и всяких таких вещах. Те понятия, которые, может быть, и отвечают кое-какой европей­ ской реальности — как клерикализм, феодализм, капитализм, ми­ литаризм, империализм и прочее, — механически перенесены в русскую действительность, и получилась форменная чепуха. Совер­ шенно очевидно, что между английским империализмом с его опи­ умными войнами и русским с его среднеазиатским — дистанция огромного размера. Также совершенно очевидно, что, завоевав Польшу или Финляндию, русское правительство не от одного по­ ляка или финна не отняло ни одного клочка земли, а население Ирландии было ограблено до последнего клочка земли. Таких при­ меров можно было бы набрать на хороший энциклопедический словарь. Совершенно очевиден и тот факт, что строение русской государственности принципиально отлично от строения Европы. Однако с великим прискорбием нужно констатировать, что факты не обязательны и для русской интеллигенции — вот той, которая была вскормлена млеком всех ослиц европейской филосо­ фии. Сейчас — только что после Второй мировой войны, когда очередной проект расчленения России привел к очень глубокой трещине в очередной стальной голове, начинаются истинно фило­ софические разговоры на такую тему. Лозунг “единой и неделимой” есть реакционный лозунг. Имен­ но он погубил генерала Деникина, который вместо того, чтобы до­ говориться, скажем, с Петлюрой на предмет разбазаривания Рус­ ской земли, нагайками выпер его из Киева. Вопроса о том, так че­ го же стоит союзник, которого можно выпереть нагайками, — фи­ лософия не ставит. Под самым ее носом, погруженным в глубочай­ шие философские размышления, лежит современно-свеженький факт: расчет Гитлера на самостийную Украину и результаты этого 124 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век расчета. Но все эти факты не действуют, и вопрос ставится так: если под лозунгом “единой и неделимой” мы были разбиты, так давайте попробуем лозунги: автономии, федерации, конфедерации и даже раздела — авось хоть это поможет. Это есть новая и все зарубежная мода. Я попробую разобраться в ней sine ira et studio, или, в прибли­ зительном русском переводе, без гнева и сквернословия. Давайте займемся холодным логическим анализом. И прежде всего установим два следующих несомненных факта. 1. При Сталине — как и до него, Россия осталась “единой и неде­ лимой” — не менее единой и неделимой, чем она была при Деникине. Несколько менее бесспорен будет тот факт, что именно в идее “еди­ ной и неделимой” заключается основа советской военной силы. 2. До прилива сюда волны новой эмиграции вопросы разбазари­ вания России не интересовали вообще никого. Были там какие-то профессиональные сепаратисты, получали там какие-то субсидии, но и сепаратисты и сепаратизмъ! находились вне поля внимания широкой эмигрантской общественности. Эти темы принесла нам новая эмиграция, или, точнее, некая часть новой эмиграции. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ПАРОД Не очень внимательный мыслитель мог бы сделать из этого вывод — по классическому образцу школьной логики post hot, ergo propter hoc: после этого — значит вследствие этого, — тот вывод, что вот-де новая эмиграция и принесла с собой за гра­ ницу те новые национальные сдвиги, которые-де произошли в СССР за тридцать два года политики, “национальной по форме и пролетарской по существу”. Что, дескать, за эти тридцать два года выросли национальные самосознания, доселе пребывавшие в латентном виде. И что с этими самосознаниями волей-нево­ лей придется считаться. Эмиграция и пытается считаться. От хладных скал Высшего мо­ нархического совета до пламенных выступлений А. Ф. Керенского в той или иной форме скандируется тема о самоопределениях. Па­ рижские демократические республиканцы рассорились с ньюйоркскими, столь же демократическими и столь же республикан­ цами, из-за вопроса о “самоопределении вплоть до отделения”. А.Ф. Керенский совсем готов следовать волошинским стихам: Не нужно ли кому земель, Республик да свобод? Разбиратели Русской земли 125 Гражданских прав? — И родину народ Сам выволок на гноище, как падаль... “Народ”, впрочем, тут решительно ни при чем, но это другая тема. Что же касается А. Ф. Керенского, то он действительно готов “выволочь” родину куда угодно — и по той простой причине, что никакой родины у него нет: у него есть “демократия”. Существует, однако, достаточно большое количество достаточно странных лю­ дей, у которых Родина есть. Вот тех, которые во имя этого стран­ ного предрассудка гибли у Бородина, у Севастополя и даже у Ста­ линграда. Трагедия Керенских заключается в том, что существова­ ния этих странных людей вычеркнуть нельзя. Нельзя вычеркнуть из прошлого, и было бы неблагоразумно вычеркивать из будущего. Вот — пытался же Гитлер?.. Все-таки о народе. Мы все кое-что слыхали о таком фран­ цузском философе, Густаве Лебоне1, который специализировал­ ся на всяческих издевательствах по поводу “толпы”, “массы” и всякого такого. В своей книге о “Диктатуре импотентов” я пы­ таюсь доказать очень парадоксальную мысль: “толпу” и “массу” составляют писатели и профессора, а никак не рабочие и кре­ стьяне, не “народ”. Ибо если, как это делает Густав Лебон, от­ личительным признаком “толпы” и прочего мы примем легкую внушаемость, переменчивость настроений, действие под влия­ нием случайных импульсов, то тогда парадокс превращается в очень прискорбную истину: это Бердяевы и Бунины бегали вприпрыжку, Добчинскими и Бобчинскими, “петушком, петуш­ ком”, за любой подорожной эмоцией — а народ от Батыя и Ма­ мая до Гитлера и Сталина молился все тому же Христу Спаси­ телю и бился за одну и ту же Родину. Предполагать, что три­ дцать два года могли бы внести в “массу” такую же модно-ма­ невренную подвижность, какую каждая новая мода вносит в интеллигентские мозги, было бы непростительным легкомысли­ ем. Так сказать, интеллектуальной керенщиной. Итак: народ консервативен, стабилен, разумен. Интеллигенция эмоциональна, подвижна и неразумна. Это она в Петрограде в 1916 — 1917 годах устроила истерическую панику: все гибнет, все гибнет! Народ — молчал, пахал и воевал. Если, как это делает Лебон, считать “толпой” такой конгломерат людей, который одинаково неразумно поддается как героическим, так и преступным эмоциям, то, конечно, “толпой” является интеллигенция — от героических 126 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век террористов Аптекарского острова до изуверских прожектов Лени­ ных или Байдалаковых. “Народ” бомб не швырял и ГПУ не орга­ низовывал. Из этого всего следует вывод огромной важности: ин­ теллигенция тогда и только тогда будет творчески положительной, когда она подчинится тысячелетнему религиозно-политическому опыту народа. Если она будет творить отсебятину, то все ее твор­ чество неизбежно будет носить разрушительный характер. И ей ос­ танется: или бежать, как Керенский, или расстреливать, как Ле­ нин, или попадать под расстрел, как Бухарин. Во всех трех случаях разрушая народное бытие. Умение пломбировать зубы, строить мосты или произносить ре­ чи никак не противоречит неразумности: тургеневский Хорь поли­ тически был разумнее Керенского. Хорь революции делать бы не стал. Не делали ее и потомки Хоря. Не знаю, есть ли потомки у Керенского. Боюсь, что есть. АНАЛИЗ В эмиграции нет ничего более неприличного, чем логический и фактический анализ. Нет в эмиграции ни одной партии, которая от такого анализа не лезла бы на стенку. Эго почти по хохлацкой при­ сказке: “Мы по дороге шли?” — “Шли”. — “Нашли шубу?” — “На­ шли”. — “Я тебе ее дал?” — “Дал”. — “Так где же эта шуба?” — “А ты — сволочь”. Не очень логично, но, конечно, очень здорово. Анализ нашей сепаратистской моды в эмиграции неизбежно приводит нас к анализу некоторых сторон Второй мировой войны. Можно установить с абсолютной степенью бесспорности два ос­ новных факта: 1) подавляющее большинство населения России по­ шло против Гитлера; 2) подавляющее большинство эмиграции бы­ ло настроено против Гитлера. Те группы, которые пошли вместе с Гитлером, состояли из самых разнообразных и никак не совмести­ мых элементов: генерал А. Власов и его армия представляли собою общерусский патриотизм в его хорошем издании. В этой армии были и великороссы, и малороссы, и калмыки, и грузины — объе­ диненные двумя общими чувствами: любовью к России и ненави­ стью к Сталину. Вот поэтому ни А. Власова, ни его армию немцы в Россию не пустили и не могли пустить. Основной опорой Третьего Рейха на восточных территориях были разного рода само­ стийники. В оккупированных Украине и Белоруссии туземные “ад­ министративные кадры” подбирались из местных — по преимуще­ ству самостийных коммунистов. Разбиратели Русской земли 127 Одну из глав этой старой книги “Россия в концлагере” я так и озаглавил: “Ставка на сволочь”. Этот последний термин я приме­ няю в качестве, так сказать, научного определения — не в качестве ругательства. Остатки этого сталинско-гитлеровского актива я встречал в лагерях УННРА и ИРО. На своем веку я видывал раз­ ные виды. Должен сказать откровенно: таких типов я никогда в своей жизни не встречал. Итак: сволочь. Я надеюсь — окончательная. То есть надеюсь на то, что худшей уже не будет. Дело тут не в коммунизме: такого дяди, как чекист Чекалин, я в виде сволочи не изображал. Дело и не в сепара­ тизме: там тоже есть мечтатели о васильках, вроде Чекалина. Дело за­ ключается просто в озлобленных недоносках. Они продавали своих родных и ГПУ и гестапо, они продавали свою Родину и коммунизму и гитлеризму. Это — неистовая жажда недостижимой власти. И когда они получали в свое временное распоряжение хоть клочок этой вла­ сти, как это было в лагерях ИРО, то тут уж они наверстывали... К своим союзникам немцы относились с исключительной лояльностью. Немец, в самом основном, — это аиЬгіИег. Разбойный, но всетаки рыцарь. Гитлер все-таки спасал Муссолини. За Драго Михай­ ловича никто и пальцем не пошевельнул. Немцы делали все что могли, для того чтобы спасти русскую эмиграцию из Балтики и Польши. Союзники сделали все, что было в их силах, чтобы выпе­ реть русскую эмиграцию в подвал. Украинские и белорусские сепаратисты были естественными союз­ никами Германии. Ни для кого не секрет, что десятилетиями и деся­ тилетиями Германия поддерживала не только большевиков, но и сепа­ ратистов. В оккупированных областях России — ближе всего к шта­ бам, управлениям и прочему — были именно сепаратисты. И именно они имели наилучшие предпосылки для эвакуации за границу. Потом, уже в дни окончательного разгрома Германии, немцы снабжали их любыми правдоподобными паспортами, которые впоследствии гаран­ тировали эту публику от принудительной отправки на восток. После разгрома Германии власовцы, великодержавники и пат­ риоты попали в положение военных преступников и долгое время сидели как мышь под метлой. Время это пропущено почти безвоз­ вратно. Точно так же сидел и я — и тоже пропустил много невоз­ вратного. Однако мы наверстаем даже и невозвратное. Таким образом, основная масса населения Украины билась с немцами смертным боем и в поражении немцев сыграла если не решающую, то, во всяком случае, очень крупную роль: как-никак, в тылу у Сталинградского фронта была именно Украина. Несколь- 128 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ко сот платных предателей и России и Украины, и великорусского и малорусского народов были тщательно и добросовестно эва­ куированы немцами, снабжены всякими паспортами, гаранти­ рованы от выдачи Сталину — и вот теперь эти несколько сот платных агентов такого друга Украины, каким был Альфред Ро­ зенберг, орут на митингах, издают газеты, вопят на весь мир. Что уж там требовать от “всего мира”? Но мы-то, русская эмиг­ рация, должны были бы дать себе совершенно ясный отчет: ни­ каких “народов” эта публика не представляет. Но энергию она развивает истинно бешеную, ибо для нее это вопрос жизни и смерти — даже уже не портфеля и пайка, а жизни и смерти. Ибо — представьте себе не самостийную Украину. И некоего розенберговского петлюру, сдуру въехавшего в нее. Так ведь любой несамостийный суд спросит: “Ах, так это вы, пане добродию, по розенберговскому приказу жгли хутора близь Ди­ каньки? И гнали парубков на крупповские заводы? Что — по­ могли тебе твои ляхи?” Так что — выхода нет. ПОЭЗИЯ И ПРОЗА Нас, монархистов и державников, упрекают в романтизме. Или, иначе, в реакционном утопизме. Не знаю, по-моему, на нашей стороне стоят и факты и обычная логика: реальные факты и обыч­ ная логика. Сильно опасаюсь, что хозяйственный разум (а не по­ литическая экономия) тоже стоит на нашей стороне. Тот ньюйоркский митинг 13 марта, который великодушно согласился ■на полный раздел России, состоит из сплошных марксистов. Мар­ ксизм, как известно даже и самостийникам, есть экономическая наука; вот в СССР все так и идет — по-научному. Казалось бы, что опыт СССР хоть кое-чему должен был бы научить наших зару­ бежных марксистов. Перефразируя известный афоризм профессора Олара, можно было бы сказать, что наука учит только тому, что она ничему не учит. Обратимся к здравому смыслу. Хозяйство СССР построено на предельных напряжениях: рабо­ чей силы, транспорта, снабжения и прочего. Совершенно идиот­ ская система истинно социалистического хозяйства привела к то­ му, что какой-нибудь “незавоз” или “недозавоз” какой-нибудь тракторной детали оставляет незапаханными сотни тысяч десятин. Теперь представим себе послесоветскую российскую территорию, на которой будет происходить “свободный сговор” украинских петлюр с кавказскими зелим-ханами. Во-первых, попробуйте вы Разбиратели Русской земли 129 сговориться с такими вот петлюрами — а я на вас посмотрю. Вовторых, этаких петлюр, в пределах реальной политической возмож­ ности, наберется по крайней мере десяток. Начнется, допустим, “свободный сговор” о цене нефти. Будут конференции. Будут засе­ дания. Будут произноситься речи то ли о “братстве народов”, то ли о “разбойной Москве”. Дальше. Ни на Украине, ни на Поволжье коней нет. Есть трак­ торы. Для тракторов нужна нефть. Нефть нужна вовремя: никакая весна, даже и послесоветская, не станет ждать конца совещаний и конференций, установления цен и таможенных пошлин. Пропу­ щен месяц — и десятки миллионов десятин останутся незапахан­ ными. Тогда население зелим-хана станет помирать от голода в са­ мом буквальном смысле этого слова, а население петлюры — в не­ сколько менее буквальном. Тогда железные дороги России, вероят­ но, переживут тяжкую судьбу Либаво-Роменской, которая не рабо­ тала двадцать пять лет только потому, что самостийная Польша никак не могла договориться с самостийной Литвой. Тогда астра­ ханские рыбные промысла не будут иметь хлеба, а украинский землероб не получит своей таранки. В течение столетий и столетий территория России объединилась в одно хозяйственное целое — по меньшей мере в хозяйственное целое. Было бы совершеннейшим идиотизмом предположение, что всякая петлюра — из личных, но также из политических соображе­ ний, не постарается воздвигнуть поіраничных рогаток для того, чтобы набить и свой карман, и карман своей казны. Посмотрите, пожалуйста, на послевоенную Европу, у которой все-таки запасы еще были. И которая все-таки покультурнее петлюр. Не слишком много разума в этой Европе. А у петлюр? ВОПРОС О МОСКВЕ Вот это есть сплошная и довольно нелепая романтика.- Эта сплошная и довольно нелепая романтика упускает еще один мел­ кий факт: реальное существование великорусского племени. Начи­ ная от Олега это племя вело чудовищную объединительную работу. Веками и веками оно “собирало землю Русскую”. Как представля­ ет себе будущее Великороссии А. Ф. Керенский и другие разбира­ тели Русской земли? Вот одна петлюра перережет “великий вод­ ный путь из варяг в греки” где-то около Смоленска, другая — гдето около Петербурга. Третья запрет Двину. Четвертая окопается “на тихом на Дону”. Пятая — “с сеймом у Вильни, або у Минску” 130 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век будет требовать транзитных виз в Европу. Шестая заграбастает ба­ кинскую нефть. И так далее... Как в этом случае представляет себе А. Ф. Керенский положение и поведение Центральной России? Будет ли она, обрубленная со всех сторон, отрезанная от всех “пяти земных морей”, бессильно корчиться в тисках хозяйственной безвыходности? И станет ли она договаривать­ ся с петлюрами? И ждать, когда петлюра соизволит дать казачьей час­ ти Донбасса криворожскую руду и тамбовской пшенице — выход к Черному морю? А. Ф. Керенский, вероятно, предполагает, что в Киеве засядет умеренный петлюра. А вдруг — неумеренный? Может ли вся страна, все остальные сто двадцать миллионов сидеть, голодать и с трепетом сердечным ждать: придет ли петлюра умеренный или придет петлюра неумеренный? За свой весьма краткий правительственный опыт А. Ф. Керен­ ский, вероятно, имел возможность несколько разочароваться в своей ставке на умеренность совдепов и в своем расчете на честное слово их вождей. Какие у него есть основания рассчитывать на умеренность будущих петлюр и на честные слова их обещаний? Вот придет не совсем умеренный закавказский петлюра и за свой чиатурский марганец потребует с уральского рабочего все его семь шкур. Что тогда? Вступать в переговоры? ЕДИНАЯ И НЕДЕЛИМАЯ Должен сознаться: ничто не производит на меня такого гнету­ щего впечатления, как все эти федеративные разговоры эмигрант­ ской печати. “Единая и неделимая” не есть лозунг реакционный и не есть лозунг революционный. Единой и неделимой Россия была и при Николае Втором и при Сталине Последнем. “Единая и неде­ лимая”, кроме всего прочего, есть жизненная экономическая необ­ ходимость и жизненная экономическая неизбежность. Это совер­ шенно ясно понимает всякий рабочий и всякий. мужик. Всякая “федерация” означает гибель страны. Или, в переводе этого терми­ на на прозаический язык, — хаос, безработицу и голод. Послесоветской России нужна свирепо централизованная и беспощадно свирепая власть: ничего не поделаешь. Бакинские промысла не имеют права работать “для благосостояния азербайджанской на­ ции”, они обязаны работать для украинских тракторов. Чиатурские марганцевые копи не имеют права работать для славы Грузии, они обязаны работать для металлургии всей Империи. Иначе — все рух­ нет в кровавую кашу. Нет и не будет никакого времени для сове­ Разбиратели Русской земли 131 щаний и конференций послов десятка или двух десятков само­ стийных республик, из которых каждая будет торговаться, как тор­ гуется сейчас Европа из-за демонтированного немецкого заводско­ го оборудования, из-за плана Маршала или из-за переселения “дипи”. Никакая Москва — ни белая, ни красная, ни зеленая, ни оккупационная — не может допустить, чтобы железные дороги страны были разорваны десятками границ, чтобы на каждой грани­ це стояли бы таможенные заірады и грабоотряды, чтобы и так пре­ дельно перенапряженная экономика всей страны- сразу лопнула бы по десяткам “федеративных” швов. Не допустит этого и никакой рабочий и мужик, ни кацап, ни хохол. Австро-польско-немецкая поддержка, потом советская политика разделения и властвования действительно создали некоторую прослой­ ку, так сказать, профессионалов “коренизации” — украинизации, якутизации и прочего. Для Украины эту прослойку я оцениваю мак­ симум в несколько сот тысяч человек — едва ли больше двухсот тысяч, то есть около полупроцента всего населения Украины. В са­ мостийности они заинтересованы профессионально: дайте на Украи­ не свободу печати, и тиражи “украинской печати” упадут до нуля. Ибо города, транспорт, промышленность говорят по-русски, а отец Филипп де Режи только что рассказывал мне, как белорусские му­ жики были оскорблены проповедью на белорусском наречии. Для белорусского, как и для украинского мужика русский язык есть “билет на вход в культуру” — он этого билета ни за какие само­ стийности никаким петлюрам не перепродаст. Но мужик и рабочий, города, промышленность и транспорт составляют 99,5 процента населения Украины, которые будут то ли бюллетенями, то ли пулеметами голосовать против всякой самостийности, и самостийники знают это не хуже меня. За са­ мостийность будет голосовать какая-то кучка украинских жур­ налистов и писателей, актеров и переводчиков — вообще про­ фессионалов украинизации. Но это будет только полпроцента населения всей страны. Так вот: микроскопические группы профессиональных само­ стийников, вскормленных сосцами и Сталина и Гитлера, дейст­ вующие в чисто профессиональных интересах, — попущением Господним и помощью немецкой вырвались сюда, в эмигра­ цию, и здесь, в эмиграции, орут от имени “народов”. Никаких народов тут нет. Это только профсоюз. Профсоюз платных пре­ дателей и России вообще и всех ее народов в частности. 132 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век СТОРОППСЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО Когда эта статья была уже написана, я получил письмо от отца Филиппа де Режи в ответ на мою статью “о виселицах” и номер “Нового русского слова” от 10 июля со статьей А. Колчанова об украинском сепаратизме... Что касается “Нового русского слова”, то это именно та газета, которую я несколько раз цитировал и на страницах которой до сведения почтеннейшей публики доводились проекты отделения даже и Сибири: раз делить, так уж делить! “НРС” стоит на самом левом фланге эмиграции, временами соприка­ саясь с советским патриотизмом. С “Новым русским словом” я не сговаривался предварительно. Вот выдержки из статьи А. Колчанова. “Еще недавно в украинской печати, выходящей в лагерях ДП Германии, некий профессор Ващенко выступил с утверждением, что украинцы — это аристократическая нация в противополож­ ность русской, которая является нацией хамской. Попытка журна­ листа господина М-шевского, украинца по национальности, возра­ зить на это бестактное утверждение в украинской печати успеха не имела. Письмо его было отвергнуто всеми решительно редакциями украинских газет, выходящих в Германии, от бандеровских до «де­ мократических* включительно. Это зажимание рта оппоненту, всякому инакомыслящему лично для всех украинских националистов, к которым, как это установле­ но ежедневными наблюдениями самих же украинцев, непричаст­ ных элите самостийных, принадлежат все участники украинского сепаратистского движения от бандеровцев до «демократов*. Известно, что организованное в том или ином общежитии по­ давление свободы чужого мнения показательно только для тотали­ таристов и их единомышленников и союзников, и потому нас со­ вершенно не интересует то, как они сами себя называют — бандеровцами или демократами: сущность у них одна — тоталитаристическая, и действия их также одинаковы. Для них (самостийников) еще не ясен вопрос,, что такое ук­ раинская нация вообще. Им приходится настолько путаться в этом кардинальном вопросе, что они зачастую смешивают пар­ тию с нацией, а нацию с партией. Отсюда для бандеровца ук­ раинец может быть только бандеровцем, для мельниковца — мельниковец, для петлюровца — петлюровец и т.д. И так как сами украинцы насчитывают в своей среде до пятнадцати пар­ тий и партийных течений и толков, то в связи с этим в широ­ ких кругах этих политических деяний существует примерно столько же определений понятия о нации. Разбиратели Русской земли 133 Современные украинские националисты строят свое право на са­ мостийность на отрицательных, а не положительных данных и, как это бывало со всеми шовинистами, на ненависти к другому народу. Они хотят строить Украинскую державу во что бы то ни стало, и притом чужими руками, ибо свои руки слишком коротки. Они ожидают, что некто в сером или красном поднесет им самостий­ ную Украину, как именинный пирог на блюде. Во всяком случае, они не рассчитывают на силы народа и не ожидают его согласия. Народ, с их точки зрения, — быдло. Этому они научились в дожив­ шей до событий 1939 года полуфеодальной Польше. В своих вы­ сказываниях, помещенных в издаваемых в лагерях ДП украинских газетах («Неделя», «Украинская трибуна», «Час» и др.), они совер­ шенно открыто, порой доводя свои «откровения» до полного ци­ низма, заявляют об этом, причем подобные заявления высказыва­ ются не только бандеровцами, но и «демократами». Украинский национализм вступил в полосу жесточайшего кри­ зиса; зараженный идеологией гитлеровского нацизма и соблазнен­ ный расовой теорией, он после крушения национал-социалистиче­ ской державы очутился рядом с демократическими течениями и государственными организациями, идею которых он совсем не воспринял, ибо она абсолютно несовместима с национализмом, выросшим из расизма”. МОЙ СОВЕТ Итак: один сторонний наблюдатель, отец Филипп де Режи, подтверждает: самостийники сеют ненависть и работают в пользу коммунизма. Другой — может быть, менее сторонний наблюдатель рисует картину еще более мрачную, чем нарисовал я. Пятнадцать партий, грызня, тоталитарные замашки, расизм, ненависть — нена­ висть даже и к своему собственному народу, которого они считают “быдлом”. Расчет на иностранные штыки — при отсутствии каких бы то ни было иллюзий на поддержку “украинских народных масс”. Но если народные массы Украины отделиться, очевидно, не хотят, то во имя чего же самостийники на стенку лезут? Во имя чего сеют они ненависть и шатаются по иностранным контрраз­ ведкам? Во имя ненависти, портфеля и пайка. Только и всего. Теперь — мой совет эмиграции: бросить все эти федеративноразбирательские разговоры. Очень может быть, что из так называе­ мых тактических соображений, для того чтобы втереть очки демо­ кратическим и недемократическим иностранцам, и стоит кое-где 134 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век организовывать митинги “всех народов” и на них, на этих митин­ гах, предлагать: не нужно ли кому земель, республик да свобод? Но тогда нужно дать себе совершенно ясный отчет в том, что это только митинг. И что это опасный митинг. Очень опасный митинг. Товарища Иосифа Сталина можно упрекать в чем угодно. Но в од­ ном его упрекнуть нельзя — в глупости. Из всех доселе существовав­ ших гениальнейших он сидит дольше всех и прошел дальше всех. Ко­ гда в 1941 году ему стало очень туго, он переставил свою ставку на об­ щерусский патриотизм, и эту ставку он выиграл. Сейчас вся советская печать переполнена темами, лозунгами и обоснованиями русского патриотизма. А никак не федерации или конфедерации. Сталин ставит свою ставку на реальную силу исторически данного сцепления всех на­ родов России в одну семью. Эмиграция ставит свою ставку на балканизацию Империи. За балканизацией Империи не пойдет никто. Ибо всякий идиот все-таки понимает, что если в вековом смешении наро­ дов и племен каждая обрубится в свой феод, то это будет означать, что москаль окажется иностранцем в Грузии, но зато грузины окажут­ ся иностранцами в двадцати остальных местах. А это означает полный хозяйственный и культурный паралич. Все эти разговоры нужно бросить. Толку от них никакого. Ни для кого, кроме, может быть, Сталина: он еще раз скажет о “братьях и сестрах”, которых акулы иностранного капитализма в целях обессиления и эксплуатации страны хотят разделить на два­ дцать колониальных республик, — и тогда все Иваны из России снова станут воевать. А если они станут воевать — то за атомную бомбу я лично не дам ни копейки. БОЛЬШЕВИЗМ И КРЕСТЬЯНСТВО Родная земля! Укажи мне такую обитель, Я такого угла не видал, Где бы сеятель твой и хранитель, Где бы русский мужик не стонал. (И так далее.) Наше поколение еще помнит этот гимн традиционного интеллигентского народолюбия. Он входит как обязательная часть в программу всяческих чаепитий, когда гражданская скорбь перехлесты­ вала через сорок градусов и когда все животы готовы были нестись на алтари всяческих свобод. Эго было в героический, идеалистический, но паче всего — в мифотворческий период истории русской интелли­ генции. С февраля 1917 года этот гимн каким-то таинственным обра­ зом исчез с идеологического рынка, как исчезли — правда, менее та­ инственным образом — и люди, которые его когда-то распевали. Так, как будто бы “великая скорбь народная”, которою была “переполнена наша земля”, исчезла из нашей истории и о сеятеле и хранителе этой земли беспокоиться стало совершенно нечего: к власти вместо “крова­ вого царского режима” пришли самые что ни на есть народолюбцы — и они уж о мужике позаботятся. Они и позаботились. Об иронических замашках истории можно было бы написать очень много томов, они, кажется, еще не написаны. По-видимому, один из основных педагогических приемов истории сводится к до­ ведению до нелепости: нелепая мысль доводится до абсурда, и ис­ торическая реальность демонстрирует смущенным и избитым шко­ лярам все опасности детского обращения со взрывчатыми вещест­ вами реальности. Русская интеллигенция десятилетиями копила взрывчатые вещества. И играла кубиками пироксилиновых шашек. Случайная искра взорвала все: и игрушки и игроков. Не будем слишком строги к русской интеллигенции. Такими вещами и с такими же результатами играла не она одна. Занимался этим и Наполеон. У нас, на нашей памяти, Иосиф Пилсудский1 поддержал большевиков в самый трагический для них момент де­ никинского выступления. Пилсудский в своей глубинной ненавис­ ти к России считал, что в качестве восточного соседа большевизм лучшее из всего возможного — пустыня была бы, конечно, еще 136 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век лучше, но пустыня невозможна. Наибольшим приближением к пустыне казался большевизм. И Пилсудский его спас во имя “ве­ ликой Польши”. Реальный выигрыш оказался незначительным. Перестала существовать прежде всего сама Польша. Так что ошибка, доведенная до нелепости, свойственна не только русской интеллигенции. Русская интеллигенция имеет за собою и еще одно смягчающее вину обстоятельство: она действовала совершенно бескорыстно и совершенно убежденно. Стонущий мужик так же проч­ но въелся в ее сознание, как и “проклятое самодержавие”. Плач об одном и свержение другого были само собою разумеющимися веща­ ми, входили обязательной, “по штату”, составной частью в “железный инвентарь интеллигентского мышления”. И это мышление было пере­ полнено массою представлений, не имеющих решительно никакого отношения решительно ни к какой реальности в мире. Напомню еще раз блестящую характеристику, которую дал Ключевский иностранно образованному русскому дворянству. Дво­ рянину, который все иностранные речения переводил с иностран­ ных языков на русский и в голове которого образовался ряд поня­ тий, не соответствующих ни русской, ни иностранной действи­ тельности — то есть никакой действительности в мире. Люди опе­ рировали терминами абсолютизма, которого у нас не было, проле­ тариата, которого (за исключением Петербурга) у нас тоже не бы­ ло, капитализма, который у нас еще не родился толком, поме­ щичьего строя, который у нас уже умирал, и крестьянства, которое никак не отвечало тому содержанию, какое в этот термин вклады­ вает западноевропейская социология. Люди щеголяли в чужих идейных пиджаках и безнадежно путали все русские понятия, ус­ ловия и факты. Получался, во-первых, “круг понятий, не соответ­ ствовавший ни русской, ни иностранной действительности”, и — что хуже — получался, во-вторых, круг действий, никаким спосо­ бом к русской действительности не приложимых. Эта же действительность в нашу предвоенную эпоху складыва­ лась так, что стонущий мужик стремительно отступал в область предания. Уже если кому надо было стонать — так это дворянству. Это у него, “ликующего и празднобалующего”, стонущий мужик покупал — по подсчетам профессора Фортунатова2 — по три мил­ лиона десятин в год. Это он, стонущий мужик, организовал вели­ чайшее в мире кооперативное движение. По подсчетам эсера К. Кочаровского, к 1917 году в кредитных товариществах было 10,5 миллиона членов, почти сплошь крестьян, в потребительских обществах — четыре миллиона, из них около половины крестьян, в сельскохозяйственных обществах — миллион членов. Словом, бы­ Большевизм и крестьянство 137 ло кооперировано не меньше двух третей всего русского крестьян­ ства. Тот же Комаровский утверждает, что по ходу народного обра­ зования деревня перегнала города: в трех процентах уездных земств уже было введено обязательное обучение, в городах не было введе­ но еще нигде, приступили к введению 88 процентов земств и толь­ ко 35 процентов городов. По довоенной статистике, у дворянства оставалось только 11 процентов посева и 6 процентов скота — все остальное перешло к крестьянству. По данным профессора Кондрать­ ева (советское издание!), крестьянство давало до войны 78,4 процента товарного хлеба. Цифр такого типа можно было бы привести еще несколько стра­ ниц. Внецифровые результаты крестьянского наступления по всем фронтам видны, например, по тому, что ближайшим помощником Го­ сударя по фронту — то есть фактическим верховным главнокомандую­ щим вооруженными силами Империи — был генерал Алексеев, кре­ стьянин по происхождению, впоследствии основатель Белой армии. Не следует, конечно, представлять положение вещей в слишком уж идеализированном виде: в России, как и повсюду в мире, далеко не все было в порядке. Основной беспорядок заключался в остатках полити­ ческой диктатуры дворянства, которые Россия не успела смыть эволю­ ционным путем. Но из-за этих остатков не стоило, конечно, городить никаких революционных огородов. Все интеллигентское мышление было, однако, подчинено именно этим революционным огородам. Все для “долой самодержавие”, все, даже и науку: лозунг, который впервые — и даже без особого зазрения научной совести — был сформулирован Чернышевским. Сейчас не­ сколько трудно понять, как та подавляющая масса заведомых научных фальшивок, которая растекалась по всей интеллигентской России, не встретила никакого опровержения — хотя бы и судебного: почему, на­ пример, не был взят за его научные жабры какой-нибудь Туган или другой Барановский, который писал, что всякие разговоры о поднятии культуры сельского хозяйства — это реакционный вздор, ибо прежде всего нужно дать мужику землю. Почему не притянули этого Тугана на суд — не столько с целью ввергнуть его в дальнейшее узилище, сколько с целью заставить признаться в том, что он врет: такого коли­ чества земли, какое могло бы изменить судьбу крестьянства в России, вообще нет. “Черный передел”, реализованный в 1918 году (а не в 1917-м), дал 13 процентов прироста крестьянской земли. Цифры зе­ мельных пространств и земельных возможностей были достаточно из­ вестны и до революции — проверки их “черным переделом” совсем не требовалось, достаточно было карандаша, бумаги и элементарней­ шей добросовестности. Но Туган и прочие манили крестьян фантаста- 138 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ческими цифрами тех “неудобоусвояемых земель”, на которые рус­ ский мужик и поехал — в результате революции, и тех “царских имений”, вот вроде Алтая, которые и без Туганов и без революции были переданы Государем в распоряжение переселенческого управления, и, наконец, тех “государственных земель”, которые просто-напросто были пока что в полном распоряжении тундры и тайги. В результате таких математических операций получились колоссальные цифры — вот вроде тех 35 миллионов дворцового бюджета, которые-де съедало проклятое самодержавие, — об импе­ раторских театрах и о мургабских имениях при этом, конечно, не вспоминали. И русская интеллигенция питалась научными фаль­ шивками. Пришла революция, пришел “черный передел”, и оказа­ лось — 13 процентов*. Оказалось, далее, что настоящие народолюбцы находятся со­ всем не в том лагере, где их привыкло видеть воспаленное вообра­ жение дореволюционной интеллигенции. Тот же эсер Кочаровский в эсеровском эмигрантском журнале “Воля России” пишет — правда, мельком и очень невразумительно, “о самой глубокой и интимной связи между авторитарной деспотией и крестьянским автономизмом: тут было между ними положительное взаимовыгод­ ное сотрудничество, и на нем именно и держалась долгая истори­ ческая подданность крестьянства самодержавию”. “Подданность” эта, по мнению нашего эсера, была подорвана... столыпинской ре­ формой... и “тогда перед крестьянством стала задача сохранить и утвердить государственно-общинный уравнительно-трудовой зе­ мельный строй, но уже вопреки самодержавию и без него”. Я не знаю, чем именно отличается тот же Кочаровский. “Авторитарная деспотия” ушла. Та самая, которая, по известной формулировке Мережковского, “охраняла интеллигенцию”, в последние десяти­ летия только тем и занималась, что охраняла народ от интеллиген­ ции. И когда охранить все-таки не сумела — то вот и возникли те явления, которые эсеровский автор называет “государственно-об­ щинным уравнительно-трудовым строем”, — это более длинно, но еще менее понятно, чем, например, “трудовой солидаризм”. Или еще короче и еще понятнее — колхозы. * Кстати, один из землеустроителей эмиграции, М. Ковалев, делает очень рискованный подсчет в том же стиле. Он не оспаривает 13 про­ центов, но говорит, что они не совсем точно выражают действитель­ ные приобретения крестьянства: 60 процентов крестьян получили при­ бавку в 38 процентов. Это может быть. Но это означает только то, что остальные 40 процентов — и при этом наиболее хозяйственные — не получили и тринадцати. Большевизм и крестьянство 139 Туган-Кочаровские пребывали в атмосфере очень плохих пере­ водов с французского: “авторитарная деспотия” — это один из са­ мых безграмотных переводов нерусского понятия на не очень рус­ ский язык. В какой именно степени безграмотен этот перевод — демонстрирует нам тот же Кочаровский. Под властью этой деспо­ тии крестьянство постепенно ликвидировало дворянское землевла­ дение, создало крупнейшую в мире кооперацию, обогнало в народ­ ном образовании даже и города (конечно, по низшим школам, не по университетам), дворянство “получило от того же абсолютизма смертельный удар”. Крестьянство управлялось в порядке “вечевой” самостоятельности, и об этих “вечах” сам же Кочаровский пишет: “Нигде я не встречал такой свободы слова, как на сходах мужиков под той же деспотией” (Социальный строй России. С. 111). Мы могли бы сказать: такую деспотию — дай Бог каждому. Нам — в особенности. Но безграмотный перевод заслоняет для Кочаровского все — и я привел его же речения в качестве ил­ люстрации палеонтологического пережитка той допотопной — поистине допотопной — эпохи, когда реальная действитель­ ность нашей интеллигенции определялась скверными перевода­ ми, создававшими круг понятий, не соответствующих ни рус­ ской, ни иностранной действительности, как и “авторитарная деспотия”, как и убогие гимны наших народолюбцев. “Великою скорбью народной” наша земля переполнилась как раз после их прихода к власти. Но все они еще не вывелись. Их — еще мно­ го. И — что хуже — у всех есть свои программы... Огромный предреволюционный рост русского крестьянства на­ ходится, вне всякого сомнения, в экономическом, культурном, по­ литическом и всяком ином отношении. Рост этот был затруднен. По данным профессора Озерова3 — вероятно, преувеличенным, крестьяне платили с десятины в пять раз больше помещиков. По данным Плеханова, дворянство получило от казны (следовательно, от крестьянства по преимуществу) около семи миллиардов в виде выкупных платежей, банковских кредитов, арендной платы и т.п. Большая советская энциклопедия утверждает, что в предвоенные годы крестьянство уплачивало паразитарному дворянству до 289 миллионов в год арендной платы за землю. Все эти цифры, может быть, и преувеличены: было бы легкомысленно принимать статистику очень уж всерьез. Но, во всяком случае, шел процесс перекачивания денег из растущего крестьянского хозяйства в уми­ равшее дворянское — этот процесс находится вне всякого сомнения. И именно он задерживал техническое переоборудование сельского хо­ зяйства больше, чем что бы то ни было другое: говоря грубо, вместо 140 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век плуга, который стоил пять рублей, Россия получала шампанское по той же цене — пять рублей за бутылку. На крестьянство еще слишком сильно давила дворянская опека — до земских начальников включи­ тельно. Все это было очень неудобно, но все это не мешало фантасти­ ческому росту всяческого крестьянского преуспевания. Да и здесь, в этой искусственной поддержке дворянских остатков за счет мужицких рублей, была и другая — тоже государственная - точка зрения: очень трудно было сразу пустить по миру самую культурную часть страны, а она и при казенной поддержке все-таки шла по миру. “Авторитарная деспотия”, вероятно, бессознательно следовала толстовскому рецепту: “образуется”. Не будь войны — все бы и “образовалось”. Случилась неожиданность — Первая мировая война. АГРАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ? В кругах научно мыслящих людей считается общепризнанным, что глубинные корни русской революции лежали в крестьянском или, что то же, в аграрном вопросе. В этой формулировке мы встречаемся с те­ ми же пережитками палеонтологической терминологии, как в вопросе об “авторитарной деспотии”. Аграрные корни, может быть, еще мож­ но найти в революции 1905 года: там были и “беспорядки”, и красные петухи, и все такое — хотя революция была решена всеобщей забас­ товкой. Какие аграрные корни оставались для Февраля? Дворянство еще владело тридцатью миллионами десятин земли — владело больше номинально, чем фактически, и земли эти были заложены и перезало­ жены. При нормальном — то есть довоенном - ходе вещей дворян­ ское землевладение должно было бы исчезнуть примерно к сороковым годам — то есть к нашему времени. Были и еще кое-какие реликты, вот вроде земских начальников, но они не имели никаких шансов до­ халъ даже и до сороковых годов. Если исходить из юридического во­ проса: кому была выгодна революция, то нухаю сказать, что крестьян­ ству она никак не была нужна. Или, во всяком случае, не была нухша до тех пор, пока история не выдумала бесплатных революций: платить революцией за приращение 13 процентов земли не было, конечно, ни­ какого смысла. Тридцать восемь процентов М. Ковалева я оставлю на совести их автора: идя таким путем, легко можно договориться и до того, что некоторая часть крестьянства выиграла вообще безмерно: был человек просто лодырем, а стал председателем колхоза. А таких ведь тоже тысяч двести. Сейчас, после Февраля и после Октября, мохсно искренне изумляться тому, что наша интеллигенция действи­ тельно верила в возмохсность не только бескровной, но и бесплатной революции. Уж Павел-то Николаевич Милюков историю знал; как он Большевизм и крестьянство 141 мог так тщательно готовить для себя роль русского жирондиста? Или Бухарин — роль русского Дантона? Или Тухачевский — роль русского Пишегрю4? Или (вступая в область пророчеств) Сталин — роль и ко­ нец русского Робеспьера? Однако — готовили и делали революции в своих интересах. Вопрос о выгоде для революции бессмыслен — не выигрывает никто. И только впоследствии уцелевшие совершенно ис­ кренне и, может быть, не без основания считают себя выигравшими, исходя из того, что другие — не уцелевшие — проиграли больше: все в мире измеряется сравнением. Экономических корней у революции — вопреки общепринятому обыкновению — вообще не стоит и разыски­ вать. М. Алданов недоуменно констатировал, что довоенная Россия переживала самый бурный в мире экономический рост и что с этой точки зрения в возникновении революции вообще ничего нельзя по­ нять. Но М. Алданов не марксист. И кажется, весьма сомнитель­ ный социалист. Сторонники экономического мировоззрения, то есть не только марксисты, то есть все политико-экономы вообще, профессионально не могут отрешиться от материалистического объяснения: ибо им тогда нечего будет делать, объяснение выходит из пределов их ведомства, и ведомство остается безработным. Сле­ довательно, нужно что-то выискивать. Крестьянству революция никак не была нужна — ни Февральская, ни тем более Октябрьская. И крестьянство ни в какой степени в этих революциях не участвовало. Февральская революция со всеми ее пред­ посылками родилась в совсем другом углу явлений: из необходимости смены правящего слоя. Этот слой, который бьш не в состоянии спра­ виться даже с собственными имениями, не мог справиться и со своей военной профессией, из которой он, собственно говоря, вырос. Мы потерпели неудачи в Крымской войне, еле-еле вытянули бездарную турецкую войну, были разбиты в японской и проиграли мировую. На­ ше военное командование во всех этих войнах проявило себя с угне­ тающе бездарной стороны. “Организация тыла” — тоже. Слой, взятый в целом (было, конечно, и очень много исключений), не годился ни­ куда. Это чувствовали все, вся Россия. Ряд скрещивающихся фактов привел к тому, что смена произошла в самый неподходящий для этого момент. Но крестьянство в этой смене не участвовало. Оно на фронте несло свой тяжкий, очень тяжкий крест войны, оно воевало почти без оружия, при чрезвычайной бестолковости штабов, при вопиющем из­ девательстве над жизнью многомиллионной серой скотинки. Но не эта серая скотинка, всегда, со времен Андрея Боголюбского, вопло­ щавшая в себе максимум государственного смысла и жертвенно­ сти, — это не она же вышла на петербургские улицы с воплем “до­ лой самодержавие”, не она пускала сплетни о “царице-шпионке”, 142 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век не она потом потянулась к заводским кассам с санками и мешками — получать годами “недоплаченную” заработную плату. Совершив­ шийся переворот деревня встретила по-пушкински: “народ без­ молвствует”. В 1917 году деревня не ответила никакими эксцесса­ ми и по адресу своих соседей-помешиков: народ безмолвствовал и ждал. Позже, уже при большевиках, когда в деревню хлынул поток дезертиров, агитаторов и всякой темной — очень темной — публи­ ки, начались погромы помещичьих усадеб. Но и тогда в личных насилиях над своим вчерашним и теперь поверженным врагом крестьянство в целом было так же неповинно, как впоследствии оно никак не было повинно в работе ВЧК —ОГПУ - НКВД. Еще меньше основания имело крестьянство приветствовать Ок­ тябрьскую революцию. Всероссийский крестьянский съезд из 1353 де­ легатов имел в своем составе только десять большевиков. Я никак не склонен считать этот съезд “голосом русского крестьянства”: те оратели, которые были из центров разосланы по всей России, выбирали больше всего самих себя. Но как бы ни оценивать односторонность этого съезда — ясно, что “крестьянское представительство” распухало только в левую, и никак не в правую сторону. В нашей пресловутой Учредиловке большевики были представлены девятью миллионами го­ лосов из 36 поданных, и эти девять миллионов никак не были кресть­ янскими голосами. Дальнейший ход событий, с бесконечными кресть­ янскими восстаниями, с поддержкой крестьянством белых армий — пока командование этих армий само не оттолкнуло крестьянства, по­ том “неудобоусвояемые земли” концлагеря и голод явились уже абсо­ лютно неоспоримыми вещественными доказательствами того, что кре­ стьянство в своей массе стоит против революции. И это произошло главным образом потому, что революция с самого начала, невзирая на все народодюбие свое, несмотря на некрасовский гимн, длинные во­ лосы и хождение в народ и обратно, — с самого рождения своего оп­ ределила себя в качестве непримиримо враждебной крестьянству си­ лы. Крестьянство как таковое должно быть уничтожено. Оно должно быть заменено сельскохозяйственным пролетариатом. Карл Маркс только формулировал задолго до него возникшие антикрестьянские настроения всякой социальной революции. “Мелкая земельная собст­ венность (то есть крестьянство. — И. С.) создает класс варваров, нахо­ дясь наполовину вне общества, класс, в котором соединяется вся гру­ бость первичных общественных форм со всеми бедствиями и всеми мучениями стран цивилизованных”. Знаменитая фраза Маркса об “идиотизме деревенской жизни” стала лозунгом целых революцион­ ных поколений. Именно этот лозунг и реализует сталинская коллекти­ визация: крестьянство должно быть превращено в класс платных и за­ Большевизм и крестьянство 143 висимых от бюрократии батраков. Так возникло второе — марксист­ ское — крепостное право в России. Крестьянская политика Сталина — может быть, то единственное, что осталось в СССР от чистокровного марксовского “Капитала”. Но, может быть, о чистокровном марксизме и вообще говорить не стоит? Ибо что есть чистокровный ортодоксальный марксизм с нашей точки зрения? Ортодоксальными марксистами считают себя и Вандервельде5 и Бенеш, и Каутский и Ленин, и Сталин и Бухарин. Все эти птенцы Марксова гнезда ненавидят друг друга такою лютой ненавистью, какая нам, “реакционерам”, и во сне не снилась. Совершенно ясно, что ес­ ли Сталину удалось бы овладеть Европой — он точно так же вырезал бы всех иностранных марксистов, как вырезал в СССР всех русских. Нам, более или менее профанам в области марксистского священного писания, трудновато понять, в чем именно ортодоксальный марксизм Бухарина отличался от такого же ортодоксального марксизма Сталина. Или — Покровского? Здесь господствует ненависть узколобых начетчиков-сектантов — но, конечно, не она одна. С победой марксистской революции в России “пролетарии всех стран” наконец соединились — у стен чекистских подвалов. И победитель в этих братских объятиях — Сталин — первым делом занялся поголовным вырезанием всех ленин­ ских апостолов: к настоящему времени от них не осталось ни одного — замечательное предисловие для объединения пролетариев всех стран мира. Вот будет кровавая радость по всей Европе, когда Сталин дорвется наконец до объединения нынешних Бухариных, Иоффе, Покровских, Тухачевских, Блюхеров, Рыковых и прочих всей остальной Европы. То-то будет праздник великого всероссийского пролетарского объединения. Марксизм начал с пропаганды ненависти к буржуазии, потом ко всем остальным социалистам, потом, дорвавшись до власти, организо­ вал резню уже в своих собственных чисто марксистских рядах, и побе­ дившая фракция победоносного марксизма занялась вырезыванием остальных — тоже победоносных — фракций, и наконец один гени­ альнейший вырезал всех остальных кандидатов в такие же гениальней­ шие. Эго называется “братством трудящихся”. Как нам разобраться в этом братстве, в этой резне скорпионов? И как нам отличить настоя­ щих марксистов от ненастоящих? Только тем, что вот на сегодняшний день у Сталина нож оказался подлиннее, чем у Бухарина и прочих? А что если завтра выскочит дядя, нам еще неизвестный, как вовсе неиз­ вестен был в свое время Сталин, и нож у этого дяди окажется еще длиннее сталинского? И на сталинской могиле этот дядя заявит, что вот он, Сидорчук, является гениальнейшим, Сталин же был уклони­ сто-растленным псом и полным агентом кровавого фашизма, “злей­ 144 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век шим врагом всего человечества”, как поэтически писали о Бухарине идейные перья большевистских писак. Не примите это, пожалуйста, за нелепую утопию: так будет почти наверняка. Сталина кто-то зарежет, кто-то из его ближайшего окружения — как в свое время были зареза­ ны и Дантон, и Бухарин, и Робеспьер, и будет зарезан Сталин. Это есть неизбежность. Но Сидорчук с длинным ножом, вынырнувший из сталинского окружения и современной советской действительности, не может не клясться бородой Маркса и лысиной Ленина, и по той простой причине, что все окружение вместе взятое воспитано на Мар­ ксе и Ленине, что оно решительно ничего не знает и что, главное, ему решительно больше нечем оправдать свое революционное прошлое. Потом, конечно, зарежут и Скдорчука. Нам от этого будет очень на­ много легче практически, но не будет легче теоретически: мы, бедные, так до конца дней наших никак не сможем разобраться, какой же, кроме длинного ножа, имеется критерий для суждения о настоящем и ненастоящем марксизме. Однако русский марксизм имеет некоторые основания гордить­ ся перед всеми остальными братскими фракциями. Марксов “Ка­ питал”, это странное учение, возникшее на почве германской фи­ лософии и еврейской беспочвенности, привилось прочнее всего в России. В Германии он ликвидирован. В Англии о нем и понятия не имеют, но первый иностранный перевод Маркса был сделан на русский язык и первая победа марксизма была одержана в России. В своем победоносном продвижении марксизм не мог, конечно, не обрасти некоторыми чисто туземными явлениями. Одна из ирони­ ческих сторон развития марксизма в России заключалась в том, что по всем основным теоретическим пунктам теоретических спо­ ров между марксизмом и народничеством марксизм вырезал народ­ ников, капитулировал перед их теорией. Напомню еще раз: — марксизм утверждал, что Россия не может избегнуть длительной капиталистической эволюции. Народники утверждали, что Россия сразу перепрыгнет к социализму. Как видите, перепрыгнула; — марксизм утверждал, что России предстоит еще долго копи­ ровать социальный строй передовых капиталистических стран. На­ родники утверждали, что Россия пойдет своими самобытными пу­ тями. Как видите — пошла; — марксизм утверждал, что в истории играют роль экономические законы и что субъективные желания людей не играют никакой роли. Народники утверждали, что субъективная психологическая сторона вопроса сыграет решающую роль. Как видите, и сыграла; — марксизм отводил “личности” самое незаметное место в ходе че­ ловеческой истории, народники искали и проповедовали вождя (“кри­ Большевизм и крестьянство 145 тически мыслящая личность”, по Лаврову6). Ленинские мощи и ста­ линская гениальность и здесь пошли по народническому пути. Но в крестьянском вопросе русский марксизм оказался верен своему пророку. После ряда плагиатов, колебаний и даже отступ­ лений (нэп) Сталин повернул на истинно марксистский путь пол­ ной ликвидации крестьянства как класса. Не следует искать теоретических обоснований этому отрезку ге­ ниальной линии — в политике всякая теория является лишь слу­ жанкой прозаической практики. И теория то растягивается, то кромсается в зависимости от практических нужд сегодняшнего дня. Точно такое же обращение претерпевает и статистика. У англичан — публики, вообще говоря, весьма практической — есть поговорка. Она говорит, что есть лгуны, есть проклятые лгуны, но хуже самых проклятых лгунов — это статистики. Поговорка эта не очень сильно преувеличивает реальное положение дел: с самым науч­ ным видом, оперируя самыми что ни на есть “объективными цифро­ выми данными”, люди преподносят вам совершенно заведомое вра­ нье. Наша довоенная статистика всяких Туган-Кочаровских, которая манила интеллигенцию и крестьянство чудовищными запасами цар­ ских и помещичьих земель, была, конечно, совершенно заведомым, я бы сказал, уголовно наказуемым враньем. Точно таким же враньем яв­ ляется марксистская статистика, доказующая — с цифрами в руках! — полную безнадежность мелкого, то есть крестьянского, землевладения перед лицом наступлений крупного помещичьего имения. Я не буду приводить цифр, которые публиковались по этому поводу в марксист­ ской литературе, — это было бы и длинно, и скучно, и ненужно. Практика царской России, где стремительно таяло привилегиро­ ванное крупное землевладение перед наступлением мелкого непри­ вилегированного, практика СССР, где совхозы-гиганты и совхозыкарлики капитулировали раньше перед единоличником, а потом даже перед приусадебными участками, показывает это с достаточной степенью наглядности. Коневодство, которое почти целиком — боль­ ше, чем на 99 процентов, сосредоточено в крупном обобществлен­ ном секторе сельского хозяйства, не дало никакого прироста после лет раскулачивания, а рогатый скот, который больше чем наполо­ вину (56 процентов) находится при усадебных участках, вырос по сравнению с 1933 годом на 78 процентов — вырос целиком за счет “мелкого хозяйства”. Совхозная же “гигантомания” большевиков провалилась так, что сами они были вынуждены постепенно пе­ рейти к ликвидации совхозной системы и передать землю колхо­ зам — этому странному ублюдку между государственным, коопера­ тивным и просто крепостническим способами хозяйствования. 146 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Преимущества мелкого хозяйства перед крупным были совер­ шенно ясны уже очень давно. Я не буду утруждать читателя стати­ стическим данными по этому вопросу. Приведу только один ис­ точник, по его скромности вовсе, кажется, неизвестный вашим политико-экономам. Это отчет департамента земледелия главного управления земледелия и землеустройства, опубликованный в 1914 году. Ведомство земледелия царской России, вероятно, не имело вовсе никакого повода фальсифицировать цифры — во всяком слу­ чае, в пользу мелкого землевладения. Отчет агронома Щербина, опубликованный этим ведомством, формулирует общее положение так: “Чем больше хозяйство, тем меньше, следовательно, народо­ хозяйственный доход, тем меньше число людей, могущих получить себе существование от земледелия прямо или косвенно”. Вот одна из статистических таблиц, которые приводит этот отчет и которые являются результатом “законченного контроля счетоводных книг в 2000 хозяйств”. Швейцария дает такие цифры. Хозяйство размером от 30 до 70 га приносит доход на 1 га валового народно-хозяйств. 511 фр. 325 фр. от 10 до 15 625 419 от 5 до 10 763 539 от 3 до 5 870 605 Для Германии (Померания) автор приводит еще более резкие цифры: крупные имения до парцелляции давали в среднем оборот с 1 га 72 марки и после парцелляции на мелкие участки — 303 марки в год. Дальнейший вывод автора сформулирован так: “Мел­ кое хозяйство прогрессивно развивается за счет крупного. Этот процесс в некоторых местах совершается с такой классической очевидностью, что его не могут не замечать даже самые предубеж­ денные сторонники концентрации капитала”. Здесь наш автор допускает некоторую наивность: отчего “не могут не замечать”? Очень даже “могут” — ибо нет более безнадежных сле­ пых, чем те, кто не хочет видеть. Или чем те, кто не смеет видеть — ибо это значит отказаться от своего “мировоззрения”, которое в боль­ шинстве случаев жизни есть не только мировоззрение, но и профессия. Для марксистов же всех толков марксизм есть не только мировоззре­ ние, но и профессия — трудная и рискованная в начале, но дающая обильную жатву в конце. Ибо марксизм — это путь к власти. Если мы посмотрим на процесс “коллективизации деревни на базе сплошной ликвидации кулака как класса”, вот именно с этой, то есть с профессиональной, не только с идеологической и уж ни­ Большевизм и крестьянство 147 как не с экономической точки зрения, то великий большевистский поход против русского мужика нам станет несколько понятнее. Я не буду возвращаться к вопросу о психологических корнях мар­ ксизма вообще и большевизма в частности. Но вот к власти пришли люди, для которых ненависть стала не только их вторым “я”, но и их профессией. Ненависть к “феодалам”, ненависть к религии, ненависть к буржуям, ненависть к офицерам, социалистам-революционерам, меньшевикам, нэпманам, кулакам, подкулачникам, правым уклони­ стам ВКП(б) и левым уклонистам того же ВКП(б). Большевистская ненависть имела поистине еще невиданный в истории размах нена­ висти ко всем, начиная от русских царей и кончая Бухариными, — звериная лютая бесконечная ненависть ко всем, кроме единого, объя­ вившего себя полубогом, единого, гениальнейшего — отца и повели­ теля всех народов мира. Люди, которые по очень кровавым ступень­ кам карабкались к этой власти, имели за своей спиной, пожалуй, бес­ примерное в истории прошлое. В этом прошлом было все: вооружен­ ные грабежи и получение денег за шпионаж в пользу внешних врагов. Были партийно организованные женитьбы на богатых купчихах, и бы­ ла фабрикация фальшивых кредиток. Было все. И к власти пришли прохвосты изумительно твердой души — прошедшие и огонь и воду. Но для всего этого у них было и оправдание: именно они, гениаль­ нейшие (в начале революции все они были гениальнейшими, солью земли и цветом человечества, железной гвардией ленинизма, предста­ вителями ее железного пролетарского единства и прочее) — именно они несут человечеству окончательное освобождение от всех его бед. Или, если применять богословскую терминологию, — окончательное освобождение человечества от его первородного греха и, следователь­ но, наступление рая. За железной гвардией пошла полуграмотная или вовсе безграмотная масса, всякие лодыри и несмышленыши, неудач­ ники и изуверы, фанатики и маниаки. Все они ждали рая всерьез. Всерьез и навсегда. И не когда-нибудь — в масштабе и перспективе веков, а по меньшей мере послезавтра. Эта масса поддержала гениаль­ нейших и дала им возможность выиграть гражданскую войну.. Выигрыш гражданской войны застал в России положение ве­ щей, совсем уже не похожее на какой бы то ни было рай. “Эпоха военного коммунизма” привела страну к небывалому голоду. Аме­ риканская буржуазия слала “житнице Европы” милостивые подач­ ки американской администрации помощи (АРА). Голод и вошь правили страной. Тифы перемежались с восстаниями и восстания с усмирениями — все стояло на краю гибели. Я здесь не буду анализировать экономических корней военного коммунизма — он, прежде всего, не был “военным”; он был про­ 148 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век сто большевистским. Программа “черного передела”, украденная Ле­ ниным у социалистов-революционеров и более или менее реализован­ ная по всей Руси, не могла, конечно, создать никакого благорастворе­ ния воэдухов и тем паче изобилия плодов земных. Но экономисты, исследующие экономические предпосылки и экономические результа­ ты этой славной эпохи, совершенно забывают одну и очень простую вещь: в атмосфере всеобщего беззакония, произвола и грабежа — не могла действовать вообще никакая экономическая система. В городах свирепствовали чрезвычайки, по деревням разгуливали продотряды, по железным дорогам этакими соловьями-разбойниками сидели заградотряды: это была не марксистская, и даже не только большевист­ ская — это была чисто печенежская система: словно старые знакомцы Руси, половцы и печенеги, восстали из-под курганов своих и ринулись на Русь, но уже не с копьями, а с пулеметами. Эсеровская система “черного передела”, принятая большевиками, была, конечно, и плоха и глупа, но взятая сама по себе — к таким катастрофическим результа­ там она привести не могла. Тем более что и сама-то она больше оста­ лась на бумаге: мужичок, предоставленный в эти годы самому себе, действовал больше по собственному разумению — и не так уж и пло­ хо. Вводить какую бы то ни было более или менее законченную сис­ тему не было возможности ни у кого. И тем менее у большевиков, только что вырвавшихся из атмосферы и нужд гражданской войны. Грабеж эпохи военного коммунизма не имел под собою, в сущ­ ности, никаких народно-хозяйственных предпосылок — точно так же как и расстрелы городов. Просто новым и неожиданным вла­ стителям России из-под каждой подворотни мерещился классовый враг, которого надо было если не всегда уничтожить, то всегда ог­ рабить. И за счет награбленного вознаградить по мере возможно­ сти ту красу и гордость революции, которая не зря же, в самом де­ ле, кровь свою проливала или говорила, что проливала. В городах грабили столы, пианино и нижнее белье. В деревнях грабили хлеб, кур и зипуны. По дорогам между городом и деревней грабили все. Какая экономическая система могла вообще процветать при такой половецко-печенежской администрации? Нэп обычно рассматривают исключительно с экономической точки зрения — недаром новая экономическая политика. И забыва­ ют его чисто полицейскую роль. Нэп обозначал прекращение гра­ бежа. У Сельвинского (“Улялаевщина”) сказано: ...Продналог! И смолк пулеметный вой И бросила армия деревни караулить... Большевизм и крестьянство 149 “Деревни караулила”, впрочем, не очень армия — и деревни и го­ рода караулил вооруженный сброд красы и гордости. Но нэп означал действительно прекращение пулеметного и всякого иного воя над страной и восстановление некоего, пусть и очень куцего права не быть бессудно ограбленным и зарезанным. Но — запомните это — нэп также означал конец карьеры для той красы и гордости, которая очень уютно пристроилась ко всякого рода печенежским отрядам, разгули­ вавшим и по деревням и по городам. И именно на и для этой гордости построил Сталин свой поворот к коллективизации. Экономической статистики и военного коммунизма и нэпа мы не имеем и не будем иметь никогда. И может быть, наше поколение, ви­ давшее все это своими очами, обязано честно предупредить будущих приват-доцентов статистики и экономической истории и о том, что все цифры, касающиеся этих славных эпох, есть сплошное вранье. Ибо мы, очевидцы, видали сами, как безграмотные и ошалелые упродкомы, губироткомы, комбеды, сельсоветы, статбюро и прочие бра­ ли то, что им свыше приказано было брать. А так как приказания бы­ ли часто и вовсе невразумительны, то вранье принимало совершенно случайный характер, никак не связанный с какой бы то ни было ре­ альностью в мире. Не следует оставлять будущим приват-доцентам и того утешения, которое они находят в коэффициенте поправки на возможные ошибки статистического учета: такого коэффициента тоже найти нельзя — ибо врали кто во что горазд. Знаю, что этим утвержде­ нием я пытаюсь отнять кусок хлеба у будущих приват-доцентов — но что делать: истина все-таки дороже статистики... Нэп привел страну к какому-то более или менее человеческому уровню жизни. После диктатуры, вшей и голода — жалкие крохи нэпа казались людям почти что раем. Еще и сейчас в СССР сохранилось этакое светлое воспоминание об этой краткой прогулке по тюремному двору. Слишком отвратительно было и то, что страна переживала пе­ ред нэпом, и то, что она переживала после нэпа. Два периода — воен­ ного коммунизма при Ленине и, так сказать, штатского коммуниз­ ма — при Сталине как будто стерли из памяти страны всякие воспо­ минания о просто нормальном времени. Стерли в такой степени, что подрастающая “смена” просто-напросто не верила в возможность та­ кого порядка вещей, когда комната, рубашка, кусок сала и личная безопасность от какой бы то ни было администрации не были вообще никакими “вопросами” — все это разумелось само собой. Тяжкая бо­ лезнь всегда ослабляет память. То ослабление исторической памяти, которое свойственно сейчас населению СССР, есть самая большая опасность, какая только стоит перед Россией. Единственное утешение состоит в том, что биологическая память народа, его инстинкт, дейст­ 150 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век вует гораздо сильнее его сознательной памяти — а в истории, в конеч­ ном счете, решает инстинкт. Я не буду приводить никаких хозяйственных данных о нэпе: их, во-первых, приводили и еще будут приводить бесчисленное коли­ чество раз и они, во-вторых, не стоят ни копейки. Во время нэпа были проведены и первые более или менее организованные попыт­ ки устройства всяческих коммун, колхозов и прочего в этом роде. Есть и статистика этих попыток: не стоит приводить ее. Первые опыты коллективизации сельского хозяйства — добровольной коллективизации — нашли себе поддержку с двух как будто взаим­ но друг друга исключающих сторон: первая — деревенская голь, севшая на прокормление на государственную шею, и вторая — са­ мая что ни на есть контрреволюционная верхушка деревни, старав­ шаяся “замести следы”. Какие экономические поучения можно вывести из этих попыток? Единственно известное и без статисти­ ки — это то, что добровольно на коллективизацию деревня не по­ шла. Снова понадобились пулеметы. С чисто экономической точки зрения нэп был просто некоторым проблеском фритжедерсгва: лессе фер (laisser faire). Свобода частной инициативы, ограниченная чрезвычайкой, — ограничение довольно существенное. В городах, где чрезвычаек было больше — было мень­ ше и этой свободы. В деревнях, где уже из одной географии нашей достаточного количества чрезвычаек насадить было технически невоз­ можно, — было больше и свободы. Жизнь стала менее голодной, ме­ нее грязной и менее вшивой. Но все-таки оставался и “жилищный го­ лод”, и “текстильный голод”, и “жировой голод”, и всякие иные виды голодания. И была огромная безработица, доходившая временами — по весьма урезанным советским данным — до четырех миллионов го­ родского населения, преимущественно рабочих. Служащих пропиты­ вала непомерно распухшая бюрократия всяческих советских главков, трестов, центров и прочих полицейских участков советской экономи­ ки. Интеллигенция, пользуясь относительной свободой передвижения и предприимчивостью, приспосабливалась к деятельности совсем фан­ тастической. Автор этих строк в числе прочих разновидностей своей многополезной подсоветской деятельности промышлял и следующим: был профессиональным санитаром, потом таким же профессиональ­ ным рыбаком. Потом организовал бродячую — по деревням — труппу, в которой сам играл роль балаганного геркулеса. Был инструктором несуществующей кооперации. Варил мыло из сала дохлого скота — скверное было мыло. Торговал на базаре старьем. Возил, в порядке новой экономической политики, в Москву сахар и спирт, а из Моск­ вы — мануфактуру. Был профессиональным фоторепортером. Возил Большевизм и крестьянство 151 из Ананьева в Одессу огурцы — телега по дороге сломалась, чинить было нечем, и огурцы прокисли. Был инструктором физкультуры в ВЦСПС и написал штук пять книг по физкультуре — они, впрочем, были удачнее огурцов. Жить было можно, но жить было отвратитель­ но. Пытался бежать за границу, был арестован, посажен в концла­ герь — и оттуда все-таки бежал. Карьера, как видите, вполне достой­ ная ОТенри и прочих героев Дальнего Запада Америки — и это, так сказать, обычная карьера, середняцкая биография русского интелли­ гента, попавшего в марксистский переплет. Ильф и Петров (“Двена­ дцать стульев” и “Золотой теленок”) дали почти фотографический снимок хозяйственной и прочей атмосферы нэпа. Будущим историкам народного хозяйства следует изучать этот период по Ильфу и Петрову, а не по данным ЦСУ — как Маркс изучал дореволюционную Фран­ цию по “Человеческой комедии” Бальзака. Деревня жила более стабильной жизнью. Откалываясь от обшей марксистской схемы, большевистские экономисты всячески пропове­ довали преимущества мелкого сельского хозяйства, государство обе­ щало всяческие льготы “передовикам деревни”, поощряло скотоводст­ во, технические культуры, садоводство и прочее — с тем, чтобы лет через пять-шесть этих же “передовиков” объявить кулаками и ликви­ дировать как класс. Но эти “передовики” своей дальнейшей ликвида­ ции еще не предвидели. Они дорвались до работы и работали совсем всерьез. Россия переживала “неслыханный” по своей относительности подъем: в течение двух-трех лет от людоедства, от американской ми­ лостыни, от сыпнотифозных кладбищ люди перешли если и не совсем к человеческой, то хотя бы к получеловеческой жизни. Это был, ко­ нечно, огромный прогресс — в такой короткий срок и после такого поистине неслыханного батыева погрома всей страны. Но все дело за­ ключалось в том, что этот прогресс был достигнут на капиталистиче­ ских, а не на социалистических путях. Ленин тогда говорил, что деревня “ежедневно и ежечасно рождает из своих недр капиталистические отношения”. Троцкий (тогда еще тоже в числе гениальнейших) огорчался: “Мы думали регульнуть кула­ ка, но кулак регульнул нас”. Возникла пресловутая проблема “нож­ ниц”: хлеб оказался слишком дешев. Но не потому, чтобы его было слишком много, а потому, что не было промышленной продукции, которую мужик мог бы получить за этот хлеб: в городах было больше чрезвычаек и поэтому было меньше продукции. Экономические отношения в стране развивались в эту эпоху по та­ кой примерно схеме: мужик работал в тяжких условиях, но все-таки менее тяжких, чем города. Он производил и хлеб, и сало, и он нуж­ дался в ситце и топорах. Национализированная промышленность со 152 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век всеми ее главками была построена так, что оборудованные по самому последнему слову современной техники подмосковные текстильные фабрики находили более выгодным объявлять свое сырье браком и пе­ репродавать его кустарям-ткачам. При этом, разумеется, перепадали и взятки. Промышленность, по терминологии тех времен, вела “ижди­ венческий образ жизни”. Такой же иждивенческий образ жизни вела и так называемая товаропроводящая сеть. В “Правде” тех времен был как-то помещен блестящий фельетон Зорича, посвященный конкуренции частного торговца с кооперативом (автор этого фельетона, вероятно, один из талантливейших журнали­ стов нынешней России, был впоследствии ликвидирован). В этом фельетоне частник объяснял своему сыну, что кооперации бояться не следует: “Кооперация — она неживая, у ей кровь холодная, скажем, как у рыбы”. Кровь была действительно холодная — как у советской рыбы. Товаропроводящая сеть — и кооперация в том числе — были какими-то жалкими ублюдками, которым и торговать было нечем и “проводить” было нечего — кроме, конечно, коммунистических идей. И она волею нэпа вступила в конкуренцию с частником — самостоя­ тельным, энергичным и, нужно сказать откровенно, весьма жуликова­ тым частником. Конкуренция была безнадежна. Мужик шел к частни­ ку: он продавал частнику и покупал у частника. Мелкий частник про­ давал и покупал у крупного частника, а крупный частник покупал — или у кустарей, или у тех же главков, трестов, синдикатов и прочих. Как общее правило, этот частник был жуликом — иным он и быть не мог. На режим чрезвычаек частник отвечал режимом взятки — что ему оставалось делать? Это был период “первоначального накопле­ ния”, не совсем по Марксу, но вроде этого. Накопляли все три заин­ тересованные стороны: и мужик, и частник, и — это очень важно — та часть компартии, которая присосалась к производственному аппа­ рату. Говоря короче: та часть партии, которая стала хозяйствовать пе­ ром — получила деньги. Та часть партии, которая привыкла хозяйст­ вовать ружьем — осталась на бобах. Но ружья-то (и пулеметы) оста­ лись у этой последней части — которая и решила вопросы коллекти­ визации деревни на базе ликвидации мужика как класса. Вопрос, который стоял перед партийным руководством тех времен, можно рассматривать с двух точек зрения: идейной и практической. С идейной стороны все было ясно: при наличии свободной конку­ ренции, то есть не ограниченного вооруженным насилием свободного соперничества двух одновременно сосуществующих хозяйственных систем, социалистическая система совершенно ясно идет к гибели. Что же дальше? Признать, что все эго было зря? Начиная от Карла Маркса с его коммунистическим манифестом и социалистическим Большевизм и крестьянство 153 “Капиталом” и кончая разгоном Учредиловки всероссийской и царе­ убийством, гражданской войной, людоедством, тифами и чрезвычай­ ками? Свернуть свои идеологические знамена и идти в Каноссу к Ке­ ренскому, а то к Деникину — или к Круппу и Моргану? С идеологи­ ческой точки зрения был только один выход: переть дальше. Но точно такой же выход был и с точки зрения практической. Всякая настоящая революция выносит на свой пресловутый гре­ бень всякие отбросы общества — это с совершенной очевидностью показал Тэн относительно Французской революции. Подчеркиваю еще раз — под настоящей революцией я понимаю вовсе не те метафо­ ры, какими так изобилует наш бедный язык, — вот вроде “революции в технике” или революции в Италии. Революция в настоящем пони­ мании этого слова есть вооруженное уничтожение данного социально­ го строя, а не просто переход власти — хотя бы и вооруженной - от одной группы к другой. Вместе с Лениным и Троцким, Зиновьевым и прочими (Сталин тогда просто был на побегушках) к власти пришла многомиллионная орава вооруженного сброда — краса и гордость ре­ волюции. Эго именно она обеспечила большевизму победу (если не говорить об ошибках вождей Белой армии). И придя к победе, она не очень даже безмолвно потребовала участия в революционном пире. Во времена римских гражданских войн все это делалось проще: бу­ дущий победитель заранее составлял проскрипционные списки, и по­ бедоносной армии отдавались на поток и разграбление люди и имуще­ ства, в эти списки внесенные. Но в ту идиллическую и наивную эпоху война была грабежом, и грабеж был войной: грабили без всяких агит­ пропов, открыто и по-своему честно. Блаженный Августин намного позже Рима сформулировал свое знаменитое: что есть война, как не великий грабеж? В нашу эпоху все это несколько сложнее. Посадить два миллиона красы и гордости на место прежних ста тысяч помещи­ ков не было никакой возможности. Нельзя было также посадить их на места инженеров, врачей, писателей и художников. Куда же их деть? В блаженные дни военного коммунизма эта публика промышляла и заградоотрядами и спекуляцией. Организованная небольшими бандами матросня и прочие возила соль, хлеб и сало на север, мануфактуру и московские товары на юг и на всякие заградиловки плевала со всей высоты своего революционного величия. Во-первых, у них были ман­ дата, и, во-вторых, у них были пулемета. И та разновидность чрезвы­ чаек, которая, по выражению Ильи Оренбурга7, промышляла по же­ лезным дорогам и называлась ОТДОГПУ (см. “Хулио Хуренито”), встречалась в лучшем случае самой виртуозной бранью, облизывалась и уходила вспять. Рядовой мешочник был покладистее и раскрывал свои мешки или кошельки без никаких протестов. Не надо преувели­ 154 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век чивать нищету этого торгового оборота: в эти годы голода, усиленного искусственной блокадой городов, хлеб и соль означали здоровье и жизнь. За хлеб и соль люди отдавали все, что у них было: и керенки, и золото, и бриллианты. Нэп прекратил эти ушкуйные промыслы. Краса и гордость пооборотисгее попристраивалась ко всякого рода дутым кооперативам, инвалидным артелям, производственным коммунам — где под вывеской привилегированных коллективистских форм хозяй­ ствования промышлял тот же частник. Частник кормил и поил эту публику. Но, во-первых, масштабы стали скромнее, и, во-вторых, уси­ лилась конкуренция: Общество старых большевиков и Союз бывших политкаторжан, инвалиды гражданской войны, в число которых мог попасть любой безногий человек, научные организации и даже чрез­ вычайки обросли своими частниками. И под всеми этими разнообраз­ ными флагами шла таинственная торговля, которую, конечно, ника­ кая статистика учесть не могла. Организовывалось столь же таинствен­ ное или полутаинственное производство. Еще во времена коллективи­ зации, в 1931 — 1938 годах, время от времени милиция открывала вся­ кие нелегальные производства — кожевенное, химическое, металлур­ гическое, организованные так, как в буржуазных странах организуется производство фальшивых кредиток. Нэп расколол партию на привилегированных и обездоленных. Привилегированные подписывали “мандаты” и сосали частника. Обездоленные остались, так сказать, с разинутыми пулеметами. И по их миллионной массе пробегал старый и очень тревожный для власти лозунг: “За что же, собственно, боролись братишечки?” Третий фактор коллективизации сводился к тому, что деревня ка­ тастрофически уходила из-под всякого контроля советской власти. Крестьяне строили свои формы хозяйствования, которые оказались столыпинскими формами, крестьянство в союзе с частниками целыми стадами скупало партийный аппарат, получавший от власти гроши. “Стихия частного рынка” брала за горло всю советскую промышлен­ ность: или работай толком или убирайся вон. Городская безработица росла. Падала служилая безработица — ибо пух бюрократический ап­ парат. Но бюрократический аппарат ел, ничего не производя. Приви­ легированный слой партии — тот, на который опиралась “правая оп­ позиция”, пытался реализовать бухаринский призыв “обогащайтесь” в самом примитивном понимании этого обогащения. Настоящее очень хорошо устраивало этот строй: были деньги, и была власть, и был ча­ стник, который уж обо всем позаботится, — который в случае неудач­ ного жульничества сам и отвечать будет. Возникали и росли “гнойни­ ки”, из которых самым крупным был астраханский, когда московская чрезвычайка обнаружила, что весь правительственный и партийный Большевизм и крестьянство 155 аппарат губернии скуплен частником, так сказать, на корню, со всеми его революционными потрохами. Таким образом, нэп давил с трех сторон: во-первых, он демон­ стрировал совершенно воочию полную неприглядность коммуни­ стических методов хозяйствования по сравнению с капиталистиче­ ским, он, во-вторых, отбрасывал огромные и вооруженные массы партии в безработицу, бесперспективность и оппозицию, и он, на­ конец, разлагал верхушку партийного аппарата, передавая на со­ держание частника. Затяжка нэпа грозила окончательной катастро­ фой всему советскому строю. Идеалистическим карасям русской интеллигенции — почти исключительно эмигрантской — уже мере­ щился “спуск на тормозах”, но этот спуск — на тормозах или без тормозов — был бы спуском в могилу. Дальнейшего углубления ре­ волюции требовало прежде всего чувство самосохранения воору­ женных захватчиков власти — и именно поэтому победили: углуб­ ление коллективизации и их носитель Сталин. За всем этим лежали еще и более глубокие факты, родившиеся на свет Божий вместе со всяческим социальным утопизмом, — это ненависть ко всякой органичности жизни и ко всякому носителю этой органичности. Та ненависть, которая сквозит в марксовской характеристике крестьянства, — она не случайна. Не случайно и то презрение к крестьянству, которое прокламировали обе наши со­ циал-демократические партии — и меньшевики и большевики. Не случаен, конечно, и огромный процент евреев в обеих этих фрак­ циях. Крестьянство, носитель исконного национального и государ­ ственного инстинкта, хранитель семейных и религиозных тради­ ций, стояло поперек дороги всякому социальному прожектерству. Я уже писал о тех психологических и биологических корнях, из кото­ рых вырастает это прожектерство, — из чувства неполноценности. Социальное прожектерство мозгляка — типа хотя бы Ленина — неизбежно и неизменно наталкивалось на инстинктивную муд­ рость и спасительный консерватизм многомиллионной массы, и эта масса казалась мозглякам состоящей из идиотов. Социальные прожектеры хотят перестроить все — и каждый по-разному. Если бы им всем дать свободу от консервативного чувства самосохране­ ния многомиллионных масс, мы переживали бы социальные пере­ стройки в, так сказать, кинематографических темпах — и каждый прожектер резал бы других, прихватывая при этом случае и нас с вами, чтобы в свою очередь быть зарезанным новыми прожектера­ ми. Мир тогда представлял бы очень занятное зрелище — для по­ стороннего и неприкосновенного наблюдателя во всяком случае. Но на прожектерских путях стоит прежде всего крестьянство, и 156 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век крестьянство прежде всего ненавистно прожектерам — больше, чем пресловутая “буржуазия” и пресловутый капитализм. Пути социального прожектерства были очень точно предусмотрены Достоевским — в “Бесах”: для превращения массы в окончательное стадо надо было во что бы то ни стало устранить ту основную помеху, которою является крестьянин как класс. Он был превращен в батрака, который держится на привязи не только террором молота, но и терро­ ром голода. Коллективизация деревни означала прежде всего концен­ трацию всего хлеба страны в руках коммунистической бюрократии, которая может дать хлеб, но может его и не дать — и тогда мужику предоставляется полное право помирать с голоду. Этим правом мужи­ ку пришлось воспользоваться очень широко. Голодный террор колхо­ зов оказался действительнее наганного террора чеки. Те “экономические корни” коллективизации деревни, которые так любят отыскивать наши экономисты, хороши только тем, что спасают ученых людей от безработицы, другого значения они не имеют ника­ кого. Для индустриализации не нужна была коллективизация — стро­ ить заводы было бы намного легче, имея хлеб в стране, чем не имея хлеба. И если дореволюционное крестьянство поставляло на рынок 78 процентов товарного хлеба, то с приращением своей посевной пло­ щади на 13 процентов и ликвидации неудобных остатков дворянской опеки оно покрыло бы продовольственные потребности полностью — конечно, не при наличии ВЧК - ОГПУ — НКВД. Не было никакого экономического смысла резать курицу, несущую если и не золотые, то, во всяком случае, съедобные яйца. Не было никакого смысла строить заводы голодными руками, когда можно было их строить сытыми. От­ падает и мотив экспорта зерна для импорта машин, ибо в годы кол­ лективизации экспорт зерна не только упал до нуля, но время от вре­ мени сменялся импортом — первый раз за всю многострадальную ис­ торию России. О том, что не было никакого экономического смысла морить голодом миллионы людей, я уже не говорю — это выходит за пределы компетенции и интереса чистой экономики. Объяснение ле­ жит не в плоскости экономики, а в плоскости изуверства, опирающе­ гося на недоношенность. Изуверы и недоноски, фанатики и неудачники — вот кто строит великие революции и ведет к великим и кровавым провалам истории. Ненависть этих людей ко всему дельно­ му и полноценному есть явление психологического порядка — а ни­ как не экономического. Перефразируя известную марксистскую фор­ мулировку, можно бы сказать, что дальнейшие экономические явле­ ния есть только материалистическая надстройка над исходными пси­ хологическими факторами. В начале у истоков стоит ненависть, суще­ ствующая сама по себе, данная изнутри, из собственной ненавидящей Большевизм и крестьянство 157 дущи- В начале она направлена на весь окружающий мир вообще: мир устроен плохо и так как он не желает перестраиваться добровольно, то нужно перестроить его насильственным путем. Так возникает общая революционная психология, объединяющая всех носителей ненависти. Но вот мир “перестроен”. Тогда ненависть устремляется на спутников и попутчиков по разоружению — в нашем случае на меньшевиков, эсеров, анархистов и прочих. Потом на отростки собственной пар­ тии — правые уклонисты и левые загибщики. Потом на своих бли­ жайших друзей — и действует до тех пор, пока родоначальники и за­ чинатели революции не будут вырезаны все. Старый мир, подлежащий разрушению, есть мир частной собствен­ ности. Крупнейший класс собственников составляет крестьянство; собственность его носит совершенно реальный характер: вот этот ку­ сок земли, на котором родились мои деды и отцы и на котором сижу и я. Эго не то почти отвлеченное право собственности, какое олице­ творяется в безличных бумагах акций, облигаций, векселей и прочего. Эго живое, конкретное ощущение, ощущение, за которое люди дерут­ ся, — за акции не дрался никто. И крестьянство ненавистно именно потому, что оно является носителем пусть и первобытного, но непо­ средственного и могучего инстинкта. Этот инстинкт может быть и должен быть раздавлен вместе с крестьянством. Практика народолюбивых теорий привела к тому, что из всех слоев и классов русского общества дороже всего и страшнее всего заплатило за революцию крестьянство. Да, было плохо и всем ос­ тальным — до компартии включительно. Да, погибли десятки ты­ сяч офицеров (в большинстве “рабоче-крестьянского происхожде­ ния”), да, зверски были убиты представители Царствовавшего До­ ма, да, погиб кое-кто из интеллигенции и буржуазии — но эти слои в своей основной массе успели спастись. Три миллиона лю­ дей нынешней русской эмиграции — это есть спасшееся большин­ ство и дворянство, подавляющее большинство и дворянства, и бур­ жуазии, и интеллигенции. Иногда они живут хуже, но иногда и лучше. Но все они живут лучше, чем любой слой нынешнего насе­ ления СССР. Они, во-первых, не голодают нигде, и, во-вторых, они совершенно спокойны за завтрашний день: их никто завтра не “репрессирует”, не раскулачит, не арестует и не расстреляет. Они живут лучше нынешних коммунистов СССР: они почти всегда в большей сытости и всегда в большей безопасности. Я уже не гово­ рю о том — довольно, впрочем, значительном меньшинстве, кото­ рое имеет и свои виллы, и свои автомобили, свои заводы (даже и в Америке!), и свои миллионы. Но даже тот слой эмиірации, кото­ рый находится на самых экономических низах эмигрантской жиз­ 158 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ни — например, часть офицерства, — живет все-таки лучше круп­ ных коммунистов Москвы. Я знаю и тех и других и могу судить с достаточным знанием дела. Самый завалящий эмигрант, промыш­ ляющий таксомоторной профессией, живет сытее, увереннее и ве­ селее крупного коммуниста Москвы. Старые правящие и руково­ дящие слои России оказались от революции в наибольшем выиг­ рыше: они проиграли меньше всех остальных. И больше всех ос­ тальных проиграло крестьянство. Не буржуи, не помещики, не фабриканты и не банкиры были доведены до людоедства — было доведено крестьянство. Не помещики и фабриканты лежали в братских ямах голода, тифов и чрезвычаек — там лежали миллио­ ны и миллионы крестьянских трупов. Не князья, графы и бароны наполняли бесконечные концентрационные лагеря СССР — их на­ полняло крестьянство. Буржуи и прочие успели удрать от народо­ любцев, но как могло удрать крестьянство? И на сеятеля и храни­ теля Русской земли насели народолюбцы, которые оказались поху­ же Батыева нашествия. Мы, наше поколение, родились и жили в эпоху величайшего обмана, какой только знала русская история. Мы не сумели с ним справиться — вот и расхлебываем, расхлебываем все, кто немного пожиже, кто много гуще, — но расхлебываем все. Сеятель и храни­ тель Русской земли, строитель Русской империи, носитель русско­ го национального и государственного инстинкта — Его Величество русский Мужик имеет только одного равного товарища по несча­ стью — Царскую Семью, истинно по-звсриному убитую в екате­ ринбургском подвале. Народолюбцы ставили себе цель: разбить единство Царя и Народа для того, чтобы по очереди убить и мо­ нархию и крестьянство. Они убили миллионов тридцать — пятьде­ сят живых людей, но они не убили ни России, ни крестьянства, ни монархии. “Сеятель, хранитель” — а также и строитель Русской земли, переживал уже всяких дядей, пытавшихся его ликвидиро­ вать: и половцев и печенегов, и татар и поляков, и шляхту и дво­ рянство, и шведов и французов. Переживет и сегодняшних народо­ любцев и спасителей. Он-то — он останется. А что осталось и что останется от них всех? Исторические прецеденты оставляют очень мало розовых надежд... САМОДЕРЖАВИЕ, КОНСТИТУЦИЯ, РЕАКЦИЯ “РЕАКЦИЯ” Декларация монархического съезда в Мюнхене вызвала не­ сколько полусочувственных отзывов нашей либеральной печати. “Рус­ ская мысль” называет этот съезд съездом “монархисгов-консгигуционалисгов”, хотя о “конституции” в его декларации не сказано ни слова. Поскольку я могу судить — правая печать о съезде пока еще молчит. “Русская мысль” полагает, что декларация съезда дает какую-то надежду на возможность какой-то договоренности в каком-то будущем. Можно опасаться, что на путях этой договоренности возникнут некоторые книжные трудности, — трудности, возникающие из двух различных представлений о мире: книжных представлений и жизненных. На монархическом движении уже давно лежит одиум реакционно­ сти. Было бы наивно, нелепо и даже глупо утверждать, что среди мо­ нархистов нет совсем реакционеров. Конечно, есть. Точно так же как среди республиканцев есть ведь и коммунисты. Само собой разумеет­ ся, что среди миллионов или двух миллионов старой, а также и новой русской эмиграции есть люди, жаждущие и алчущие восстановления хоть каких-нибудь, но все-таки “сословных привилегий”. Есть люди гораздо менее требовательные: они хотят только восстановления своих имущественных прав. Не будем их обвинять: если бы у вас была в России сотня тысяч десятин, то и вы, вероятно, мечтали бы о возврате хотя бы тысячи. Вспомним некоторые исторические примеры: Тадеуш Костюшко был, конечно, патриотом, демократом и даже революцио­ нером. Польскому крепостному крестьянству он в своем универсале торжественно обещал полное освобождение. Оно так и осталось на бумаге — Костюшко не освободил даже и своих крестьян. А. Пушкин воспевал “свободы тайный страж, карающий кинжал” — правда, толь­ ко в самые юные свои годы, — но и в последующие времена о судьбе и свободе своих крепостных заботился очень мало. О великом искате­ ле истины Льве Толстом и говорить нечего: история с переводом имения на имя жены достаточно хорошо известна. Достаточно из­ вестны и ингуши, которых проповедник непротивления злу вызвал во время крестьянских беспорядков. Нелепо было бы требовать от среднего херсонского помещика, чтобы он был морально и поли- 160 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век тически последовательнее Костюшки, Пушкина и Толстого. И да­ же всех трех вместе взятых. Но среди этих помещиков есть достаточный процент разумных лю­ дей, которые понимают, что о восстановлении каких бы то ни было сословных не только “привиллегий”, но даже и тенденций и речи быть не может. Все это невозможно, так сказать, физически. Останут­ ся, конечно, люди, которые “во глубине бельгийских руд” будут изу­ чать свои родословные и беседовать друг с другом на тему о том, как Иван Иваныч Фан Дер Флит женат на тетке Воронцова. Будут мечтать и о “дворянских гнездах”. Я, впрочем, не вижу ни­ каких разумных оснований к тому, чтобы эти гнезда не возвращать их бывшим владельцам. Дома в городах придется возвращать, иначе мы снова будем жить не в домах, а в домкомах. Но если возвращать го­ родские дома, то почему не вернуть и сельские? Тем более что их вла­ дельцам эти дома будут совершенно ни к чему. Если бы поместный слой деникинского правительства вел бы себя хоть на копейку разумнее, он сейчас не только сидел бы в России — но и в своих гнездах, по крайней мере в течение дачного периода вре­ мени. Но у деникинского поместного слоя были вооруженные люди, которые воевали на фронте и не ведали, что творится в тылу. Никаких вооруженных сил у останков нашего поместного слоя не будет ни при каких мыслимых условиях. Основная заслуга мюнхенского съезда заключается в том, что наибо­ лее острый для монархического движения упрек в “социальном рестав­ раторстве” — ясно, твердо и категорически отведен в сторону. Личный состав съезда, участие в нем целого ряда представителей Церкви и очень четкая продуманность всех “тезисов” придает декларации съезда некото­ рую авторитетность. Я намеренно говорю о “некоторой авторитетно­ сти”. Сейчас люди стали поневоле скептическими, а уж русский чело­ век, обжегшись на молочных реках социализма и коммунизма, будет дуть и на воды Северного полюса. Таким образом, монархической про­ паганде придется долго и долго — здесь и в особенности в России твер­ дить и твердить, что все это — совсем всерьез. Нельзя закрывать глаза на опасность того, что какие-то херсонские помещики могут нам, мо­ нархистам, в самый неподходящий момент испортить всю нашу агита­ цию. Выскочит какой-нибудь Налымов (по А. Толстому) или “мелкий сатрап” (по генералу П. Врангелю) — и попробуйте вы потом доказы­ вать, что вы не верблюжий брат. Эту опасность нужно, во всяком слу­ чае, предвидеть заранее. Несколько меньше поддается предвидению то, что наши книжники называют “конституцией”. Самодержавие, конституция, реакция 161 КОНСТИТУЦИЯ Профессор Ключевский констатировал: “Московские самодержцы имели власть над людьми, но не имели власти над традицией и над учреждениями” — и конституции не было. Сейчас мы можем конста­ тировать и тот факт, что благими конституциями вымощены все доро­ ги во все чрезвычайки. Наши книжники страдают неизлечимой гипер­ трофией уважения к печатному слову. Они совсем всерьез предполага­ ют, что конституция или не конституция определяется писаной бума­ гой, а не соотношением сил и потребностей. Одна из первейших на­ сущных потребностей будущей России — это сильная власть. В этом, кажется, едина вся новая эмиграция — даже и республиканская, — старая едина несколько менее. Таким образом, пределы полномочия любого главы правительства или главы нации будут определяться в за­ висимости не от незыблемых истин немецкого государственного пра­ ва, а от насущных потребностей русского народа. Мы можем предста­ вить себе и ряд посторонних — может быть и внешних — влияний и давлений на “волю народа”, но воля народа жила тысячу лет, а влия­ ния и давления не проживут и десятка. Единственное, чего они могут достигнуть, это отодвинуть на несколько лет действительно свободное волеизъявление народа. Говоря практически, русский народ — это: а) крестьянство; б) пролетариат и в) интеллигенция. Из этих трех слагаемых буду­ щего всенародного голосования крестьянство является совершенно подавляющим большинством. И оно же, больше, чем какой-либо иной слой населения страны, нуждается в твердой, в царской вла­ сти. Нуждается в гарантиях против того, что в некое время некие новые философы станут организовывать новые колхозы и новые на этот раз не “при”, а только “усадебные” участки и снова начнут экспериментировать над нашей многострадальной матушкой-зем­ лицей. Конечно, за его, крестьянства, счет. Если исключить возможность захвата власти путем заговора (этот вариант вовсе невероятен) — то придется констатировать тот факт, что судьбы России в самом основном будет решать крестьян­ ство: его “голоса” составят 80 процентов всей массы голосующих. Это по меньшей мере. Ибо к чисто крестьянским голосам нужно прибавить и крестьянскую интеллигенцию и тот сегодняшний про­ летариат, который назавтра после ликвидации советской власти вернется к себе домой, на село. “Соотношение сил” будет решать вот эта масса. Эта масса дос­ таточно хорошо знает, что она, то есть крестьянство, не может ни устраивать демонстраций на Невском проспекте, ни организовы­ 162 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век вать забастовок у себя на селе. И что, следовательно, отсутствие очень сильной Царской власти может отдать управление страной в руки Невского проспекта или Путиловских забастовок. А может быть, и в чьи-нибудь похуже. Наш исторический опыт очень неутешителен для “конституций”. Я уж не буду говорить о февральской конституции кратковременного правительства и даже о сталинской конституции сегодняшнего дня. Но ведь и конституция 1905 года нарушалась под давлением совер­ шенно очевидной государственной необходимости. С Первой Государ­ ственной Думой не могло бы работать никакое правительство мира. Ее разгон был государственной необходимостью, но он, конечно, был “нарушением конституции”. Таким же “нарушением” было измене­ ние избирательного закона. И когда Государственная Дума ответила правительству своим пресловутым Выборгским воззванием, то на это воззвание страна не реагировала никак. Как страна никак не реагиро­ вала и на разгон Учредительного собрания. Будет ли страна реагиро­ вать, если будущей власти придется еще раз разгонять еще одну гово­ рильню? Ведь может же создаться положение, когда двадцать или три­ дцать партий нашего будущего парламента сделают невозможной ни­ какую восстановительную работу в стране. Кто тогда будет считаться с писаной торбой конституционных проектов? Мы и левые говорим на разных языках. Когда мы говорим о само­ державии — то если не все мы, то большинство из нас подразумеваем не самодержавие Екатерины I, а самодержавие Московских Царей, — “самодержавие” с Земскими и Церковными Соборами, с Патриархом, со всероссийскими съездами городов, с судом присяжных и с прочим в этом роде. Левые натужно и исторически насильственно подводят под термин "самодержавие” чисто сословный фундамент, хотя и сами же они в не слишком популярных своих работах — как работы Кочаровского и Кулакова — признают, что “самодержавие” всегда стояло на стороне “низов” в их борьбе со “стихийными явлениями сословно­ го расслоения нации”. “Низы” поддерживали “самодержавие” всегда — от Шелонской битвы, через Смутное время и до февраля 1917 года, — не “низы” же ездили в Ставку требовать отречения Государя Импе­ ратора? Для нас, или, по крайней мере, для большинства из нас, “са­ модержавие” и есть защита низов, а никак не утверждение привиле­ гий. Великие Князья Московские боролись с уделами, Цари Московские — с княжатами, от Павла 1 до Николая II монархия боро­ лась с дворянством. Какие есть разумные основания полагать, что вос­ становленная монархия начнет с Союза объединенного дворянства? Или — иначе, какие есть разумные основания предполагать, что это будет физически возможно? Самодержавие, конституция, реакция 163 Нас от левых отделяет, в частности, и то, что левые считают партийную систему достаточной гарантией народных интересов. Мы, учитывая тысячелетний опыт России и совсем свеженький опыт Европы, утверждаем, что партийная система не гарантирует ровным счетом ничего. Стоит ли напоминать нашим марксистам о периоде “первоначального накопления” в Англии? Или нашим бывшим парламентариям — судьбы немецкого, итальянского, польского, сербского, болгарского, испанского и прочих парламен­ тов, разогнанных и вождями (Муссолини и Гитлер) и монархами, но также и демократами. Ведь был же Ленин лидером Российской социал-демократической партии. А. И. Пилсудский тоже был де­ мократом. А Бенито Муссолини обучала марксизму Анжелика Ба­ лабанова. Так что в свете всего этого бесспорного исторического опыта наши республиканцы, может быть, согласятся с тем, что уж лучше сидеть под самодержавием, чем удирать в Париж от дикта­ туры. Ибо — опять-таки в свете нашего бесспорного опыта — ка­ кая есть гарантия в том, что кто-нибудь из будущих Железняков, Лениных, Пилсудских и прочих не разгонит наш очередной парла­ мент и что во всей стране никто в защиту этого парламента и пальцем не пошевельнет? Я знаю, этот довод не из принципиальных. Есть, конечно, и принципиальные доводы. Основной из них сводится к тому, что русская государственность строилась в самом основном на ре­ лигиозных основах. У нас не было борьбы между Церковью и государством, борьбы, которая красной нитью проходит сквозь всю историю Европы. У нас — если исключить нашу, извините за выражение, Государственную Думу, не было борьбы между Царем и народным представительством. Тот же профессор Клю­ чевский — а уж на что почтенный человек — искренне изумля­ ется: никогда Соборы не посягали на власть. Да, “были споры, но споры о деле, а не о власти”. Да, были “революционные де­ монстрации” московской “черной сотни” — и до и после Смут­ ного времени, но в этих демонстрациях “низы” требовали не конституции, а самодержавия — ибо безошибочным государст­ венным инстинктом понимали, что именно “самодержавие”, а не “конституция” стоит на страже их интересов, интересов страны и интересов государственности. Можно, конечно, предположить, что с ходом всяческих прогрессов, приведших нас — кого куда, кого в Венесуэлу, кого в “зоны”, ко­ го и на тот свет, — тысячелетний инстинкт русского народа как-то из­ менился и он, этот народ, “призовет на царство” семьдесят пять пар­ тий (с сепаратистскими — семьсот семьдесят пять) и будет еще раз 164 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век смотреть, какая из них ухитрится наконец свернуть шею всем осталь­ ным и организовать новый коллективизм в его дополненном и ис­ правленном издании. Вот предвидит же товарищ Далин1, после свер­ жения большевизма... всероссийский съезд колхозов. Значит, товарищ Далин предвидит их существование — рядом с нежелательным суще­ ствованием “частника” в новом издании и с государственной про­ мышленностью, которая, как утверждает Далин, будет убыточна и за убытки которой (о чем Далин молчит) будет платить тот же “колхоз­ ник”. Так, может быть, ему, колхознику, простительно иметь наготове какую-то узду и против товарищей Далиных? Таким образом, я возвращаюсь к своему недавнему парадоксу: на­ стоящая демократия — это я. И настоящие прогрессисты — это те лю­ ди, которые выпустили декларацию мюнхенского съезда. Ибо если на­ ши левые считают прогрессом Сталина, Пилсудского, Гитлера, Муссо­ лини и прочих — то тогда и только тогда монополия прогресса остает­ ся за ними. Если же Сталина и прочих мы прогрессом не считаем, то мы обязаны признать, что настоящим прогрессом будет тот строй, ко­ торый нас от Сталина гарантирует. Мы, монархисты, будем надеяться на то, что будущих Сталиных будущее русское правительство не будет по шесть раз высылать на отдых в Сибирь... За всем этим есть еще одно: с нас, русских, европейской учебы со­ вершенно достаточно. Давайте домой, в Москву. Не в Москву Ленина — Сталина, а в Москву Алексея Михайловича, где был дос­ тигнут апогей нашей внутренней гармонии — не идеал, а только апо­ гей. Он был достигнут не на юридических основах, как это делалось в Европе, а на религиозно-нравственных. Мы все сейчас присутствуем если не при гибели Европы — по Шпенглеру, — то, во всяком случае, при ее полном и вероятно окончательном разложении. Европа с ее ко­ лониями, партиями, скандалами, банками, профсоюзами, парламента­ ми и прочим — идет ко дну. Может быть, товарищ Сталин нанесет ей coup de grace — пройдет этаким паровым катком над могилами “капи­ талистического строя” Европы и, отхлынув, оставит рожки да ножки. А может быть, процесс затянется еще на десятилетия и века. И в том и в другом случае нам в Европе учиться нечему. Представим Далину штудировать его Маркса и Левицкому — его Сартра, и постараемся вернуться к принципам Веры, Царя и Отечества. Товарищу Далину это покажется реакцией. Прольем слезу над его горькой участью и пойдем дальше — к себе, домой. К ценностям, проверенным тысячью лет, а не выдуманным в десяти тысячах книг. ПАРЛАМЕНТ И СОБОР В истории русской общественной мысли самое, может быть, незаметное место занимает трехтомная “Монархическая го­ сударственность” Льва Тихомирова. Новой эмиграции это имя, ве­ роятно, совершенно неизвестно. Лев Тихомиров, бывший револю­ ционер и террорист, находясь в эмиграции, в Париже, стал переду­ мывать все свое революционное прошлое и пришел к тому выводу, что оно было сплошным преступлением против России. Он напи­ сал Государю Императору покаянное письмо, был прощен, вернул­ ся в Россию и там написал свои книги. Никто не таскал его по до­ просам и не пытался добиться у него информации о деятельности его бывших сотоварищей по террору. Правда, в своем письме пре­ дупредил: эти люди так же заблуждались, как заблуждался и он, Тихомиров, и выдавать их он не будет. Моя личная оценка книг Л. Тихомирова может быть иллюстри­ рована таким примером. Когда в феврале 1945 года мы из Помера­ нии бежали конной тягой, я не взял ни одной — бросил все. Все три тома “Монархической государственности” я довез до Аргенти­ ны — в той слабой надежде, что русские монархисты хоть раз в тридцать лет наберут деньги для ее переиздания. Впрочем, один раз эти книги уже были переизданы — в очень ограниченном тираже и в чрезвычайно плохом издании — в фото­ копии. Это было в 1923 году. Ныне несуществующий “Техниче­ ский центр зарубежных организаций русской национально мысля­ щей молодежи” издал их на деньги, пожертвованные Великим Князем Дмитрием Павловичем, и снабдил их предисловием, кото­ рое, к крайнему нашему сожалению, не потеряло своей актуально­ сти и до сих пор. Или, иначе, со времен этого предисловия ничто не изменилось. Ни книги Л. Тихомирова, ни предисловие “Цен­ тра” ничему не помогли. В этом предисловии сказано: “Хотя в монархически настроенной эмиграции приходится встречать немало лиц, игравших в свое время в Царской России видную роль, но часто это люди политически неподготовленные и даже не могущие доказать, почему именно они считают себя мо­ нархистами, а не чем-нибудь иным. Такие лица могли быть полез­ 166 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ны в то время, когда в России государственный строй был монар­ хический, когда первой задачей всякого государственного служа­ щего было «охранять существующий строй», когда трудно было от­ личить консерватора (нерассуждающего «охранителя») от убежден­ ного монархиста. Теперь положение совершенно иное: государст­ венный строй рухнул. Для его восстановления нужны не охраните­ ли, а созидатели. На очереди не государственная служба, а идейная политическая работа”... Монархизм чувства надо дополнить монар­ хизмом холодного разума. “К сожалению, тогдашние монархические круги (книги Л. Тихомирова вышли в 1905 году. — И. С.) ограничивались мо­ лебнами, панихидами и телеграммами, а «Монархическая госу­ дарственность» мирно покоилась в библиотеках, где не чита­ лась, и стала известной лишь ограниченному кругу ученых и библиофилов... Зато ею сразу же заинтересовались большеви­ ки... Она была изъята из всех библиотек и сожжена до послед­ него экземпляра”... Как видите, все это и сейчас актуально. Сейчас, как и тридцать и сорок лет тому назад, монархисты ограничиваются “панихидами, молебнами и телеграммами”, сейчас, как и тридцать и сорок лет тому назад, только очень немногие люди могут “доказать, почему именно они считают себя монархистами, а не чем-нибудь иным”. И книги Л. Тихомирова, как и тогда, — только “библиографиче­ ская редкость”. По существу — это “Библия монархизма”. Или, иначе, та идейная база, какую для марксистов представляет “Капитал” — холодное, спокойное, неотразимо логическое исследование мо­ нархического принципа во всей истории человечества и в рус­ ской истории в особенности. Авторы предисловия к эмигрант­ скому изданию пишут: “Как человек кристально логического мышления, Тихомиров скоро дошел до убеждения, что истинное народничество есть ис­ поведание идей Царского Самодержавия” Что же есть Царское Са­ модержавие? Л. Тихомиров в своем предисловии отвечает: “ Монархия вовсе не состоит в произволе одного человека и не в производстве бюрократической олигархии. Поскольку все это существует — монархия находится в небытии, и странно было бы критиковать ее на основании того, что происходит там, где ее нет. Монархия состоит в единоличном выражении идеи всего национального целого, а для того чтобы это было фактом, а не вывеской, необходима известная организация и система учреждений”. Парламент и Собор 167 “ОДНО ИЗ ДВУХ" Как известно, марксизм существует в десятках вариантов — от, скажем, Керенского варианта до, скажем, сталинского. Есть, ко­ нечно, варианты и в монархизме. Один из довольно распростра­ ненных можно было бы иллюстрировать одесским: “Одно из двух — отдайте вы мне мои деньги!” Одно из двух — отдайте мне мое по­ местье. Что уж греха таить, очень мощная прослойка монархиче­ ской эмиграции интересуется не идеей, не “организацией и систе­ мой учреждений”, выражающей эту идею, и уж тем более не “ис­ тинным народничеством”, а одним из двух: отдайте мне мои день­ ги — поместья, чины, служебное положение, пенсию, быт или во­ обще хоть что-нибудь существенное, положительное, реальное. Лучше бы — с монархией. Именно эту “идею” исповедовал Выс­ ший монархический совет состава 1937 года. Кое-кто исповедует ее и сейчас. Но волна новой монархически настроенной эмиграции вызвала некоторое смущение: тут действительно пахнет “истинным народничеством” — как быть с “одно из двух”? Монархически настроенная новая эмиграция настроена монар­ хически главным образом по инстинкту. Это очень сильный фак­ тор. Но “монархизма холодного разума” у нее нет, и взять его бы­ ло неоткуда. Если в головах монархистов эмиграции свирепствует истинная неразбериха, то что же говорить о новой эмиграции? К монархии тянет инстинкт, воспоминания о тысячелетнем опыте, переживания революции и все такое. От монархии отталкивает “произвол бюрократической олигархии”, которого у нас не было, но о котором талдычит вся левая печать, отталкивают воспомина­ ния об остатках сословного строя и, наконец, настораживает, что, может быть, основной вопрос: как же совместить Самодержавие с волею народа и со своей личной волей к участию в государствен­ ном строительстве? С моей личной политической активностью? С моим голосом в стройке Империи Российской? Было и такое пред­ ставление о русской монархии: русские-де, народ, по врожденной покорности своей, .вручают свою волю в руки Самодержца, остав­ ляя за собою только одно право — право послушания. Теория по­ корности русского народа особенно глубоко разрабатывалась А. Розен­ бергом. Если вы спирит, попробуйте вызвать его бессмертную душу и спросить: какого она мнения о русской покорности теперь? Монархия, как известная система идеи и учреждений, стремя­ щаяся к “единоличному выражению идей всего национального це­ лого”, может существовать тогда и только тогда, когда существует это “национальное целое”. Если его нет — то монархия так и оста­ 168 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век нется “вывеской, а не фактом”. Национальное целое, конечно, должно иметь орган, его выражающий. И вот тут мы подходим к одной из основных путаниц эмигрантского монархизма. ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПОДХОД Я едва ли ошибусь очень сильно, если среднее эмигрантское монархическое мировоззрение изображу в таком виде. Вот будет восстановлен Царь. Царь назначит министров, мини­ стры назначат губернаторов. Губернаторы назначат столоначальни­ ков. Царь будет приказывать министрам. Министры будут прика­ зывать губернаторам. Губернаторы будут приказывать столоначаль­ никам. Всем остальным гражданам Империи надлежит повиновать­ ся и не рассуждать. Фактически же дело восстановления Монархии российской пойдет диаметрально противоположным путем. Раньше всего будут восстановлены сельские, волостные, районные, уездные и прочие сходы и земства, профсоюзы и их “месткомы” или завкомы, тех­ нические, врачебные и прочие корпорации, церковная жизнь и ка­ кие-то частно-предпринимательские организации. И только потом будет какое-то всенародное голосование — в виде ли плебисцита, учредительного собрания или земского Собора, которое и будет решать: монархия или немонархия. Этот путь может нравиться или может не нравиться. Но все дело заключается в том, что никакого иного пути нет. И эмигрантские над­ ворные советники катастрофически ошибаются, представляя себе, что это они на белых конях въедут на Красную площадь, сожгут ленин­ скую мумию, развеют ее прах, посадят монарха и сами сядут в свои канцелярии или свои поместья. Другие советники или члены советов точно так же ошибаются в том, что некие союзы, партии, организа­ ции, ордена и прочее хоть в какой бы то ни было степени станут вос­ станавливать или не восстанавливать Монархию российскую. Ее будут или не будут восстанавливать те люди, которые сейчас проживают в СССР: колхозники, рабочие, техники, врачи, — нр, конечно, в основ­ ном колхозники. Соратники и советники тут помочь не могут ничему. Но испортить, впрочем, могут. ВМС С этой точки зрения та склока, которая не так давно разыгра­ лась в монархических группировках в Германии и продолжается и по сию пору, не имеет никакого значения. Я о ней не писал не Парламент и Собор 169 только потому, что не стоило подливать масла в огонь, но, глав­ ным образом, потому, что все эти комбинации из всех букв много­ страдального русского алфавита — это только “жизни мышья бе­ готня”. Она имеет смысл для бытового обслуживания эмиграции, для представительства перед ИРО, или САСШ, или ООН, но для решения судеб России она не имеет абсолютно никакого значения. Имеет значение работа Л. Тихомирова. Имеет значение идея и пропаганда. Но ни младшие, ни старшие, ни даже почетные сорат­ ники не имеют ровно никакого значения. Имеет значение и та декларация Высшего монархического сове­ та, которая была опубликована в нашей газете. Я не знаю, какие тактические ошибки сделал или не сделал П. В. Скаржинский, да они меня и не интересуют, если они и были сделаны, — кажется, не были. Но, наконец, от имени достаточно авторитетной органи­ зации установлены основные принципы народной, народнической или, простите, демократической монархии — в смысле опоры ее на народ, на демос, на реальную русскую массу, а не на выдуманных эмигрантских соратников. На эту массу, которая одна — и только она одна — может восстановить и Империю и Монархию. В этой декларации сказано несколько слов и о народном представительст­ ве, что вызвало с одной стороны сдержанное приветствие сторон­ ников всяческих “конституций” и с другой — вопли о “предатель­ стве” идеи самодержавия. Я имею некоторые основания полагать, что авторы этих воплей не имеют никакого понятия о том, так что же есть самодержавие и чем именно отличается оно от “произвола бюрократической олигархии”. Русское самодержавие — в эпоху его высочайшего расцвета — в старой Москве работало рука об руку с народным представительст­ вом. С Церковными Соборами, с Земскими Соборами и с бояр­ ской думой. Реформы Петра Великого покончили со всем этим. Ни Павел I, ни Николай I не могли восстановить народного пред­ ставительства в закрепощении страны — ибо это означало бы окончательную передачу “всей власти” в руки рабовладельцев. Царь-Освободитель был убит, везя в своем кармане уже подписан­ ный им Манифест о созыве Земского Собора. Основная ошибка Государя Императора Николая II заключалась в том, что вместо Собо­ ра был создан парламент. И вот на эту именно ошибку и указывает Лев Тихомиров: будут партии, и партии погубят Россию. Как видите, пророчество оправдалось. И если Соборы в тягчайшие моменты госу­ дарственной жизни “грозно и честно” стояли вокруг престола, то Го­ сударственные Думы всех созывов только и делали, что саботировали или пытались саботировать все начинания Царя. И в тягчайший мо­ 170 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век мент национальной жизни трусливо и бесчестно предали Монархию, предали войну, предали победу и предали Россию. В третьем томе своего исследования (с. 201 и следующие) Лев Тихомиров пишет: “Задача народного представительства сводится к тому, чтобы представительство Монархом народного духа, идеала и его приле­ жания к актам текущей политики не было фиктивным (курсив Л. Т.)... Народное представительство в монархии имеет целью, вопервых, объединить Монарха с народным умом, совестью, интере­ сами и творческим гением, во-вторых, не допустить разъединения основных элементов государства — то есть Царя и Народа. Не до­ пустить подчинения их обоих служебным силам, каковыми у Царя являются чиновники, а у народа его выборные представители. Первые — перехватывая на себя выражение воли Царя, образуют бюрократию, вторые — перехватывая на себя выражение воли на­ рода, — образуют систему политиканскую”. Итак, народное представительство есть для Л. Тихомирова вещь са­ мо собою разумеющаяся. Для меня — тоже. И вот тут-то мы подходим к форме этого представительства. Л. Тихомиров на с. 207 — 208 дает схему: представительство Церкви, дворянства, крестьянских волостей, казачества, фабрично-заводских рабочих, земств и прочее и прочее. Все это мы сейчас назвали бы кооперативным представительством. Какая же разница между ним и парламентом просто? В тех курсах государственного права, которые мы зря в свое время учили, говорилось о “писаных законах” и ничего не говори­ лось о неписаной практике. Неписаная практика парламента и сводится к тому, что в него, как правило, попадают два сорта лю­ дей: а) богачи и б) карьеристы. Богачи — для того, чтобы на ста­ рости лет на базе плотно набитого кармана заняться общественной деятельностью; карьеристы — для того, чтобы сделать карьеру. Толковому среднему человеку в парламенте делать нечего. Толко­ вый средний человек имеет профессию. В парламент попадают только представители образованного строя. Каждый из них, если он не живет за счет стрижки купонов и дураков, имеет какую-то профессию. Он не может на срок четырех или пяти лет бросить свою профессию, своих клиентов, пациентов, покупателей или за­ казчиков и сиднем сидеть где-нибудь в Таврическом дворце только для того, чтобы, как петрушка, подымать руку “за”, когда его за проволоку дергает его партийный лидер, или топать ногами, когда это требуется правилами парламентского этикета. Ведь никакой толковый врач, инженер, купец, писатель, художник и прочее — в парламент не пойдет, как в свое время не пошел бы и я. Влияние? Парламент и Собор 171 Так даже и тогда, в 1916 году, я имел его больше, чем средний парламентарий. Деньги? Так я, в качестве репортера, их зарабаты­ вал в три раза больше среднего парламентария. Зачем я буду терять время на подымание рук, на топанье ногами и голосования о кре­ дитах на постройку прачечной при Юрьевском университете? Словом, партийный парламент построен так, что вместо “из­ бранников народа”, туда автоматически попадают отбросы интел­ лигенции. Эти отбросы стараются за свои четыре-пять лет депутат­ ства сколотить елико возможно денег. Пока в Англии “избранни­ ков народа” назначали лорды и магнаты и пока у лордов и магна­ тов были для этого деньги — парламент функционировал удовле­ творительно. Но когда на пост премьера первый раз попал человек без денег — мистер Рамзай Мак-Дональд, то какой-то фабрикант “подарил” ему двести тысяч фунтов стерлингов — нельзя же пре­ мьеру без денег сидеть! Особой сенсации это не вызвало. Соборы были органическим представительством нации. В них попадали не представители партий, а представители партий, а представители органических составных частей нации, и они дейст­ вительно представительствовали “ум, совесть, интересы и творче­ ский гений” народа. А не безумие, бессовестность и бездарность, проявленные нашими Государственными Думами. Конкретно. В парламент попадает член партии АБВЖЧЩ от города Демократококшайска, получивший по списку № 606 боль­ шинство в семь голосов. Он бросает свою профессию — если она у него была, и переселяется на пять лет в нашу розовую столицу, чтобы делать там неизвестно что. Ибо при наличии “партийной дисциплины” заранее известно, что по вопросу о кредитах на юрь­ евскую прачечную сто голосов партии АБВЖЧЩ будут голосовать “за” и сто двадцать голосов партии НОПР будут голосовать про­ тив. Оный член партии представляет партию, и для него партий­ ный интерес всегда или, во всяком случае, почти всегда будет вы­ ше общенационального. Он, член партии, представительствует не нацию, а программу. Не часть нации, а партийный аппарат.На Собор съезжаются представители земств, кооперации, проф­ союзов и прочего. Председатель, скажем, рыбопромышленной коо­ перации есть часть творящей и трудящейся нации. Он, этот пред­ седатель, будет совершенно точно — лучше, чем какая бы то ни было партия, знать, в чем именно заключаются интересы рыболо­ вецкой кооперации, как их совместить с интересами транспорта, холодильной или соледобывающей промышленности. И если он, председатель, что-нибудь проворонит, то с него, председателя, бу­ дут взыскивать его рыболовы. Он, этот представитель, вовсе не за­ 172 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век интересован ни в министерском портфеле, ни в грызне за власть. Сумма этих председателей не заинтересована тоже. Сумма этих председателей — лиц, стоящих во главе Церкви, крестьянства, тех­ нической и культурной интеллигенции, рабочих, предпринимате­ лей, — и даст максимальное приближение к тому, что Л. Тихоми­ ров называет “народным умом, совестью, интересами и творческим гением”. У этого “соборне” выраженного гения нет никаких осно­ ваний ставить вопрос о борьбе с властью — наши Соборы и не ставили его никогда. У Монархии нет никаких оснований пренебре­ гать этим выражением народного ума и гения. Монархия и не пре­ небрегает им никогда. Здесь, может быть, и заключается истинный “солидаризм”, полная солидарность интересов Царя и Нации, со­ лидарность, ясно сознававшаяся обеими сторонами. Этого не могли понять ни наши политики, вроде Милюкова, ни наши историки — вроде даже В. Ключевского. Для них русская история была только каким-то нелепым отклонением от законно предначертанного пути европейской истории: борьбы всех против всех. Этой системы не признают никакие профессиональные поли­ тики — ибо при этой системе нет места ни для политиканов, ни для партий: Собор есть моральное, деловое и творческое предста­ вительство нации, представительство людей и групп, которые зна­ ют, чего они хотят, которые являются реальной, органически вы­ росшей элитой нации, а не партийным подбором по принципам социализма, коммунизма или солидаризма. В основе Народно-имперского движения лежит живой, кон­ кретный и фактический опыт Московской Руси. То есть “нацио­ нальная Россия” — такая, какою она была в реальности прошлого, а не в словоблудии о будущем. В нашем близком прошлом — в России петербургского периода, у нас полноценной монархии не было. Был ряд исключительных по своему, я бы сказал, умственно­ му и нравственному здоровью Монархов, но полноценной монар­ хии у нас не было. Была чужая для России столица, на чужом для России болоте проводившая чужие для России идеи, наполненная чужими для России людьми, был двор, у которого вместо Менде­ леевых, Сеченовых, Стахеевых, Рябушинских сидели Фредериксы и Штюрмеры, сидела остзейская, а не русская аристократия, — во­ обще говоря, приличные люди, но все-таки чужие люди, и была Монархия, чудовищным напряжением всех своих сил и чудовищ­ ными жертвами своей крови пытавшаяся найти путь к народу. Эти пу­ Парламент и Собор 173 ти были перегорожены сотнями баррикад. И тот же Л. Тихомиров пи­ шет о современной ему “социально дезорганизованной России”... Петербургский, петровский период русской истории кончился. Кончился навсегда. Почти по Ф. Достоевскому: “Петербургу быть пусту”. И нам нужно начинать вовсе не с 1912 года с его Думой и с его Милюковыми, с его Фредериксами, губернаторами, надвор­ ными советниками, объединенным и разъединенным дворянством, а с принципов 1613 года. С самодержавия, самоуправления и само­ бытности. Московский тяглый мужик 1613 года оказался неизме­ римо умнее петербургских профессоров 1917-го — это, как мне ка­ жется, сейчас достаточно очевидно. Дай Бог и нам оказаться не глупее этого мужика. Что это? Правее или левее Керенского или Чухнова? Ни правее и не левее. Это просто глубже. САМОДЕРЖАВИЕ, КОНСТИТУЦИЯ И МАРКСИЗМ ВОЛЯ ПАРОДА Русская эмиграция мне иногда кажется чем-то вроде довольно большого сообщества мух, попавших, вопреки зоологии, в свою собственную паутину — паутину слов. Мухи жужжат — ка­ ждая на свой собственный лад - и производят какофонию. Впро­ чем, особенной симфонии у нас и до эмиграции не было. Прискорбную историю намечавшегося в Мюнхене всеэмиірантского съезда наши читатели уже знают. Эта прискорбная история имеет и свое столь же прискорбное продолжение: сейчас партия солидаристов, которая в природе существует, и Союз борьбы за свободу России, ко­ торого в природе не существует, выпустили известное нашим читате­ лям “заявление” (см. № 60 “Нашей страны”). Простите за некоторое отсутствие застенчивости: такая откровенная чепуха даже в наших прискорбных анналах появлялась сравнительно редко. Попробую доказать: две совершенно неравноценные организации, из которых одна, по единодушному мнению всей антисоветской эмиг­ рации, имеет ясно выраженный тоталитарный характер, и другая, ко­ торая, по менее единодушному мнению той же эмиграции, состоит только из С. Мельгунова1 и его редакции, выпускают воззвание о соз­ дании “Российского демократического блока”. Принципиальная осно­ ва “блока” совершенно приемлема: “Признание, что единственный путь решения будущей государственной жизни в освобожденной Рос­ сии — свободное волеизъявление народа”. Великолепно. Однако уже заранее, еще в эмиграции, из этого “сво­ бодного волеизъявления” исключаются: “организации, стоящие на то­ талитарной, самодержавной и марксистской классовых платформах”. Пункт этот изложен настолько безграмотно, что я его проверил по подлиннику в “Русской мысли” и по цитате в “НРС”: так и сказано: “самодержавной, тоталитарной и марксистской классовых платфор­ мах" — множественное число. Человеку, мало-мальски образованному политически, довольно ясно, что “самодержавие” его сторонники рас­ сматривают именно как надклассовую власть и что тоталитарные режи­ мы Гитлера и Муссолини при всех их прочих недостатках были или старались быть режимами надклассовыми. Людям, хоть кое-как грамот­ Самодержавие, конституция и марксизм 175 ным политически, ясно — или должно быть ясно, что партия солидарисгов есть партия социалистическая и марксистская, с тем только отли­ чием от остальных социалистических и марксистских партий, что она избегает одиозных терминов социализма и марксизма. И что если эта партия признает право частной собственности только “на предметы личного потребления”, то это именно и есть марксизм. А все остальные страницы “программы” — это только “идеологический камуфляж” над чисто марксистской и откровенно тоталитарной программой. И так как в “неравном споре” между С. Мельгуновым и В. Байдалаковым соответствие всяких там партий и организаций программе “блока” будут определять солидаристы, а уж конечно не С. Мельгунов, то вот и выйдет: марксисты и тоталитаристы будут бороться с марксизмом и тоталитаризмом и будут устанавливать, что есть консти­ туция и что не есть конституция. Видите сами: форменная чепуха. Имеет ли она шансы на успех? Сколько угодно. Мало ли несусветной чепухи наделали демократии за “отчетный промежуток времени”? Стоит ли ее перечислять? По-моему — не стоит. Ну, к данной коллек­ ции прибавится еще один экспонат. Б. Николаевский2 в “НРС” уже дал свой отзыв. К сожалению или не к сожалению, Б. Николаевский прав: если из антикоммунистиче­ ского фронта изымать всех “марксистов”, то, кроме В. Байдалакова, нужно будет еще изъять английское правительство, германскую соци­ ал-демократической партию, шведское правительство, всех русских антикоммунистических социалистов и прочих. Следуя высоким образ­ цам морали, преподанным нам с высоты Готтентотии, Б. Николаев­ ский соглашается на изъятие из “блока” ВМС... Я, опять же к моему крайнему сожалению, вынужден припомнить тот факт, что ВМС ста­ рого состава был совершенно неприличен, не только с точки зрения Б. Николаевского, но и с моей — монархической, — о чем я в свое время много и бурно писал. Однако ВМС сегодняшнего состава и его сегодняшняя программа так же похожи на прежние, как “Известия”. Или — как демократия по западному образцу похожа на демократию по “восточному”. Фабричная марка Высшего монархического совета действительно плоха — жаль, что П. Скаржинский попытался влить совершенно новое вино в довольно старый бурдюк. Но ведь это никак не меняет существа дела. Как фразеологическая фразеология солидаристов никак не меняет их марксистской и тоталитарной сущности. Б. Николаевский говорит прямо: да, я марксист и социалист. В. Байдалаков говорит косвенно: частная собственность на предметы личного потребления! Давайте, во-первых, смотреть в суть дела и, во-вторых, не отбрасывать ни одной антисоветской группировки. Ибо если мы начнем отбрасывать, то где же мы кончим? Борьба предстоит очень тя­ 176 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век желая, и все виды оружия в ней пригодятся. Пригодятся и марксисты: это они будут ликвидировать тыловые забастовки рабочих антисовет­ ского фронта. Достаточно очевидно, что ВМС этого сделать не смо­ жет. И достаточно очевидно, что если мы исключим “марксистов” из нашего общего фронта, то “марксистские” правительства Англии, Швеции и прочих никак благоволить к нам не будут. Но это только техническая деталь. Что же касается принципа, то мы, принципиальные и настоящие сторонники настоящей демокра­ тии, не имеем никакого права исключать из антикоммунистиче­ ского фронта никакой антикоммунистической силы. Принципиаль­ ным же сторонником человеческой свободы являюсь я — монар­ хист, революционер, черносотенец, ретроград (дальнейшие сино­ нимы читатели могут подыскать и без меня), но гарантию этой че­ ловеческой свободы я вижу исключительно в Государе Императо­ ре. И “обобществления средств производства”, или “частной соб­ ственности на предметы личного потребления”, или национализа­ ции железных дорог я не предрешаю никак. Если Его Величеству Императору Всероссийскому будет благоугодно забрать в казну на­ ши дороги — это его дело. Если Его Величеству Народу Русскому будет благоугодно оставаться на своих нынешних “усадебных уча­ стках” — это тоже его дело. Железные дороги почти наверняка бу­ дут “национализированы”, русский народ, совершенно наверняка, усадебными участками не удовлетворится. До чего мы дожили, о россияне! Дожили мы, о россияне, до то­ го, что я, монархист, реакционер, — дальнейшие синонимы пере­ числяются у Б. Николаевского, — я ратую за свободу даже и для “марксистов”. И это “демократы” ищут, как бы и кого бы из вся­ ких свобод изъять по мере возможности окончательно. И по мере технической возможности дойти до истинно сталинской позиции: настоящий демократ — это только я, Иосиф Прекраснейший и Ве­ личайший. Ведь вот — из номера в номер тот же С. Мельгунов и прочие иже с ним повторяют изречение старого жулика Вольтера: “Я никак не согласен с вашим мнением, но буду бороться до кон­ ца за ваше право его высказывать”. Это — только теория. Когда же дело доходит до практики, то последователи и почитатели старого жулика думают вовсе не о борьбе с коммунизмом, а о том, и толь­ ко о том, как бы этак заткнуть глотку своему ближайшему соседу по единому, железному, идейному, жертвенному и прочему анти­ коммунистическому фронту. И только мы, ретрограды (дальней­ шие прилагательные уже перечислены), протягиваем руку всем: да­ вайте вместе. Если это называется разложением, тогда позвольте вас спросить: что же нужно назвать сложением? Самодержавие, конституция и марксизм 177 Давайте говорить совершенно откровенно. Мы, монархисты, на­ родники, — ни на одну единую копейку, ни на одну единую сотую копейки не боимся того, что “свободное волеизъявление народа” даст хотя бы один процент в пользу “усадебного участка” или “обобществ­ ления средств производства” — то есть в пользу социалистов и солидаристов. Такой опасности в природе не существует. Но существует совершенно реальная опасность насилия над волей народа. Перед вой­ ной М. Алданов писал (цитирую по памяти): “Знаю, что социологи предадут меня проклятию, но, по-моему, вся новейшая история бесспорно доказала, что при случайно сло­ жившихся благоприятных обстоятельствах любая банда может за­ хватить власть и удерживать ее неопределенно долго, не имея ни­ какой опоры в воле народа”. Может. Однако “благоприятные для банды обстоятельства” случай­ но не складываются: для них необходима атомизация общественного сознания и общественного быта — атомизация совершенно неизбежная в первый же послесоветский период. Тут будет “самое время” и для “капрала” и для “палки”. И будет неизбежное состязание на скорость: кто палку схватит первым? Неужели С. Мельгунов не представляет се­ бе, что в этом состязании В. Байдалаков будет первым? КОНСТИТУЦИЯ Итак, для всех в мире, конечно, совершенно ясно, что такое мар­ ксисты — это и шведское социалистическое правительство, которое лет за двадцать своей деятельности не социализировало ни одного завода и не расстреляло ни одного человека, не свергло монархии и не истребля­ ло буржуазии; это и сталинское правительство, — которое национализи­ ровало последнюю селедку, расстреляло десятки миллионов людей и ис­ требило почти половину Династии. А ведь и те и другие — марксисты. Нечто похожее случилось с конституционными монархистами. Ус­ тановим прежде всего тот факт, что русская монархия 1916 года была конституционной монархией. Основные законы, обнародованные Ма­ нифестом 17 октября 1905 года, ограничивали права монархии и в об­ ласти законодательной и в области бюджетной. Термин “неограничен­ ный” был из Высочайшего Титула изъят. “Таймс” тех времен так и писал: “С 1905 года Россия стала конституционной наследственной монархией”. Верно. Однако так же верен и тот факт, что все эти “ог­ раничения” остались только на бумаге. Все самые важные и самые прогрессивные законы Государь Император проводил помимо “консти­ туции”. И даже основные законы страны изменены в обход “конститу­ 178 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ции” (Избирательный закон 3 июня 1907 года, проведенный в порядке 87-й статьи). Таким образом, те монархисты, которые стоят за “рес­ таврацию” положения 1916 года, есть монархисты конституционные. АБСОЛЮТИЗМ Неограниченной монархии в природе не существует и существо­ вать не может. Как термин “неограниченная монархия” означает совершенно то же, что означает персидский титул “Царя Царей”. Как термин “неограниченная монархия” означает монархию, огра­ ничения, которой не предусмотрены никаким законом: они преду­ сматриваются бытом, традицией, правящим слоем, жреческой кас­ той и всякими иными вещами, тоже законом не предусмотренны­ ми. О Царях московских В. О. Ключевский писал: “Они имели власть над людьми, но не имели власти над учреждениями”. Про­ фессор М. Зызыкин3 в своем классическом, но еще малоизвестном труде о Патриархе Никоне пишет, что “титул самодержавия не ис­ ключал ограничения власти... Не исключала его и Боярская Дума и Земские Соборы”... “Самодержавие уживалось у наших предков вполне ограничением власти... Самодержавие — это самостоятель­ ность от бояр и вельмож... далекое от римского абсолютизма”. Русский “абсолютизм” есть самодержавие от вельмож и бояр, евро­ пейское “самодержавие” есть приказчик вельмож и бояр. Московское “самодержавие” было ограничено: Церковью, Думой, Собором — но главным образом Церковью. П. А. Столыпин в своей речи в Государст­ венной Думе 16 ноября 1907 года сказал: “Самодержавие московских царей не походит на самодержавие Екатерины II или Царя-Освободителя”. Действительно не походит. Самодержавие московских Царей было без “конституции” ограничено с очень многих сторон, самодержавие XVIII века мадам де Сталь назвала так: “Абсолютизм, ограниченный цареубийством”, ограничение похуже любой “конституции”. Такого “ограничения” Москва не знала. Самодержавие XIX века было вла­ стью императоров, ограниченной: цареубийствами, диктатурой дво­ рянства и угрозой новой пугачевщины. Была ли “ограничена” власть Государя Николая II? Была. Но вовсе не “конституцией” и не Государственной Думой. И конституция и Дума существовали только в меру того, что Государь Император счи­ тал целесообразным. И когда Государь Император счел целесообраз­ Самодержавие, конституция и марксизм 179 ным в нарушение “конституции” разогнать парламент, посадить его членов в тюрьму (“Выборгское воззвание”) или своей властью изме­ нить даже и Основные Законы страны — никто в стране не проявил ко всему этому никакого интереса: — ну разогнали и разогнали, ну посадили — и пусть сидят. Но когда в 1905 году наша штатская и в особенности военная бюрократия вела беспримерную нашу армию, плоть от плоти и кровь от крови всей страны, от поражения к пораже­ нию — страна “ограничила” власть Государя Императора революцией 1905 года. Мы можем спорить о том, была ли эта революция благора­ зумной или неразумной, — но она была. Если бы “массы” и в самом деле стремились к “долой самодержавие”, то они хоть как-нибудь протестовали бы против разгона Первой и Второй Думы, против аре­ ста депутатов и прочего в этом роде, но они не протестовали никак. Для страны дело было в каком-то прорыве “средостения”, и посколь­ ку прорыв был сделан, средостение как-то контролировалась, то во­ просы “конституции” и “самодержавия” для страны были, по мень­ шей мере, безразличны. Власть же Государя Императора в самом ос­ новном была “ограничена” объективным положением страны: народное представительство было необходимым. Эго признавали и Николай I и Николай II. Народное представительство при данном объективном по­ ложении страны не могло быть антинародным: до освобождения кресть­ ян оно попало бы в руки знати — “вельмож и бояр”, о чем с чрезвычай­ ной резкостью говорил Царь-Освободитель, после освобождения кресть­ ян оно попало в руки “беспочвенной интеллигенции”. Но принципу на­ родного представительства русская Монархия не изменяла никогда — поскольку эта монархия существовала. В эпоху цариц монархии не су­ ществовало. Это есть основной факт новой русской истории, факт, за ко­ торый мы сейчас и имеем удовольствие расплачиваться. КАМ УФ ЛЯЖ Вместо хотя бы более или менее ясных и точных понятий и терми­ нов русская эмиграция блуждает среди зарослей тотемов и табу, суеве­ рий, жупелов, слов, которые ничего не значат, и слов, которые для разных людей обозначают не только разные вещи, но и вещи, совер­ шенно друг с другом несовместимые. Так, социализм шведского образ­ ца никак несовместим с социализмом сталинского образца и монар­ хизм Чухнова ни в каком случае несовместим с монархизмом нашего образца. Ибо под одним и тем же термином люди скрывают, бессоз­ нательно, но большей частью совершенно сознательно, свои собствен­ ные страхи и вожделения, опасения и надежды. Я попытаюсь изло­ жить своими словами, что есть “самодержавие” для разных партий. Солоневич И.Л. Наша страна. XX век 1. Группа “крайних монархистов” типа Чухнова и К°? Восстановление — хотя бы на первое время в урезанном виде — старого сос/іовио-бюрократического строя, то есть возвращение к “монархии цариц” или к “диктатуре дворянства”. Писать об этом прямо — нельзя, это понимают даже и Чухновы. Поэтому “прямое действие” — action directe — представляется хотя бы парижскому Союзу дворян, который в изумительном по своей безграмотности бюллетене призывает “благородное русское дво­ рянство”, “в купе мирового масштаба”, идти на отвоевание по­ пранных законных прав” оного. Союз предполагает, что в мире есть “купа” и что, танцуя от этой “купы”, можно опять сесть на чью-то шею. Чухновы выражаются осторожнее: пан Юрпе говорит о том, что “Империю Российскую создало дворянство”, следовательно, ни соловецкие монахи, ни сибирские землепроходцы, ни Ермаки и Дежневы, ни Хабаровы и Строгановы, ни казачество, ни крестьян­ ство в строительстве Империи ни при чем. 2. Высший монархический совет: Признание того факта, что с сословной конструкцией русской государственности покончено навсегда. 3. Народно-имперское движение, точку зрения которого ны­ нешний ВМС принял почти целиком: оценка сословной конструк­ ции не только как фактически невозможной, но и как принципи­ ально неприемлемой. Власть Царя, исходящая от народа (как в 1613 году) и работающая для народа, как это было во все века на­ шей истории, кроме XVIII века. Оценка чухновщины как ведра стрихнина в бочку меда российской монархии. 4. Республиканско-демократическая группа (С. Мельгунов): Самодержавие, как препятствие свободной игре политических партий, интересов, самолюбий и вожделений, — в той форме этой игры, которая привела: Россию — к Сталину, Германию — к Гит­ леру, Италию — к Муссолини. 5. Социалисты типа Р. Абрамовича: “Я его знаю, он нам опять черту оседлости заведет”. 6. Солидаристы: О русском самодержавии не говорят вообще: они мечтают о своем собственном. 7. Новая эмиграция. О том, что такое самодержавие, не имеет никакого представле­ ния и отождествляет его то ли с чухновским монархизмом, то ли с европейским абсолютизмом. Поэтому в пресловутой анкете “Посе­ ва”, которая среди новой эмиірации дала 38 процентов за монар­ хию вообще, за “абсолютную монархию” высказались только во­ Самодержавие, конституция и марксизм 181 семь процентов. Это означает, что если мы предложим русскому народу чухновский абсолютизм, то, принимая во внимание соци­ альный склад новой эмиграции в частности и в России вообще, монархия не получит даже и восьми процентов голосов. Народно-имперское движение никак не собирается предлагать России восстановление “старого режима”. Нас никак не устраивает тот режим, при котором восшествие на престол равнялось, почти по Сирину, “приглашением на смертную казнь”. Нас никак не устраивают ни революции, ни бунты, ни цареубийства, ни положе­ ние тех царей, которым посчастливилось избежать цареубийств... Мы никак не стремимся к воссозданию “старого режима”. Нам нужен ЦАРЬ. И нам необходимо народное представительство. Нам нужно, чтобы последнее слово принадлежало ЦАРЮ и чтобы мо­ мент для этого последнего слова определял бы ОН — а никак не “глу­ пость, предательство и прочее” — откуда бы они ни шли: из "авгу­ стейших салонов” или с трибуны “глупости и измены”. Абрамовичи вольны называть все это “реакционной утопией” — пусть называют. На “монархической утопии” Россия прожила ты­ сячу лет. На социалистической — полужива тридцать три года. И Абрамовичи, и Николаевские, и Байдалаковы прекрасно понима­ ют, что при малейшей свободе голосования ни “частная собствен­ ность на предметы личного потребления”, ни “усадебные участки” — не получат ни пяти процентов голосов русского народа или наро­ дов России. Вот поэтому и делаются попытки сорвать всеэмигрант­ ское “объединение”, а вместо объединения выставить принцип под­ чинения-. и марксисты, и монархисты, и демократы, и тоталитари­ сты будут-де обязаны оправдываться перед социалистической и то­ талитарной партией В. Байдалакова в том, что ризы у них — белее снега гималайских вершин. Решать же будет В. Байдалаков — под­ готовляя себе путь ко “всей власти”. А добрый старый либеральный русский барин — С. Мельтунов с изумительной степенью точности повторяет политический путь нашего доброго старого либерального русского барства — путь Ми­ люковых, Набоковых, Петрункевичей и прочих: отвращаясь от “са­ модержавия русских царей”, расчищая путь к самодержавию това­ рищей ЦК НТС(с). И делает это так, как если бы уроки всеевро­ пейского тоталитаризма его не научили ровным счетом ничему. А может быть, и в самом деле ничему не научили? ПАШИ ЗАДАЧИ России необходим новый правящий слой — русский, народный, национальный и образованный политически. Русский — потому, что мы работаем для России, а не для како­ го бы то ни было интернационала. Народный, а не сословный, классовый или кастовый. Национальный, а не космополитический, беспочвенный. Политически образованный, а не аполитично безграмотный. Без такого слоя не может существовать никакая послесоветская Россия — ни монархическая, ни республиканская. “Наша страна” пытается заложить основы создания монархического правящего слоя будущей России. Если рассматривать деятельность “Нашей страны” именно с этой точки зрения, то нужно надеяться, что целый ряд недоразуме­ ний, а также и негодований отпадет более или менее автоматиче­ ски. В самом деле: наши основные антикоммунистические уста­ новки для аудитории “Нашей страны” есть, так сказать, только таблица умножения: дважды два. Этот этап нашей работы — для нашей аудитории — уже пройден. Начинается другой этап — пред­ стоящая война и какое-то наше в ней участие. Для этого этапа на­ ши отдельные штабс-капитаны сделали уже многое, но это, вопервых, не тема для газетных статей и, во-вторых, этот этап будет только переходящим. От нашего штабс-капитанского участия или неучастия в ней будет зависеть очень мало. Условия нашего уча­ стия могут быть приемлемыми, но могут быть и неприемлемыми. Советская власть будет разбита все равно. Наша настоящая работа для России начнется только после Советской власти. Все, что мы делаем сейчас, — это только приготовительный класс. Более чем двухвековая трагедия России заключается в том, что она не имела равноценного ей правящего слоя. Тот дворянский слой, который фактически поддерживал ее го­ сударственность, в некоторых областях национальной жизни, как, например, в области суда, дал результаты, каких нигде и никогда в истории человечества достигнуто не было. В других областях дело было хуже. Но, предоставленный самому себе после февраля 1917 Наши задачи 183 года, этот слой не нашел в себе достаточно сил — и как слой по­ гиб окончательно. Само собою разумеется, что очень много людей из этого слоя будут России нужны — но они не будут “слоем”, “средой”, социально определяющим фактором государственной конструкции новой России. Что касается старого левого слоя — нашей революционной и социалистической интеллигенции, — то, по всей вероятности, даже и отдельные лица этого слоя в России не будут нужны никому. В самом деле: в течение ста лет наши ле­ вые торговали революцией. В 1917 году им удалось навязать свой товар России. “Качество продукции” выяснилось с предельной на­ глядностью. Никакого “рынка” в будущей России наши левые больше не найдут. Но и перед “правыми” стоит опасность выступить в среде но­ вой, уже фактически сформировавшейся “элиты” России не в ка­ честве идеологов, советников, политически и жизненно более опытных “земляков”, а в качестве начальства. И это “качество” может повести к провалу. Мы предупреждаем людей этого слоя: во­ прос идет не о восстановлении старого стиля жизни и администра­ ции — хотя бы и с “поправочками”, — дело идет о новом стиле, социально и исторически обусловленном всем ходом историческо­ го развития России. Мы строим, или пытаемся строить, монархический правящий слой. Или, несколько иначе, новую, народную, национальную и монархическую интеллигенцию. Эта интеллигенция должна быть по­ литически образованной. Или, по меньшей мере, политически гра­ мотной. Та многовековая традиция, которая в свое время отлилась в твердо очерченные рамки административной и прочей инерции, прервана и в ее прежнем виде восстановлена быть не может. Как не может быть восстановлена прежняя администрация или старый Государственный совет. Все то, что нам придется отстраивать и строить, — нам придется отстраивать и строить на более или менее пустом месте. Это место занимает территорию в двадцать два мил­ лиона квадратных верст и населено ста пятьюдесятью народами и народностями. Каждый участник этой стройки должен “знать свой маневр” и в этом маневре проявлять свою личную самостоятель­ ность. Не только чисто техническую, но и политическую. Одна из аксиом, разделяемых или, по крайней мере, провозгла­ шаемых почти политическими группировками эмиграции, сводится к тому, что восстановление России может быть достигнуто только на путях широчайшего самоуправления. Будут ли наши участники этой стройки работать в качестве врачей или статистов, офицеров или рабочих — им всем придется сталкиваться с земским или рабо­ 184 Солоневин И.Л. Наша страна. XX век чим самоуправлением, с врачебными союзами или молодежными организациями, — и даже офицерству, которое так традиционно пытается “стать вне политики”, придется считаться с его воспита­ тельной ролью в среде воинских частей. Ибо если в 1912 году мно­ гие вещи считались само собою разумеющимися, то в 1952 году та­ ких вещей будет очень мало. И военная “политграмота” советов должна будет быть заменена иной, но все-таки политграмотой. Эпоха “беспрекословного повиновения” — прошла. Не только каж­ дый крестьянин, рабочий и интеллигент, но и каждый солдат из крестьян, рабочих и интеллигенции будет ставить свои вопросы. Армии XVII века воевали без вопросов. Армии нашего столетия без ответа на их вопросы воевать не будут. Суворовский солдат должен был “знать свой маневр”. Но цели войны его не касались. Сегодняшний солдат должен знать и цели войны. Рабочий должен знать цели производства, крестьянин — цели земельной или сельскохозяйственной политики правительст­ ва, и все вместе взятые должны чувствовать себя не “винтиками и кирпичиками”, а гражданами и товарищами — членами одной ве­ ликой двухсотмиллионной семьи. Если это не будет достигнуто, России угрожают новые катастрофы — даже и независимо от того, будет или не будет восстановлена монархия, но вокруг нее образу­ ется какая-то национальная пустота, какая образовалась во Фран­ ции после восстания Бурбонов, и очередной переворот будет толь­ ко вопросом времени. Всякий офицер генерального штаба изучает все войны предыду­ щих времен и все ошибки в этих войнах. Никто не может изучать будущей войны. Никто не может изучать будущей политики. Буду­ щую войну, как и будущую политику, можно только планировать. Планировать можно только на основе изучения и прошлого и на­ стоящего. Для пехотного унтер-офицера совершенно достаточно убеждения в том, что русская трехлинейка лучше всякой иной в мире. Офицер генерального штаба обязан знать, что есть и лучшие. Для унтер-офицера совершенно достаточны формулировки такого рода: “В Крымскую войну русское оружие покрыло себя неувядае­ мой славой”. Офицер генерального штаба обязан отдавать себе со­ вершенно ясный отчет во всей той вопиющей бестолочи, которая творилась и в тылах, и в командовании в 1853 — 1855 годах. Люди учатся преимущественно на ошибках. Если бы наш генеральный штаб не учел безобразий 1904 года, то в 1914 году нашу армию по­ стигла бы катастрофа в первые же месяцы войны. Наши задачи 185 Однако, армия неизмеримо проще политики — хотя бы уже по одному тому, что “армия” входит в “политику” только в качестве одной из составных частей. На протяжении веков мы имеем право гордиться и политикой, и армией. На протяжении последней эпо­ хи нам гордиться нечем. Перед нами, как перед русским генераль­ ным штабом после 1904 года, стоит задача: изучать горький опыт, недавнего прошлого, чтобы его не повторять. Все то, что мы делаем сейчас, — временно и, так сказать, при­ готовительно. Наши сегодняшние ошибки большой роли не игра­ ют — иногда не играют и вовсе никакой. Мы все — все эмигрант­ ские политики — варимся в котле нескольких десятков тысяч че­ ловек, расселенных по всему миру и по всему миру не имеющих никакой политической точки опоры. Дискуссия, которая сегодня в эмиграции кажется совершенно схоластической, завтра — в России — обрастет плотью и рискует хлебнуть много крови. Ибо если солидаристы в угоду советскому активу из новой эмиграции сформулировали антикрестьянскую зе­ мельную программу, то на поддержку крестьянских голосов они не могут рассчитывать ни в каком случае. Но если отпадает поддержка массы — остается только один путь: насилия над этой массой. Бес­ кровным этот путь быть не может. Все наши эмигрантские вопросы “Наша страна” расценивает и анализирует исключительно, или почти исключительно, с точки зрения нашей деятельности в будущей России. Поэтому в газете нет, собственно, ничего или почти ничего, касающегося хотя бы и очень существенных, но все-таки только временных интересов на­ шей эмигрантской жизни. Мы готовим — или пытаемся готовить — людей, по возможности точно информированных по­ литически и по возможности трезво политически мыслящих. Мы пытаемся дать анализ: вот что получается, если русские дивизии ходят “по сопкам Манчжурии” в гнилых валенках. Вот что получается, если политически совершенно некомпе­ тентные люди втягивают и себя и “массу” в политический водово­ рот необычайной сложности. Вот что получается, когда интересы класса, сословия или даже касты ставятся впереди интересов Рос­ сии, нации и народа. Вот что получается, когда людям преподно­ сят заведомо фальшивую информацию и реальные факты нашей горькой истории последних десятилетий подают как шоколадную конфетку, начиненную стрихнином. Наш опыт последних десятилетий есть горький опыт. И всякое сладкое объяснение будет лживым объяснением — хотя и может показаться вкусным объяснением. Говоря по существу, “Наша Солоневич И.Л. Наша страна. XX век страна” не предназначена для “массы”, если под “массой” понимать людей, которые каждый призыв к мышлению воспринимают, как личное оскорбление. Оптимистическая сторона всего этого заключает­ ся в том, что при всех этих свойствах “Наша страна”, по-видимому, является самым читаемым изданием русской эмиграции и что, следо­ вательно, есть какое-то очень трудно учитываемое, но значительное количество русских людей, которым наша — “патриотическая” — с одной стороны и “революционная” — с другой — декламация осто­ чертела окончательно и которые хотят разобраться. Хотят продумать все ухабы нашей истории и постараться их избежать. Во всем этом: в информации, оценках, анализе— могут быть ошибки. Или, точнее, ошибок не может не быть. Однако общая ли­ ния “Нашей страны” и ее предшественников — “Голоса России”, “Нашей газеты” (София, 1936 — 1940) — вызывает и вызывала издева­ тельства, негодование, доносы и даже террор. Было бы приятнее услы­ шать возражения. А их-то вот и нет. Что, в самом деле, стоило бы солидаристам черным по белому доказать, что их экономическую про­ грамму я искажаю сознательно и что “усадебные участки” и являются мечтой русского крестьянства. Или — Н. Чухнову, что Россия только и мечтает о дворянских усадьбах. Или — Р. Абрамовичу, что спасение России, пролетариата и прочего заключается в замене одного социа­ лизма другим социализмом. Кстати: в “Новом русском слове” один из новых эмигрантов дал блестящую по своей краткости формулировку: “По пути социализации в России дальше идти некуда, — нужна десо­ циализация, а для десоциализации социалисты явно непригодны”. На эту формулировку Р. Абрамович пока что предпочел не отвечать. Нам нужны точность информации и ясность мышления. “Наша страна”, как и ее предшественники, хочет дать толковой мысля­ щей русской эмиграции толковый и продуманный анализ — но не для анализа как самоцели, а для того, чтобы наши штабс-капитаны — самый вероятный фундамент правящего слоя — не наделали бы новых ошибок. Нашей задачей является: работать для оформления того слоя людей, у которых горячая любовь к Родине была бы слита с холод­ ным анализом всех опасностей, перед ней стоящих, и всей тяжести работы, нам предстоящей. ЛИКВИДАЦИЯ КРЕСТЬЯНСТВА Было очень трудно, да и сейчас ненамного легче, пи­ сать о новом чудовищном преступлении большевизма, которое скрывается под сравнительно скромным и, так сказать, техниче­ ским термином — “укрупнение колхозов”. Данные иностранной и эмигрантской прессы очень скудны. Показания перебежчиков еще, видимо, не оценивают этой “реформы” во всей ее чудовищности. Советская пресса не дает вообще почти ничего: перевыполнения и недовыполнения, недозавозы и перезавозы, мелкая травля случай­ ных и мелких бюрократов. Явление в его целом не нашло еще аде­ кватной оценки. Когда в конце двадцатых и начале тридцатых годов началась кампания по “коллективизации деревни” “на базе ликвидации ку­ лака как класса”, внешний мир долго, очень долго, не мог отдать себе отчета: так в чем же, собственно, дело? Неясны были и пока­ зания перебежчиков, тогда очень и очень немногочисленных. Суп­ руги Чернавины дали потрясающую картину разгрома интеллиген­ ции. Только “Россия в концлагере” и прочие дали более или менее полную картину разгрома русской — или российской — деревни батыевым нашествием активистских печенегов. Десятки и десятки миллионов трупов усеяли пути этого нашествия: голод, эпидемии, людоедство, террор, разрозненные восстания и их подавления. Де­ ревня была разгромлена и подавлена, голод установился в стране как постоянное явление. Создалась армия “колхозной администра­ ции”, организованная из безработных победителей в Октябрьской революции и деклассированных подонков пролетариата. Этой ар­ мии были даны организация и оружие. В тысячах вариантов этой армии было сказано: “Ну, теперь смотри не зевай, прозеваешь — растерзают нас всех”. Армия старалась не зевать. Война 1941 — 1945 годов привела весь колхозный строй в чрез­ вычайно неустойчивое положение. И по ту, и по эту сторону пере­ движной границы фронта колхозы то распадались вовсе, то сохра­ нялись только как вывеска. Частичный возврат к единоличному хозяйству помимо всего прочего демонстрировал с предельной яс­ ностью: с этим хозяйством — как бы примитивно оно ни было — колхозное строительство конкурировать не может, — как бы ни Солоневич И.Л. Наша страна. XX век было оно модернизировано технически. Печенежско-батыева сис­ тема всей колхозной организации оказалась на краю гибели, а вме­ сте с ней и все “советское строительство”. Партия бросила все свои силы, чтобы восстановить колхозы в их былом великолепии голода и террора. О товарище Сталине высказываются разные догадки. Почему-то не высказывается одна — самая простая. Та, что Сталин есть ис­ кренний и убежденный марксист, последовательный до конца, как последователен всякий настоящий изувер, что с 17-го до 71-го года своей жизни он ни разу не менял ни своих вех, ни своих убежде­ ний, что он действительно гениальный практик политики социа­ лизма и что он единственный по-настоящему последовательный марксист во всем мире. Все остальные — виляют. Он идет напролом. И если он “вла­ столюбив”, то, вероятно, по той простой причине, что марксизм стал Сталиным и Сталин стал марксизмом. Что идея слилась с личностью и что он видит так же ясно, как вижу, например, я: иными способами социализма построить нельзя. Можно строить вывески. Можно соорудить христианский социализм, в котором нет ни христианства, ни социализма... Можно, конечно, как это делает Е. Кускова, жонглируя терминами, называть кооперацию социализмом и ставить знак равенства между хозяйственным объе­ динением мелких собственников и ликвидацией собственности во­ обще. Но все это только мышья беготня. Настоящий, беспримес­ ный, логически последовательный социализм реализуется в СССР, и только там, и его вождем является Сталин — и только он один. Основная проблема заключается в том, что, по словам Ленина, мирное сосуществование капитализма и социализма надолго невоз­ можно. Это понимается преимущественно в плоскости внешнепо­ литических отношений. Но что еще более правильно — и в плос­ кости внутрихозяйственных отношений: социалистическое пред­ приятие не может конкурировать с капиталистическим. Остается один, и только один выход — ликвидировать или социалистиче­ ский или капиталистический сектор: в одном доме они оба жить не могут. К крестьянству, ко всякому крестьянству в мире, марксизм пи­ тает врожденно-теоретическое отвращение. Маркс писал о “безыс­ ходном идиотизме деревенской жизни”. Ленин утверждал, что “де­ ревня рождает из себя капиталистические отношения ежедневно и ежечасно”. В период перед коллективизацией деревни она перешла на натуральное хозяйство: сама ткала полотно, дубила шкуры, ва­ рила самогон. А там, где натурального хозяйства было недостаточ­ Ликвидация крестьянства 189 но: соль, гвозди, стекло — деревня шла к частнику, деревня всячески старалась обойти бюрократические сооружения трестов, главков и коопов. Тресты, главки и коопы хирели, а частник — рос. Отказ от кол­ лективизации деревни означал бы отказ от социализма. Отказ от со­ циализма означал бы социально-хозяйственный остракизм для побе­ дителей в Октябре. Коллективизация деревни логически исходила из самых основных предпосылок марксизма и практически из самых ос­ новных требований преторианцев осени 1917 года. Но и теоретически и практически коллективизация деревни не была концом. Одним из основных тезисов является “ликвидация противопо­ ложности между городом и деревней”. Социализм вообще живет “противоположностями”, даже и там, где есть просто разделение труда. Даст Бог, мы доживем до ликвидации противоположности между женщиной и мужчиной: почему, в самом деле, — у одних косы, а у других борода? Ликвидировать это безобразие! Колхозы этого безобразия не ликвидировали. Это была тюрьма, так сказать, незаконченная, тюрьма с целой массой всяких выходов и вылазов. Был “приусадебный участок”, который рос как-то сам по себе, — над ним был нужен постоянный присмотр. Были единоличные ку­ ры, над ними тоже нужен был постоянный присмотр: будут кле­ вать ворованное колхозное зерно. Были пустыри, пустоши, залежи, над ними тоже нужен был присмотр: Марья Ивановна, саботируя колхозное строительство, заведет там какой-нибудь вариант приуса­ дебного участка. Даже и такое политически невинное существо, как гриб, обыкновенный российский гриб — боровик, рыжик, груздь, — и тот оказывался врагом социалистического сельского хозяйства: ибо в центральных и северных губерниях России Марье Ивановне было вы­ годнее плюнуть на колхозные трудодни и пойти собирать грибы, а грибы — как их учесть статически и административно? Социализму вообще, а его марксистской верхушке в особенно­ сти, свойственна лютая ненависть к крестьянству. Это именно оно, крестьянство, класс-собственник, “рождает из себя капиталистиче­ ские отношения ежедневно и ежечасно”. Это оно, крестьянство, является хранителем национальных и религиозных инстинктов страны. Говоря чисто социалистически, “производственно”, конеч­ но, выгоднее, чтобы одна Марья Ивановна варила бы борщ для двадцати семейств. Однако Марьи Ивановны предпочитают варить борщ для своей семьи и собираться за обедом в своей семье. Для социализма все это четвертое измерение. Крестьянство — орга­ нично, и оно автоматически противопоставлено теориям каби­ нетных мозгляков. 190 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Крестьянство должно быть ликвидировано как класс. И если конец двадцатых и тридцатых годов был эпохой “ликви­ дации кулака как класса”, то теперь мы стоим перед ликвидацией всего крестьянства как класса. Теоретически это совершенно ясно. Лично для меня ясно и еще одно: Сталин является гениальным практиком марксистской тео­ рии. Предоставим глупцам изображать Сталина “кавказским иша­ ком” или мелким властолюбцем. Это фигура безмерно более мрач­ ная, чем все Лойоллы, Робеспьеры и Наполеоны вместе взятые. Все эти люди были только детьми по сравнению с дьяволом. Во­ прос, значит, заключается в том, для чего Сталину именно сейчас, на пороге третьей мировой, понадобилось начать новый батыев поход на многострадальные села России. Мы, конечно, стоим на пороге третьей мировой войны. В этом не может быть никаких сомнений. Вторая мировая оставила у Со­ ветов очень тяжкие воспоминания. Нынешний помощник Г. Тру­ мана и бывший посол САСШ в Москве мистер Гаррисман1 совсем недавно вспомнил в американской прессе слова, лично ему сказан­ ные Сталиным: “Русские будут воевать за Родину, за нас они вое­ вать не будут”. За что будут воевать русские люди в третью миро­ вую, если уже сейчас, накануне создания русской национальной армии — или, точнее, в момент подготовки к ее созданию, — уже вы­ ясняется, что Родине никакой опасности, собственно, не угрожает? Старая деревенская, избяная, колхозная тюрьма должна быть перестроена на новую — железобетонную, модернизированную. Нужно экономить штат тюремщиков. Нужно перемешать населе­ ние. Нужно оборвать все старые, кое-как сохранившиеся социаль­ ные связи. Нужно перестроить все сельское хозяйство СССР на сплошной дом принудительных работ. Говоря иначе: перед послед­ ним и решающим боем нужно обеспечить свой советский тыл от его самого страшного внутреннего врага — от крестьянства России. Теоретически это означает превращение “класса мелких собст­ венников” в окончательный сельскохозяйственный пролетариат: опять же — старая марксистская догма. Практически это должно привести к тому, чтобы в дни войны крестьянин не имел ни еди­ ного куска собственного хлеба, хлеба, не находящегося под воору­ женным контролем всяческой красы и гордости. Идет превраще­ ние “России в концлагере” в один сплошной концлагерь. Я все-таки продолжаю считать, что для понимания внутренних социально-экономических процессов, происходящих внутри со­ циалистического рая, “Россия в концлагере” дала больше, чем ка­ кая-либо иная работа на эту тему. Там я писал: “Идет процесс пре­ Ликвидация крестьянства 191 вращения в концлагерь всей России” — цитирую по памяти, так как ни одного экземпляра книги ни на одном языке у меня нет. Укрупне­ ние колхозов должно закончить этот процесс: старая русская деревня должна быть сметена и вместо нее должно появиться железобетонное индустриализированное сельскохозяйственное сооружение, охраняе­ мое по самому последнему слову тюремной и военной техники. Эти несколько абстрактные соображения я попытаюсь перевес­ ти на язык повседневной концлагерной практики — так, вероятно, будет понятнее. Вот я — человек все-таки весьма высокой степени боеспособно­ сти — сижу в концлагере Беломорско-Балтийского канала в сооб­ ществе с 280 тысячами других таких же людей — в большинстве случаев весьма боеспособных. Нас охраняет, собственно, очень не­ большая кучка вооруженных людей. Их мы могли бы перебить да­ же и топорами. А дальше что? Нас — 280 тысяч. Мы питаемся ежедневным “пайком”, приво­ зимым почти ежедневно откуда-то издали. Никаких запасов продо­ вольствия в лагерях принципиально не допускается. Если мы сего­ дня перебьем нашу стражу, то послезавтра мы начнем умирать от голода. Продовольственные склады находятся у Петрозаводска и охраняются артиллерией и прочим. Мы с нашими топорами — да­ же и с винтовками — не сможем вырвать оттуда ни одного пуда хлеба. Склады охраняются уже не вольнонаемными “попками” из лагерной охраны, а дивизией войск ОГПУ, подобранной из людей, которые знают, “на каком свете они стоящие”. Они, эти люди, знают: если нам восстание удастся, то уж мы их вырежем. И ника­ кой там Иван Лукьянович не сможет удержать хотя бы восьми ты­ сяч людей из двухсот восьмидесяти тысяч людей от расправы. О методике этой расправы когда-то, еще за границей, писал такой осведомленный человек, как Максим Горький, повторять этих описаний не стоит. Но они повторялись и во времена восстаний и во времена германских наступлений. Над красой и гордостью, по­ добранной из моральных отбросов двухсотмиллионной страны, ви­ сит вечное мементо мори — помни о виселице. На практике вос­ станий — виселица была бы еще благодеянием... Методы расправы были практически намного неприятнее виселиц. Об этой расправе я говорю без всякой морально-политической оценки. Было бы политически мудрее гарантировать красе и гордо­ сти полное забвение и полное прошение — но кто в мире в силах дать такую гарантию? И какой дурак в мире этой гарантии поверит? 192 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ВОЙНА И УКРУПНЕНИЕ Если бы не стояла угроза войны — советы, вероятно, подожда­ ли бы с практической реализацией лозунга ликвидации крестьян­ ства. Но здесь есть и другая сторона — вероятно, единственная, которая дает более или менее правдоподобный, может быть, и единственно правдоподобный ответ на очень острый вопрос: поче­ му же Сталин не начинает войны сейчас, сегодня, немедленно? Ведь совершенно ясно: каждый месяц поднимает шансы “запада” и уменьшает шансы советов. Через год эти шансы — взятые в их чисто военном выражении — будут почти несоизмеримы. Моя ги­ потеза сводится к следующему. 1946 год застал советский тыл в состоянии полного распада. Колхозы разбрелись. Администрация опустила руки. Демобилизо­ ванные части армии, разоруженные еще за границей, загроможда­ ли дороги и города. Страна все еще ждала “полегчания” — и нача­ лось завинчивание. Говоря чисто технически, то есть военно-тех­ нически, Сталин мог бросить свои тогда подавляющие силы про­ тив союзников, которые стремительно сбрасывали с себя всякую военную форму, — но что тогда было бы в тылах? Еще валялось неподобранное оружие советско-германской войны, еще почти по всем лесам России бродили шайки, банды или отряды повстанцев. Тыл взорвал бы фронт — Сталин, как штатский человек, оценива­ ет значение тыла гораздо яснее, чем это делает большинство воен­ ных людей. Промежуток времени, прошедший от конца Второй мировой войны до начала третьей, советы заполняют “укреплени­ ем тыла”. Тыл будет укреплен. Погибнут миллионы и десятки мил­ лионов людей. Снести с лица земли русскую деревню и на ее месте соорудить тюремно-индустриальный комбинат Сталин все равно не успеет. Но основная масса населения России будет поставлена в положение концлагеря и ВВК: пожалуйста, бунтуйте, восставайте, стреляйте, но весь хлеб страны находится в наших руках. В наших крепостях, под защитой нашей артиллерии и наших людей — лю­ дей, которые знают, что выхода у них нет: или мировая революция — или беспримерный в истории самосуд. Даже и не суд. Так вот, уже тридцать три года занимается советская власть, так сказать, вооруженной эквилибристикой: хвост вытащит — нос увяз, нос вытащит — хвост увяз. Не стоит сейчас останав­ ливаться на том, что и кто помогали этой эквилибристике. По­ могали и глупость и измена, и иностранная и русская, помогала психология того анекдотического еврея, который при виде ось­ Ликвидация крестьянства 193 минога в зоологическом саду сказал твердо и убежденно: нет, не может быть. Может быть. Тылы советской власти будут связаны, закованы и укреплены. Оборотная сторона этой акции заключается в том, что бойцы фронта придут на этот фронт все-таки из тыла. Как они будут вес­ ти себя на этом фронте? В общем — все равно катастрофа. Вторая мировая война обош­ лась без катастрофы для советов потому и только потому, что это была война между двумя вариантами социализма — своим и не­ мецким. И поставленные перед такой альтернативой русские мас­ сы предпочли обойтись без немецкого. Но все равно, когда социализм выступал в, так сказать, приват­ ной форме — в коллективистических мероприятиях по Платону, Сен-Симону, Фурье, Оуэну или Толстому, — это кончалось скан­ далами. Когда он выступал в государственном масштабе — в Гер­ мании, Англии или России, — это кончается катастрофой. Конец сталинского социализма будет окончательной катастрофой для вся­ кого социализма на века, века и века. Будет прорван железный за­ навес. Будут раскрыты застенки и тюрьмы, концлагеря и колхозы. Правда станет наконец абсолютно неоспоримой. Эта правда будет окончательной виселицей для всякого социализма. Вот именно по­ этому социалисты всех стран начинают вилять хвостами. Победа Сталина — это виселица для них самих. Поражение Сталина — это виселица для социализма. Выбор мал и уныл. Третьего все-таки нет. Или веревочная, или идейная виселица. Положение осложня­ ется еще и тем, что идейная виселица означает для всего мирового социализма, просто и прозаически, — безработицу. Поэтому он, мировой социализм, ищет “третьего пути”. Он его не найдет. ВЕЛИКАЯ ФАЛЬШИВКА ФЕВРАЛЯ ПРЕДИСЛОВИЕ Сейчас, когда керенское сборище, организованное на социальной базе случайных долларов — никакой иной социальной базы у этого сборища нет, — начинает что-то пищать от имени России, нам нужно, наконец, развеять великую и бесстыдную ложь о Февральской народной революции. Эта ложь культивируется бо­ лее или менее всеми партиями России, начиная от коммунистиче­ ской и кончая ультраправыми. По существу, обе эти точки зрения совпадают — ВКП(б) говорит: “Народ сделал революцию”. Ультра­ правые говорят: “Чернь, обманутая левыми, сделала революцию”. Срединные партии, виляя хвостом то вправо, то влево, талдычат о завоеваниях Февраля, завоеваниях, в результате которых “народ” сидит в концлагерях, а “избранные” разбежались по Парагваям. Новая эмиграция не имеет почти никакой возможности отличить заведомую чушь от реальных исторических фактов и строительство легенд — от реальных социальных отношений в довоенной России. Такие усидчивые компиляторы, как С. Мельгунов, собирают горы цитат и показаний и, как и полагается усидчивым компиляторам, из-за деревьев не видят леса. Не видят того, что дворцовый перево­ рот был результатом целого комплекса нездоровых социальных отно­ шений, накопленного всем петербургским периодом русской истории. Лично я был профессиональным свидетелем событий всего 1916 и 1917 годов — политическим репортером крупнейшей газеты Рос­ сии, суворинского “Нового времени”. Даже и для нас, репортеров, так сказать профессиональных всезнаек, революция была как гром среди совершенно ясного неба. Для левых она была манной, но то­ же с совершенно ясного неба. Но о личных своих воспоминаниях я говорить не буду. Я постараюсь дать анализ социальной обста­ новки 1916 года и уже после этого приведу документальные дан­ ные о Феврале и его авторах. По чисто техническим условиям я могу дать только очень схе­ матический обзор событий. Для этой темы нужна бы книга — не­ большая, но документированная бесспорными данными, книга, которую можно было бы дать в руки любому человеку России и показать — здесь нечего даже и “доказывать”, — как Россию губи­ ли и справа и слева и как фактически обстояли дела. Но до сих Великая фальшивка Февраля 195 пор, за тридцать лет эмиграции, такой книги нет. Не было време­ ни. Не было денег. И уж конечно, не было никакого желания. Это очень тяжелая тема. И я очень долго откладывал ее. Но дальше откладывать нельзя, ибо керенские и иже с ними готовят нам всем по­ вторение: и Февраля, и Марта, и так далее, до Октября включительно. С той лишь разницей, что керенщина 1917 года застала страну, пол­ ную противоречий, но полную сил. Сейчас противоречий будет, мо­ жет быть, не меньше, чем их было в 1917 году, но хлеба — нет, жи­ лищ — нет, одежды — нет, страна придавлена и чудовищным аппара­ том ВКП(б), и чудовищной промышленностью для войны за мировой коммунизм, и чудовищностью предстоящей войны. Сейчас не время ни для мифологии, ни для фальшивок. Кроме всего этого, мы должны иметь в виду, что “наследники Февраля”, со­ бравшиеся в Штуптарте, готовят если не совсем раздел, то что-то вро­ де балканизации России, что темные доллары им даны именно под этим условием, что они приняли и условия, и доллары. Правда о Феврале будет тяжелой правдой — легких правд у нас нет. Но эта тяжелая правда имеет и чисто практическое значение: нельзя допускать к власти никого из тех людей, которые справа сделали Февраль, а слева стали его углублять. Правда, все эти люди были только вывесками над событиями страшной нашей истории, и их личные преступления теряются в море исторических сдвигов. О Великой французской революции Талейран говорил: “В ней ви­ новаты все или не виноват никто, что, собственно, одно и то же”. О Феврале этого сказать нельзя. И если на левой стороне был тео­ ретический утопизм, то на правой было самое прозаическое преда­ тельство. Это, к сожалению, есть совершенно неоспоримый факт. В числе прочих объяснений Февраля есть и еще одно, вероятно, самое глупое и самое позорное из всех имеющихся в распоряже­ нии эмигрантской публики: английские интриги. Надо-де было изъять Россию из числа будущих победителей для того, чтобы не выполнять договора о проливах. Изъятие России ставило прежде всего под самую непосредственную угрозу всю судьбу войны, вовторых, перемена режима никак не влекла за собою аннулирование международных договоров и, наконец, в-третьих, у английского посольства в Петрограде не было никакой возможности оказать за­ говору какую бы то ни было техническую помощь, а в материаль­ ной помощи участники заговора не нуждались никак: А. Гучков и М. Родзянко были богатейшими людьми России — никакие деньги им не были нужны. М. Алексеев богатым человеком не был. Но как бы ни расценивать его личность, нельзя же все-таки предполо­ жить, чтобы он продал своего Государя за деньги. Сэр Д. Бьюке­ 196 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век нен и его дочь в своих мемуарах категорически отрицают какое бы то ни было английское участие в Февральском перевороте. Сторонники теории английской интриги не приводят никаких фактов, которые могли бы ее подтвердить. И единственное, на что они указывают, это на то, что совещания участников заго­ вора происходили в английском посольстве. С совершенно та­ кой же степенью безопасности они могли собираться и у Гучко­ ва, и у Родзянки, и в штабе Алексеева, и вообще где угодно — сыскной машины ВЧК — МВД тогда ведь не существовало. О нашем правящем — или правившем — слое можно быть очень низкого мнения. Сторонники теории английской интриги, сами не сознавая этого, пропагандируют самое низкое мнение, какое только может быть: наш правивший слой дошел-де до такой степени разложения, что достаточно было показать ему пачку фунтов стерлингов, чтобы толкнуть его на любое предательство. Такого мнения не придерживаюсь даже я. О СИМВОЛИКЕ ВООБЩЕ Есть такой рецепт производства артиллерийских орудий: нужно взять круглую дыру и облить ее сталью — получится орудие. Це­ лый ряд исторических концепций фабрикуется именно по этому рецепту: берут совершеннейшую дыру и обливают ее враньем — получается история. Или исторический факт. Именно по такому рецепту Петр I был сделан Великим, Екатерина II — Великой, Па­ вел I — безумцем, Николай I — Панкиным. Примерно по такому же рецепту знаменитый Моммзен1 писал свою знаменитую рим­ скую историю, и профессор Виппер2, анализируя моммзенские изыскания, скорбно констатирует, что все они имели, в сущности, в виду только одно: политическую пропаганду того, что впоследст­ вии было названо прусским милитаризмом: “Вот видите, древние римляне поступали точно так же, как должны поступать мы: «Хайль Гитлер!»” Гитлера, правда, во времена Моммзена не было, но Гитлер ро­ дился именно из Моммзена. Это только подпрапорщики запаса могут полагать, что “великие люди” появляются на свет Божий пу­ тем самозарождения. Трагедия заключается в том, что большинст­ во человечества состоит все-таки из вот этаких подпрапорщиков. Им, подпрапорщикам, нужен символ. Что-то простое, явное, ощу­ тимое, подменяющее реальную сложность жизни схематизирован­ ной фигурой гения, вождя, сверхчеловека. Символ нужен и слою: Великая фальшивка Февраля 197 слой сплачивается около этого символа, как около знамени. Ино­ гда символ нужен и нации — как утешение. Таким символом стало для Франции 14 июля, день взятия Бастилии. А казалось бы, чего тут праздновать? Ведь как-никак взятие Бастилии если и символи­ зирует что бы то ни было, так только начало падения страны с первого места в Европе и в мире на трудно сказать на какое имен­ но место, что-то в пределах второй половины первого десятка. Но вот празднуют... Противоречие символики с самыми очевидными фактами не играет, по-видимому, никакой роли. Вот умный человек, Лев Ти­ хомиров, пишет, что Петр I понавыдумывал таких законов, кото­ рые, если бы у него хватило гениальности еще и провести их в жизнь, привели бы к форменной катастрофе, но, к счастью для России, гениальности Петра Великого хватило только на законода­ тельное прожектерство... И — все-таки: гений. Другой, тоже умный человек, В. Ключевский, вертится как черт перед заутреней, сам себе на каждом шагу противоречит, а опасные пункты символики старается обходить как можно осторожнее. Профессор Платонов посвятил целую книгу реабилитации петровской гениальности — в Советской России это предприятие абсолютно безнадежное — и самым тщательным образом обходит: и дезертирство под Нарвой (при пятикратном превосходстве сил), и бегство из-под Гродны, и, наконец, такой военный скандал, какого в русской истории боль­ ше не было никогда: Прутскую капитуляцию. И Нарва и Гродно объясняются стандартизированно: престиж шведской непобедимо­ сти. И старательно обходится стороной нам почти неизвестный ге­ нерал-майор Келин, у которого в Полтаве было четыре тысячи “гарнизонной команды” и четыре тысячи “вооруженных обывате­ лей” и который был, по-видимому, совершенно непроницаем ни для какого “престижа”. Этот генерал-майор Келин, во главе вось­ ми тысяч плохо вооруженного сброда (можно себе представить Полтавскую “гарнизу” и вооруженных обывателей!), разделал три­ дцатитысячную армию Карла так, что от нее осталась по Ключев­ скому, “голодная и оборванная толпа”, и, кроме того, толпа, ли­ шенная пороха, а следовательно, и артиллерии. Полтавская победа над этой толпой была описана двести пятьдесят раз. А о генералмайоре Келине я не смог найти никакой литературы. Не знаю, есть ли она вообще. Вероятно, нет. Ибо если мы сопоставим два факта: а) дезертирство при Нарве, при пятикратном превосходстве русских сил; б) защиту Полтавы при четырехкратном превосходст­ ве неприятельских сил — то совершенно очевидно, что от стратеги­ ческого гения Петра I не останется абсолютно ничего. Но этот "ге­ 198 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ний” был необходим социально для правых, ибо он символизирует начало крепостного права для левых, ибо он символизирует рево­ люционное насилие над нацией. Практически в установлении крепостного права Петр I был аб­ солютно ни при чем. Он не отдавал себе отчета в том, что делалось вокруг него и от его имени. Екатерина II отдавала себе совершен­ но ясный отчет: она то взывала к Сенату, то писала наказы, то плакала — но сделать она не могла ничего: ее убили бы еще проще, чем убили Императора Павла I. Эта маленькая справка по поводу исторической символики при­ ведена потому, что история — или, точнее, историография — Фев­ ральской революции с изумительной степенью точности повторяет рецепт артиллерийского производства: берется дыра и дыра обли­ вается выдумками. Самое занятное то, что в феврале 1917 года ни­ какой революции в России не было вообще: был дворцовый заго­ вор. Заговор был организован: а) земельной знатью, при участии или согласии некоторых членов Династии — тут главную роль сыг­ рал Родзянко; б) денежной знатью — А. Гучков; в) военной знатью — генерал М. Алексеев. У каждой из этих групп были совершенно определенные интересы. Эти интересы противоречили друг другу, противоречили интересам страны и противоречили интересам ар­ мии и победы — но никто не организует государственного перево­ рота под влиянием плохого пищеварения. Заговор был организован по лучшим традициям XVIII века, и основная ошибка декабристов была избегнута, декабристы сделали оплошность — вызвали на Се­ натскую площадь массу. Большевистский историк профессор По­ кровский скорбно отмечает, что Императора Николая I “спас му­ жик в гвардейском мундире”. И он так же скорбно говорит, что появление солдатского караула могло спасти и Императора Павла I. Основная стратегическая задача переворота заключалась в том, чтобы изолировать Государя Императора и от армии и от “массы”, что и проделал генерал М. Алексеев. Самую основную роль в этом перевороте сыграл А. Гучков. Его техническим исполнителем был генерал М. Алексеев, а М. Родзянко играл роль, так сказать, слона на побегушках. Левые во всем этом были абсолютно ни при чем. И только после отречения Государя Императора они кое-как, посте­ пенно пришли в действие: Милюков, Керенский, Совдепы и нако­ нец Ленин — по тем же приблизительно законам, по каким разви­ вается всякая настоящая революция. Но это пришло позже — в ап­ реле—мае 1917 года. В феврале же был переворот, организованный, как об этом сказали бы члены СБОНР или Лиги, “помещиками, фабрикантами и генералами”. Так что, если члены СБОНР, или Великая фальшивка Февраля 199 Лиги, или всяких таких малопочтенных предприятий клянутся ве­ ликими принципами Февраля, то они клянутся принципами “по­ мещиков, фабрикантов и генералов”. По всей вероятности, ни о чем этом члены СБОНР, или Лиги, или всяких таких малопочтен­ ных предприятий и понятия не имеют. Таким образом, символика Февраля с потрясающей степенью точности повторяет символику Петра 1. Правые, которые сделали революцию, признаться в этом не могут никак. Именно поэтому правая публицистика эмиграции ищет виновников Февраля в анг­ личанах, немцах, евреях, масонах, японцах, цыганах, йогах, буш­ менах, в нечистой силе и в деятельности темных сил, ибо как при­ знаться в том, что “темными силами” были как раз помещики, фабриканты и генералы? Не могут об этом говорить и левые — ибо что тогда останется от народной революции? От великих завоева­ ний Февраля? И от “восстания масс против проклятого старого ре­ жима”? Правые не могут признаться в том, что страшная формули­ ровка Государя Императора о правительстве и прочем относится именно к их среде, левым очень трудно признаваться в том, что февральская манна небесная, так неожиданно свалившаяся на них, исходила вовсе не от народного гнева, не от восстания масс и во­ обще ни от какой “революции”, а просто явилась результатом пре­ дательства, глупости и измены в среде правившего слоя. Таким образом, фальшивка Февраля декорируется с двух сто­ рон: левые пытаются все свалить на народ, правые — на народ, “обманутый левыми”. Как будет показано дальше, никакой “народ” никакого участия в Феврале не принимал. Но кое-какие массы принимали кое-какое участие в “углублении Февраля” — а что им оставалось делать? Ве­ ками и веками привычная власть пала. Кому было верить? Массы не верили никому. Прежде чем перейти к изложению фактической стороны собы­ тий конца 1916 года, когда заговор назревал, и начала 17-го, когда он был реализован, попробуем поставить вопрос: кому это было нужно? — сиі рпкіеві? Нельзя же, в самом деле, предполагать, что­ бы люди по пустякам пошли бы на такое предприятие, которое при неудаче грозило виселицей. Чтобы такие факторы, как болез­ ненная застенчивость Государыни Императрицы, могли бы толк­ нуть людей на государственный переворот. Или чтобы даже и рас­ путинская легенда, созданная верхами аристократии, могла играть какую-то реальную роль. Ведь вот никого в свое время не возму­ щали ни Орловы, ни Зубовы — при всей фактической стороне их плодотворной деятельности. Почему вымышленное “влияние” Рас­ 200 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век путина могло вызвать негодование? И именно в тех слоях, которые по ежедневной своей практике не могли не знать, что никакого влияния не было? Никакой роли не могло играть ни положение армии, ибо если кто-либо в мире знал, что армия наконец воору­ жена до зубов, то в первую голову этого не могли не знать генерал Алексеев, как начальник штаба Верховного Главнокомандующего, и А. Гучков, как председатель военно-промышленного комитета. Впоследствии М. Родзянко — самый массивный, самый громоглас­ ный и, по-видимому, самый глупый из участников заговора — пи­ сал о том, что, с революцией или без революции, Россия все равно была бы разбита. Как мы уже знаем, некоторые несколько более умные люди, чем М. Родзянко, — У. Черчилль и А. Гитлер придер­ живались диаметрально противоположной точки зрения. Таким об­ разом, все эти соображения отпадают начисто. Остаются другие. Если мы честно продумаем нашу внутреннюю историю петер­ бургского периода, то мы увидим, что красной и кровавой нитью проходит через нее цареубийство. Говоря несколько символиче­ ски — от Царевича Алексея Петровича до Царевича Алексея Ни­ колаевича. Все цареубийства, кроме цареубийства 1 марта 1881 го­ да, были организованы знатью. И даже убийство Царя-Освободи­ теля находится под некоторым вопросом: в самом деле, почему не могли охранить? Может быть, не очень хотели? Жалкая кучка изу­ веров организует семь покушений — и весь аппарат Империи ни­ как не может с этой кучкой справиться. В самом деле — почему? Как бы там ни было, место, занимав­ шееся русскими государями, было самым опасным местом в мире. И если Алексей Петрович, Иоанн Антонович, Петр III, Павел I, Александр II и Николай II погибли от руки убийц, то ведь Нико­ лай I и Александр III спаслись только случайно. Восшествие на Российский престол почти равнялось самоубийству. Дело заключа­ лось в том, что Петербургская империя строилась как империя крепостническая, и Петербург был необходим, как штаб, который мог бы держать монархию в плену, изолировав ее от страны, от на­ ции, от массы и непрерывно держа носителей Верховной Власти под дулом цареубийства. Так было с Алексеем Петровичем, и так же случилось с Николаем Александровичем. Санкт-Петербург был построен именно для этого. Русская знать стояла накануне полной экономической катаст­ рофы, точно так же как перед Петром I она стояла накануне поли­ тической. В предвоенные годы дворянское землевладение теряло до трех миллионов десятин в год. Задолженность дворянского зем­ левладения государству достигла чудовищной суммы в три милли- Великая фальшивка Февраля 201 арда рублей. Если эту сумму перевести хотя бы на цену фунта мяса (около двугривенного в России тогда и около доллара в США сей­ час), то она будет равняться 12—15 миллиардам долларов. Два или три “плана Маршалла” вместе взятых. Покрыть эту задолженность дворянство не имело никакой возможности — оно стояло перед полным банкротством. Низовое и среднее дворянство давно примирилось с судьбою. Оно, по существу, возвращалось в старое положение московского служило­ го слоя. Оно заполняло администрацию, армию, свободные профес­ сии, в очень слабой степени шло и в промышленность. Если, по сло­ вам алдановского профессора Муравьева, Александр II отнял у дво­ рянства половину его состояния, то столыпинские реформы отнимали и вторую. Для дворянской массы это уже не было угрозой? Она слу­ жила, работала, и ее “поместья” были только или “подсобным пред­ приятием”, или — еще проще — дачей. Для нашего “вельможества” столыпинская реформа была началом окончательного конца. Такие дворяне, как А. Кони, или Л. Толстой, или Д. Менделеев, или даже А. Керенский, шли в “профессию”, которая иногда оплачивалась очень высоко, но которая никак не могла оплатить ни дворцов, ни яхт, ни вилл в Ницце, ни даже яхт-клуба в Петербурге. Это было ката­ строфой, отсюда и та травля, которой подвергался П. А. Столыпин со стороны Совета объединенного дворянства. Супругу министра Его Ве­ личества, П. А. Столыпина, в “салонах” не принимали, как не прини­ мали и супругу С. Ю. Витте. П. А. Столыпин был убит. Государь продолжал то дело, которое не совсем уж правильно называется “столыпинская реформа”, пра­ вильнее было бы назвать его “николаевской реформой”, как всегда медленно и как всегда с огромной степенью настойчивости — ни­ чего не ломая сразу, но все переделывая постепенно. Для дворцов, яхт, вилл и прочего отстранение Государя Императора было един­ ственным выходом из положения — точно так же, как в свое время — убийство Павла I. Особенно трагическая черточка всего этого заговора заключает­ ся в том, что и часть Династии приняла в нем активное участие. Династия, чем дальше от престола, тем больше сливалась с земель­ ной аристократией, с ее политическими и социальными интереса­ ми. В начале января 1917 года повелением Государя Императора четыре Великих Князя были высланы из Петербурга (см.: С. С. Оль­ денбург3. Т. II. С. 232) — и конечно, у Государя Императора были антипатии ко всякого рода крутым мерам. Династически-аристо­ кратическая группа строила свои расчеты на Великом Князе Нико­ лае Николаевиче, который, кажется не без основания, считался 202 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век крайним реакционером и отношение которого к Царской Семье было чрезвычайно плохим. Тот факт, что о заговоре Великий Князь Николай Николаевич знал, не может, по-видимому, вызы­ вать никакого сомнения. Дальнейшее пока неясно. Но, во всяком случае, именно эти круги обеспечили заговору его технического исполнителя генерала Алексеева. Основной пружиной заговора был, однако, А. И. Гучков. Для этого у него были свои основания, и эти основания категорически и непри­ миримо расходились с мотивами аристократической группы. После П. А. Столыпина А. И. Гучков был, конечно, самым круп­ ным человеком России4. В его патриотизме не может быть никаких сомнений, но ведь “патриотами” были и французские якобинцы, “патриотами” называют себя ленинцы и сталинцы, чекисты и энкаведисты, так что этот термин почти ничего не говорит. Пока был жив П. А. Столыпин, А. И. Гучков со всей силой поддержи­ вал и П. А. Столыпина и правительство вообще. Со смертью П. А. Столыпина А. И. Гучков перешел в оппозицию, имевшую два разреза. Правая публицистика эмиграции очень любит идеализировать положение, существовавшее в России в предвоенные годы. Нет, положение никак не было блестящим. Не забудем того, что в 1902-1908 годах по Высочайшему повелению была создана комис­ сия по обследованию причин “оскудения центра России” под председательством В. Н. Коковцева5. Так что факт “оскудения” был признан официально. И была найдена его причина — главным образом община. Не забудем того, что писал такой правоверный монархист, каким, конечно, является Л. Тихомиров: “Господство бюрократической системы... довело до страшного упадка нашу Церковь, изуродовало дух земского самоуправления, подорвало даже боевые качества русской армии. Оно, наконец, так подорвало уровень самой бюрократии, что уже стало невозможно находить способных и дельных работников администрации”. На ту же тему можно было бы привести еще более резкие мне­ ния и барона Н. Врангеля, и князя С. С. Волконского, и А. С. Су­ ворина, и многих других — правых людей. Русская бюрократия действительно была очень плоха — для 1912 года, конечно. Для 1951-го она показалась бы общим собранием ангелов — ничего не поделаешь, мы прогрессируем... П. А. Столыпин кое-как привел эту бюрократию в кое-какой порядок. После его гибели начались Штюрмеры6: людей в данном слое не было, как на это не раз жа­ ловался и Государь Император. Но в России вообще людей было сколько угодно, и, конечно, одним из них, может быть первым из них, был А. И. Гучков — и лично, и социально. Великая фальшивка Февраля 203 А. И. Гучков был представителем чисто русского промышлен­ ного капитала, который хотел и который имел право по крайней мере на участие в управлении страной- В этом праве придворная клика ему отказывала. Об этой клике А. Суворин писал: “У нас нет правящих классов. Придворные — даже не аристо­ кратия, а что-то мелкое, какой-то сброд” (Дневник. С. 25). Этот “сброд”, проживавший свои последние, самые последние закладные, стоял на дороге Гучковым, Рябушинским, Стахеевым, Морозовым — людям, которые делали русское хозяйство, которые строили молодую русскую промышленность, которые умели рабо­ тать и которые знали Россию. От их имени А. И. Гучков начал свой штурм власти. Власть для него персонифицировалась в лице Государя Императора, к которому он питал нечто вроде личной ненависти. Во всяком случае, высочайший прием А. Гучкова как председателя Государственной Думы был очень холоден. В Петер­ бурге рассказывали, что, отметая претензии А. Гучкова на мини­ стерский пост, Государь Император якобы сказал: “Ну, еще и этот купчишка лезет”. Фраза в устах Государя Императора очень мало­ правдоподобная. Но — фраза, очень точно передающая настроения “правящих сфер” — если уж и П. А. Столыпин был неприемлем, как “мелкопоместный”, — то что уж говорить об А. Гучкове? Луч­ шего премьер-министра в России не было. Но для того чтобы на­ значить А. Гучкова премьер-министром, Государю Императору пришлось бы действовать в стиле Иоанна Грозного. Стиль Иоанна Грозного исторически себя не оправдал: его результатом было, в частности, и Смутное время. Предреволюционная Россия находилась в социальном тупике — не хозяйственном, даже и не политическом, а социальном. Новые слои, энергичные, талантливые, крепкие, хозяйственные, пробивались к жизни и к власти. И на их пути стоял старый правящий слой, кото­ рый уже выродился во всех смыслах, даже и в физическом. Сейчас, треть века спустя после катастрофы Февраля 1917 года, мы можем сказать, что объективное внутреннее положение России было почти трагическим. Сейчас, после Февральской и Октябрь­ ской революций, мы обязаны наконец констатировать тот факт, что вся наша история петербургского периода была до крайности дисгармонична: если половина носителей Верховной Власти гибла от руки убийц и из всех Императоров России только Петр I и Александр I не находились в состоянии непрерывной и смертель­ ной опасности со стороны правящих слоев страны, то о внутрен­ ней гармонии в стране могут говорить только “Часовые” и иже с ними. Но “Часовые” и иже с ними не могут, не смеют констатиро­ 204 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век вать того факта, что из всех слабых пунктов Российской государст­ венной конституции верхи армии представляли самый слабый пункт. И все планы Государя Императора Николая Александрови­ ча сорвались именно на этом пункте. Л. Тихомиров был прав: бюрократия поставила под угрозу даже и боеспособность армии. Может быть, лучше было бы сказать точ­ нее: не боеспособность личную, а боеспособность техническую. Блестящие традиции Суворова, Потемкина, Кутузова и Скобелева были заменены прусской муштрой, против которой так яростно восставал М. Скобелев — последний “из стаи славных”. Дольше всего эта блестящая традиция сохранилась в нашей кавказской ар­ мии, где даже и во времена Николая I солдат называл своего офи­ цера по имени и отчеству и где солдат и офицер были боевыми то­ варищами — младшими и старшими, но все же товарищами. Эта традиция была заменена прусско-остзейской. Целый и длинный ряд социальных причин привел к тому, что если Россия, взятая в целом, дала миру ряд людей самой, так сказать, первейшей вели­ чины, и дала их во всех областях человеческого творчества, то са­ мый важный участок — армия — был обнажен. Как ни плоха была старая бюрократия, но даже и из ее среды государи могли подби­ рать таких людей, как С. Витте, В. Коковцев, С. Сазонов7, не го­ воря уже о П. Столыпине. На верхах армии была дыра. После каж­ дых крупных маневров производились массовые чистки генерали­ тета, военный министр с трибуны парламента расписывался в без­ дарности командного состава армии. Но что было делать? Самый чин генерала в довоенной России приобрел, с легкой руки Ф. Дос­ тоевского, явственно иронический характер. Но — делать было не­ чего, людей не было, и после страшной генеральской чистки, про­ изведенной Великим Князем Николаем Николаевичем в начале войны, обнаружилось, что на место вычищенных поставить неко­ го. Чистка подняла популярность Великого Князя в армии — точ­ нее, в ее солдатском составе, но шла война и делать было нечего. Генерал М. Алексеев был типичным генералом не от инфанте­ рии, не от кавалерии и не от артиллерии, а от бюрократии. Гене­ рал-канцелярист. Другой генерал — А. Мосолов, придворный дипломатический генерал, пишет о Ставке так: “Окружение Царя в ставке производило впечатление тусклости, безволия, апатии и предрешенной примиримости с возможными катастрофами”. И тут же генерал А. Мосолов прибавляет поистине страшный штрих: Великая фальшивка Февраля 205 “Честные люди уходили, и их заменяли эгоисты, ранее всего думавшие о собственном интересе”. Таков подбор “кадров”, сделанный генералом М. Алексеевым. Из каких соображений пошел он на приманку государственного переворота? Аристократия и буржуазия имели совершенно ясные и классовые мотивы. Какие мотивы могли быть у генерала М. Алексеева, об этом можно только гадать. Самая вероятная догадка сводилась бы к тому, что Государь Император брал командование армией в свои собствен­ ные руки и что переворот мог означать: Великого Князя Николая Ни­ колаевича - в качестве регента Империи, а генерала М. Алексеева — в качестве верховного главнокомандующего армией, — армией, которая стояла на пороге, казалось бы, совершенно гарантированной победы. Почему бы М. Алексееву не стать вторым М. Кутузовым? Эго самое вероятное объяснение. А может быть, и единственное. ЧТО ЕСТЬ РЕВОЛЮЦИЯ Прежде чем ответить на вопрос, была в феврале 1917 года рево­ люция или никакой революции не было, нужно установить, что, собственно, есть революция. Термин неясен и неточен. Само со­ бою разумеется, что “революция в науке” или “революция в тех­ нике” не то же самое, что революция в государстве. Но и в госу­ дарстве революции бывают разные. Дворцовый переворот тоже можно назвать революцией. Можно назвать революцией и народ­ ное восстание. Было ли Пугачевское восстание революцией или не было? Было ли революцией восстание североамериканских поддан­ ных Великобритании против их метрополии? Условимся так: рево­ люция есть широкое, народное и насильственное движение, на­ правленное к свержению или, по крайней мере, к изменению су­ ществующего государственного и социального строя. С этой точки зрения настоящими революциями были и Великая французская ре­ волюция и русская революция 1905 года. Сейчас, почти полвека спустя, русскую революцию 1905 года мы обязаны оценить со всей доступной нам степенью объективно­ сти — совершенно независимо от того, нравится ли она или не нравится. Революция 1905 года была народной, была массовой, и была насильственной. Как и во всякой революции, ее участники ставили себе разные цели, шли разными путями и называли раз­ ные вещи одним и тем же именем и одни и те же вещи — разными именами. Такова судьба всех революций. Крестьянские восстания (“беспорядки”) охватили почти всю Европейскую Россию, они бы­ 206 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ли направлены против дворянства, но они не были направлены про­ тив монархии. Военные восстания — бунт на броненосце “Потем­ кин”, захват революционерами Кронштадта (26 и 27 октября Крон­ штадт был во власти революционеров), вооруженное восстание Черно­ морского флота 14 ноября (главный “герой” — лейтенант Шмидт), вооруженное восстание в Москве, начатое 2 декабря Ростовским пол­ ком, Пресненское восстание в Москве (бои за Пресню длились десять дней), вооруженное восстание в Горловке, Новороссийске, в Турке­ стане, на Кавказе и пр., и, наконец, всеобщая забастовка на три дня, совершенно парализовавшая весь транспорт, всю промышленность, весь административный аппарат, — все это происходило под лозунгом “Долой самодержавие”. Но под этим лозунгом разные люди и разные партии понимали разные вещи. Так, например, даже пресловутого лейтенанта Шмидта советская история называет “буржуазным демо­ кратом”, что эквивалентно эмигрантскому термину “разлагатель”. Таким образом, в 1905 году в России была настоящая революция — массовая, народная и насильственная. Вину в этой революции не сле­ дует сваливать ни на чьи частнособственнические плечи: это было ис­ торическое явление, в котором желания и цели отдельных лиц пере­ крещивались, что... получалось глупо, как глупо получается со всякой революцией в мире и истории. Революции 1917 года очень симпатизи­ ровал еврейский банкирский дом Якоба Шифа в САСШ, и после ре­ волюции Якоб Шиф и Павел Милюков обменялись восторженными телеграммами. Якоб Шиф, как и всякий еврей того времени, был, ко­ нечно, настроен против самодержавия — однако его симпатии к рус­ ской революции были вызваны не только русофобством, сколько гер­ манофильством. До сих пор остается неизвестным, действительно ли Якоб Шиф “финансировал” революцию 1917 года и если да, то кому он давал деньги. Но если он их и давал, то — в конечном или еще не конечном счете для того, чтобы на тучной почве русской революции вырастить Адольфа Гитлера. Так что деньги если и были вложены, бы­ ли вложены не совсем туда, куда следовало. Несколько умнее посту­ пили другие евреи. В числе прочих факторов, способствовавших раз­ грому революции 1905 года, был заем в 800 миллионов рублей, кото­ рый дом Ротшильда устроил для России. Еврейская революционная и шовинистическая пресса — есть ведь и еврейский шовинизм, как есть русский и другие, — предала дом Ротшильда анафеме, что не помеша­ ло ему существовать и до сих пор. Революционное движение 1905 года было лоскутным — как всякое революционное движение в мире и истории. Крестьянство воевало против помещиков. Пролетариат ставил во главу угла социально-эко­ номические требования. И крестьянство, и пролетариат действовали Великая фальшивка Февраля 207 бесцельно — ибо то же самое “самодержавие”, которое они якобы пы­ тались “свергать”, делало все, что находилось в пределах данных исто­ рико-экономических условий, для того чтобы удовлетворить законные требования и крестьянства и пролетариата. Солдатская и матросская масса восставала против остзейской дисциплины. Интеллигенция — главным образом во имя собственной власти или, по крайней мере, участия во власти. Причем в 1905 году, как и в 1917-м, цели разных групп интеллигенции были абсолютно несовместимы: Милюков, с од­ ной стороны, и Ленин — с другой. Однако разница между событиями 1905 года и “революцией” 1917-го была огромной. По самому глубин­ ному своему существу революция 1905 года была все-таки революцией патриотической — при всем безобразии ее внешних форм. Россия до 1905 года задыхалась в тисках сословно-бюрократического строя, — строя, который “самодержавие” медленно, осторожно и с необычай­ ной в истории настойчивостью вело к ликвидации и без всякой рево­ люции. Не надо забывать: Россия того времени была единственной из культурных стран мира, в которой не существовало никакого народно­ го представительства, в которой существовала предварительная цензу­ ра печати, паспортная система, чисто сословная администрация и не­ полноправная масса крестьянства. Социально-административный строй России был отсталым строем. Это положение никак не касается монархического принципа вообще, ибо монархии, как и генералы, “бывают разные”. Сейчас, например, существует английская со­ циалистическая монархия, — чем она кончится, еще неизвестно. В России до 1905 года существовала монархия, “ограниченная царе­ убийством” и сдавленная пережитками крепостничества. Государь Император Николай II был, несомненно, лично выдающимся чело­ веком, но “самодержавным” он, конечно, не был. Он был в плену. Или, как еще резче выражается генерал А. Мосолов, “в тюрьме” — так же как и его предок, император Павел I. Его возможности бы­ ли весьма ограниченными — несмотря на его “неограниченную” власть. И если при Императоре Николае I Россией правили “сто тысяч столоначальников”, то при Императоре Николае II.их было триста тысяч. Правили нацией по существу они. По существу, стра­ на боролась против них. Но против них же, правда в других фор­ мах, боролось и “самодержавие”. Таким образом, обе линии совпа­ дали — линия монархии и линия нации. И все шло более или ме­ нее гладко до военных катастроф японской войны. Очень было бы полезно вспомнить тот факт, что “общественное движение” времен этой войны началось со студенческой демонст­ рации к Зимнему дворцу с пением “Боже, Царя храни” (см.: Оль­ денбург. С. 233). Страна была охвачена патриотическим подъемом. 208 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Потом он стал гаснуть. Ни одной победы. Сплошные поражения, закончившиеся гибелью всего флота при Цусиме, поражением при Мукдене и сдачей Порт-Артура. Нация, исключительно талантли­ вая, энергичная и боеспособная, начала искать виновников. И ес­ ли неудачи Крымской кампании имели удовлетворительное объяс­ нение: против России выступали такие первоклассные европейские государства, как Франция и Англия, плюс еще и Турция; если ту­ рецкая война оставила в нации все-таки очень горький осадок, то японская война была страшным ударом по национальному само­ любию. В самом деле: даже с “япошками”, и с теми не можем справиться! Целый ряд поражений заканчивается Цусимой — гибе­ лью всего русского флота при почти полном отсутствии потерь в японском. Сдача Порт-Артура и — первый раз в новой истории мира — разгром европейского государства азиатским противником. Если бы неудачу японской войны персонифицировать в лице гене­ рала А. Куропаткина8 по той же схеме, как развал 1917 года персони­ фицирован в лице А. Керенского, то можно бы сказать так: гене­ рал А. Куропаткин был до войны русским военным атташе в Японии, о степени японской военной подготовки он обязан был знать. Он не знал. Потом он был нашим военным министром и, в качестве военно­ го министра, он обязан был подготовить армию. Он не подготовил. Потом, в качестве главнокомандующего армией, он обязан был вести ее к победам. Он не привел ни к одной. Советская историческая лите­ ратура, и художественная и научная, всячески подчеркивает героизм офицеров и причины поражения объясняет исключительно одним — бездарностью командования. Объяснение неудовлетворительное, ибо неполное: генерал А Куропаткин был результатом данного социально­ го слоя. Да, интендантство, поставляя армии валенки на картонных подошвах, стесняло маневренные возможности генерала Куропаткина, но генерал Куропаткин в качестве военного министра был ответствен и за интендантство. Да, русское вооружение отставало от японского, как оно отставало от турецкого в войну 1877 года и от союзного в Крымскую войну. Может быть, не хватало денег на артиллерию. Но почему не хватило знания о закрытых позициях артиллерии? Да, ра­ диотелеграф был изобретен в России. Но почему он был на японском флоте и его не было на русском? Таких вопросов можно было бы по­ ставить бесконечное количество. Сумма ответов на все эти вопросы была, действительно, до очевидности проста: устарелый правящий слой страны, базирующийся на ее устарелом социальном строе, не го­ дился никуда. Из установления этого — совершенно бесспорного — факта был сделан по меньшей мере спорный вывод: “Долой самодер­ жавие”. Спорный потому, что “самодержавие” или “монархия” не Великая фальшивка Февраля 209 связаны ни со слоем, ни со строем: монархия может быть и крепост­ ническая и социалистическая, а “самодержавие” в старой Москве оз­ начало — в переводе на нынешний язык — национально-суверенную монархию, ограниченную и Церковью, и Соборами, и традицией. В Санкт-Петербурге XVIII века оно обозначало монархическую вывеску над диктатурой дворянства, и в XIX столетии оно обозначало цен­ тральную единоличную власть, “ограниченную цареубийством” и пы­ тавшуюся вернуться к московским истокам этой власти. Кое-что из всего этого мы начинаем понимать только сейчас. Но в 1905 — 1906 годах вопроса о понимании даже и не ставилось: страна, я бы сказал, пришла в разъяренное состояние. И не было никакого агитпропа, ко­ торый разъяснил бы: так в чем же, в сущности, было дело? Дело, ко­ нечно, было в социальном тупике, настоящего выхода из которого не нашел и манифест 17 октября 1905 года. Двенадцать лет спустя оказа­ лось, что тупик так и остался тупиком. Банальное объяснение провала революции 1905 года говорит о том, что революция была ликвидирована “уступками” манифеста 17 октяб­ ря. Люди вообще склонны к самым банальным объяснениям — вот вроде немецкого “дольхштосса” в очень вольном русском переводе: “нож в спину революции”. Германия 1930-х годов была твердо убеж­ дена в том, что в Первую мировую войну ее армии оставались непобе­ димыми и что победу сорвала революция, давшая в спину армии “дольхштосс”. Любая хронологическая справка указывает на тот пе­ чальный факт, что революция пришла приблизительно через месяц после полного военного разгрома — после Салоникского прорыва, ка­ питуляции Болгарии, Австрии и Турции, после истошных телеграмм Гинденбурга и Людендорфа, требовавших от Вильгельма “капитуля­ ции в двадцать четыре часа”. Высочайший манифест был дан семна­ дцатого октября. Московское вооруженное восстание началось второ­ го декабря, а всеобщая забастовка — седьмого декабря, то есть самая высокая волна революции поднялась приблизительно через полтора месяца после Высочайшего манифеста. Можно, конечно, сказать: ус­ тупки только раззадорили революцию — но и это будет банальным от­ ветом: правящий слой всех наших белых армий ничего “уступать” не захотел и, как нам совершенно точно известно, “не уступает” и до сих пор. Потерял абсолютно все шансы на возвращение хоть чего бы то ни было — бежит, бежит, бежит, и не уступает. Революция 1905 — 1906 годов была не “замазана уступками”, а подавлена вооруженным путем. Если бы в эти годы Риманы и Ми­ ны, Свердловы и Дубасовы9 действовали так же, как в 1917 году действовали Алексеевы и Брусиловы, Рузские и Хабаловы, то ты­ сяча девятьсот семнадцатый год мы имели бы в тысяча девятьсот 210 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век пятом. Но в 1905 году правящий слой еще не имел в своем про­ шлом столыпинской реформы, а перед его будущим еще не стояла перспектива полного банкротства. Поэтому в 1905 году правящий слой поддержал Монархию, а в 1917 году — изменил ей. В феврале 1917 года никакой революции не было: был бабий хлебный бунт, и генерал Хабалов, вопреки прямому повелению Государя, отказался его подавить. Это, так сказать, биологическое чудо: генерал, боя­ щийся пролития крови. Революция началась в марте и стала “уг­ лубляться” решительно по той же схеме, по какой углублялась Ве­ ликая французская революция. С той только разницей, что наши якобинцы оказались гораздо серьезнее французских. МЕЖДУ ДВУМЯ РЕВОЛЮЦИЯМИ Итак, настоящая революция 1905 — 1906 годов была подавлена. Не “замазана уступками”, а подавлена вооруженной силой; 1905 год дал России конституцию. Но ни революция, ни конституция не решили ничего, почти ничего не улучшили, и весь историче­ ский ход дальнейшей русской жизни привел, собственно говоря, только к одному: к предельному обнажению ее “трагических противоречий”. Формулировка о “трагических противоречиях” принадлежит не мне. С. Ольденбург (С. 10) пишет о Государе Императоре: “Новый порядок вещей во многом не соответствовал Его идеалам, но Государь сознательно остановился на нем в долгом и мучительном искании выхода из трагических противоречий русской жизни”. Основное из этих трагических противоречий заключалось в том, что в начале XX века в стране продолжал существовать совершенно ясно выраженный сословный строй. Что в это же время основная мас­ са населения страны — ее крестьянство — было неполноправным ни экономически, ни политически, ни в бытовом, ни тем более в адми­ нистративном отношении. Законопроект о крестьянском равноправии был внесен в Законодательные палаты еще П. А. Столыпиным. Госу­ дарственный совет кромсал и откладывал этот законопроект как толь­ ко мог, и только осенью 1916 года, то есть совсем уже накануне рево­ люции, этот проект попал на рассмотрение Государственной Думы — да так и остался нерассмотренным... и до сих пор (Ольденбург. С. 180). Это положение я сформулировал почти четырнадцать лет тому назад в “Тезисах штабс-капитанского движения” (С. 9): “Гений русского народа был зажат в железные тиски крепостниче­ ства, и теми из его пережитков, которые существовали до 1917 года”. Великая фальшивка Февраля 211 Имейте в виду: это было написано почти четырнадцать лет тому назад. “Пережитки крепостничества” в той форме, в какой они сохрани­ лись до 1917 года, сводились в самом основном к тому, что дворянст­ во сохранило за собой почти полную монополию управления государ­ ством — и не только на верхах, но и на низах. Министрами могли быть и были только дворяне, губернаторами — тоже, земскими на­ чальниками — тоже. Земскими самоуправлениями по закону и “по должности” заведовали уездные и губернские предводители дворянст­ ва. Крестьянская масса, неравноправная ни экономически, ни полити­ чески, ни даже в области гражданского права, была целиком отдана под дворянскую опеку. Эта масса рассматривала дворянство как сво­ его наследственного противника, с которым она то вела партизанскую войну за выгоны, перегоны, угодья, аренды и прочее, то подымалась пугачевщиной или “беспорядками”. Земство эта масса рассматривала как дворянское предприятие, и только в северных губерниях, где дво­ рянства почти не было, земство попало в крестьянские руки и дало блестящие результаты, например вятское земство. Словом, дворянство удержало свою опеку над всей страной. Можно спорить о том, была ли эта опека благодетельна или гу­ бительна. Было и так, и так. Русский суд — собственно исключи­ тельно дворянский — был, вне всякого сомнения, лучшим в мире, причем между “лучшим в мире” русским судом и “вторым местом” в этой области был зияющий прорыв: уже “второе место” в сравне­ нии с этим чисто дворянским русским судом не выдерживало ни­ какого сравнения. Командный состав армии — откуда дворянство ушло прежде всего — или начало уходить, — был совершеннейшей катастрофой. Правительство — исключительно дворянское — при всех своих недостатках было абсолютно неподкупаемым. Знать, вра­ щавшаяся около правительства и “сфер”, старалась воровать как только можно. Барон Дельвиг пишет в своих воспоминаниях о же­ лезнодорожных концессиях, которые получили представители зна­ ти, сейчас же перепродавшие эти концессии иностранцам, в ре­ зультате каковых операций “чистый доход” и без всякого приложе­ ния каких бы то ни было усилий составлял десятки миллионов то­ гдашних золотых рублей. Если вы удосужитесь перечитать воспо­ минания генерала Мосолова, или Бьюкенена, или Палеолога, то вас, вероятно, поразит то ощущение безмерных богатств, которые водопадами бриллиантов и жемчугов сверкали на петербургских приемах и балах. Но это было призрачное богатство — его эконо­ мическая база уже не существовала. И наряду с этими водопадами рядовой русский офицер, по словам генерала П. Краснова, “если 14* 212 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век не всегда голодал, то недоедал всегда”, а ведь это было в довоенной России! Быт этого офицерства я лично знал потому, что вырос в таких гарнизонных городах, как Гродно, Вильно, Минск, — быт был ужа­ сающий. Но в пределах этого быта шли “противоречия”. Русская ар­ тиллерия, была, конечно, лучшая в мире. Русские артиллерийские офицеры ставили русские казенные заводы так, как по тем временам не бьш поставлен ни один завод в мире, может быть за исключением цейсовского кооперативного предприятия (заводы Цейса были по­ строены на наследственно кооперативных началах). Так что и тут по­ лучается чрезвычайно странное противоречие: на человеческой базе вот этих самых артиллерийских офицеров можно было бы построить “настоящий социализм”. То есть и в самом деле полное огосударст­ вление средств производства. В то же время интендантство воровало, как последний карманный вор. Причем воровство это шло — как в японскую войну — “на счет русской крови”. Морис Палеолог, французский посол в Петербурге в предреволю­ ционные годы, был очень внимательным наблюдателем. Не обходится, конечно, и без некоторой клюквы, касающейся главным образом двух вещей — Государыни Императрицы и “охранки”. Государыня Импе­ ратрица, по мнению, почерпнутому из “салонов”, была “мистически предана” Распутину, а о гемофилии Наследника Цесаревича и о гип­ нотическом лечении Распутина в воспоминаниях не сказано ни слова. Что же касается “этой ужасной охранки”, то в представлении М. Па­ леолога она была чем-то вроде ГПУ: могла расстреливать любого гра­ жданина страны, да так, что и родные ничего об этом не знали. Что делать, без клюквы не обходится ни один иностранный наблюдатель и очень многие русские наблюдатели. М. Палеолог пишет еще об одном противоречии — “общем неве­ жестве русского народа”, с одной стороны, и его “элите” — с другой. Он пишет о некультурной и отсталой массе и об элите “блестящей, активной, плодородной и сильной”: “Нигде больше в мире экспери­ ментальные и положительные науки не представлены так достойно, как в России”. “И я даже рискую сказать, что Павлов и Менделеев — это такие же величины, как Клод Бернар и Лавуазье”, — со стороны француза это, конечно, высший комплимент. Список имен этой эли­ ты занимает у Палеолога две страницы — причем часть этих людей он знал лично. На свои приемы он приглашал не только представителей династии, правительства и дипломатии, но также и представителей промышленности и науки. Палеолог, как посол Франции, смертельно боялся русской революции, ибо революция в России означала бы пе­ реброску всех или почти всех германских сил на западный фронт, — что впоследствии и случилось. Он уже в то время отметил и Стравин- Великая фальшивка Февраля 213 ского и Прокофьева, но “мужик” в его представлении очень неда­ леко ушел от троглодита. Итак: с одной стороны — Павлов и Менделеев, Толстой и Вру­ бель, и с другой — “мужики”, которые ставят свечки, то ли перед образом святого Григория — в память убитого Распутина, то ли пе­ ред образом святого Димитрия — в память убийц Распутина. Но само собой разумеется, что при всей своей наблюдательности рус­ ского мужика М. Палеолог просто видеть не мог. Сословный строй был дан России исторически, и очень немного в мире стран, которые без этого строя обошлись. Строй умирал, но еще не умер. Я как-то иронически писал, что русское дворянство раздели­ лось на две части: дворянство кающееся и дворянство секущее. Поли­ тически это точно. Но вне политики существовала еще и третья разно­ видность дворянства — дворянство работающее. На судьбы России оно, к сожалению, не оказало никакого влияния. Ф. Кони — в области суда, Л. Толстой — в области литературы, Дягилев — в балете, Стани­ славский — в театре, Ипатьев23 — в химии и прочие, и прочие, каж­ дый в своей области ставил мировой рекорд, и рекорд в большинстве случаев неоспоримый. О русском народе М. Горький сказал: “Народ талантливых чудаков”, — о “чудаках” можно спорить, о талантливо­ сти, пожалуй, не стоит. Русское дворянство было по-русски талантли­ во и, кроме того, оно имело, так сказать, экономический досуг для то­ го, чтобы “овладеть всей современной культурой”, по крайней мере та часть дворянства, которая этого хотела. И если мне, например, пришлось зубрить иностранные языки по Туссену и Лангеншейдту — отчего я и до сих пор, зная три иностран­ ных языка, ни на одном из них не могу говорить совершенно свобод­ но, то Герцены и прочие получали это автоматически — от гувернан­ ток. Они не знали заботы о завтрашнем дне и могли заниматься Геге­ лем сколько им было угодно — жаль, что они занимались именно Ге­ гелем. Как бы то ни было, были накоплены огромные культурные ценности, которые и потеряны сейчас почти бесповоротно. Радоваться этим потерям было бы совершеннейшей бессмыслицей. Так что правящее сословие страны разделилось на три части: одна — аполитичная — пошла на работу, она, конечно, составляла ничтожное меньшинство, как и всякая умственная элита в мире. Остальное дворянство разделилось на кающееся и секущее — на революцию и реакцию, — почти без всякого промежуточного зве­ на. Само собою разумеется, что ни в каких симпатиях к анархизму меня обвинить никак нельзя, хотя один раз ОГПУ меня арестовало именно за анархизм. Это был самый короткий арест: часа на два. Я был до того изумлен, что даже чекисты поняли свою ошибку. Но 214 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век как бы ни относиться к анархизму вообще, следует все-таки при­ знать, что князь П. Крапоткин был человеком совершенно исклю­ чительной моральной высоты. И как бы ни расценивать идею мо­ нархии, необходимо все-таки констатировать тот факт, что для по­ давляющей массы “монархического дворянства” монархия, взятая как идея, не значит абсолютно ничего — это только вывеска. Сословный строй страны вызвал целый ряд трагических и ав­ томатических противоречий. Я несколько раз пытался проделать такой эксперимент: стать на наиболее объективную точку зрения, какая только практически возможна, — это будет точка зрения русского монарха. Итак: сословный строй дан исторически и унас­ ледован от всего прошлого. От этого прошлого унаследованы и не­ культурность масс и культурность дворянства — не всех, впрочем, масс, и не всего, впрочем, дворянства. Так вот: земство. Если отстранить дворянство от его ведущей роли в этом земстве, то земство попадает или в некультурные руки крестьянства, или в революционные руки интеллигенции. Если дать дворянству ведущую роль — совершенно неминуема оппози­ ция крестьянства. Администрация: если сломать дворянскую моно­ полию — значит, нужно открыть двери или купечеству, у которого достаточных административных кадров еще нет, или разночинной интеллигенции, которая начнет “свергать”. Если оставить эту мо­ нополию, то купечество и интеллигенция пойдут в революцию — как это и случилось на самом деле. И так плохо, и так нехорошо. Скорострельного выхода из положения не было вообще. По край­ ней мере государственно-разумного выхода. На это основное противоречие наслаивались десятки и десятки других. Финляндия была практически независимой страной, и в том же 1916 году в Государственной Думе еще рассматривался закон о рав­ ноправии русских в Финляндии — хороши “завоеватели”! Хива и Бу­ хара управлялись своими ханами и эмирами по своему адату и шариа­ ту. Но Грузия не имела никакого национального управления. И было совершенно неизвестно, как его организовать в кавказских условиях. В Прибалтике шел процесс дегерманизации Эстонии и Латвии, но шел и процесс русификации — не очень уж насильственный, но не­ нужный и раздражающий. От западнорусских губерний России в Госу­ дарственный совет попадали исключительно польские магнаты (см. ниже), — но преподавание польского языка и литературы было запре­ щено. Перед самой революцией Государственный совет зарезал зако­ нопроект, предусматривавший польский язык в суде и администрации Царства Польского. Еврейская беднота — а еврейская беднота в черте оседлости была ужасающей, — была сжата всякими ограничениями, а Великая фальшивка Февраля 215 еврей-банкир Манус — личность в лучшем случае весьма подозритель­ ная — имел свободный доступ в великокняжеские салоны. Русское крестьянство рассматривало Распутина как свой poite-parole (на рус­ ском языке нет нужного термина), а те же великокняжеские салоны пустили по всему миру распутинскую клевету. Династия стояла в оп­ позиции Монарху, служба информации русской монархии была по­ ставлена из рук вон плохо, монархия начисто изолирована от массы, и генерал А. Мосолов констатирует (С. 99): “Бюрократия, включая министров, составляет одну из преград, от­ деляющих Государя от народа. Бюрократическая каста имела собст­ венные интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами страны и Государя. Другая преграда — это интеллигенция. Эти две силы по­ строили вокруг Государя истинную стену — настоящую тюрьму...” А “ближайшая свита не могла быть полезной Императору ни мыслями, ни сведениями относительно внутренней жизни страны”. Генерал А. Мосолов, в качестве начальника канцелярии мини­ стерства Двора, был, конечно, вполне в курсе дела: “истинная сте­ на” и “настоящая тюрьма”. Государю приходилось действовать бо­ лее или менее вслепую. Это нужно учесть для будущего. Должна быть создана по крайней мере такая служба информации, какую имеют большевики. Там, в секретных сводках, предназначенных для членов ЦК партии, есть все — без пессимизма и без оптимиз­ ма, — совершенно объективное изложение данного положения ве­ щей. У русской Монархии этого не было. Это одна из основных технических ошибок ее организационной стороны. Очень серьез­ ная ошибка — ибо нет в природе людей, которые были бы совер­ шенно свободны от “влияния”. А “влияние” достигается вовсе не путем внушения, а путем информации. Информация хромала. И если генерал Мосолов выражается очень корректно: “Ближайшая свита не могла быть полезной Императору ни мыслями, ни сведе­ ниями” и что “честные люди уходили”, то А. Суворин, издатель крупнейшей в России монархической газеты, формулирует это по­ ложение вещей несколько менее корректно: “Государь окружен или глупцами, или прохвостами”. Эта запись сделана в 1904 году (Дневник. С. 175). Тринадцать лет спустя Государь Император по­ вторяет формулировку А. Суворина: “Кругом измена, трусость и обман” (И. Якобий10. С. 27. Запись в Дневнике Государя Императо­ ра от 2 марта 1917 года). Само собою разумеется, что эта формули­ ровка не могла относиться ни к Керенскому, ни к Ленину. “Трагические противоречия русской жизни” иногда принимали характер форменной нелепости. Польша наконец разгромлена и 216 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век побеждена. В Государственной Думе польское “коло” держится спаян­ но и особняком. При почти равенстве сил между правым и левым блоком полное “коло” получает решающее значение и может решать судьбу Империи. Затевается нелепый процесс Бейлиса, который кон­ чается его оправданием, но который производит во всем мире совер­ шенно скандальное впечатление. Государственный совет, из чистого желания насолить П. А. Столыпину, проваливает его проект модерни­ зации петербургской полиции и вооружения ее броневиками. И в фев­ рале 1917 года петроградская полиция имеет на вооружении револьве­ ры и “селедки” — так в свое время назывались те сабли, которыми были вооружены наши многострадальные городовые. Единственная “реформа”, которая удается П. Столыпину, это реформа Государст­ венной Думы — закон 3 июня. Путем всяческого законодательного нажима создается народное представительство, которое хоть как-то может работать. Организовано оно отвратительно — и технически и политически. Саша Черный11 писал: Середина мая — и деревья голы, Точно Третья Дума делала весну... Никакой весны не сделали ни Первая, ни Вторая, ни Третья. Весну сделала Четвертая — под “мудрым” водительством Пуришкевича12, Шульгина, Милюкова и Керенского. Все четверо делали одно и то же дело. “Бороться надо, правительство — дрянь”, — говорил В. Шульгин (Ольденбург. С. 211). Во время войны его речи почти ничем не отлича­ лись от речей П. Милюкова, и в печати они были запрещены военной цензурой. В. Пуришкевич говорит с трибуны Думы истерический вздор, и ему принадлежит “первый выстрел русской революции” — убийство Распутина. Но это было уже во время войны. До войны почти единственным светлым пятном была недолгая деятельность П. Столыпина. В эмиграции очень склонны преуве­ личивать значение его реформ. По существу, кроме “третьеиюньской” Думы, почти никаких реформ не было: основная реформа — закон о “столыпинском мужике” — была только началом: до вой­ ны на отруба и прочее перешло только восемь процентов крестьян­ ского землевладения. Все остальные попытки П. А. Столыпина бы­ ли похоронены Государственным советом. Особенный принципи­ альный интерес представляет проект о выборах в Государственный Совет от западных губерний. Право на участие в выборах имели только крупнейшие помещики. В западных девяти губерниях круп­ нейшими помещиками были поляки. От девяти западных губер­ ний, с их двумя-тремя процентами польского населения, в Госу­ дарственный совет попали исключительно поляки. П. А. Столыпин Великая фальшивка Февраля 217 предложил снизить ценз. Правые протестовали с классовой точки зрения, — это-де “создает нежелательный прецедент для остальных гу­ берний”, то есть поставили классовую точку зрения выше националь­ ной. Левые были против из соображений интернационализма, то есть поставили национальный принцип выше классового, но не русский национальный принцип. Этот законопроект чуть не привел к отставке П. Столыпина, — отставке, которая все равно уже была предрешена: П. А Столыпин выступил и против правых и против левых, и Госуда­ рю Императору оставалось или распустить обе законодательные пала­ ты, или отказаться от П. А. Столыпина. Пуля Е. Боірова внесла авто­ матическое решение в этот вопрос, но оставила корабль русской госу­ дарственности в том трагическом положении, о котором так красочно и так безнадежно писал Л. Тихомиров. И вот в этом трагическом по­ ложении, в переплете “трагических противоречий”, невооруженная Россия вступила в войну с до зубов вооруженной Германией. ВОЙНА Культурно и экономически предвоенная Россия росла невероятны­ ми темпами. Но “трагические противоречия” — оставались. В Первую мировую войну Россия вступила в обстановке этих противоречий, при разложившемся правящем слое, при крайней неудовлетворительности командования вооруженными силами, при недостатке вооружения, при незаконченном раскрепощении крестьянства, при разладе между Монархией и верхами, при разладе в среде Династии, при наличии парламента, который только и ждал подходящего момента для захвата власти — при Пуришкевичах, Шульгиных, Милюковых и Керенских, которые делали одно и то же дело, и при совершенно архаическом ад­ министративном аппарате. Статс-секретарь С. Крыжановский13, ближайший помощник П.А. Столыпина, пишет: “Основная язва нашего старого бюрократического строя — засилие на верхах власти старцев... Расслабленный старец граф Сель­ ский14... печальной памяти бессильные старцы Горемыкин15, Штюрмер, князь Голицын16. Усталые и телесно и духовно, люди эти жили далеким прошлым, не способные ни к какому творчеству и порыву, и едва ли не ко всему были равнодушны, кроме забот о сохранении своего положения и покоя” (С. 46). И дальше (С. 205): “Министры подкапывали друг друга у Престола, поносили в об­ ществе... Административный и полицейский фундамент Империи остался в архаическом состоянии, совершенно неприспособленном 218 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век к новым требованиям жизни, и государству пришлось поплатиться за это, когда настали трудные времена”. Барон Н. Врангель, отец Главнокомандующего, пишет, собст­ венно, то же самое: “Между высшим обществом и народом образовалась пропасть, утерялась всякая связь. «Мы» — правительство, немногие его чест­ ные слуги и бесчисленные холопы. «Они» — вся остальная Рос­ сия... Мы все могли быть непогрешимы... Результатом этого ослеп­ ления было то, что часть «их» действительно стала подкапываться под правительство, остальная часть — прибавлю, самая лучшая, отошла в сторону от общественных дел и была заменена людьми, желающими лишь свои собственные интересы” (С. 63 и 77). Князь С. Волконский, бывший директор Императорских теат­ ров, пишет решительно то же самое: “Россию губили с двух сторон. Сейчас мы склонны делать от­ ветственными только людей революции. Да, они ответственны за свои дела. Но за свой приход? Разве они не нашли себе подходя­ щей почвы? А где длинный путь, по которому мы шли к тому, к чему пришли? Вот это не все понимают из наших соотечественни­ ков, которых я встречал после моего бегства из советского ада. Все скошено — понимаете ли вы? Все. Нужна новая стройка, новое здание из нового материала и с новыми работниками”. Это все отзывы правых людей, людей привилегированного слоя. Не Керенских и не Лениных. Самый правый из русских историков — И. Якобий дает более жуткую картину: “Помойными ямами были столичные салоны, от которых, по словам Государыни, неслись такие отвратительные миазмы... Рус­ ский правящий класс и здесь оплевал самого себя, как слабоумный больной, умирающий на собственном гноище” (С. 77). Государыня Императрица пишет своему супругу о “ненависти со стороны прогнившего высшего общества” (Якобий И. С. 7). Тот же И. Якобий (С. 26) пишет: “Любопытно и поучительно сравнить рассказы дипломатов о настроениях столичного общества (в начале XIX века. — И. С.) с тем, что другие дипломаты, как М.Палеолог например, писали о том же и во время Великой Войны. Те же пересуды, та же эгоисти­ ческая близорукость, та же злоба к Монарху, то же предательство. За сто лет высшее русское общество не изменилось”. Генерал А. Мосолов сообщает: “Думали, что переворот приведет к диктатуре Великого Князя Николая Николаевича, а при успешном переломе в военных дейст­ виях — и к его восшествию на Престол. Переворот считался воз­ Великая фальшивка Февраля 219 можным ввиду распрей в Императорской Фамилии” (С. 23). “Лег­ комысленные представители общества думали исключительно о своем собственном благополучии... Ища виновников неудач Рос­ сии, они обрушились на Государя и в особенности на Государыню. Видя невозможность отделить Императрицу от Царя, они начали мечтать о дворцовом перевороте” (С. 60). И на с. 49 свои впечатления суммирует так: “Мне казалось, что столица объята повальным сумасшествием”. Как видите, все это выражено очень туманно. Никаких имен не названо, и никаких фактов не приведено. С. Ольденбург пишет еще осторожнее: “Измена бродила вокруг Престола...” И потом не без некоторой наивности добавляет: “Но, к чести выс­ шего общества, можно сказать, что эта измена так и не воплотилась в жизнь” (С. 232). Вся эмиграция, в том числе и С. Ольденбург, являет­ ся именно следствием “воплощения измены”, но всю эту тему автор пытается обойти как-то сторонкой, как, впрочем, на этой же странице С. Ольденбург приводит чрезвычайно симпатичный факт: “Дошло до того, что представитель Союза городов, городской голо­ ва Хатисов, ездил на Кавказ предлагать Великому Князю Николаю Николаевичу произвести переворот и провозгласить себя царем”. Великий Князь Николай Николаевич отклоняет это предложе­ ние под предлогом “монархических чувств армии”, но оставляет этот преступный разговор без всяких последствий и даже не докла­ дывает о нем Государю Императору. Председатель Центрального комитета кадетской (милюковской) партии князь П. Д. Долгоруков, возражая кому-то, пишет в январе 1917 года: “Дворцовый переворот не только нежелателен, но скорее гибе­ лен для России. Дворцовый переворот не может дать никого, кто явился бы общепризнанным преемником монархической власти на Русском Престоле”. Значит, даже кадетская партия возражает против переворота. Кому она возражала? Сам С. Ольденбург констатирует: “Настроение общества, не говоря уже о широких массах, не благоприятствовало перевороту”. Под “обществом” генерал А. Мосолов понимал его привилеги­ рованные верхи. С. Ольденбург говорит: “В конце концов та группа, которая заранее поставила себе це­ лью свержение Императора Николая Второго, продолжала разраба­ тывать планы дворцового переворота или военного переворота”. Из кого состояла эта группа? С. Ольденбург называет только од­ но имя — А. Гучкова, который действительно был главным страте­ 220 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век гом Февраля. Но кто были остальные? На этот вопрос дает ответ французский посол в Петрограде М. Палеолог. Нужно иметь в ви­ ду, что М. Палеолог стоял за русскую монархию. М. Палеолог лю­ бил слегка пофилософствовать. Так, на с. 282 он утверждает, что: 1) Основная разница между латинской и англосаксонской рево­ люционной психологией, с одной стороны, и славянской, с другой, заключается в том, что у одних воображение логично и конструк­ тивно, у других исключительно разрушительно... 2) Восемь десятых русского населения не умеют ни читать, ни писать... 3) Болезнь во­ ли — это туземное заболевание России. 4) Анархия, соединенная с ленью и воображением, — это страстное желание России. И нако­ нец: 5) Огромные пространства страны делают всякую провинцию центром сепаратизма. Пока что русская революция сконструировала власть, которая пре­ тендует на мировое господство и рискует бросать вызов всему осталь­ ному миру. Болезнь воли сказалась в наших гражданских войнах. Ни из какого сепаратизма ничего не вышло. О восьмидесяти процентах неграмотных не стоит, конечно, и говорить. Некоторые клюквенные заросли совершенно неизбежны в мемуарах каждого иностранного на­ блюдателя. Тем не менее М. Палеолог стоял за русскую монархию — а никак не против нее. Он, иностранец, республиканский посол в мо­ нархической стране, пытался доказать Родзянке, что “царизм есть ос­ новной стержень России, внутренняя скрепка всего русского общест­ ва, и, наконец, единственная связь, объединяющая народы Империи”. И взывал: “Если царизм падет, поверьте мне, что он увлечет за собою в гибель все здание России!” Так вот, этот М. Палеолог ставит некоторые точки над некото­ рыми “і”. И тот же М. Палеолог на с. 137, 138 и др. с полным недоумени­ ем рассказывает о том, что князья просто и Великие Князья, пред­ ставители и финансовой и земельной знати на своих приемах со­ вершенно открыто говорили о свержении Государя и о том, как они уже ведут пропаганду в частях гвардии — в первую очередь в Павловском полку, который и в самом деле первым начал “рево­ люцию”. М. Палеолог ни на какие слухи не ссылается: на этих приемах он присутствовал лично и сам все это слышал. Его изумляла откровенность заговорщиков, которые под хмель­ ком все это выбалтывали в присутствии посторонних лиц, в том числе и посла союзной державы. Он называет имена, которые я здесь повторять не буду. Говорит, что эта аристократическая агита­ ция велась даже среди личного конвоя Его Величества. И провоз­ глашались тосты такого рода: Великая фальшивка Февраля 221 “За умного (intelligent) царя, исполненного чувства долга и дос­ тойного своего народа”. И тут же приводится “план”: принудить Государя Императора к отречению, заключить Государыню Импе­ ратрицу в монастырь, возвести на престол Наследника Цесаревича при регентстве Великого Князя Николая Николаевича. И вот с такими “трагическими противоречиями” и с таким пра­ вящим слоем Россия вступила в Первую мировую войну. Первая мировая война была намного страшнее войны 1812 года. Тогда, в 1812 году, не было никакого вопроса ни о расчленении, ни о коло­ низации России. Украинский чернозем и прочее в этом роде На­ полеону вовсе не был нужен: ему, по существу, нужно было только насильственное включение России в его систему континентальной блокады Англии. Планы Вильгельма были безмерно шире: и рас­ членение, и порабощение, и колонизация. Впоследствии Адольф Гитлер эти планы значительно “углубил”. В 1812 году мы воевали почти против “всей Европы”. В 1914-м — в союзе с почти “всей Европой”. Но в 1812 году наш правящий слой еще не был “слабо­ умным больным, умирающем на собственном гноище”. В 1914-м он уже был истинно слабоумным. Таким он остался и сейчас. И сейчас, вот только что, так сказать исторически позавчера, наша реакция нанесла такой удар по русскому монархизму, какого за все тридцать лет изгнания еще не было нанесено. Методы не измени­ лись. И они не изменятся. Поэтому историческая справка о вели­ кой фальшивке Февраля имеет совершенно конкретное практиче­ ское “судьбоносное” значение для всей нашей будущей работы. ЛЕВЫЕ О ФЕВРАЛЕ Когда мы ищем виновника революции, мы должны по мере возможности четко разграничить два вопроса. Первый: кто делал революцию? Второй: кто сделал революцию? Делала революцию вся второсортная русская интеллигенция по­ следних ста лет. Именно второсортная. Ни Ф. Достоевский, ни Д. Менделеев, ни И. Павлов, никто из русских первого сорта — при всем их критическом отношении к отдельным частям русской жизни — революции не хотели и революции не делали. Револю­ цию делали писатели второго сорта — вроде Горького, историки третьего сорта — вроде Милюкова, адвокаты четвертого сорта вроде А. Керенского. Делали революцию почти безымянная масса русской гуманитарной профессуры, которая с сотен университет­ 222 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ских и прочих кафедр вдалбливала русскому сознанию мысль о том, что с научной точки зрения революция спасительна. Подполь­ ная деятельность революционных партий опиралась на этот массив почти безымянных профессоров. Жаль, что на Красной площади рядом с мавзолеем Ильича не стоит памятник “неизвестному про­ фессору”. Без массовой поддержки этой профессуры революция не имела бы никакой общественной опоры. Без поддержки придворных кругов она не имела бы никаких шансов. На поддержку придворных и военных кругов наша революция не рассчитывала никак — и вот по­ чему Февраль свалился ей как манна небесная в пустыне. М. Палеолог на с. 298 подытоживает: “В 1917 году русские социалисты испытали такую же неожидан­ ность, как французские республиканцы в 1848 году. На докладе в Париже 12 марта 1920 года А. Керенский сказал, что его политиче­ ские друзья собрались у него 10 марта (26 февраля) 1917 года и единогласно решили, что революция в России невозможна. Через два дня после этого царизм был свергнут”. Об этом же собрании сообщает и С. Ольденбург (С. 243), хотя и в несколько иной редакции: “Собравшиеся на квартире Керенского представители крайних ле­ вых групп приходили к заключению, что «правительство победило*. ...Но в тот же день — в день «победы правительства* — 26-го, около четырех часов дня, произошло весьма серьезное событие: 4-я рота запасного батальона Павловского полка (в ней было 1500 чело­ век), столпившись на улице около своих казарм, неожиданно открыла беспорядочный огонь по войскам, разгонявшим толпу. (М. Палеолог подчеркивает, что агитация верхов шла именно в Павловском пол­ ку. — И. С.). Были спешно вызваны несколько рот соседних полков... Прибыл командир полка, а также полковой священник, чтобы урезо­ нить солдат. Те, отчасти под влиянием увещания, отчасти потому, что были окружены, ушли обратно в казармы и сдали оружие. Девятна­ дцать зачинщиков были арестованы и отведены в Петропавловскую крепость”... (Ольденбург С. С. 243) До этого, 25-го февраля, Государь Император телеграфировал генералу Хабалову: “Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недо­ пустимые в тяжелое время войны”. На эту телеграмму утром 26 февраля Хабалов отвечал, что “в столице наблюдается успокоение”. На другой день после отре­ чения Государя М. Палеолог спросил Горького и Чхеидзе17: “Значит, эта революция была внезапной (зропШШег)? — Да, совершенно внезапной”. Великая фальшивка Февраля 223 Эту внезапность сам А. Керенский в своей книге передает так: “Вечером 26 февраля (то есть после провала восстания Павлов­ ского полка. — И. С.) у меня собралось информационное бюро со­ циалистических партий. Представитель большевиков Юренев кате­ горически заявил, что нет и не будет никакой революции, что дви­ жение в войсках сходит на нет, что нужно готовиться к долгому периоду реакции”. Зензинов18 (“Дело народа” от 25 марта 1917 года) писал: “Революция ударила как гром с ясного неба и застала врасплох не только правительство и Думу, но и существующие обществен­ ные организации. Она явилась великой и радостной неожиданно­ стью и для нас, революционеров”. Левый эсер Мстиславский19 писал еще красочнее: “Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских неразумных дев — спящими”. С. Мельгунов суммирует все это в “Независимой мысли” (№ 7. С. 6) так: “Как бы ни расценивать роль революционных партий, все же остается несомненным, что до первого официального дня револю­ ции никто не думал о близкой возможности революции”. Большевистская “История СССР” (С. 135) излагает все это са­ мым схематическим образом: “Заговор царизма сводился к тому, чтобы заключить сепарат­ ный мир (??? — И. С.) и, распустив Думу, направить главный удар против пролетариата. Заговор царизма против революции встретил­ ся с другим заговором, созревшим в кругах империалистической буржуазии и генералитета”. Таким образом, все историки, и правые и левые, и большевистские и иностранные, сходятся, по крайней мере, на одном пункте: начало революции было положено справа, а никак не слева. Именно оттуда и зензиновский “гром среди ясного неба”. О заговоре “империалистиче­ ской буржуазии и генералитета” левые, по совершенно понятным со­ ображениям, знать не могли и не знали. А именно этот заговор был началом революции. Потом, в марте, апреле и т. д., революция двину­ лась вперед по путям “углубления”, с исключительной степенью точ­ ности повторяя ход Французской революции. И если августейшие са­ лоны и сам М. Палеолог, передающий их планы и вожделения, выра­ жал свое сожаление о том, что в России не нашлось Мирабо, то это сожаление мне кажется совершенно непонятным, ибо ведь и во Фран­ ции даже и Мирабо решительно ничему не помог. М. Палеолог, посол страны, имеющий весьма большой опыт в революциях, все время про­ водит параллели между 1789 и 1848 годами во Франции и 1917 годом в 224 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век России. Параллели получаются действительно потрясающими. Что, впрочем, никак не мешает М. Палеологу задумываться над таинст­ венной славянской душой, — почему бы не подумать и о таинст­ венной французской? Правые, или даже крайне правые, историки — И. Якобий, С. Оль­ денбург, А. Мосолов — глухо, но неоднократно упоминают о “загово­ ре”. О нем же говорят и большевики. О нем же рассказывает — уже более подробно — французский посол. Конечно, заговор был. Подроб­ ности его мы если узнаем, то очень нескоро. Правые историки стесня­ ются называть вещи своими именами — и людей тоже, левые были не в курсе дела, архивы, попавшие в руки большевиков, подвергались, конечно, весьма основательной чистке. Нет никакого сомнения в том, что в дальнейшем развитии революции огромную роль сыграли те де­ вяносто миллионов золотых марок, которые Германия Вильгельма отвалила Ленину и Троцкому. Но об этом постараются промолчать и наследники Ленина и преемники Вильгельма. Однако при нали­ чии здорового правящего и ведущего слоя ничего не вышло бы из заговора, ни из Февраля, ни из Октября. За всеми бесчисленными подробностями событий этого страшного года, этого позорного го­ да, и мемуаристы и историки как-то совершенно упускают из виду самую основную нить событий: борьбу против Монарха и справа и слева, борьбу, которая велась и революцией и реакцией. По само­ му своему существу 1917 год в невероятно обостренной обстановке повторил историю П. А. Столыпина. П. А. Столыпин был, конеч­ но, человеком исключительного калибра. Но он обессилел в борь­ бе и с реакцией и с революцией. Вскрытие его тела показало со­ вершенную изношенность сердца, в ее роковой форме. 26 февраля 1917 года Государь Император пишет Государыне: “Старое сердце дало себя знать. Сегодня утром во время служ­ бы я почувствовал мучительную боль в груди, продолжавшуюся четверть часа. Я едва выстоял, и мой лоб покрылся каплями пота”. Убийство П. А. Столыпина по самому существу дела не рассле­ довано и до сих пор. И за всякими показаниями и воспоминания­ ми люди как-то забыли поставить простой, самый простой вопрос. Е. Боіров, убийца П. А. Столыпина, был тем, что на официаль­ ном языке называлось осведомителем, на языке общественности — провокатором, на сегодняшнем языке — сексотом. Такие люди не­ обходимы всякой полиции мира, не только политической, но и уголовной. Это всегда подозрительные люди. Их можно и их нуж­ но утилизировать для информации. Но почему Е. Богрова допусти­ ли к охране и П. А. Столыпина и Государя Императора? Не на­ шлось более надежных людей, чем этот осведомитель, провокатор Великая фальшивка Февраля 225 и сексот? Или — при убийстве Царя-Освободителя: как могли лю­ ди допустить семь покушений со стороны десятка изуверов? Весь аппарат Империи не смог справиться с десятком человек? Не мог­ ли? Не хотели. Не считали очень уж необходимым. А может быть, и кое-какое участие принимали? Целого ряда подробностей мы не знаем и, вероятно, не узнаем никогда. Но в самом основном дело совершенно ясно: в 1916 году был заговор. И люди, которые этот заговор организовали, были, или казались себе, чрезвычайно дальновидными. По-видимому, первый шаг к технической реализации этого заговора было превра­ щение Петрограда в пороховой погреб. ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ Теперь позвольте мне все-таки обратиться к личным воспоми­ наниям. Я знаю: это не “документ”. “Документом” воспоминания становятся только после того, как их процитирует какой-либо иной автор. Однако мои личные воспоминания будут, как мне ка­ жется, очень ценным объяснением к настоящему историческому документу: к повелению Государя Императора генералу Гурко. В начале августа 1916 года я был наконец призван в армию и зачислен рядовым в лейб-гвардии Кексгольмский полк. Принимая во внимание мои глаза — одна двадцатая нормального зрения, — в полку не нашли для меня никакого иного места, как швейная мас­ терская. Швейная мастерская меня вовсе не устраивала. И так как для сотрудника “Нового времени” не все уставы были писаны, то скоро и совершенно безболезненно был найден разумный компро­ мисс: я организовал регулярные спортивные занятия для учебной команды и нерегулярные спортивные развлечения для остальной солдатской массы. Я приезжал в казармы в шесть утра и уезжал в десять дня. Мои добрые отношения с солдатской массой налади­ лись не сразу: близость к начальству эта масса всегда рассматрива­ ла как нечто предосудительное. Но они все-таки наладились. Это был маршевый батальон в составе что-то около трех тысяч человек. Из них — очень небольшой процент сравнительной моло­ дежи, остальные — белобилетники, ратники ополчения второго разряда, выписанные после ранения из госпиталей — последние людские резервы России, резервы, которые командование мобили­ зовало совершенно бессмысленно. Особое Совещание по обороне не раз протестовало против этих последних мобилизаций: в стране давно уже не хватало рабочих рук, а вооружения не хватало и для существующей армии. 226 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Обстановка, в которой жили эти три тысячи, была, я бы сказал, нарочито убийственной: казармы были переполнены — нары в три этажа. Делать было совершенно нечего: ни на Сенатской площади, ни даже на Конногвардейском бульваре военного обучения произ­ водить было нельзя. Людей кормили на убой — такого борща, как в Кексгольмском полку, я, кажется, никогда больше не едал. На­ циональный состав был очень пестрым — очень значительная часть батальона состояла из того этнографически неопределенного элемента, который в просторечии назывался “чухной”. Настроение этой массы никак не было революционным — но оно было подав­ ленным и раздраженным. Фронт приводил людей в ужас: “Мы не против войны, да только немец воюет машинами, а мы — голыми руками”, “И чего это начальство смотрело”. Обстановка на фронте была хорошо известна из рассказов раненых. Эти рассказы вполне соответствовали описанию генерала Н. Головина20: “Подползая, как огромный зверь, германская армия придвигала свои передовые части к русским окопам... Затем зверь подтягивал свою тяжелую артиллерию... Она занимала позиции, находящиеся за пределами досягаемости для русской полевой артиллерии, и тя­ желые орудия начинали осыпать русские окопы градом снарядов, пока ничего не оставалось ни от окопов, ни от их защитников...” В 1916 году раненые рассказывали решительно то же самое, что в эмиграции писал генерал Н. Головин. И даже не преувеличивали. Роль беззащитной жертвы не улыбалась никому. Тем более что в основном батальон состоял из “бородачей”, отцов семейства, лю­ дей, у которых дома не осталось уже никаких работников. “Быт” этих бородачей был организован нарочито убийственно. Людей почти не выпускали из казарм. А если и выпускали, то им бы­ ло запрещено посещение кино или театра, чайных или кафе, и даже проезд в трамвае. Я единственный раз в жизни появился на улице в солдатской форме и поехал в трамвае, и меня, раба Божьего, снял ка­ кой-то патруль, несмотря на то что у меня было разрешение коменда­ туры на езду в трамвае. Зачем было нужно это запрещение — я до сих пор не знаю. Меня, в числе нескольких сот иных таких же нелегаль­ ных пассажиров, заперли в какой-то двор на одной из рот Забалканского проспекта, откуда я сбежал немедленно. Фронтовики говорили: “И на фронте пешком, и по Питеру пешком — вот тебе и герой оте­ чества!” Это было мелочью, но это было оскорбительной мелочью — одной из тех мелочей, которые потом дали повод к декларации “о правах солдата”. Для этой “декларации” были свои основания: пра­ вовое положение русского солдата было хуже, чем какого иного сол­ дата тех времен. Так что в числе тех “прав”, которые “завоевала рево- Великая фальшивка Февраля 227 люция”, для солдатской массы были право езды в трамвае, посе­ щение театров, а также и право защиты физической личности от физических методов воздействия. Кроме того, революция “завоева­ ла” право на торговлю семечками, на выборы и на отказ идти на фронт: масса была лишена разумных прав и получила неразумные. Все это было “социальными отношениями”, унаследованными от крепостнического прошлого. Но уже и перед войной, в связи с ог­ ромным, я бы сказал “ураганным”, подъемом культуры в России, в связи со всякого рода заочными и не заочными курсами, тягой к образованию, появилась масса людей, для которых пережитки кре­ постничества были морально неприемлемы. Итак: от двухсот до трехсот тысяч последних резервов России, скученных хуже, чем в концлагере, и обреченных на безделье и... пропаганду. Пропаганда велась с трибуны Государственной Думы. И велась не столько левыми, сколько правыми. Речи Керенского не производили никакого впечатления — на то он и социалист. Но когда бездарная во­ енная цензура запрещала печатать речи В. В. Шульгина или В. М. Пуришкевича и когда вместо этих речей в газетах появились белые поло­ сы, то по совершенно понятным соображениям любопытство массы доходило до степени белого каления. В ответ на этот “спрос” русский рынок заполнялся всякого рода гектографированными и литографиро­ ванными изданиями этих речей. И тут уж каждый “издатель” редакти­ ровал их по-своему. Я и до сих пор очень ясно помню одну из совер­ шенно истерических речей В. М. Пуришкевича — о ней очень корот­ ко упоминается у Ольденбурга. Я ее слышал, я о ней писал (цензура выкинула), потом я ее перечитывал в стенограмме. Эго был призыв “пасть к ногам Государя Императора” и умолить его спасти Россию и Династию от влияния темных сил. Гектографированные издания вне­ сли в эту речь и кое-что новое: в этих изданиях речь заключала в себе требование заточения в монастырь Государыни Императрицы, как “немки, работающей на гибель России и армии”. Речи социалистов не производили на массу никакого впечатле­ ния: “Ну, это мы слышали сто раз”. Но когда с революционными речами выступают монархисты, то впечатление получается убийст­ венное: “Ну если уж и Пуришкевич так говорит, значит, наше дело совсем дрянь”. Я буду просить моих читателей из числа бывших подполковни­ ков и даже генералов оставить в покое ведомственные суеверия и оценить положение с точки зрения самого простого, самого чело­ веческого здравого смысла: от двухсот до трехсот тысяч “борода­ чей”, позади у них — неубранные хлеба, впереди — беззащитный 228 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век фронт против немецкой мясорубки, сейчас — теснота, тоска, обильное питание и слухи, слухи... Царица. Распутин. Штюрмер. Темные силы. Шпионаж. Предательство. Неспособность. В конце октября история дала “первый звонок”: на Выборгской стороне, на автомобильном за­ воде Рено, вспыхнули рабочие беспорядки (см.: Палеолог М. С. 66) и гвардия стреляла в полицию. Гвардию обезоружили казачьи части. Сделали они это очень неохотно. Сто пятьдесят человек было расстре­ ляно — на Шипке все снова стало спокойно. ...Цензура имеет технический смысл только тогда, когда она орга­ низована тотально, как у Гитлера или Сталина. В противном случае она оказывается по меньшей мере бессмысленной: белые полосы в га­ зетах компенсировались гектографированными изданиями, на кото­ рые, по цензурным правилам, нельзя было отвечать публично. Потом цензуре пришла в голову истинно гениальная идея: запретить и белые полосы. Вместо них в газетах появились выцарапанные в стереотипе строчки. Ничего не было опубликовано о беспорядках на Выборгской стороне, но были и прокламации, и слухи, и выцарапанные строчки: “Вчера на Выборгской стороне...” — и дальше шла выцарапан­ ная строчка. Что случилось? Как случилось? Ответ давала неле­ гальная печать или обывательские слухи. Опровергать этот ответ было нельзя, ибо, по мнению гениальной нашей военной цензуры, раз она выкинула информацию о событии, то об этом событии ни­ кто не знал, никто ни о чем не слышал. И если военный цензор выкинул из газеты сообщение о “беспорядках”, значит, ни Россия, ни немцы ничего ни о чем знать не будут. Но немцы обо всем этом знали совершенно точно, а Россия была переполнена слуха­ ми, раздувавшимися до полного безобразия. Слухи, во всем их разнообразии и великолепии, проникали, ко­ нечно, и в казармы Кексгольмского полка. В этих казармах были, конечно, и революционные агитаторы. Лично я не мог отметить их присутствия — само собою разумеется, что при мне они никакой пропаганды не вели. Но влияние этой пропаганды совершенно яс­ но чувствовалось из тех вопросов, которые ставили солдаты: и о беспорядках на Выборгской стороне, и о “распутинском влиянии”, и о генеральской измене, и о том, что Царица “все-таки немка, вот нам — Россию жалко, а ей, может быть, жалко Германию...” Моим командиром был барон Тизенгаузен — я сейчас не пом­ ню его чина. Это был атлетически сложенный человек, очень вы­ держанный и очень толковый. Он сумел установить — в меру сво­ их возможностей — прекрасные отношения с солдатской массой, и, может быть, именно поэтому Кексгольмский полк никакой ре­ волюционной активности не проявил. Но атмосфера была убийст- Великая фальшивка Февраля 229 венной. Я пошел к барону Тизенгаузену и сказал: “Так что же это такое — пороховой погреб?” “Совершенно верно: пороховой поіреб. И кто-то подвозит все новый и новый порох. Нас — шесть офицеров на три тысячи солдат, старых унтер-офицеров у нас поч­ ти нет — сидим и ждем катастрофы”. В общем, выяснилось, что барон Тизенгаузен докладывал об этом по служебной линии — не получилось ничего. Пытался действовать по “светской” линии — тот же результат. Барон Тизенгаузен посовето­ вал мне пустить в ход "нововременскую” линию. Я попробовал. Доло­ жил М. А. и Б. А. Сувориным о положении дел и о моем разговоре с бароном Тизенгауэеном. По существу, все это братья Суворины знали и без меня, но я был живым свидетелем, непосредственным очевид­ цем, а мои репортерские способности в редакции ценились очень вы­ соко. Словом, и М. А. и Б. А. Суворины пришли в действие: к комуто ездили, с кем-то говорили — во всяком случае, с военным мини­ стерством и генералом Хабаловым. Ничего не вышло. М. А. о резуль­ татах своих усилий не говорил почти ничего, а Б. А. выражался с крайней степенью нелитературности. М. Палеолог в записи от 5 ноября 1916 г. (С. 75) повествует о своем разговоре с каким-то генералом В., фамилии его он не назы­ вает. Генерал В. говорил французскому послу: “ - Петроградский гарнизон ненадежен... Неделю тому назад было восстание на Выборгской стороне... Но я не вижу никакого намерения вывести этот гарнизон из Петрограда и заменить его надежными час­ тями. По моему мнению, уже давно нужно было расчистить петро­ градский гарнизон... Знаете ли вы, что в нем по меньшей мере сю семьдесят тысяч? Они не обучаются, у них плохое командование, они скучают, и они разлагаются... Это готовые кадры для анархии... Нуж­ но было бы оставить в Петрограде тысяч сорок из лучшего элемента гвардии и тысяч двадцать казаков. При такой элите можно было бы справиться с любыми событиями. А если нет... Его губы дрожали, продолжает М. Палеолог. Я дружески просил его продолжать. Он продолжал: — Если Господь Бог не спасает нас от революции, то эту револю­ цию сделает не народ, а армия”. Генерал В. был не совсем прав: конечно, не “народ” сделал ре­ волюцию, но и “армия” была в ней ни при чем: петроградский гарнизон армией, конечно, не был. Несколько спорен вопрос, бы­ ли ли армией те генералы, которые устраивали из столицы Импе­ рии пороховой погреб. Приблизительно в то же время Государь Император сместил с должности генерала Безобразова за истинно безобразные потери в 230 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век боях у Ковеля и Владимира-Волынского (Ольденбург. С. 240). Совсем недавно генерал Б. Хольмстон писал в “Суворовце” о том, как гвар­ дию бессмысленно губили на Стоходе. Итак, для бессмысленных по­ терь — гвардия была, для охраны Монархии и, следовательно, Рос­ сии — ее не было. Информация об этих боях и о смещении генерала Безобразова в прессе не появлялась — все та же военная цензура. Но само собой разумеется, что об этом знал “весь Петроград” и об этом знали и все казармы. Информационные ходы были очень просты: гер­ манская разведка и германская пропаганда. Были, конечно, и иные ходы, но в казармы, по-видимому, попадала главным образом герман­ ская пропаганда: “Вот-де ваши генералы, продались немцам и шлют вас на верный убой”. По моим наблюдениям, германская информация имела довольно неожиданный результат: престиж Государя Императо­ ра, который и до того в солдатской массе находился вне каких бы то ни было сомнений, поднялся на небывалую до этого высоту. Правда, с комментариями: “Вот, только Царь и заботится и о нас и о России...” Комментарии о генералах приводить не стоит. ВЕТЕРАНЫ Настроение армии — в особенности ее тыловых формирований — было до чрезвычайности осложнено одним фактором, о котором во всей литературе, посвященной революции, я не нашел ни одно­ го слова. Дело заключалось в том, что последние предреволюцион­ ные призывы включали в армию ветеранов русско-японской вой­ ны. Вся солдатская масса не могла не проявить самого острого ин­ тереса к боевому опыту этих ветеранов. Опыт был очень пессими­ стическим. Да, армия дралась героически, да, армия пролила ни с чем не сообразное количество крови, но война все-таки была про­ играна. Та декламация о доблести и прочем, которая так принята в наших военных кругах, совершенно естественно, не имела никако­ го хождения в солдатской прессе. Ветераны были правы. И если генералу В. Ипатьеву в его политических соображениях не стоит верить ни одному слову, то его профессиональные наблюдения ин­ тереса не лишены. В своей книге (Т. 1. С. 45) он пишет о том, как он, еще молодым офицером, окончив Михайловское училище, был выпущен в стоявшую в Серпухове, то есть под Москвой, артилле­ рийскую бригаду. “Усовершенствованиями, которые разрабатывала наука для по­ вышения боевой способности артиллерии, наши офицеры не инте­ ресовались, и о них никто не знал... Командир моей батареи, со­ вершенно не имевший представления о правилах стрельбы... С ко- Великая фальшивка Февраля 231 мандирами других батарей выходили прямо анекдоты, и нам, молодым офицерам, было положительно совестно перед солдатами за незнание ими артиллерийского дела... В таком состоянии наша полевая артил­ лерия оставалась до русско-японской войны... Полное незнание такти­ ческих приемов вело к тому, что наша артиллерия была бессильна бо­ роться против японской, которая быстро приводила ее к молчанию”. Отзывы генерала Ипатьева — профессиональные отзывы о выс­ шем командовании армией — убийственны, и они соответствуют действительности. В том же томе, с. 285, он пишет о его “невеже­ стве”, о “полной несостоятельности”, о “неспособности командо­ вать армией”, об “ошибках, за которые офицер был бы немедлен­ но исключен из военной академии...”. Это пишет генерал и профессор, наблюдавший события, так сказать, сверху. Ветераны в свое время наблюдали их снизу. В. Ипатьев мирно получал свои ордена, солдатская масса плати­ ла своей кровью. В. Ипатьев констатирует “невежество” высшего командования, солдатская масса ощущала это невежество на своих костях. Выводы были приблизительно одинаковы: “все равно на­ чальство и нас погубит и Россию погубит”. Это не было революци­ онным настроением. Даже и петроградский пролетариат в своем подавляющем большинстве никак не стоял за “долой самодержа­ вие”. Но вся страна была совершенно единодушна: “начальство это пора менять, — как сказал мне один из “бородачей”, — и чего это Царь смотрит, давно в шею пора это начальство гнать”. Я не думаю, чтобы наиболее острые “комментарии” такого сти­ ля делались бы в моем присутствии. Лично я старался “агитиро­ вать” за начальство: шла война и “менять начальство” было не время. Я говорил “бородачам”: “Да, допустим, что наше начальст­ во знает свое дело хуже немецкого, так ведь и ты, Иван Митрич, знаешь свое дело хуже немца”. “А это почему?” “Да вот, потому, что немец снимает с десятины по двести пудов, а ты, пожалуй, и пятидесяти не снимаешь”. На то бородачи отвечали: “Да ведь только вчерась из крепостных выпустили, машин у нас нет, пода­ ти” — словом, куренка выпустить некуда. Моя агитация действовала плохо или не действовала совсем. Мнение о начальстве было всеобщим — в особенности о военном начальстве. И военный министр Редигер21, и редакция “Нового времени” и солдатская масса — о левых я уже не говорю — все придерживались одного и того же мнения. Того же мнения, если верить генералу Мосолову, придерживался и Государь Император. В редакции “Нового времени” была довольно туманная информа­ ция о том, что Государь Император планировал — после оконча­ 232 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ния войны — заняться полной реорганизацией военного и админи­ стративного аппарата страны. Но об этом, конечно, никто ничего конкретного не знал — были только слухи. Но может быть, эти слухи тоже послужили толчком к дворцовому перевороту? Одно из “трагических противоречий русской жизни” заключалось именно в том, что “начальство” устарело до полного неприличия, а заменить его в те времена было еще некем. Это есть основной фактор и на­ ших военных неудач и наших революций. Стоя на тротуарной точ­ ке зрения, можно, конечно, вешать всех собак на Милюкова, или все ордена на Деникина, или наоборот. Но если попытаться под­ няться над этой точкой зрения, то общая картина будет в доста­ точной степени ясна: правящий слой устарел и модернизоваться то ли не хотел, то ли не мог. Офицерский состав армии выслуживал свои лета, но не рассматривал себя в качестве профессионалов войны — он был “военным сословием”. Он считал себя “доблест­ ным” — прилагательное, которое не говорит решительно ничего. Генерал должен быть волевым человеком, должен быть умным че­ ловеком, должен быть культурным человеком, должен знать свою профессию, — а до его доблести никому никакого дела нет. И если говорить о доблестном генерале, то это значит только то, что ниче­ го более лестного о нем сказать нельзя. ПА ПЕРЕЛОМЕ С конца русско-японской до начала русско-германской войны русская армия совершила гигантский скачок вперед. И если в японскую войну русский артиллерийский офицер был хуже даже и японского, то в германскую он был лучше даже германского — ка­ жется, стал вообще лучшим артиллерийским офицером мира. Но если в 1904 году у него не было знаний, то в 1915-м у него не было снарядов — так что практически получилось то же самое. И с точ­ ки зрения “бородачей” виновато было “начальство”: “А начальство чего же смотрело?” Дальше: если для “модернизации” низшего ко­ мандного состава было достаточно пяти-семи лет, то для модерни­ зации среднего нужно было лет десять-пятнадцать. Для модерниза­ ции высшего — лет двадцать-тридцать. Получалась диспропорция: чем выше по “табели о рангах”, тем все хуже и хуже. Диспропор­ ция была дана исторически: генерал А. Деникин в “Старой Армии” пишет, что его сверстники по чину жили еще психологией крепо­ стного права, — а эта психология означает не только "социаль­ ную”, но и техническую отсталость. Взяв на себя роль Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Империи, Государь Великая фальшивка Февраля 233 Император никак не ограничивался “ролью”. Он командовал и в самом деле, оставив генералу М. Алексееву только техническое проведение его военных планов. А Государь Император был всетаки самым образованным человеком России. Может быть, и са­ мым образованным человеком мира. Конечно, что есть образование? Если считать им запас цитат, накопленных в любой профессорской голове, то самым образован­ ным человеком России был профессор П. Н. Милюков: он, если верить его биографам, писавшим, правда, в его же собственной га­ зете, знал все: от истории мидян до теории контрапункта. Что ни­ как не помешало П. Милюкову в 1916 году говорить о “глупости или измене”, в 1917-м звать к завоевательной войне, в 1919-м вес­ ти кампанию против Белой Армии и в 1936-м звать эмигрантскую молодежь к возвращению в Россию: “бог бестактности”. Государю Императору преподавали лучшие русские научные силы — и исто­ рию, и право, и стратегию, и экономику. За ним стояла традиция веков и практика десятилетий. Государь Император стоял, так ска­ зать, на самой верхушке уровня современности — вот, посещал же лабораторию Ипатьева22 и подымался на самолете И. Сикорского, был в курсе бездымных порохов и ясно видел роль авиации — по тем временам авиация считалась или делом очень отдаленного бу­ дущего или, еще проще, — прожектерской затеей. Государь Импе­ ратор сконцентрировал свои силы на победе: довел армию до пол­ ной боевой готовности — дело только в том, что об его усилиях и о его квалификации никто ничего не знал. Я не хочу рисовать старую Россию ни в черных тонах, как это делают левые, ни в белых, как это делают правые: нужно дать не черно-белую, а цветную фотографию, — цвета же были очень пест­ рыми. С одной стороны, Д. Менделеев с Периодической системой элементов, И. Сикорский с “Ильей Муромцем”, Циолковский — сейчас забытый, с его ракетными двигателями; с другой стороны — Царь, который верил в Народ. И Народ, который верил в Царя. И — посредине “средостение”, которое, за очень редкими исклю­ чениями, не годилось никуда. Думаю, что самым идиотским учре­ ждением этих лет была все-таки цензура. До войны в России существовала полная свобода печати — я бы сейчас сказал, гипертрофированная свобода печати. Во время вой­ ны, как и во всех воюющих странах мира, была введена военная цензура. Туда была запихана всякая заваль из всего того, что име­ лось в военном ведомстве. Эта цензура не только цензурировала, она, кроме того, и давила — и официально и неофициально. Ре­ дакция посылает свой материал в цензуру, и цензор может вернуть 234 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век его через час, но может вернуть и через три часа — то есть когда мате­ риал уже запоздал для ротационной машины. Давить на правую печать быть трудно. На левую намного легче. Поэтому получался еще один парадокс: правое “Новое время” было весьма сдержанно в своих воен­ ных обзорах и корреспонденциях — левая печать захлебывалась от во­ енного патриотизма. В левом “Русском слове” расстрига Г. Петров стал военным корреспондентом и обозревателем и сам единолично побил и в полон забрал в три раза больше немецких солдат, чем их су­ ществовало в реальности. Мой подсчет по этому поводу цензура всетаки зарезала. Блестящий рождественский рассказ А. М. Ренникова в “Новом времени” в 1916 году был посвящен раскаявшемуся военному корреспонденту. Словом, в печати установился тон, ко­ торому уж решительно никто не верил, примерно тот тон, какой ныне принят в некоторых органах печати по адресу Белых Армий: доблести хватило бы на весь мир, а война, извините, все-таки про­ играна. К осени 1916 года русская армия была наконец вооружена. Генерал В. Ипатьев пишет (С. 554): “Войну мы свободно могли продолжать еще очень долгое время, потому что к январю и февралю 1917 года мы имели громадный запас взрывчатых веществ в миллионах различных снарядов и, кроме того, более миллиона пудов свободных взрывчатых веществ”. Кстати, этот подъем русской химической промышленности — из почти ничего до миллионов пудов — был сделан усилиями част­ ной промышленности, а не казенной. В 1915 году частные заводы повысили свою продукцию с 1,4 тысячи пудов в феврале до 74,0 в октябре. Казенные за то же время — с 5,0 до 11,5 (Там же. С. 454). Это еще одна иллюстрация к вопросу о государственном “обще­ ственном” хозяйстве и о частной “капиталистической” инициати­ ве. Отсутствие частной инициативы — и во время мира, и во время войны — оплачивается миллионами человеческих жизней и голо­ дом для остающихся миллионов. Государь Император относился с величайшим вниманием к мо­ билизации или, точнее, к стройке русской военной промышленно­ сти, отдавая этому делу и массу внимания и громадные средства, но главная техническая заслуга лежит все-таки на А. Гучкове и В. Ипатьеве. Если А. И. Гучков был, конечно, душой и мозгом февральского переворота, если генерал В. Ипатьев сейчас повторя­ ет клевету на Царскую Семью — то это никак не исключает огром­ ной организационной работы и А. Гучкова и В. Ипатьева для воо­ ружения русской армии. Черно-белую фотографию — даже еще и на контрастной бумаге — я предоставляю прессе, предназначенной для траурного уровня. Великая фальшивка Февраля 235 Во всяком случае, к зиме 1916 года и тем более к весне 1917-го русская армия была наконец вооружена до зубов. И об этом нельзя было писать. Нельзя было сказать и стране, и армии, и петроград­ ским “бородачам”, что теперь уж русский артиллерист имеет дос­ таточное количество артиллерии и что он уж не подведет, что это есть все-таки лучший артиллерист в мире и что за ним где-то ле­ жат “миллионы снарядов”. В цензуре сидели, конечно, гениаль­ нейшие генералы старого времени — и они предполагали, что обо всем этом немецкая разведка, которая пронизывала весь Петро­ град, не имела никакого представления. Как документально выяс­ нилось впоследствии, немецкая разведка имела не только общее представление, но и точные цифры. А вот ни страна, ни армия, ни “бородачи” ничего этого не знали. Предыдущая же “ура-патриоти­ ческая” пропаганда подорвала всякое доверие и к тем намекам, ко­ торые все-таки просачивались в печати. Словом, сидели набитые, как сельди в бочке, "бородачи”, и среди них вели свою пропаганду и “великосветские салоны”, и Пуришкевичи, и Керенские, и большевики, и, конечно, через большевиков — немцы. И никакого противодействия этой пропаганде не было. Весь Петербург талдычил об “усталости от войны”. Совершеннейший вздор: Великую Северную войну Россия вела 21 год, Вторую мировую советы вели почти четыре года, — Карл XII дошел до Полтавы, Гитлер дошел до Волги, и никакая “усталость” не помешала — ни Полтаве, ни Берлину. В феврале 1917 года чисто русской территории немцы не занимали — если не считать небольших клочков в Белоруссии и на Волыни. Еды в России было сколько угодно — продовольственный экспорт был прекращен, — и только в Петрограде были некоторые пе­ ребои. Но был правящий слой, который хотел победы, но который хотел победы для себя, а не для России и который подорвал Россию с обеих сторон. И слева, и еще больше — справа. Вот почему моя цвет­ ная фотография не нравится никому. В общем, все тонуло в болоте правящего слоя. Тонули в крови фронтовики, тонули в тревоге и неведении “бородачи”, и вся Рос­ сия тонула в слухах: “слабовольный Царь, истеричная Царица, влияние Распутина, немецкий шпионаж”... И вот на этом психоло­ гическом фоне прозвучал первый выстрел русской революции — убийство Распутина. Оно подтвердило самые худшие слухи: если уж такие монархисты, каким был Дмитрий Павлович, берутся за огнестрельные доводы, — значит, дело дрянь. Впечатление в низах было ужасающим: вот до чего дошло! 236 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Так наш правящий слой реализовал стратегическую доктрину Клаузевица-Ганнибала: охват с левого фланга, охват с правого фланга, прорыв центра, и — самоубийство. Эго было — справа. Слева шла, в частности, травля министра внут­ ренних дел А. Д. Протопопова23. Если вы дадите себе труд просмот­ реть литературу того времени или литературу о том времени, то, веро­ ятно, вы отметите странную черту: вся атака левых — против А. Д. Протопопова. Никаких мало-мальски конкретных обвинений ему не предъявлялось. Кроме одного: он-де был “распутинским ставленни­ ком”. До его назначения министром он был избран товарищем пред­ седателя Государственной Думы. Что ж, и Государственная Дума изби­ рала его под распутинским влиянием? Его считали “изменником сво­ ему лагерю” — на этот раз левому. Дело же заключалось в том, что А. Протопопов был, может быть, единственным свежим человеком среди рухляди правящего слоя, и именно он докладывал Государю Импера­ тору о настроениях Петроградского гарнизона и о том, что положение в Петрограде “является угрожающим”. На основании этой информа­ ции Государь Император повелел генералу В. Гурко24 убрать из столи­ цы ненадежные части и заменить их гвардейскими частями с фронта. С. Ольденбург пишет (С. 240): “Ни градоначальник генерал-майор Бал к, ни командующий войсками округа генерал-лейтенант Хабалов не считали положение дел угрожающим. Ни генерал Гурко, ни генерал Балк, ни генерал Хабалов повеления Государя Императора не выполнили, сослав­ шись на то, что в казармах совершенно нет места, а запасные ба­ тальоны некуда вывести”. Итак: об “угрожающем положении” докладывал Государю его министр. Об этом положении французскому послу говорил гене­ рал В. Об этом положении практически говорил весь Петроград. И три генерала не могли найти места для запасных батальонов на всем пространстве Империи. Или места в столице Империи для тысяч двадцати фронтовых гвардейцев. Это, конечно, можно объяснить и глупостью. Это объяснение наталкивается, однако, на тот факт, что все в мире оіраниченно, — даже и человеческая глупость. Это была измена. Заранее задуман­ ная и заранее спланированная. Маршевые батальоны из столицы выведены не были — им, видите ли, не хватало места во всей Рос­ сии; гвардейские части в столицу переброшены не были — им, ви­ дите ли, не хватало места в столице. Полиция, почти безоружная, и учебные команды насчитывали в своем составе десять тысяч че­ ловек — против, по меньшей мере, двухсот тысяч ненадежного гарнизона — не считая “вооруженного пролетариата”. Великая фальшивка Февраля 237 Петроградские заводы и склады были переполнены оружием, сработанным для действующей армии. Это оружие практически находилось в руках “пролетариата”. Советская “История СССР” несколько туманно указывает на то, что “рабочим удалось захва­ тить сорок тысяч винтовок”. Хотел бы еще и еще раз повторить: петроградский пролетариат, несмотря на всю его “революционную традицию”, никакого участия в Февральских днях не принимал. К сожалению, в данный момент я не могу это доказать. На поверх­ ность революционных дней выплыл какой-то нерусский сброд, ко­ торый уже после отречения Государя Императора заботился глав­ ным образом об одном: как бы внести возможно больше хаоса. По всей вероятности, всего этого мы не узнаем никогда: и немцы, ко­ торые финансировали большевиков, и большевики, которые полу­ чали деньги от немцев, сделали или еще сделают все, что только возможно, чтобы следы этой позорной коммерческой сделки унич­ тожить начисто. Но тысяч пять сброда в столице все-таки нашлось. Полиция была, в сущности, совершенно безоружна — револьве­ ры и шашки. О гарнизоне я уже говорил. Оставались “учебные ко­ манды”, да и те были под командованием генералов, которые по­ велений Государя Императора не выполняли. Государь Император был перегружен сверх всякой человеческой возможности. И помощников — верных и культурных помощни­ ков — у него не было. Он заботился и о потерях в армии, и о без­ дымном порохе, и о самолетах И. Сикорского, и о производстве ядовитых газов, и о защите против еще более ядовитых “салонов”. На нем лежало и командование армией, и дипломатические отно­ шения, и тяжелая борьба с нашим недоношенным парламентом и Бог его знает что еще. И вот тут Государь Император допустил ро­ ковой недосмотр: поверил генералам Балку, Гурко и Хабалову. Именно этот роковой недосмотр и стал исходным пунктом Фев­ ральского дворцового переворота. А этот дворцовый переворот стал, в свою очередь, исходным пунктом не для одной и воображаемой Февральской революции, а для всего того революционного процесса, который, начавшись свержением Царя, сейчас привел нас всех к порогу Третьей миро­ вой войны. О поведении генерала Хабалова могут быть, конечно, разные мнения: наиболее лестное сводится к тому, что в Февральские дни он “растерялся”. Академик В. Н. Ипатьев приводит другой, на этот раз истинно классический, случай генеральской растерянности. В томе II, на с. 9 он рассказывает о заседании, на котором присутст­ вовал он сам. Заседание происходило у военного министра генера­ 238 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ла Беляева25, 22 февраля, и было посвящено вопросу о надвигаю­ щихся “беспорядках”. Для предотвращения распространения этих беспорядков на весь город “растерявшийся генерал Беляев не на­ шел предложить ничего более умного, как... развести мосты через Неву”, — это в феврале, когда по Неве не только люди, а и трам­ ваи ходят. Чем же все это было? Растерянностью или планом? Попробуйте соединить все отдельные точки этого плана в одну линию: срывается вооружение полиции, в столице концентрируют­ ся сотни тысяч заведомо ненадежных людей, не выполняется Вы­ сочайшее повеление об их уводе, не выполняется Высочайшее по­ веление о переброске гвардии, не выполняется Высочайшее пове­ ление о подавлении бабьего бунта. И в качестве исходной идеоло­ гической базы этого “плана” стоит распутинская легенда, вышед­ шая из тех же кругов. Легенда — исключительно живучее существо. Легенда о распу­ тинском влиянии живет и до сих пор, хотя советские данные (см. у Ольденбурга на с. 193) не оставляют абсолютно никакого сомнения в том, что никакой политической роли Распутин не играл. Легенда выросла, как писал крайне правый историк русской армии A. Керсновский26, “из августейших салонов”. Тот же академик B. Ипатьев повторяет ее в своих мемуарах, и повторяет как не под­ лежащий никакому сомнению факт. Итак: академик, царский ге­ нерал, один из крупнейших химиков современности, сообщает американской аудитории о слабоволии и бездарности Царя, о влия­ нии Царицы на Царя и Распутина — на Царицу и о том, что в об­ щем и целом русскую политику определял Распутин. Кто из аме­ риканцев не поверит академику Ипатьеву и кто поверит И. Солоневичу и С. Ольденбургу? В. Ипатьев рекомендует себя как челове­ ка, стоящего вне политики, как химика и философа. И в качестве доказательства распутинского влияния приводит такой факт (Т. I. C. 411): “Супруга одного «почтенного генерала* просила отправить ее мужа в Крым на казенный счет в поезде для раненых. Получив от Красного Креста отказ, она, вместе со своей сестрой, очень ми­ ловидной женщиной, вдовой тоже генерала, отправляется к Распу­ тину и устраивает своему мужу бесплатный проезд”. Есть малень­ кий намек на то, что протекция была оказана не вполне бесплатно. Итак, вот вам “влияние”. Проезд из Петербурга в Крым стоил пер­ вым классом, вероятно, рублей пятьдесят, и за пятьдесят рублей жена и вдова генерала (“обе состоятельные женщины”, отмечает генерал Ипатьев) идут к “старцу”. Других примеров у академика Ипатьева нет. Едва ли кто-либо из его американских читателей уловит полную несообразность этого примера. А легенда укреплена Великая фальшивка Февраля 239 еще больше: выдающийся ученый, царский генерал, беспристрастный человек, стоящий вне партий и вне политики... И вот даже он... Повторяю еще раз: выпуская книгу, профессор В. Ипатьев мог и был обязан навести кое-какие справки, мог проверить слухи по материалам послереволюционной Следственной комиссии. Убий­ ство Распутина превратило легенду в факт: не из-за прихоти же, в самом деле, люди пошли на убийство! Очень вероятно, что та ис­ торическая наука, которая когда-то наконец появится у нас, очень много объяснит общественной истерикой. Очень может быть, что какие-то данные мы узнаем еще и о немецких махинациях в Рос­ сии. Всех их, по-видимому, мы не узнаем никогда — по крайней мере достаточно подробно и документально. В 1921 году П. Стру­ ве27, тогда уже законченный монархист, писал в “Русской мысли”: “Германия, которой в русской революции принадлежала роль устроителя и финансирующей силы, создала целую литературу о ней, в связи с государственным банкротством России. Это были теоретические проекты того разрушения России, за которые во время Мировой войны Германия взялась практически”. Это было написано за двадцать лет до германо-советской вой­ ны, в которой “теоретические проекты разрушения России” при­ няли окончательно звериный характер. Но еще и сейчас, и после этой войны, находятся русские и даже “национальные” публици­ сты, которые проливают слезы по нюренбергским висельникам, строят совершенно детские легенды об “английском заговоре” и все еще мечтают то ли о генерале Эйхгорне, то ли о партайгеноссе Кохе. “Кого Бог захочет погубить — отнимет разум”. Кого Бог продолжает губить — разума не возвращает. Лично я думаю, что в подготовке Февраля немецкие деньги ни­ какой роли не играли. Эту подготовку вели люди, которые, как и цареубийцы 11 марта 1801 года, не нуждались ни в каких деньгах: богатейшие люди России. Но подпольный мир Обводного канала, ночлежек, притонов, отчасти и случайных новых рабочих петро­ градской промышленности, был использован немецкими деньгами до конца. Однако все это было уже после Февраля. Сейчас я гово­ рю только о Феврале. В феврале месяце Петроград представлял со­ бой пороховой погреб, к которому оставалось поднести спичку. Роль этой спички, или детонатора, или “случая” — называйте как хотите — пришлась на долю чухонских баб. Так что, при добром желании, историю Февраля можно средактировать так: в Февраль­ ской революции виноват А. Керенский. Но можно средактировать и иначе: Февральскую революцию сделали чухонские бабы Вы­ боргской стороны. 240 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ДЕТОНАТОР ПРИ ПОГРЕБЕ Итак: концентрацией в столице тысяч двухсот всякого рода бе­ лобилетников и бытовой обстановкой, в которую эти белобилетни­ ки были поставлены, — в этой столице был создан пороховой по­ греб. Ни левые вообще, ни Государственная Дума в частности — никто, кроме “военного ведомства”, этого погреба создать не мог, хотя бы уже просто технически. Было ли это демонстрацией “глу­ пости” или подготовкой “измены” — каждый может решать посвоему, но третьего объяснения нет. И вот при этом погребе — на этот раз уже автоматически, сам по себе, создался и “детонатор”: чухонское бабье Выборгской стороны. На эту тему ни в одной “истории революции” я не нашел никаких указаний и никакой статистики. Дело же заключалось в том, что при­ зывы в армию оставляли в петроградской промышленности огромный людской пробел: никаких льгот по призывам военная промышлен­ ность не получила, а Петроград был главным образом центром метал­ лургической промышленности. Нехватка вооружения отчасти объяс­ няется нехваткой рабочих. В Петрограде эту нехватку кое-как воспол­ нял приток женских рабочих рук из окрестностей Петрограда. В эн­ циклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, в статье “Санкт-Пе­ тербург”, в подстрочном примечании сказано, что из ста жителей ок­ рестностей Санкт-Петербурга в 1897 году девяносто шесть показали своим родным языком не русский язык (привожу по памяти, но точ­ но)28. Именно этот элемент несколько позже, в марте и апреле 1917 года, тащился с санками и салазками в заводоуправления получать “недополученную” заработную плату за все время работы: в представ­ лении этих чухонок эту заработную плату можно было вывезти только на санках — никаких карманов или даже корзин для нее не хватило бы. 23 февраля 1917 года был “Международный женский день”, коекак использованный большевиками: чухонские бабы вышли на улицы Выборгской стороны и начали разгром булочных. Так что, если следо­ вать по стопам некоторой части нашей публицистики и из всех звень­ ев русской революции выбрать одно — по вкусу и усмотрению своему, то можно сказать и так: русскую революцию начало чухонское бабье. Мсье Талейран, сидя в эмиграции, говаривал: “Во французской революции виноваты все — то есть никто”. Этот афоризм можно, конечно, оспаривать, но нет никакого сомнения, что князь С. Вол­ конский прав: Россию губили с обеих сторон. И можно было бы добавить: и из центра. Знаменитый Клаузевиц всю свою жизнь анализировал Канны. Стратегическая идея Канн была очень проста: охват обоих флангов и Великая фальшивка Февраля 241 прорыв центра. В результате этого стратегического маневра римская армия была почти поголовно истреблена. Канны не помешали тому, что Ганнибалу пришлось искать спасения в бегстве и потом покон­ читъ жизнь самоубийством. Сейчас можно с достаточной степенью обоснованности предполагать, что у Ганнибала охват флангов и про­ рыв центра просто вышел сам по себе — ни до, ни после Канн этот маневр не удается ни одному полководцу истории. Но в 1916 — 1917 годах наш обезумевший правящий класс (см.: Мосолов А.), сам не отда­ вая себе никакого отчета в том, что именно он делает, повторил ганнибальский маневр с тем, чтобы потом разделить и Ганнибальскую судь­ бу: охват русской государственности с обоих флангов — и слева и справа, и прорыв ее центра — дворцовый переворот. Маневр, как мы уже знаем, удался блестяще: сидим мы все, уцелевшие, в эмиграции и решительно не знаем, где именно мы будем сидеть завтра. И всякий из уцелевших — по собственному благоусмотрению своему — ищет виновников там, где ему благоугодно. Левые — в Государе Императо­ ре, правые - в А. Керенском. Впрочем, некоторые правые, вот вроде Ипатьева, не щадят и памяти Государя Императора, а некоторые ле­ вые, вот вроде П. Сорокина29 или Р. Абрамовича, не очень стесняются и с А. Керенским. Историки революции занимаются бирюльками — “повестью о том, как поссорился Иван Иванович Милюков с Иваном Никифоровичем Маклаковым”. Сущность же вопроса заключается в том, что на этом отрезке исторического времени скрестились две не­ совместимые линии развития: безусловная необходимость для страны сменить свой правящий слой и такая же невозможность менять его во время войны и подготовки к войне. Монархия стремилась пройти это “узкое место” эволюционным путем. Не прошла. Разные люди играли в этом вопросе разную роль. Сейчас, когда процесс завершен, нам он кажется “исторически предопределенным”, но это древний спор, для которого на страницах газеты места нет. Разные люди играли разную роль. Основной пружиной революции был, конечно, А. И. Гучков. Основной толчок революции дали, конечно, чухонские бабы. Чухон­ ские бабы не имели, конечно, никакого понятия о том, что именно они делают. Горькая ирония истории заключается в том, что А. И. Гучков понимал никак не больше чухонских баб. “КАППЫ” А. И. ГУЧКОВА Итак, все фигуры на шахматной доске заговора — самого траги­ ческого и, может быть, самого гнусного в истории человечества, были уже расставлены. С самых верхов общества была пущена в самый широкий оборот клевета о Распутине, о шпионаже, о вре­ 242 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век дительстве, — клевета, которую даже и В. М. Пуришкевич самоот­ верженно развозил по фронтам. Вся гвардия была заблаговременно убрана из столицы — и ее “бессмысленно губили на Стоходе”, как писал генерал Б. Хольмстон. Действительно губили — совершенно бессмысленно. Ибо отход русских армий вызывался не нехваткой бойцов и, еще меньше, нехваткой у них мужества, а просто недос­ татком вооружения: этот недостаток никакая гвардия, конечно, восполнить не могла. Гвардия была заменена “маршевыми баталь­ онами”, для размещения которых не нашлось, видите ли, места во всей России. Предупреждение Протопопова, предупреждение прес­ сы, приказы Государя Императора не помогли ничему: маршевые батальоны из столицы не удалили. Приказов Государя о переброске в столицу гвардейской кавале­ рии не выполнили. Столица была во власти “слухов” и в распоря­ жении маршевых батальонов. Не хватало одного — повода. Так, в 1914 году Германия Вильгельма II довела свою боевую готовность до последнего предела и войны откладывать не могла. Раздался “сараевский выстрел”. Если бы не было его — нашлось бы что-то другое. Если бы не нашлось чего-то другого, было бы спровоциро­ вано что-то третье: времени терять было нельзя. В феврале 1917 года в Петербурге — не только в нем одном — действительно начались хлебные перебои. Их обострили все те же слухи: хлеба скоро вовсе не будет. Обыватель бросился закупать и сушить хлеб в запас. В литературе были указания на сознательную подготовку этих перебоев. Указания эти проверить невозможно. М. Палеолог сообщает, что в результате исключительно жестоких мо­ розов в январе и феврале 57 тысяч вагонов с хлебом застряли на железнодорожных путях — это больше пяти миллионов пудов хле­ ба. Революционная пресса уже после Февраля сообщала, что Ка­ лашниковские склады оказались переполнены зерном — это очень маловероятно, так как после перебоев Февраля 1917 года дальней­ шие месяцы, и каждый месяц все хуже и хуже, приносили с собой переход от перебоев к просто голоду. Самое вероятное объяснение сводится все к той же предусмотрительности, на основании кото­ рой генерал Беляев предлагал развести мосты на покрытой сажен­ ным слоем льда Неве. Но, во всяком случае, хлебный бунт был наилучшим поводом к Февралю: хлебные перебои дискредитирова­ ли власть в самой гуще населения, а даже и маршевые батальоны автоматически ставились в очень неудобное психологическое поло­ жение: стрелять в голодных баб? Одно дело — социалисты и рево­ люционеры, другое дело — бабы, которым, может быть, дома дети­ шек кормить нечем. И вот на этом общем фоне А. И. Гучков разы­ Великая фальшивка Февраля 243 грал то ли свои, то ли не свои “Канны”. О заключительном плане этих “Канн” рассказывает почти с полной ясностью сам А. И. Гучков (Падение царского режима. Т. ГѴ. С. 277 — 278): “Я ведь не только сочувствовал этим действиям, но и принимал активное участие. План заключался в том (я только имен называть не буду), чтобы захватить между Царским Селом и Ставкой император­ ский поезд, вынудить отречение, затем одновременно, при посредстве воинских частей, на которые в Петрограде можно было рассчитывать, арестовать существующее правительство, затем объявить, как о пере­ вороте, так и о лицах, которые возглавят собой правительство”. Это было заключительной частью гучковского стратегического пла­ на. Как мы уже знаем, эта часть была выполнена на сто процентов: императорский поезд оказался отрезанным и от столицы и от армии, Государь Император оказался в буквальном тупике, и никакого выхо­ да у него не было. С. Ольденбург пишет (С. 257): “Поздно гадать о том, мог ли Государь не отречься. При той позиции, которую занимали генерал Алексеев и генерал Руз­ ский30, возможность сопротивления исключалась: приказы Го­ сударя не передавались” . С. Ольденбург выражается не совсем точно: приказы Государя не только не передавались — они отменялись. Получив наконец достаточно веские данные о положении дел в Петрограде, Государь Император решил лично отправиться в сто­ лицу, но перед этим он отдал приказ об отправке туда шести кава­ лерийских дивизий и шести пехотных полков — из самых надеж­ ных — плюс пулеметные команды. (На фронте “надежных частей” было сколько угодно.) Генерал Алексеев был против отправки этих частей, считая, что “при существующих условиях меры репрессий могут только обострить положение”. По словам того же генерала Алексеева, Государь не “захотел разговаривать с ним” (Ольден­ бург С. С. 248). И этот приказ Государя Императора был сорван: генерал Рузский своей властью распорядился не только прекратить отправку войск в помощь генералу Иванову, но и вернуть обратно в Двинский район уже отправленные эшелоны. В эту же ночь из Ставки было послано на Западный фронт от имени Государя пред­ писание: уже отправленные части задержать на больших станциях, остальные — не грузить. Что касается войск Юго-Западного фронта (гвардии), то Ставка еще днем 1 марта сообщила генералу Брусилову, чтобы отправка не производилась до особого уведомления (С. 253)! “Меры проти­ водействия революции — отправка войск в восставший Петроград — были отменены именем Государя, но помимо его воли”. 244 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Между тем пресловутый Бубликов сам признавал: “Достаточно было одной дисциплинированной дивизии с фрон­ та, чтобы восстание было подавлено” (С. 251). Может быть, не нужно было даже и дивизии — там, где “восста­ ние” натыкалось на какое-то сопротивление, оно таяло как дым: на трубочном заводе поручик Гесса застрелил агитатора, и вся толпа раз­ бежалась, бросив и знамена и лозунги. Так что, может быть, хватило бы и семисот георгиевских кавалеров генерала Иванова. Но не пусти­ ли и их. В Таврическом дворце от времени до времени вспыхивала па­ ника: вот придут части с фронта — и тогда что? Словом, Государь отдал приказ о переброске в столицу шести кавалерийских дивизий и шести пехотных полков и пулеметных команд — и направился в заранее подготовленный для него тупик. Поезд застрял на станции Малая Вишера — в 150 километрах от Петрограда, потом вернулся на станцию Дно и со станции Дно на­ правился в Псков, в Ставку Северного фронта, которым командо­ вал генерал Рузский. Там, в Пскове, вечером 1 марта произошла поистине историческая беседа между Государем Императором и генералом Рузским. Нужно иметь в виду, что до этой беседы Государь Император провел сорок часов в поезде и был начисто отрезан от какой бы то ни было инфор­ мации. В Ставку генерала Рузского Государь Император прибыл, по всей вероятности, как на некий опорный пункт. Сейчас же он полу­ чил телеграмму от генерала Алексеева с уже готовым манифестом об ответственном министерстве. Именно этому министерству была, повидимому, посвящена историческая беседа между Государем Импера­ тором и генералом Рузским. Часть этой беседы передает С. Ольден­ бург по записи князя Васильчикова, со слов генерала Рузского — так что за точность передачи ручаться никак нельзя. До этой беседы гене­ рал Рузский сказал свите Государя Императора: “Нужно сдаваться на милость победителей”. И, по-видимому, вся беседа была посвящена именно вопросу этой капитуляции. “Генерал Рузский с жаром доказывал необходимость ответст­ венного министерства. Государь возражал спокойно и хладнокров­ но и с чувством глубокого убеждения: «Я ответствен перед Богом и Россией за все, что случилось и случится. Будут ли министры от­ ветственны перед Думой и Государственным советом или нет — безразлично. Я никогда не буду в состоянии, видя, что делается министрами не ко благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело...»” “Государь перебирал с необыкновенной ясностью взгляды тех лиц, которые могли бы управлять Россией в ближайшие времена... Великая фальшивка Февраля 245 И высказывал свое убеждение, что те общественные деятели, кото­ рые, несомненно, составят первый же кабинет, — все люди совер­ шенно неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться с своей задачей”. Сейчас, тридцать лет спустя, мы обязаны отдать должное “не­ обыкновенной ясности” Государя Императора: “деятели” действи­ тельно не справились. Но, во всяком случае, со стороны Государя Императора — если верить этой записи — это был категорический отказ от “ответственного министерства”. С. Ольденбург дополняет этот отказ и своими соображениями: бунт усмиряется не уступка­ ми, а вооруженной силой. Однако было уже сделано все, чтобы вооруженная сила не смогла применить своего оружия. На следующее же утро генерал М. Алексеев, получив от генерала Рузского телеграмму с изложением этой исторической беседы, поста­ вил вопрос ребром: уже не ответственное министерство, а отречение от Престола. В 10 часов 15 минут 2 марта генерал Алексеев разослал всем командующим фронтами телеграмму следующего содержания: “Его Величество находится в Пскове, где изъявил свое согласие объявить манифест, ноя навстречу народному желанию, учредить от­ ветственное министерство перед палатами и поручить председателю Государственной Думы образовать кабинет. По сообщении этого ре­ шения Главкосевом председателю Государственной Думы последний в разговоре по аппарату в три с половиной часа утра 2 марта ответил, что появление такого манифеста было бы своевременно 27 февраля, в настоящее время этот акт является запоздалым, что ныне наступила одна из страшных революций, сдерживать народные страсти трудно, войска деморализованы, председателю Думы хотя пока и верят, но он опасается, что теперь династический вопрос поставлен ребром и войну можно продолжать до победного конца лишь при исполнении предъ­ явленных требований относительно отречения от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича, обстановка, по-види­ мому, не допускает иного решения, и каждая минута дальнейших ко­ лебаний повысит только притязания, основанные на том, что армия и работа железных дорог находится фактически в руках Петроградского Временного правительства. Необходимо спасти действующую армию от развала, продолжать до конца борьбу с внешним врагом, спасти не­ зависимость России, и судьбу Династии нужно поставить на первый план, хотя бы ценой дорогих уступок. Если Вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно через Главкосева, известив меня, что потеря каждой минуты может стать роковой для существования России и что между высшими начальствующими лицами армии нужно установить единство мысли и цели и спасти ар­ 246 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век мию от колебаний и возможных случаев измены долгу. Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом, и решение от­ носительно внутренних дел должно избавить ее от искушения при­ нять участие в перевороте, который более безболезненно совер­ шится при решении сверху. Алексеев, 2 марта, 10 час. 15 мин., 8 101872”. Одновременно с этой телеграммой генерал Рузский посылает в Ставку телеграмму, в которой сказано, что “при существующей об­ становке он не считает возможным сосредоточение железнодорож­ ных батальонов к Пскову, прибытие же их может лишь только ос­ ложнить обстановку”. Этим отрезывается для императорского по­ езда возможность прорваться в Петроград. Итак, фронтовые дивизии и полки оставлены. Железнодорожные батальоны оставлены. Генерал М. Алексеев сколачивает единый фронт генералитета уже не для ответственного министерства, а с требованием отречения. Генерал М. Алексеев ссылается при этом на данные Родзянки. В распоряжении генерала Алексеева, кроме данных Родзянки, должны были быть и данные военной контрразведки, которая была подчинена Ставке, которая работала действительно скандально плохо, но которая все-таки могла уловить положение в Петрограде — уловил же его пресловутый Бубликов: довольно одной дисциплинированной дивизии, и вся эта охваченная, так сказать, превентивной паникой толпа просто разбежится. Главнокомандующие фронтами и флотами, за единственным исключением генерала Хана Нахичеванского, поддержали “единый фронт”. В телеграммах Государю Императору была вся эта фразео­ логия, которую вы еще и сейчас можете найти на страницах край­ не правой прессы. И коленопреклонение, и рыдания, и “помощь Божию”, и все что хотите — но во всех них стояло категорическое требование отречения. Государь Император оказался начисто изо­ лированным от армии и от столицы, как это и планировал А. Гуч­ ков. Телеграммы главнокомандующих, во всяком случае, означали одно: отказ от повиновения и от поддержки. Оставалась вооружен­ ная охрана императорских поездов. Что было делать? План А. И. Гучкова удался на сто процентов. Дальнейшие про­ центы он стал приносить впоследствии — вплоть до сегодняшнего дня. А. И. Гучков в сопровождении В. В. Шульгина приехал в Псков диктовать Императору условия отречения. Этой диктовки Император не принял — текст отречения написал он сам. Так был закончен “династический переворот”, который, если верить С. Ольденбургу, стал вчерне намечаться еще в столыпин­ ские времена. Великая фальшивка Февраля 247 В ЧЕМ, СОБСТВЕННО, “ФАЛЬШИВКА” В течение более чем трех десятков лет склоняется во всех мыс­ лимых и немыслимых падежах “народная Февральская револю­ ция”. Я, опираясь почти на правые источники, а также и на более или менее известный ход событий 1916 — 1917 годов, пытался по­ казать, что к Февралю “народ” не имел ровно никакого отноше­ ния. И. А. Мосолов, и И. Якоби, и С. Ольденбург — люди правые, оперируют все время терминами “дворцовый заговор”, “военно­ дворцовый заговор”, “измена бродила вокруг престола”. Конечно, и сто тысяч чухонских баб входят все-таки в состав “народа”. Вхо­ дят, конечно, и тысяч двести запасных. В общем, и бабы и гарни­ зон дали бы от одной десятой до одной пятой одного процента все­ го населения страны. Остальных девяносто девять процентов... ни­ кто ни о чем не спрашивал. И если генерал Эверт31 в своей теле­ грамме утверждал, что “на армию в ее настоящем составе рассчи­ тывать при подавлении внутренних беспорядков нельзя”, то совер­ шенно очевидно, что — можно ли, нельзя ли — этого генерал Эверт знать не мог. Ибо подавлять он и не пробовал. Так же оче­ видно, что если бы даже на всю армию действительно рассчиты­ вать было нельзя, то десяток надежных дивизий для этого во вся­ ком случае нашелся бы. Однако “надежные дивизии” в Петроград не пустила Ставка, то есть генерал Алексеев. Февраль 1917 года — это почти классический случай военно­ дворцового переворота, уже потом переросшего в март, июль, ок­ тябрь и т. д. Нет, конечно, никакого сомнения в том, что револю­ ционные элементы в стране существовали — в гораздо меньшем количестве, чем в 1905 году, но существовали. В 1905 — 1906 годах их подавили. В 1917 году их подавлять не захотели. Левые русские деятели несколько лет подряд хвастались своими достижениями Февраля — пока целый ряд документов не доказал с безусловной степенью очевидности, что в февральских событиях они были со­ вершенно ни при чем. Дальнейшие события показали, что хва­ статься вообще нечем. Основную “осевую” роль в этом перевороте играл, конечно, гене­ ралитет — в этом тоже не может быть ни малейшего сомнения. Без самой активной, технически тщательно продуманной помощи генера­ литета ни А. Гучков, ни даже пресловутый Бубликов, само собой разу­ меется, не могли сделать ничего. Вопрос заключается в следующем: из каких же соображений действовал русский генералитет? Самое вероятное объяснение сводится к тому, что политически он был вопиюще неграмотен. И очень может быть, что Гучкову и 248 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век прочим людям Земторга и военно-промышленного комитета, сталкивавшимся с генералитетом, удалось убедить генералов в том, что политика Государя Императора действительно ведет армию к поражению и страну к гибели. Вне всякого сомнения, на этот генералитет производилось очень сильное давление справа. Самое снисходительное объяснение всей техники заго­ вора могло бы заключаться в том, что генералитет был искрен­ не уверен в неспособности Государя Императора, во влиянии Государыни Императрицы (Распутин к этому времени уже от­ пал) и в том, что “вся страна” настроена против Монарха. Это, конечно, не очень лестное объяснение, но все-таки наименее нелестное, какое только можно подыскать. В неразумно правых кругах имеет хождение вариант об "английской интриге” . С. Ольденбург этому варианту не верит: “Весьма мало правдо­ подобно, чтобы Англия, особенно в такой момент, когда исход войны еще не определился, отважилась бы на страшный риск крушения великой союзной державы” . М. Палеолог отрицает “английскую интригу” самым категорическим образом и в каче­ стве иллюстрации ссылается на совершенно такую же легенду о той же английской интриге, связанной с цареубийством 11 мар­ та 1801 года. Легенду об интриге лорда Уитворта М. Палеолог обрывает самым простым образом — указанием на то, что лорд Уитворт покинул Россию почти за год до убийства Императора Павла Первого. В отношении к Февралю такой способ исклю­ чается — сэр Бьюкенен оставался в России очень долгое время и после революции. Однако все указания на “английскую ин­ тригу”, в том числе и указание генерала Спиридовича, носят за­ мечательно расплывчатый характер. С таким же основанием можно ссылаться на йогов, магов, волшебников и прочих людей того же сорта. Ни одного конкретного факта я нигде в литерату­ ре не нашел. И кроме того, если даже и была “интрига” , то “интрига” распоряжалась русскими генералами, как пешками. Теория политической ошибки может дать “смягчающее вину обстоятельство”. Теория “английской интриги” не дает никако­ го. Люди, оперирующие этой последней теорией, просто не да­ ют себе труда додумать дело до конца: английская интрига — это значит английское золото. О цареубийстве 11 марта так и говорилось: английское золото. О перевороте Февраля говорит­ ся туманнее: просто “интрига”. Каким именно способом могла “английская интрига” подчинить себе русский генералитет — об этом, кажется, не говорил никто. Можно как угодно вывора­ чивать наизнанку роковые события Февраля, но если придер- Великая фальшивка Февраля 249 живаться точки зрения “английской интриги” , это будет озна­ чать, что русские генералы продали Русского Царя по приказу иностранного посольства. Это, конечно, будет намного хуже политической неграмотности. ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? Нам, народным монархистам — не “цензовым” и пр., необходи­ мо установить ту правду, что между Царем и народом если и было “средостение”, то не было антагонизма. Что если Государь Импе­ ратор делал для России и для народа все, что только было в чело­ веческих силах, — то и народ отвечал ему своим доверием. Что ре­ волюция — обе революции, и Февральская и Октябрьская — вовсе не вышли из народа, а вышли из “средостения”, которое хотело в одинаковой степени подчинить себе и Монархию и народ. Всякий разумный монархист, как, впрочем, и всякий разумный человек, болеющий о судьбах своей Родины (а в том числе и о сво­ ей собственной судьбе), не имеет права подменять факты деклама­ циями и даже галлюцинациями. Мы обязаны установить тот факт, что российская монархия петербургского периода не была гармо­ ничной монархией, какой была московская. Что дворцовые загово­ ры и перевороты шли, собственно, почти непрерывным “фрон­ том”. Будущая российская монархия не может быть восстановлена не только без “народного голосования”, но и без всенародной по­ мощи. Отстраивая эту монархию в очень тяжелых условиях — лег­ ких условий не видать, — мы обязаны учесть все тяжкие уроки на­ шего прошлого и заранее оградить будущую российскую монархию от ее самого страшного врага — внутреннего. И в его самом страш­ ном варианте — коленопреклоненном. ЕЩЕ О ФЕВРАЛЕ Генерал А. Спиридович, бывший начальник секретной охраны Императора Николая II, сделал в Нью-Йорке доклад на те­ му о Февральской революции. В “Новом русском слове” помещен отчет об этом докладе — привожу его полностью. “ Государя докладчик считает личностью с высокими мораль­ ными качествами. Александра Феодоровна была женщиной не­ уравновешенной и больной. Распутинство было нездоровое яв­ ление, насквозь пропитавшее своим тлетворным духом атмо­ сферу двора. Большинство министров того времени являло со­ бою скопище бездарностей и карьеристов. Революцию вызвали три фактора: заговор Александра Гучкова, английские интриги и германский шпионаж. Александр Коновалов1, Михаил Челноков, князь Львов, Бубли­ ков и А. И. Гучков подготовили дворцовый переворот. Душою за­ говора был А. И. Гучков, шедший в своих планах до цареубийства. Переворот должен был совершиться в ноябре 1916 года. Речь П.Н.Милюкова 1 ноября в Государственной Думе должна была по­ служить сигналом к действиям. Исторические слова Милюкова «глупость или измена*, произнесенные с думской трибуны по ад­ ресу двора, потрясли страну. Пуришкевич кипами развозил в своем поезде эту речь и распространял на фронте. Речь эта послужила также и основным мотивом, побудившим князя Юсупова, в сооб­ ществе с Великим Князем Дмитрием Павловичем и Пуришкевичем, покончить с Распутиным. Заговор не был секретом ни для ца­ ря, ни для его ближайшего окружения. Первого января 1917 года А. И. Хатисов, бывший городской го­ лова Тифлиса, предложил от имени заговорщиков трон Великому Князю Николаю Николаевичу. Великий Князь, тогда главнокоман­ дующий на Кавказе, после нескольких дней раздумья отказался. Английский посол Бьюкенен был осведомлен о планах «москов­ ской пятерки заговорщиков* и всемерно ей содействовал. Немцы планомерно и систематически разлагали тыл. Клевета, ложь и легенда по адресу монарха и государыни слу­ жили действенным орудием в руках врагов династии. Только про­ фессиональные революционеры не принимали участия в этой кам­ пании наветов и интриг. Еще о Феврале 251 Безвластие, растерянность и преступное равнодушие определяют настроение власти. Позорная, хотя и кратковременная, эпопея прото­ поповщины окончательно расшатывает устои насквозь прогнившего режима. Только армия хранит еще верность монарху и былую мощь. 22 февраля государь уезжает в ставку. Его приказ ввести для ох­ раны столицы два конногвардейских полка не может быть выпол­ нен. Генералу Хабалову, командующему Петроградским округом, некуда эти части разместить. 24 февраля начались беспорядки в Кронштадте, во время которых был убит адмирал Вирен2 — по указанию немцев. У убийц находят списки лиц, которых нужно ликвидировать. Во всем незримая рука германского шпионажа. В тот же день объявляют забастовку 170 000 человек, работавших на оборону. Начинается братание солдат с наро­ дом. 25 февраля Государь отдает приказ Хабалову по телеграфу: «По­ велеваю завтра прекратить беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией». Но уже поздно. 27 февраля обнародован указ о роспуске Думы. В здании Таври­ ческого дворца самочинно создается совет рабочих депутатов. Туда же собираются освобожденные из тюрьмы члены рабочей группы Военно-промышленного комитета. Толпа осаждает казармы. Начинает убивать офицеров. Погром­ ная прокламация с призывом к избиению офицеров задержана Ке­ ренским. Он один умел говорить с толпою, в нем единственном искали спасения от хаоса. — Керенский самочинно, — уверяет докладчик, — взял пост министра юстиции. Возьми этот пост Маклаков, не миновать бы погрома... Хабалов окончательно растерялся. Не знал, что и как де­ лать. Вместо того чтобы овладеть Таврическим дворцом, он занял­ ся разработкой диспозиций по охране Зимнего дворца, на который никто не покушался. Военный министр Беляев послал 29 февраля телеграмму генера­ лу Алексееву о сдаче оружия остатками верных правительству войск. Царское правительство во главе с Голициным само себя уничтожило: 28 февраля его уже не было. Революция восторжествовала”. Как видит читатель, общая оценка февральских событий, данная генералом А. И. Спирвдовичем, почти полностью совпадает с моей серией статей о “Фальшивке Февраля”. Само собою разумеется, что генерал А. И. Спиридович располагает более полными данными, чем мог располагать я, и что события 1917 года он знает лучше меня. Не­ сколько неясно, в какой именно степени автор отчета Илья Троцкий смягчил или выпятил отдельные пункты доклада, который длился два 252 Сопоневич И.Л. Наша страна. XX век с половиной часа и, конечно, не мог быть передан стенографически. Редакция газеты снабдила этот доклад оригинальным заголовком: “Опрандание Февраля”. Остается совершенно неясным — в какой именно степени бездарность, трусость, измена, клевета и предательст­ во являются оправданием чего бы то ни было, и в особенности такого события, которое стало началом всероссийской, а теперь, может быть, и мировой катастрофы. По совершенно такой же системе можно “оп­ равдать” и Октябрь: А. Керенский был-де настолько плох, что туда ему и дорога. Но ведь и нам всем — тоже? Таким образом, если не учитывать неизбежных сокращений от­ чета, то генералу А. И. Спиридовичу можно было бы задать сле­ дующие вопросы. 1. “Коновалов, Челноков, Львов, Бубликов и Гучков подго­ товили дворцовый переворот” . — Но так как ни один из этих людей не имел никакого доступа ни ко Двору, ни к Ставке, то спрашивается, кто во Дворце и в Ставке мог реализовать планы и указания заговорщиков? 2. Какими техническими средствами располагало английское по­ сольство для “содействия заговорщикам”? 3. Какую именно роль играло военное командование, без уча­ стия которого никакие планы, ни гучковские, ни английские, не могли быть реализованы ни в коем случае? 4. Почему петербургские генералы — Гурко, Хабалов, Балк и пр. — не выполнили повеления Государя Императора о выводе не­ надежных частей и о присылке гвардии? Ибо совершенно очевид­ но, что “жилищная площадь” тут никакой роли играть не могла. 5. В чем именно выразилась “протопоповщина”? В предупреж­ дении, сделанном А. Протопоповым Государю Императору об уг­ рожающем положении в Петрограде? 6. Какие социальные интересы стояли за спиной тех групп, ко­ торые строили распутинскую легенду и протопоповскую легенду, которые не выполняли Высочайших повелений, которые созна­ тельно сконцентрировали в столице горючий материал для беспо­ рядков и которые как-то совсем уж странно “растерялись”: генерал Беляев проектировал развести мосты на Неве, а генерал Хабалов — защитить Зимний дворец, на который никто не покушался и в ко­ тором никого не было. Русская аудитория была бы очень признательна генералу А. Спиридовичу', если бы он ответил на эти вопросы. А также и на вопрос о петроградском пролетариате — его национальном составе ' Статья эта была напечатана до кончины генерала А. Спиридовича. Еще о Феврале 253 (после мобилизации военных лет) и о мотивах его выступления. Со­ ветская история говорит, что забастовки имели экономический харак­ тер и что только “наша партия” придала им политический оттенок. Все это имеет не только историческое значение. Для Народно-мо­ нархического движения это является одной из основных исходных то­ чек дальнейшей политической работы. Дело заключается в том, что верхи нашего бывшего правящего слоя — и в столыпинские времена, и в 1916 и в 1917 годах, и в правительствах Белых Армий — продемон­ стрировали свое полное и моральное и политическое разложение, пре­ дав Монархию и Россию в 1916 — 1917 годах, офицерство и Россию в 1918 — 1920 годах. Практический вывод из этой блестящей комбина­ ции “глупости и измены”, бездарности и бесчестности может быть только один: собираясь что бы то ни было предлагать будущей Рос­ сии, мы обязаны сказать ей, что ни наследников, ни осколков, ни по­ донков этого слоя, ныне занимающихся “национальной” декламаци­ ей, нельзя пускать ни к власти, ни даже на порог власти. Да почиют они в мире и в эмиграции. Ибо если они будут допущены к власти или к участию во власти, они повторят то же, что они делали в 1916 — 1917 или в 1918 — 1920 годах: поставят интересы и психологию слоя и касты выше национальных интересов России и продадут и нас и Рос­ сию — точно так же, как они делали это раньше. Один из моих друзей пишет мне по поводу моих статей о Феврале: “Стиль и характер твоей критики «проклятого старого режима* за­ частую приводит к мысли о том, что все было настолько безнадежно плохо, что никакой царь, даже Император Николай II, несмотря на тот вполне заслуженный им ореол, которым ты его окружаешь, не мог бы перевести страну на нормальные рельсы. Значит, что же? Нужна была революция? Тут опять «в пылу творчества* ты забываешь указать на те силы, которые могли бы быть опорой для Государя. Или ты этих сил не находишь? И тогда получается, что Царь и был бы бессилен сделать что-либо и после войны”. Две оговорки. Первая: я критикую не “режим”, а “слой” — это две разные вещи. Вторая: в газетных статьях технически невозмож­ но — в особенности в моих условиях — дать законченно-отточен­ ную формулировку. Однако я все-таки постараюсь это сделать. В своих довоенных статьях я писал о том, что Император Нико­ лай II был “слишком большим джентльменом” для данной эпохи и что, по существу, в ту эпоху нужна была система Ивана Грозного. Те “трагические противоречия русской жизни”, в которых, по словам С. Ольденбурга, Император Николай II отдавал себе совер­ 254 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век шенно ясный отчет, могли бы быть разрешены: а) революционным путем — по системе Ивана Грозного; б) эволюционным путем — по системе Императора Николая II. Эволюционный путь не удался не вследствие принципиальных ошибок Государя Императора, а вследст­ вие предательства. Это предательство можно было бы поставить в укор Государю Императору: зачем он не предусмотрел? С совершенно та­ кой же степенью логичности можно было бы поставить в упрек Цеза­ рю: зачем он не предусмотрел Брута с его кинжалом? А вот не преду­ смотрел. Оценивая личность Цезаря, мы едва ли станем снижать эту оценку из-за его “непредусмотрительности”. Не очень средним чело­ веком был и Наполеон — кое-что не предусмотрел и он. Вообще гово­ ря, “непредусмотрительность” становится совершенно ясна после то­ го, как “непредусмотренное” уже свершилось. Мой корреспондент ставит вопрос: а какие же живые силы су­ ществовали в России? Генерал А. Спиридович перечисляет представителей московско­ го купечества, которое, сидя в Москве, готовило дворцовый пере­ ворот в Петрограде и в Ставке. В одной формулировке есть слиш­ ком много недоговоренного: генерал А. Спиридович, правильно указывая на роль купечества, совершенно замалчивает роль аристо­ кратии и генералитета. А именно эти последние, а не Гучковы и Бубликовы, имели доступ к Двору и к Ставке. Но все-таки москов­ ское купечество было именно тем живым слоем, который пошел бы с властью, если бы его не оттолкнули от власти. В. В. Розанов писал о Чернышевском: “Умное правительство нада вало бы ему чинов и орденов, и его «лошадиная сила» пошла бы впрок России, а не во вред ей”. Мысль В. В. Розанова можно прило­ жить и к русскому купечеству вообще. С той только поправкой, что купечество, в особенности московское, помнило еще свою националь­ ную роль в допетровской Москве, что новое купечество почти сплошь выросло из вчерашних крепостных и что именно его деятельностью обуславливался тот хозяйственный рост России, которым в эмиграции хвастаются люди, только тормозившие этот рост. Московское купече­ ство имело право на участие в правительстве. Ему в этом праве отказа­ ли. Оно пошло против правительства. Однако для того, чтобы привлечь к власти московское и другое купечество, было необходимо начисто разгромить аристократию — ибо, как и теперь в эмиграции, она делила людей на “своих” и “не своих”. Уже П. А. Столыпин был “не свой”, не говоря уже о С. Ю. Витте. Даже П. А. Столыпин подвергся не только политиче­ ской, но и личной травле со стороны знати — “мелкопоместной”. Сейчас национально-театральная печать превозносит П. А. Столы­ Еще о Феврале 255 пина и заставляет тень Распутина вести антистолыпинскую поли­ тику — нельзя же сознаться в том, что П. А. Столыпина травили именно “свои”. Нужно валить на Распутина. Московское купечество сделало ту же ошибку, которую делает мой корреспондент: оно смешало два разных понятия — “режим” и “слой”. “Режим” нуждался в некоторых поправках: собор вместо “парламента”, Патриарх вместо Синода, больше самоуправления на местах, больше национальных автономий, но именно к этому, за исключением “Собора”, и вела политика Государя Императора. Однако “слой”, не годился никуда. Его нужно было ломать, его нужно было заменить. Предчувствуя свое дальнейшее оскудение, слой пошел на предательство. В деятельности П. А. Столыпина прошла малозамеченной одна сторона дела: выдвижение новых людей. Правда, это выдвижение было жестко ограничено “неписаной конституцией” — “слой” держался крепко и “не своих” старался не пускать или ставить им все палки в колеса! А. И. Гучков был наилучшим приемником П. А. Столыпина, но без разгона знати он был невозможен. Разгон знати означал ломку всего аппарата власти и Империи — почти по Грозному. Дальше: помимо купечества, была русская интеллигенция, которая во всех областях человеческого творчества дала мировые имена — но которой ходу тоже не было. Самый наглядный пример: было учрежде­ но министерство воздухоплавания, министром был назначен какой-то завалящий генерал Кованько. Не лучше ли было бы назначить И. И. Сикорского? Но это вызвало бы целую революцию. Был учреж­ ден пост “главнонаблюдающего за физическим развитием” — на этот пост назначили генерала Воейкова, который не понимал в этом абсо­ лютно ничего, и не назначили А. Чаплинского, который был и знато­ ком и энтузиастом. Но А. Чаплинский тоже вызвал бы “революцию”. Слой стоял плотной стеной. Мой корреспондент задает вопрос, который мог бы оказаться действительно трагическим: а где же были живые силы страны? Везде где угодно и сколько угодно — везде, кроме администрации и, в особенности, армии. Живые силы были в литературе и живо­ писи, в биологии и химии, в технике и промышленности — были везде, и были в огромном количестве. Кроме того, у нас был тип промышленных деятелей, каких нигде больше в мире не было: дельцы-идеалисты, вот вроде Потанина или Верещагина (брат ху­ дожника). Люди, которые строили и промышленность и хозяйство, совершенно не интересуясь личной выгодой. Почему можно пред­ положить, чтобы русский народ, так одаренный вообще, а в госу­ дарственном отношении в особенности, был бы начисто лишен го- 256 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век сударственно-строительных “живых сил”? Они были. Но ходу им не было. Еще бы десять-двадцать лет без заговоров и революции — эти люди все равно пробились бы к власти, но им ходу не было, да и они сами часто не хотели идти. Когда издателю “Нового време­ ни” А. С. Суворину было неофициально предложено место в Госу­ дарственном совете, он отказался наотрез: принять это предложе­ ние значило бы погубить газету: марка Государственного совета не делала чести никому. Все эти деятели оставались вне власти, вне участия во власти, и над каждым из них сидел какой-то, прости Господи, губернатор, кое-как окончивший кое-какой суррогат университета, вне “хоро­ ших манер” не имевший никакой ни движимости, ни недвижимо­ сти. Получался тупик. Слой можно было ломать. Слой можно было размывать. Эволюция не удалась. Но мы не знаем — а что получилось бы из “революции”? Расчет Государя Императора, рассматриваемый сейчас, почти со­ рок лет спустя, остается все-таки правильным расчетом. Кинжал Брута не мог предусмотреть даже Цезарь. Святой Елены не предусмотрел Наполеон. А были — “великие люди”. Царя-Освободителя почему-то не называют “великим”, хотя абсолютно очевидно, что для России он сделал безмерно больше, чем Наполеон для Франции. У Царя-Осво­ бодителя тоже был свой план. Виновен ли Царь-Освободитель в “не­ предусмотрительности”, когда с Манифестом о созыве Земского Со­ бора в кармане он был убит изуверской бомбой? “Оправдание революции”? Нет, нет никакого оправдания рево­ люции — ни Февралю, ни Октябрю. Нет, никаких положительных сторон ни в Феврале, ни в Октябре нет. С почти математической точностью можно рассчитать, что к тридцати годам “слой” был бы все равно смыт жизнью — это только в анабиозе эмиграции он мо­ жет считать себя еще существующим и даже живым. Нет, револю­ ции нет никакого оправдания. И в ней не было никакого “народа”. Были грязь, предательство, бездарность, бесчестность: немецкие деньги, английские влияния, безмозглое своекорыстие, — кровь и грязь, грязь и кровь... В грязи и крови родился Февраль. В грязи и крови погибнет Октябрь, его законный наследник. А платить придется нам. И не только нам: платит и еще будет платить все человечество. Заплаче­ на уже поистине страшная цена, но заплачена еще не вся. Кровь Царя-Искупителя и на нас и на детях наших. Туг просто ничего не поделаешь. Это уже факт. Еще о Феврале 257 В мире случаются и мятежи, и восстания, и даже революции. Вы­ черкнуть все это из человеческой истории мы не можем. Но мы мо­ жем дать оценку, а иногда найти и оправдание. Революционное дви­ жение Италии первой половины прошлого века было обосновано и морально и политически: оно было направлено на борьбу с чужезем­ ным австрийским владычеством, опиравшимся на самые реакционные слои Италии. Пугачевское восстание было оправдано морально, но было бесперспективно политически. “Великая” французская револю­ ция имеет свое социальное и моральное оправдание: безумная рос­ кошь двора за счет сплошной нищеты народных масс, финансовые катастрофы, моральное разложение династии. Однако в результате ре­ волюции Франция с первого места в мире сошла приблизительно на пятое-шестое. Для того чтобы сделать эту разницу в “местах” нагляд­ ной, попробуем представить себе сегодняшнюю Францию, ведущую наступательную войну даже против сегодняшней России. Представить будет трудно. Таким образом, моральное оправдание еще ничего не говорит политически — Франции лучше было бы идти эволюционным путем. Имела свое оправдание, и моральное и политическое, амери­ канская революция против Англии. Так что даже и “революции быва­ ют разные”. Но русская революция не имела никаких оправданий — ни моральных, ни социальных, ни экономических, ни политических. Ее устроил правящий и ведущий слой — университетская, военная, земельная и финансовая знать, и каждая в своих узкоэгоистических интересах. Исходной позицией революции были не “возмущение на­ родных масс”, не “неудачи войны” — были клевета и предательство. В этом предательстве первая скрипка, конечно, принадлежит именно во­ енным кругам: П. Н. Милюков никому не присягал — военные круги присягали. Но их роль (если “Новое русское слово” передало доклад генерала А. Спиридовича правильно) докладчик постарался зату­ шевать — может быть, тоже потому, что все-таки “свои люди”. Но аб­ солютно ясно, что без военных верхов “дворцовый заговор” пяти мос­ ковских купцов остался бы стопроцентной маниловщиной. Я очень хотел бы, чтобы наши друзья — не столько “читатели”, сколько друзья —дали бы себе ясный отчет в чрезвычайно трудном положении народно-монархической мысли в эмиірации. Будучи монархической, эта мысль обязана смывать всю ту кле­ вету, которою и слева и справа облита русская Монархия: ибо если признать, что распутинская легенда была фактом и “кровавый цар­ ский режим” был тоже фактом, тогда монархизм теряет всякий 258 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век смысл. Тогда он из национально исторической концепции, осно­ ванной на национально-исторической реальности, превращается в мечту: ах, как было бы хорошо, если бы у нас была бы такая мо­ нархия, какая нам нравится, — безотносительно к тому, возможна ли она не в мечте, а в реальности. Будучи народной, эта мысль обязана подняться над предрассуд­ ками, вожделениями, интересами, навыками всякой касты — пра­ вая русская эмиграция на эти касты раздроблена вдребезги, отсюда “восемьдесят организаций”, и ни одной настоящей. Будучи православной, эта мысль не имеет права ни бороться за свое существование путем клеветы, ни даже “молчанием пре­ давать истину”. Это — окаянно-трудный путь. Но если, страха ради иудейска, оставить этот путь, тогда народно-монархическая мысль превраща­ ется в бессмыслицу: тогда мы будем повторять старую, до тошноты приевшуюся декламацию, будем идти старыми путями разгрома и позора, тогда мы не достигнем ничего и не построим ничего. Будет новый провал в какой-то новый Февраль. Большинство правой эмиграции — это военные. Традиция “аполитичности” обернулась полным политическим и историче­ ским незнанием. Знание заменено символами, табу, тотемами, коз­ лами отпущения, Бабой-Ягой и Кощеем-Керенским. Вот говорит же генерал А. Спиридович, что А. Керенский спасал офицеров. То же пишет и С. Мельгунов. То же пишу и я. Генерал А. Спиридо­ вич знает, как было дело, знает Мельгунов, знаю и я. Мне и С. Мельгунову можно не поверить — почему не поверить А. Спиридовичу? Но вот печатаются безграмотные фальшивки, эти фаль­ шивки попадают к грамотным людям — вот вроде Дж. Кеннана, — и получается совсем нехорошо. Положение народно-монархической мысли есть объективно трудное положение. Как, впрочем, и положение всякой мысли в среде, которая мыслить не собирается. Из этой среды наше Движение спасло для России много, очень много людей. Те концепции, которые в данной среде считались само собою разу­ меющимися, не подлежащими никакому сомнению и никакой критике, начинают таять. Принципы народной монархии — во­ лею или неволею — официально признаются людьми, еще так недавно стоявшими на, так сказать, национально-кастовой платформе. Мои статьи о “Фальшивке Февраля” вызвали при­ знание — вынужденное или нет, это другой вопрос — в “ Рос­ Еще о Феврале 259 сии” и даже в “Знамени России”. Очень вероятно, что доклад генерала Спиридовича тоже связан с этой серией. В тяжелых условиях эмиграции мы расчищаем пути для новой России, для тех людей, которые хотят работать для новой России, которые не хотят больше никаких Февралей. И поэтому должны знать, чем именно обуславливался первый. Первый был вызван — по словам Царя-Искупителя — “изменой, трусостью и обманом”. Этой изме­ не и этому предательству нет никакого оправдания. И даже нет никаких смягчающих вину обстоятельств: предательство в самом обнаженном его виде. Но, говоря о предательстве, мы обязаны знать, кто, как и зачем занимался этой профессией, начиная от казни Царевича Алексея Петровича и кончая Февралем. Если мы не будем знать, нас предадут еще, и еще, и еще... ТРАГЕДИЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ОЧЕВИДЦЫ С. Мельгунов выпустил в свет свою очередную работу, посвящен­ ную русской революции: “Судьба Императора Николая II после отре­ чения”, заключительная часть трилогии “Революция и Царь”. В пре­ дисловии к книге автор приносит свои извинения за недостатки этих работ: “Условия 1939 — 1944 годов, когда ненормальный для научной работы эмигрантский быт соприкоснулся с новой и мировой катастро­ фой”. Этот “быт” и эта “катастрофа” не могли, конечно, не наложить своего отпечатка на этот грандиозный не только для эмигрантских ус­ ловий труд. Он излишне насыщен случайными деталями, в нем из­ лишне фигурируют случайные персонажи, и это запутывает общую картину. Впрочем, эти детали и эти персонажи иногда могут служить прекрасной иллюстрацией к февральскому кабаку. Стиль С. Мельгу­ нова запуган и часто невнятен: некоторые фразы приходится перечи­ тывать по три-четыре раза, чтобы понять, что же, собственно, хотел сказать С. Мельгунов. И без достаточной уверенности в том, что на пятый раз данная фраза будет понята правильно: ученые люди склон­ ны к некоторой невразумительности. Это делает книгу громоздкой (420 страниц) и для среднего читателя малодоступной — и по стилю, и по объему, и, вероятно, по цене. И вместе с тем за все наше послере­ волюционное время у нас, может быть, не было ни одной работы по истории русской революции, которая была бы проделана с объектив­ ностью, добросовестностью и скрупулезностью С. Мельгунова. “Скрыть правды в истории почти невозможно”, — пишет он на по­ следней странице своей книги. Я бы сказал несколько иначе: устано­ вить “правду” в истории, может быть, еще возможно. Сейчас, напри­ мер, после исследований профессора Ростовцева, даже и Нерон начи­ нает казаться в несколько ином свете, чем он казался до профессора Ростовцева. После русской революции Петр Первый тоже кажется со­ всем не тем, чем он казался до этой революции. Но некоторые основ­ ные факты можно все-таки установить. Затруднение, конечно, заклю­ чается еще в том, что писать историю русской революции, не имея никакого доступа к России и к ее источникам, — дело вообще очень затруднительное. Затруднения усиливаются еще и тем обстоятельст­ вом, что вместо, так сказать, “полицейского протокола” или полицей­ ских протоколов историку приходится иметь дело с “самооправдываю- Трагедия Царской Семьи 261 щимися мемуаристами” — термин принадлежит С. Мельгунову. “Не­ сколько искусственная и вызывающая поза какой-то моральной непо­ грешимости, которую склонны без большой надобности занимать самооправдывающиеся мемуаристы” (С. 27). “Каждый из современни­ ков видит то, что он хочет” (С. 37). “Самоопраадываюшиеся мемуари­ сты становятся в благородную позу и обличают других” (С. 113). В особенности достается А. Керенскому и “методу, присущему его вос­ поминаниям, — крайнему преувеличению” (С. 89), его “экспансивно­ му воображению” (С. 19) и “некоторой слабости — красивым, показ­ ным и декларативным формулам, не только в воспоминаниях, но и в жизни”. О П. Н. Милюкове автор выражается еще короче и еще кра­ сочнее: П. Н. Милюков всегда “был поистине своим собственным придворным историографом”. В результате чрезвычайно скрупулезного анализа самооправды­ вающихся мемуаров С. Мельгунов устанавливает с документальной степенью точности, что А. Керенский противоречит П. Милюкову. И что, кроме того, Керенский противоречит сам себе и Милюков противоречит тоже сам себе. А оба вместе — в составе мощной ко­ лонны остальных “самооправдывающихся мемуаристов” — всегда давали себе труд подогнать плоды своего “экспансивного вообра­ жения” к самым простым историческим датам, — датам, которые можно было бы установить хотя бы по газетам того времени. На эту тему как-то писал и я — в несколько менее академиче­ ских формулировках: всякий Иванов Седьмой русской революции обвиняет всех предшествующих Ивановых: только он, Седьмой, с самой большой буквы, был прав. Вот если бы все остальные Ива­ новы послушались бы его, Седьмого с самой большой буквы, то все было бы в порядке. Однако вот не послушались... Так что, мо­ жет быть, даже и Иванов Седьмой был все-таки не совсем прав. Во всяком случае, С. Мельгунову удалось проделать очень боль­ шую, так сказать очистительную работу — смыть кое-какие на­ слоения “экспансивного воображения” и “придворных историогра­ фий” и еще раз иллюстрировать мудрость народной прйсловицы: “Врет как очевидец”. В противоречивой куче этих очевидцев разобраться действи­ тельно трудно. И в одном месте (С. 17), по частному поводу пере­ вода Царской Семьи в Тобольск, С. Мельгунов как бы незримо разводит руками: “Впрочем, быть может, нет надобности откапы­ вать логическую последовательность там, где ее не было”. Логическая последовательность, конечно, была. Мне кажется, что сам С. Мельгунов старается уйти от исторической логической последовательности, которая напрашивается сама по себе, и от по­ 262 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век литической логической последовательности, которая тоже напро­ сится сама по себе так же независимо от теоретических построе­ ний сегодняшнего дня, как 1917 год оказался независимым от при­ мерно таких же теоретических соображений предшествующих лет. КАБАК И МЕШАНИНА Ослепительные достижения нашего Февраля я определяю тер­ мином “кабак”. С. Мельгунов, в качестве ученого и объективного историка, применяет иной термин: “мешанина” (С. 31). Если от­ влечься от стилистических нюансов бытового и академического языка, то я, по совести, не вижу, какая, собственно, разница меж­ ду “кабаком” и “мешаниной”. На каждой странице своего труда С. Мельгунов всячески показывает и иллюстрирует тот факт, что деятели Февраля ничего не знали, ничего не предусматривали и ничего не могли, — получалась действительно “мешанина”, в ко­ торой сейчас пытается разобраться историк. Временное правитель­ ство “не только не управляло, но и не отдавало себе отчета” (С. 24). “Коллективный психоз, именуемый революцией” (С. 39). “Момент революции — момент коллективной истерии!” (С. 60). “Власть тре­ петала перед ¿сякими самочинными организациями” (С. 134). Та­ кого рода характеристик и живых иллюстраций к этим характери­ стикам у С. Мельгунова накоплен очень основательный запас. Но и “психоз” и “истерия” имеют все-таки свою “логическую после­ довательность” — для психиатра во всяком случае. Дело, конечно, заключается в том, что социальной психиатрии у нас еще нет. И нам приходится грубо эмпирическим путем устанавливать те слу­ чаи, когда люди сами себе кусают пальцы, бьются головой о стену или производят иные столь же разумные действия, которые для всякого нормально скроенного наблюдателя явно противоречат элементарнейшим интересам действующих лиц. Чего, в самом де­ ле, можно добиться, кусая собственные локти? Или подпиливая сук, на котором сидишь? В “Диктатуре импотентов”, в особенности в 3-м томе, я сделал некоторую — очень робкую — попытку объяснить действия дейст­ вующих в революции и для революции лиц довольно неприличным способом: комплексом сексуальной неполноценности. Действи­ тельно, и дедушки, и бабушки всяких революций — теоретические и практические — дают ни с чем не сообразный процент истери­ чек, импотентов, “миндервертиков” чисто биологического поряд­ ка. Если принять всерьез С. Фрейда и в особенности его ученика и впоследствии конкурента Ф. Адлера, то нужно принять всерьез и Трагедия Царской Семьи 263 их теорию “гиперкомпенсации”, каковая теория на бытовом языке может быть сформулирована так: “Ах, вы меня презираете, как импо­ тента, — так я вам покажу”. Из этого комплекса вырастает мономан. И мономан может быть страшной силой. Такими были Робеспьер и Марат, Гитлер и Ленин — “идейно” женатый на женщине, тип кото­ рой В. В. Розанов определял так: “курсиха”. Дальнейших комментари­ ев В. В. Розанова я не рискую приводить. А за всеми этими миндервертиками подымается мутная волна наследственных обитателей ноч­ лежек, всяких бывших и павших людей, всякое “дно”, всякие лодыри и бобыли. Все это, конечно, психоз. Однако истерика в ее чистом ви­ де лежит все-таки не здесь. Истерика началась в иных кругах. На с. 39 С. Мельгунов пишет: “Беспощаднее всех к служилой ари­ стократии оказался в своем дневнике Великий Князь Николай Ми­ хайлович, суммировавший свои обвинения под общим заголовком: «Как все они предали его*”. На с. 145 — 146 С. Мельгунов приводит выдержки из дневника свитского генерала Дубенского, — дневника, который впоследствии фигурировал в качестве “документа” в Чрезвы­ чайной следственной комиссии. Генерал Дубенский пишет: “Императрицу определенно винят в глубочайшем потворстве не­ мецким интересам... Все думают, что она создает внутри России такие партии, которые определенно помогают Вильгельму воевать с нами... Я лично этому не верю, но все убеждены, что она, зная многое, помо­ гает врагу. Распутин был будто бы определенным наемником немцев... Придешь из своего кабинета в семью, к детям, где сидят люди, при­ надлежащие... к обществу. Мой сын — лицеист, кончил, и у него была масса лицеистов. Второй сын — конногвардеец, у него была масса конногвардейцев, — и тогда все это говорили”. “Все это говорили”. Причем говорили люди, и социально и профессионально обязанные знать реальное положение вещей, лю­ ди, стоявшие у самых истоков власти, слой, занимавший все узло­ вые административные и военные пункты страны. Этот слой не мог не знать правды. Или если уж не знал, то, по крайней мере, нужно было молчать, а не дискредитировать Монархию, не рубить тот сук, на котором этот слой все-таки сидел, не биться головой об стену и не грызть пальцев самому себе. “Очень знаменательно — и это должно быть отмечено — что самое тяжелое обвинение родилось отнюдь не в революционной среде (это же отмечает и генерал А. Спиридович. — И. С.). Совер­ шенно удивительна та наивность, с которой, например, боевой ге­ нерал Селивачев заносит в свой дневник все подобные слухи со стороны приехавших из Петербурга офицеров. Воспроизводить этот вздор не стоит...” 264 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Может быть, только наивность. Но может быть, и не совсем на­ ивность. Председатель Государственной Думы камергер Родзянко был, конечно, откровенно глупым человеком, на чем, кажется, сходятся все очевидцы — мемуаристы тогдашних времен. Однако есть все-таки вещи, которые выходят далеко за пределы нормально допустимой человеческой глупости. 9 марта в “ Вестнике Вре­ менного правительства” было за подписью Родзянки опублико­ вано воззвание к офицерам и матросам, в котором, в частности, было сказано: “ Граждане офицеры и матросы! Помните, что мы окружены страшной опасностью... Уже многие годы Германия использовала свое влияние, все родственные связи своих правителей со свергну­ тым царем, чтобы поддерживать в России самодержавие, которое душило и убивало все внутренние силы страны” (С. 66). От соответствующих интервью, да еще в откровенно желтой прессе, не удержались и некоторые члены Династии (С. 69). Все это было, конечно, истерикой. Однако именно с этим истерическим наследием и вступила в жизнь русская революция, спланированная задолго до Февраля, а в Феврале только вылупившаяся из давно снесенного и оплодотво­ ренного яйца. Это историческое наследие я объясняю чувством об­ реченности слоя, тем же чувством, которое подсказало Льву Тол­ стому его упрощенную философию упрощения. Если какому-то "комплексу” поддался даже человек такого калибра, как Лев Тол­ стой, то что же говорить о “лицеистах” и “конногвардейцах”? Мое объяснение может быть не единственным, и оно может быть не­ удовлетворительным. Однако другого объяснения не видать. По са­ мому существу дела именно это наследие и обусловило собою страшную участь Царской Семьи. ТАКТИКА И МЕШАПИПА Основную причину екатеринбургской трагедии С. Мельгунов видит в том, что Царская Семья не была своевременно вывезена за границу. И основную вину в этом С. Мельгунов возлагает на Вре­ менное правительство. “На разрешение вопроса об отъезде повлияло не столько «бесси­ лие» правительства перед Советами, не только зависимость его от спе­ цифического напора «советской» общественности (термин “совет­ ский” С. Мельгунов употребляет, конечно, в его дооктябрьском значе­ нии. — И. С.), не только хотя бы и закамуфлированный запоздалый «отказ» Англии, но и определенная тактика самого правительства. Вы­ Трагедия Царской Семьи 265 яснить эту тактику и связать ее со всей русской общественностью того времени и является задачей настоящей работы”. Я бы сказал, что эта задача выполнена все-таки не целиком. “Тактика”, если в “мешанине” 1917 года можно уловить какую бы то ни было “тактику”, действительно “выявлена”, но ее корни и ее объяснение остаются в тумане. Впрочем, может быть, С. Мельгунов, как хронограф революции, предпочел не заниматься никаки­ ми социологическими обобщениями, ограничиваясь только, так сказать, документально-фактической стороной дела. Документаль­ но-фактическая сторона дела открывает довольно неожиданные подробности. Для оценки этих подробностей я прежде всего при­ веду точку зрения самого С. Мельгунова. “Арест отрекшегося императора есть акт со стороны правитель­ ства, не находящий себе оправданий. На правительстве, приняв­ шем добровольное отречение от престола и юридически преемст­ венно связавшем себя с ушедшей властью, лежало моральное обя­ зательство перед бывшим Монархом” (С. 29). “Правительство в своем руководящем большинстве мало счита­ лось (или не отдавало себе отчета) с тем моральным обязательст­ вом, которое лежало на нем в отношении отрекшегося Монарха. Иначе оно обратилось бы к общественной чести, к которой так чутка всегда народная масса...” С утверждением С. Мельгунова о “добровольном отречении” от престола можно спорить. Государь Император был заманен в та­ кую ловушку, из которой, кроме отречения, никакого выхода не было, если, конечно, не считать выходом самоубийство. Тот факт, что к его виску не был приставлен реальный пистолет, очень мало меняет положение вещей: отречение было вырвано насильственно. Но совет С. Мельгунова об обращении к народной чести — это уж явная утопия. Обращение к народной чести со стороны Временно­ го правительства означало бы восстановление монархии. А это было бы самоубийством для Временного правительства. Как таким же самоубийством для революции было бы опубликова­ ние материалов Чрезвычайной следственной комиссии. Во всяком случае, 3 марта исполком Совдепа принял резолю­ цию об аресте Царской Семьи. Генерал Л. Корнилов знал о пред­ стоящем аресте уже 5 марта, знал и о своем назначении “охранять” Царскую Семью. Постановление Временного правительства выне­ сено 7 марта, но неизвестно кем. С. Мельгунов “думает” (С. 31), что постановление было вынесено вечером 6 марта — но тогда С. Мельгунова можно спросить, как же генерал Л. Корнилов мог знать об этом постановлении уже пятого марта? С. Мельгунов пи­ 266 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век шет: “Вероятно, и самое решение было принято на одном из перма­ нентных совещаний”. Тоже может быть. Но, во всяком случае, поста­ новление об аресте Царской Семьи было принято так, что теперь даже и С. Мельгунов ничего не может найти. А казалось бы — не совсем историческая иголка. “Неоспоримым фактом является утверждение, что до ареста Нико­ лая II никаких реальных шагов к содействию в отъезде в Англию Цар­ ской Семьи правительство не предприняло и ни в чем не проявило своей инициативы. Оно не противилось этому, не скрывало такой воз­ можности и как-то странно полагало, что этот отъезд совершится сам собой. Для управляющего делами правительства так и осталось неяс­ ным — были ли приняты какие-нибудь меры. «Думается, что нет», — писал он в своих воспоминаниях” (С. 52). Управляющий делами правительства, оказывается, не знал ни­ чего. Ничего, оказывается, не знал и глава правительства князь Львов: “Не знаю, почему из этого ничего не вышло” (С. 53). Было первоначальное полуприглашение, на которое Временное правительство, по-видимому, ничем не реагировало. Впоследствии, много позже, это приглашение было взято назад Ллойд Джорджем. От лица английского правительства Д. Бьюкенен дипломатически протестовал против ареста Царской Семьи. “Всякое оскорбление, нанесенное Императору и Его Семье, уничтожит симпатии, вызванные мартом и ходом революции, и унизит новое правительство в глазах мира”. СТРАХ ПЕРЕД “МАССАМИ” Д. Бьюкенен в этом протесте писал о том, что “по вопросу о безопасности нет повода для какого бы то ни было опасения”. А. Керенский и другие “самооправдывающиеся мемуаристы” рису­ ют страшный облик кровожадной революционной толпы, жаждав­ шей крови Царской Семьи. С. Мельгунов самым тщательным об­ разом просматривает русские газеты того времени и не находит ни­ каких следов каких бы то ни было кровожадных стремлений со стороны “массы”. Никаких. И даже когда исполком Совдепа по­ слал в Царское Село эсера Мстиславского (Масловского) для пере­ вода заключенных в Петропавловскую крепость, то сам начальник экспедиции — тот же Мстиславский рисует настроение вверенного ему отряда так: “Чем ближе было к Царскому Селу, тем все более мрачнели со­ средоточенные лица солдат. Среди жуткой напряженной тишины мы подъехали к вокзалу. Солдаты крестились” (С. 42). Трагедия Царской Семьи 267 Согласитесь сами, что это никак не похоже на кровожадность “массы”, тем более что отряд товарища Мстиславского был, ко­ нечно, подобран специально. Да и в самом Совдепе никаких кро­ вожадных тенденций не было — Совдеп интересовался не судьбою Царской Семьи, а только и исключительно судьбой царских капи­ талов. Когда экспедиция Мстиславского кончилась конфузным провалом: караул просто не допустил его ни к каким действиям — в Совдепе состоялось заседание. Докладчиком был Соколов — ав­ тор пресловутого приказа № 1. Соколов сказал: “У царя есть целый ряд имуществ в пределах России и огром­ ные денежные суммы в английских и других иностранных банках. Надо перед его высылкой решить вопрос об его имуществе. Когда мы выясним, какое имущество может быть признано его личным и какое следует считать произвольно захваченным у государства, только тогда мы выскажемся о дальнейшем” (С. 47). Товарищ Стеклов1 (урожденный Нахамкес) почти месяц спустя по­ сле экспедиции Мстиславского на заседании того же Совдепа возвра­ щается к тому же вопросу и повторяет уже и без того исполненное требование ареста Царской Семьи, мотивируя это требование так: “...Отнюдь не из мотивов личной мести или желания возмездия... но во имя интересов свободы... мы признали необходимым арест всех членов Царской Фамилии... до тех пор, пока не последует отречение от их капиталов, которые нельзя иначе оттуда достать”. Однако, как отмечает С. Мельгунов, даже и эта, так сказать, чисто хозяйственная точка зрения “сочувствия не нашла, абсолют­ но никто ее не поддержал, и она не нашла себе отклика в резолю­ ции” (С. 50). Что же касается капиталов Царской Семьи, которые, “по слухам”, выражались в миллиардных суммах, то, по подсчетам правительственного комиссара Головина, у Царя в России оказа­ лось около миллиона рублей, а у Царицы — около полутора. За границей практически не было вовсе ничего. Из Императорской Фамилии были временно арестованы Великая Княгиня Мария Павловна и Великий Князь Борис Владимирович — их арест Вре­ менному правительству был не нужен. И кроме некоторых собст­ венно чисто хулиганских выходок в великокняжеских дворцах в Крыму, организованных местными активистами, никаких актов насилия над Императорской Семьей не установлено. Таким обра­ зом, отпадает одно из оправданий, которое придумывало для себя Временное правительство: охрана Государя Императора “от мести разъяренных масс”. В крайнем случае, для охраны от такой мести достаточно было бы полицейских мер. Но оставался еще один жу­ пел — это страх перед контрреволюцией. 268 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век СТРАХ ПЕРЕД КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ Этот страх присущ каждой революции, и каждая революция сознательно его подстегивает: Революционный Держите шаг, Неугомонный Не дремлет враг. С. Мельгунов считает, что в те времена контрреволюция была объ­ ективно невозможна: “Общая ненависть к Династии Романовых дела­ ла в то время невозможной монархическую реставрацию” (С. 70). Однако чуть-чуть выше — на с. 65 — С. Мельгунов, на основании материалов, собранных “Отделом Временного правительства для сно­ шений с провинцией”, отмечает, что “городская ненависть к Дина­ стии не захватила мужицкую Русь”. Историк Щеголев2 — левый, гово­ рит: “Будет монархия, русский народ не мыслит правопорядка, не венчанного короной”. Сам С. Мельгунов совсем мельком отмечает: “Единственным действительным средством против всяких по­ пыток монархической реставрации... могло явиться политическое просвещение. Только оно могло бросить луч света в «темноту тру­ дового крестьянства», которая являлась страшным врагом револю­ ции...” (С. 66). Оставим пока “свет” и “тьму на совести С. Мельгунова. Итак, “трудовое крестьянство является страшным врагом революции”. Очень может быть, что в своих исторических прогнозах или пред­ чувствиях оно оказалось несколько дальновиднее С. Мельгунова. Но это было в начале революции. Уже в августе “Русские ведомости” видят кругом “нарастающее безразличие и апатию”. “Реакция, пока еще духовная реакция, — вне всяких сомнений. Все и всем надоело”. Та же газета от 6 авгу­ ста сообщает о трамвайных разговорах в Москве. Какой-то бравый волынец, активный участник новых дней революции, громогласно заявляет: никакого порядка нет, одно безобразие... без Императора не обойтись, надо назад поворачивать. Такие же разговоры на ули­ цах, в поездах, в комнатах: надо назад поворачивать. Но поворачи­ вать было некому. И хотя общественная почва для поворота созре­ вала с каждым днем, никакого организованного центра для этого поворота не было и быть не могло. По всей совокупности обстоя­ тельств 1917 года, организационным центром могли быть только верхи — было военное время, вся молодежь была на военной службе, в руках военного командования были огромные возможно­ Трагедия Царской Семьи 269 сти. Для переворота эти возможности были использованы. Для “поворота” — не были. Вероятно, что точку зрения военных вер­ хов наиболее лапидарно выразил генерал Л. Корнилов в своей ис­ торической фразе: “Ни на какую авантюру с Романовыми я не пойду” (С. 186). Генерал Л. Корнилов ни на какую авантюру с Ро­ мановыми не пошел. Генерал А. Деникин ни на какую авантюру с Романовыми не пошел. Адмирал Колчак ни на какую авантюру с Романовыми не пошел. Сейчас С. Мельгунов издает свои книги в Париже, вместо того чтобы издавать их в Москве. Итак, по свидетельству самого С. Мельгунова, на стороне “по­ ворота” была “темнота трудового крестьянства”, то есть не какихто там злобствующих кулаков и мироедов, а трудового крестьянст­ ва. Какие-то “бравые волынцы” требовали “поворота назад”. Ка­ кие-то саратовские крестьяне послали — уже в Тобольск — жалобу Государю Императору... на Временное правительство. Жаловаться было на что. Лично я, конечно, подвержен всяким слабостям чело­ веческой памяти, хотя на нее пожаловаться не могу. Однако я не принадлежу к числу самооправдывающихся мемуаристов, ибо ни­ какой роли я по тем временам не играл. И также никак не могу отнести себя к числу тех очевидцев, которые видят то, что они хо­ тят видеть: все эти годы я видел именно то, чего я ни видеть, ни слышать не хотел. От С. Мельгунова ускользает еще одна общест­ венная прослойка, которая к лету 1917 года уже совершила свой “поворот”, — студенчество. Должен оговориться: я вращался глав­ ным образом в среде спортивного студенчества. Оно, может быть, не было большинством, но оно было политически активным. Все свои надежды оно возлагало на военные верхи. “ПОВОРОТ” Великая и бескровная уже свершилась. Кровавый деспот нахо­ дился под арестом в Царском Селе. Гнездо шпионажа и измены, алкоголизма и бездарности, распутинщины и протопоповщигіы ли­ квидировано окончательно. Ход истории призвал на авансцену лучших людей страны. И с каждым Божьим днем все идет все хуже и хуже. Это было видно и “Русским ведомостям”, это было видно и “бравым волынцам”, это было видно и всей темноте трудового крестьянства. Говоря короче, это было видно решительно всем, кроме незадачливых обладателей митинговых привилегий 1917 го­ да — иных привилегий эти люди не имели. Словом, ослепительно блестящие ризы великой и бескровной серели и линяли даже не с каждым днем, а почти с каждым часом. 270 Солоневич И.Л. Наша орана. XX век С каждым днем все шло все хуже и все хуже: фронт, продовольст­ вие, отопление, порядок. Гибла всякая уверенность в каком бы то ни было завтрашнем дне. Что будет завтра? Параллельно с этим процессом линяния линяло и еще одно: вся сумма легенд о всей сумме попреков и преступлений и старого ре­ жима вообще и Царской Семьи в частности. Года полтора-два вся Россия, или вся городская Россия, жила этими слухами. И вот пришла революция. “Массовый спрос” на все, что как бы то ни было относилось к этим слухам, был колоссален: теперь-то мы на­ конец узнаем все. С. Мельгунов мельком рассказывает историю о газете, опубликовавшей шифрованные телеграммы Государыни Императрицы германскому Генеральному штабу. Он не называет имен. Об этой истории я тоже мельком писал: автор этих “теле­ грамм” — мой товарищ детства Евгений Братин, и они были опуб­ ликованы в газете “Республика” (до революции — просто “Бирже­ вой курьер”), издававшийся господином Гутманом. Я был времен­ но приглашен в эту газету еще в период ее “биржевого” прошлого для постановки в ней информационного отдела. “Республику” я бросил, но, узнав о сенсационных намерениях Е. Братина, все-таки поехал к Гутману и честно предупредил: кроме скандала, не выйдет ничего. Гутман сослался на тираж. Скандал получился если и не грандиозный в те времена сплошной “мешанины”, то, во вся­ ком случае, очень большой. Однако сравнительно мелкая газета в одну неделю подняла тираж почти до миллиона. Вся страна ждала “разоблачений”. И вот ничего. Абсолютно ничего. В каждую русскую здравомыслящую голову, не охваченную ми­ тинговым алкоголизмом, начали в конце концов закрадываться весьма серьезные сомнения. До Февраля вся сумма обвинений, которые стоустая молва предъявляла Царской Семье, казалась находящейся вне какого бы то ни было сомнения. В самом деле: П. Милюков с высоты Госу­ дарственной Думы говорит о “глупости или измене”. “Лицеисты” и “конногвардейцы” повторяют то же самое где попало. Офицеры привозят из Петрограда эти же данные на фронт. На тот же фронт В. Пуришкевич возит нелегально отпечатанные речи П. Милюко­ ва. М. Палеолог с искренним изумлением выслушивает аристокра­ тические планы устранения Царя. Представители самой высшей знати убивают Распутина. Церковь молчит, ничего не подтвержда­ ет, но ничего и не опровергает. Наконец, в роковые дни “отрече­ ния” против Царя выступает и генералитет. После отречения ка­ мергер и председатель Государственной Думы Родзянко обращает­ Трагедия Царской Семьи 271 ся — формально к морским офицерам и матросам, а по существу ко всей России, с подтверждением самых тяжких обвинений. Как ни чудовищны были все эти обвинения, как мог человек с улицы им не поверить? “Все говорят”. И не только говорят, но и действуют, рискуя, может быть, и своей головой, как кое-чем рис­ ковали убийцы Распутина. Действует и командование армии, предъявившее Царю ультиматум об отречении. Да, пусть все это, может быть, и преувеличено, сгущено, искажено, как хотите, но если только четверть всего этого правда — тогда как? Читающая публика России с истерической жадностью ждала первой “свободной” печати и первых разоблачений. Дни шли, шли месяцы. Ничего. Абсолютно ничего. И с каждым днем и с каждым месяцем линяют ризы бескровной революции и смывается грязь с “кровавого режима”. А вдруг Государь Император вовсе не “па­ лач”, а только жертва? С каждым месяцем все ниже и ниже падал авторитет Временного правительства. И параллельно с этим вырастал престиж свергнутою и обреченного на молчание Царя. С. Мельгунов констатирует (С. 60): “Исключительно достойное поведение Царя в течение всего пе­ риода революции заставляет проникнуться к нему и уважением и симпатией”. Приблизительно то же заявил и А. Керенский: “Керенский делал доклад правительству и совершенно опреде­ ленно, с полным убеждением утверждал, что невинность Царя и Царицы в этом отношении (государственная измена. — И. С.) ус­ тановлена” (С. 159). Но это было для правительства. Масса не знала ничего, но уже чувствовала: что-то тут совсем неладно. Что, собственно, было де­ лать и Временному правительству и тем очень разношерстным кру­ гам, на которые оно кое-как опиралось? ПЕРВАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙКА Чрезвычайная следственная комиссия по делам о преступле­ ниях старого режима — "Муравьевская комиссия”, как ее назы­ вают, в отличие от ее доблестной преемницы — просто Чека, работала, по утверждению С. Мельгунова, “с фанатизмом”. Она обратилась ко “всем, всем, всем” с просьбой о всех материалах всех этих преступлений. Она арестовала царских сановников, она допрашивала кого попало. И в результате всей этой столь плодотворной деятельности получился круглый нуль. Как мож­ но было, имея на руках вот только нуль, обращаться к “народ­ 272 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ной чести”? Чем можно было оправдать революцию? Чем мож­ но было подтвердить всю эту клевету, во имя которой готови­ лась и была подготовлена эта революция? По существу, остава­ лось бы одно: стать всенародно на колени и возопить гласом великим: “ Простите, православные, нечистый попутал!” Нужно иметь в виду, что все это разыгрывалось накануне выбо­ ров в Учредительное собрание, которое, как тогда предполагалось, даст свой окончательный ответ на вопрос о “форме правления”. Эти выборы, конечно, проходили все в той же атмосфере “психо­ за” или “истерии”, “мешанины” и просто кабака. Но летом 1917 года их исход был очень неясен. А что, если вместо ответа на вопрос о форме правления всенародное собрание потянет к ответу виновников разрушения старой “формы”? Что, если оно восстано­ вит Монархию? Можно утверждать с почти полной уверенностью, что в этом случае Монархия не занялась бы местью фабрикантам Февраля, но с такой же уверенностью можно сказать, что их поли­ тические, а отчасти и личные карьеры были бы кончены навсегда. Было бы покончено и с “долой самодержавие”. Вот именно поэтому, а вовсе не в результате “неразберихи” Временное правительство не могло ни оставить Государя Импе­ ратора на свободе, ни организовать его отъезд в Англию. Уже его первый же после отречения приказ был задержан телеграм­ мой А. Гучкова и дальше штабов, да и то не всех, не пошел. Вот этот приказ: “В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые Мною войска. После отречения Моего за Себя и за Сына Моего от Пре­ стола Российского власть перешла к Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия... Эта небывалая вой­ на должна быть доведена до полной победы. Кто думает теперь о мире, кто желает его — тот изменник Отечеству. Исполняйте же ваш долг, защищайте нашу великую Родину, повинуйтесь Времен­ ному правительству, слушайте ваших начальников, помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу. Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к на­ шей великой Родине. Да благословит вас Господь Бог!” Такого приказа А. Гучков не мог пустить на фронт. Разница между милюковской “глупостью или изменой” и словами Царя, полными величавого благородства, была слишком уж разитель­ на. Нельзя было дать Царю свободу самозащиты, ибо это было бы самоубийством для всех деятелей и делателей революции, от самых правых до самых левых. Нельзя было организовать ника­ Трагедия Царской Семьи 273 кого “Нюрнбергского процесса”, ибо он сразу же выяснил бы, что весь фундамент великой и бескровной построен на сплош­ ной лжи, а здание, построенное на этом фундаменте, расползет­ ся по своим скрепам уже через два-три месяца после Февраля. Выяснилось бы, что усилиями Государя армия была наконец вооружена до зубов и что она стояла на самом пороге победы. Что оставалось деятелям революции? Как-то довраться, и дов­ раться до “Учредиловки”, насадить туда своих людей и потом помаленьку предать забвению весь позор незаконнорожденной революции: “Победителей не судят”. Но Февралю победа суждена не была. Судьба Царской Семьи — это, может быть, единственное, в чем Временное правительство действовало вполне логично. От­ сюда и Тобольск — подальше от центра, в глушь, по мере воз­ можности в забвение, хотя бы и временное. Тень Царской Се­ мьи стояла не только “угрызением совести”, она стояла личной угрозой для всех участников Февраля — эту угрозу нужно было убрать подальше. В этом были единодушны все — от генералов до социалистов. И именно поэтому никто не позаботился о Царской Семье — ни в Царском, ни в Тобольске. В Тобольске был момент, когда там не было никакой власти: Временное правительство было свергнуто, а Советы туда еще не добрались. Но и в этот момент никто на помощь не пришел. Все это — уже прошлое, из которого можно было бы извлечь кое-какой урок. Как историк, С. Мельгунов дает исключительно объективную картину, в которой не хватает только одного — логи­ ческой связи “мешанины” с чувством элементарнейшего самосо­ хранения. Боюсь, что как политический деятель, стоящий на фев­ ральских позициях, Мельгунов несколько менее объективен и склонен предполагать, что Февраль в его втором издании, будет значительно лучше своего оригинала 1917 года. Думаю, что такие предположения не основаны ни на чем. Февраль в его первом издании устранил Монархию, ее админи­ стративный и полицейский аппарат, но все остальное оставил в полной сохранности: и парламент, и земства, и муниципалитет, и Церковь, и армию с ее организацией и даже суды с их прокурора­ ми. К деятелям и делателям первой Февральской революции мож­ но относиться по-разному — однако обвинения их в бездарности, слабоволии и прочих таких ірехах явно преувеличены. Можно иро­ низировать над хронической самовлюбленностью П. Милюкова, но 274 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век назвать его бездарностью было бы трудно. А. Гучков был исключи­ тельно волевым человеком. А. Керенский был искренним демокра­ том, хотя в правители он не годился никак. За левыми стояли лю­ ди калибра Г. Плеханова. Нет, собранием бездарностей Временное правительство назвать все-таки нельзя. И все-таки — в два-три ме­ сяца вместо “власти” получилась “мешанина”. Какая “мешанина” получится у нас при втором издании Февраля? И если уже летом 1917 года, месяца через три после Февраля, “бравые волынцы” вслух требовали “поворота”, а “темное трудовое крестьянство” бы­ ло злейшим врагом революции, то что будет в 195? году и через треть века мешанины — на этот раз беспримерно кровавой и бес­ предельно бесчеловечной? Как историк, С. Мельгунов правильно рисует Февральский ка­ бак. Как политик — он готовит его повторение, в безмерно худших условиях и в несравненно худшем издании. ДИКТАТУРА ИМПОТЕНТОВ СОЦИАЛИЗМ ЕГО ПРОРОЧЕСТВА И ИХ Р Е А Л И З А Ц И Я ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР История Европы за последние полвека, вероятно, станет материалом для новой легенды об изгнании из рая. До 1914 года был рай. Фиговые листки не распределялись по карточкам и не служили для прикрытия срамных мыслей. Земля растила масло, пиво, икру, колбасу и прочее. Золото было не нужно: люди предпочитали полу­ чать кредитки, они легче и портативнее. Социалистические тигры раз­ гуливали по капиталистическим детским садам — и только облизыва­ лись. Эллины и иудеи могли ехать в Эллады или Палестины без виз и без Иргун Цво Леуми. Никто никого не резал. Европейские Адамы и Евы своим раем были не очень довольны. Впрочем, библейских не вполне устраивал и библейский рай: чего-то им все-таки не хватало. Автор первого — еще не печатного — гносео­ логического труда предложил библейскому Адаму и Еве свою первую теорию познания добра и зла. Он, вероятно, оперировал “самыми со­ временными научными данными”. Адам и Ева эту теорию съели. Уро­ вень их понимательных способностей от этого не поднялся никак. Но все остальные уровни упали катастрофически. Что-то в этом роде произошло и с Европой. В раю, который здесь свирепствовал до 1914 года, чего-то все-таки не хватало. Из философских джунглей вынырнули новые авторы и предложили новые теории добра и зла — но в условиях цивилизации и индуст­ риализации — в десятках и сотнях вариантов. Европа съела их всех. От Фурье и Сен-Симона до Маркса и Сартра. Уровень пони­ мательных способностей Европы от этого не поднялся никак. Но все остальные уровни упали катастрофически. Современное состояние США, по-видимому, очень близко к райскому блаженству Европы до 1914 года. Есть масло и колбаса, нет погони за золотом — люди верят даже и кредиткам, — никто никого не режет, и чего-то все-таки не хватает. США в 1947 году, 276 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век как и Европа до 1914 года, живут не философией, а традицией. Традиции в Европе и в США совпадают не вполне. Европейские можно было бы объединить в формуле “За Веру, Царя и Отечест­ во”, в немецком варианте: fuer Gott, Koening und Vaterland. В США была “декларация независимости”, по своему тону не очень отличавшаяся от веры, царя и отечества. На выборах в Конгресс, состоявшихся 5 ноября 1946 года, из 91 миллиона американцев, обладавших правом голоса, голосовало только 34 миллиона. Ос­ тальные 57 миллионов, по-видимому, считали, что труд на прогул­ ку к урне и обратно никак не оплатится результатами политиче­ ской активности этих 57 миллионов. В Европе такой процент аб­ сентизма невозможен вовсе. Мы могли бы сказать, что Европа политически культурнее США Но мы могли бы сказать и другое: из всей суммы политической куль­ турности Европы не вышло ровным счетом ничего путного: войны внешние и гражданские, голод промышленный и хлебный, ненависть всех против всех, разрушенные и умирающие города и, где-то, под по­ верхностью “сожженной земли”, назревание новых войн, новой резни и нового голода. Мы можем сказать, что мистер Натти Бумпо — “Ко­ жаный Чулок” Фенимора Купера — и его законный наследник мистер Сэм Додсвортс — в Америке, были менее культурны, чем Карл Маркс и его законные наследники в Европе. Но мы можем также утверждать, что мировоззрение Бумпо и Додсвортса при всей его “примитивности” было мировоззрением разумным и человеческим. И что философия Маркса и его наследников есть философия бес­ смысленная и бесчеловечная. Сейчас, мне кажется, это достаточно очевидно. Остаются менее очевидными целые ряды фактов, кото­ рые привели к победе социализма, голода, философии и ненависти — к войне всех против всех. Первая теория познания добра и зла к нам в оригинале не дошла. Мы можем предположить, что она казалась достаточно убедительной. Мы обязаны предположить, что она была обдуманно недобросовест­ ной. Трудно, конечно, язык тысячелетней религиозной символики пе­ ревести на жаргон политической практики сегодняшнего дня. Лет почти двести тому назад ряд людей, морально и умственно неполно­ ценных, предложили нам “диктатуру разума” — ratio. Теория этой диктатуры казалась убедительной. На практике рационалистическая философия привела к резне и голоду. Единственное истинно рацио­ нальное применение теории рационализма было достигнуто в рацио­ нировании хлеба и картошки. Так ratio привел к рационам. Люди, которые нам всем предложили эти философии, морально стояли на грани уголовщины и умственно — на пороге сумасшед- Диктатура импотентов 277 шего дома, иногда, впрочем, переступая и грани и пороги. Их многочисленное потомство, унаследовавшее их моральные и умст­ венные качества, заполнило собой кафедры философии и истории, захватило печать и радио, оглушило среднего человека Европы пропагандой ненависти и злобы. Эта пропаганда казалась убеди­ тельной. На практике она привела к потере рая девяностых годов, рая, достигнутого вековыми усилиями европейских Бумпо и Додсвортсов — “средних людей”, не питавшихся опиумом науки. Усилия философских поколений были, прежде всего, усилиями недобросовестными. Под этикеткой науки нам преподнесли то, что никогда никакой наукой не было и не является наукой сейчас. На­ ше сознание наполнили рядом иллюзорных представлений. Наши души наполнили ненавистью. Наш язык засорили словами, кото­ рые в большинстве случаев не означают ровным счетом ничего, и во всех случаях означают по меньшей мере фальсификацию. Вся­ кий философ норовит свергнуть всякую религию и всякую тради­ цию и на их место поставить свою Истину с большой буквы, един­ ственную научно обоснованную, единственную, во имя которой можно и должно ненавидеть и резать ближних своих. Вот ненави­ стью и резней мы и занимаемся десятки лет подряд. Европа лежит в грязи, в крови, в гное и в ненависти. Автор этой книги лично, на собственной шкуре, пережил семнадцать лет совет­ ской социалистической философии, семь лет германской националсоциалистической философии и в промежутках имел возможность на­ слаждаться некоторыми иными вариантами некоторых иных теорий познания добра и зла. Эта книга прежде всею старается бытъ добросо­ вестной. Ее содержание и ее выводы диктуются личным и кровавым опытом по меньшей мере двух революций, двух войн, десятков аре­ стов, тремя смертными приговорами и тридцатью годами голода и страха. Никакой собственной философии эта книга не имеет. Но не­ которые основные термины для нее необходимо установить. Десятки тысяч ученейших мужей века сего разрабатывают рос­ сыпи гуманитарных наук, переполненные фальшивыми кредитка­ ми. Сотни тысяч томов наполнены словами, терминами и поня­ тиями, которые или обозначают разные вещи, или не обозначают ничего. Эта книга говорит о социализме, философии, революции и всяких других вещах в том же роде. И я хочу прежде всего точно установить: о чем же, собственно, идет речь? Ибо если мы будем говорить о демократии и забудем сказать о том, что если мы назо­ вем демократией и строй США и строй СССР, то слово “демокра­ тия” совершенно очевидно не будет обозначать решительно ниче­ го. Почти так же решительно ничего сейчас не обозначает слово 278 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век “социализм”. Термин “фашизм” превратился в ругательство. До­ вольно очевидно, что “революция в технике” и революция в Рос­ сии обозначают совершенно разные вещи. Поэтому я начну с определения: что именно я понимаю под те­ ми терминами, которые будут применяться в этой книге. Мистер Блюм, товарищ Сталин или доктор Шумахер1 могут эти же терми­ ны понимать иначе — это их дело. Так, совершенно ясно, что под термином “социализм” эти люди понимают во всяком случае не совсем совпадающие вещи. Под термином социализм я понимаю учение, требующее обобществления средств производства и как принцип и как цель, — то есть учение, принципиально требующее ликвидации частной собственности. С этой точки зрения “нацио­ нализация железных дорог” может быть социализмом, но может и не быть социализмом. Она может диктоваться “принципом”, и то­ гда она будет только одним из звеньев в общей цепи раскулачива­ ния человечества, и она может диктоваться техническими сообра­ жениями — и тогда она будет просто одним из вариантов хозяйст­ венной техники. Мистер Эттли, а с ним и английская рабочая партия, будут, ве­ роятно, искренне огорчены, если им докажут, что их хозяйствен­ ная политика — в иных условиях и с иными предпосылками — просто-напросто повторяет хозяйственную политику Николая II. Мистер Эттли “национализировал” английский банк — русский всегда был государственным. Мистер Эттли “национализирует” железные дороги — Николай II “скупал их в казну”. Переход анг­ лийских железных дорог в руки английского правительства счита­ ется “революцией”. Переход русских железных дорог в руки рус­ ского правительства считался “реакцией”. Мистер Эттли хлопочет о бесплатном среднем и высшем образовании — при Николае II в России оно было почти полностью бесплатно, а перед самой рево­ люцией был проведен закон о полной бесплатности — причем не только обучения, но и жизни во время обучения. Мой отец окон­ чил учительскую семинарию за казенный счет — в этот казенный счет входило все содержание и питание учащихся. Я за все время своего обучения в университете внес только плату за вступление — 25 рублей. Мистер Эттли привержен к УНО. Напомню, что первый проект Лиги Наций был предложен Александром I. Царская Рос­ сия имела крупную казенную — то есть национализированную — промышленность, десятилетиями поддерживала такие социалисти­ ческие формы сельского хозяйства, как общинное землевладение, имела наиболее крупное в мире кооперативное движение — и рус­ ская “общественность” так же жаловалась на “царскую бюрокра- Диктатура импотентов 279 тию”, как английская — на лейбористскую. Еврейские революци­ онные организации — Бунд в царской России и Иргун Цво Леуми в социалистическом commonwealth — равно охотились за русскими и за английскими городовыми и подсылали бомбы и русским реак­ ционным министрам и английским революционным. Следовательно, если мистер Эттли есть социалист, то следует назвать социалистом и Николая II. Николая II никто до сих пор социалистом не называл. Или если Николай II есть “реакция”, то “реакция” есть и мистер Эттли. Предшественники мистера Эттли называли реакционером Николая II, а наследник Николая II по самодержавному трону в России называет реакцией мистера Эттли. Крайняя буржуазная партия Франции называет себя радикально­ социалистической партией, а правительство Абдул Гамида до сих пор никто не догадался назвать истинно социалистическим прави­ тельством: ему в Турции принадлежала вся земля и все, что на этой земле находилось. Может быть, именно поэтому между реак­ ционным правительством Абдул Гамида и революционным прави­ тельством Иосифа Сталина просвещенный наблюдатель мог бы ус­ тановить полное тождество политических методов. Социализм есть принципиальное отрицание частной собствен­ ности (и семьи — тоже). Почта не есть социализм, и Всемирный почтовой союз не является никаким “интернационалом”. Мистер Эттли, национализировав телеграфные провода, никакого социали­ стического подвига не совершил. Я не знаю, что он будет совер­ шать дальше, но на данный момент правительство рабочей партии проводит программу хозяйственно-технических реформ, которые могут стать социализмом, но которые сейчас еще не социализм. Пока это есть вопрос техники. Социализм есть вопрос принципа. Революцией я называю вооруженный социальный переворот (“за­ хват власти”), имеющий в виду установление нового общественного строя и нового правящего слоя. Именно такими были: французская революция 1789 года, русская 1917-го, и почти такой же была герман­ ская 1933 года. Следовательно, ни Оливер Кромвель, ни Георг Ва­ шингтон не были никакими революционерами. В Англии и в Америке были народные восстания, направленные на защиту старых прав, ста­ рых вольностей и старых традиций. Революция рождается из филосо­ фии: французская — из Руссо, русская — из Маркса, германская — из Гегеля. Восстание рождают народные массы. Так называемые рефор­ мы Петра Великого в России были революцией, а пугачевское движе­ ние, направленное против этих реформ, было восстанием. Основную и решающую часть реформы Петра составляло введение в России кре­ постного права и рождение нового правящего слоя — рабовладельче­ 280 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ского. Основные лозунги Пугачева сводились к борьбе с рабством во имя “старых вольностей”. Партией я называю группу людей, объединенную общностью политической программы. Таким образом: ни виги, ни тоори, ни республиканцы, ни демократы, ни консерваторы, ни либералы — в этом смысле слова партиями не являются, ибо никаких политиче­ ских программ у них не было и нет. Рабочая партия мистера Эттли является первой попыткой европеизации Англии — превращения отсталого британского острова в политически передовую европей­ скую страну. До мистера Эттли англосаксонские страны имели беспартийную, или внепартийную, систему управления страной. Ни одна “партия” не имела ни своей программы, ни тем более своей философии. В Европе каждая партия содержит своих фило­ софов и каждый философ норовит пристроиться на содержание в своей партии. В Германском парламенте веймарской эпохи заседа­ ло около четырех десятков партий, вооруженных четырьмя десят­ ками программ и четырьмя десятками философий. Это как-то не могло не кончиться. Кончилось это довольно плохо. Реакцией я называю такое историческое движение, которое приводит к уменьшению хлеба, свободы и безопасности. В России реформы Петра Великого были так же реакционны, как революция Ленина: хлеба, свободы и безопасности стало меньше, чем было и до реформы и до революции. Реакция не может быть противопос­ тавлена революции — ибо революция всегда реакционна, а реак­ ция всегда действует революционными методами: вооруженным насилием меньшинства нации над ее большинством. Гитлер был реакцией по сравнению с Вильгельмом II, и Россия Петербургской Империи была реакцией по сравнению с Московским Царством. Философией я называю то, чему обучают на философских фа­ культетах: школьную, “цензовую” философию, попытки построить “цельное” и “стройное” мировоззрение, заменить им религию и традицию и дать нам, профанам и плебсу, новые рецепты устрой­ ства нашей профанской и плебейской жизни. Поэтому — филосо­ фией будут и Платон, и Конт, и Кант, и Гегель. И философами не будут ни Эмерсон, ни Достоевский. “Мышление” превращается в “философию” только тогда, когда оно переходит порог человече­ ской скромности и общечеловеческого смысла. Гегель является, конечно, величайшим философом мировой истории: он утверждал, что он, и только он один, обладает “абсолютным знанием”. В ре­ зультате этого “абсолютного знания” сейчас в Берлине вместо ге­ гелевского истинно прусского “мирового духа” сидит славянский и советский маршал Соколовский2. Другие философии носили не- Диктатура импотентов 281 сколько менее абсолютный характер и привели к несколько менее очевидным последствиям. Но — тоже привели. О тем, что сейчас в Европе можно назвать демократией, я не имею никакого представления. Если маршал Тито и генерал де Голль, римский Папа и товарищ Сталин, мистер Эттли и камрад Торрез - все называют себя демократами, то ясно, что термин “де­ мократия” не обозначает в Европе никакого определенного явле­ ния. “Демократический строй” имеет определенный смысл в США и в Англии, теряет его во Франции и не имеет никакого смысла в остальной Европе. Стоя на точке зрения фактического опыта, можно было бы сказать, что демократический государственный строй легко и автоматически удается во всех англосаксонских стра­ нах. И так же автоматически и легко проваливается во всех осталь­ ных. В России, Германии, Австрии, Польше, Италии, Испании, Португалии — из демократического строя не вышло ничего. Фран­ ция шатается между терроризмом, бонапартизмом, де-голлизмом, коммунизмом, переживает четвертую республику и неизвестно, сможет ли еще пережить и пятую. Демократизм формы правления не имеет почти никакого отношения к демократизму жизни: юри­ дически самодержавная Россия имела, по-видимому, самый демо­ кратический в мире уклад жизни (прошу принять во внимание, что автор этой книги является крестьянином по рождению). Англий­ ский демократический строй до мистера Эттли, имел, по-видимо­ му, наиболее аристократический жизненный уклад. Китай богды­ ханов знал только один социальный ценз — образовательный. Можно верить в то, что после неудачных опытов десяти веков Ев­ ропа сумеет стать демократической в течение десяти лет. Но этому можно и не верить. В чисто терминологическом отношении социа­ лизм имеет все-таки некоторые преимущества перед демократией: со­ циалистами называют себя все-таки не все. Демократами — решитель­ но все. Абиссинский негус, вероятно, тоже принадлежит к числу са­ мых демократических правителей мира... Можно верить и в демокра­ тизм Хайле Селассие3. Но — можно и не верить. В книге, претендую­ щей на некоторую степень, по меньшей мере, добросовестности, без термина “демократия” лучше вовсе обойтись. Ибо если и применять, то с прилагательным: американская, сталинская, абиссинская и про­ чая — тогда, по крайней мере, будет ясно, о чем именно идет речь. Приблизительно те же соображения можно высказать и по по­ воду монархии. Существуют или существовали монархии наследственные и мо­ нархии выборные. Существует абиссинская монархия, и существу­ ет английская. Английская монархия является социалистической, 282 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век американская республика является капиталистической. Довольно очевидно, что термин “монархия”, взятый без прилагательного, го­ ворит еще меньше, чем термин “демократия”. Эта книга касается генезиса социализма, и в частности генезиса русского социализма. Монархия в России существовала почти одиннадцать веков. С ней боролся и ее ликвидировал социализм. И вместо ограниченной, наследственной и капиталистической мо­ нархии установил неограниченную, ненаследственную и социали­ стическую — не столько английского, сколько абиссинского типа. Приблизительно тем же кончились социальные революции во Франции, в Италии и в Германии. Испания нашла франкистский компромисс: вождь во главе монархии. В этой книге я говорю почти исключительно о русской Мо­ нархии. Но и она в течение одиннадцати веков не была неиз­ менной, а в течение последних двухсот лет пережила ряд рево­ люционных мутаций. Если в XIX веке престол замещался по праву наследования, то в восемнадцатом нормальным путем восшествия на престол было убийство своего предшественника. Монархия XIX века была незаконченной попыткой восстано­ вить традицию Московской Руси, монархия восемнадцатого — была попыткой установить в России польский государственный строй: диктатуру дворянства под вывеской монархов, которые назначались правящим слоем и им же отправлялись на тот свет. Монархия старой Москвы была демократической, в стиле Анг­ лии начала XX века, монархия XVIII века была рабовладельче­ ской вывеской над диктатурой класса. Монархия XIX века была технически чисто бюрократической, а социально опиралась на народные низы — или, по крайней мере, старалась опираться. С той точки зрения, которую я постараюсь доказать ниже, Петр I и Екатерина II, которых история назвала Великими, были вы­ весками над эпохами самой страшной реакции в русской исто­ рии. А Николай I, "Палкин” по толстовскому эпитету, был про­ сто работником русской эволюции — как и его наследники. В силу всего этого русская общественная мысль выработала две точки зрения на русскую Монархию — несовместимые никак. Од­ ну сформулировал Вл. Соловьев: “диктатура совести” — это при­ близительно соответствует тысячелетней религиозно-социальной традиции русского крестьянства. Другая была средактирована в формулу “кровавый царизм”. Таким образом, термин русской Монархии можно понимать как диктатуру совести, как диктатуру реакции или как вывеску дикта­ туры совести над диктатурой реакции. В своей истории русская Диктатура импотентов 283 Монархия прошла все три этапа. И была раздавлена в борьбе меж­ ду реакцией и революцией. Я боюсь, что эта книга потребует от читателя некоего самоотвер­ жения. Придется отвергнуть целый ряд привычных мыслей, мыслей, ставших частью читательского “я”. Очень трудно, например, признать, что Николай II был по существу таким же эволюционистом и про­ грессистом, каким является мистер Эттли. Или — что я попытаюсь доказать впоследствии, но доказать документально — что средний бан­ кир или сапожник оказывается умнее среднего философа или геополи­ тика. Что современные казни египетские не свалились на Европу с не­ ба, как манна небесная философских обещаний, на лету превращав­ шаяся в пепел и кирпичи. И основное — что все то, что мы называем гуманитарными науками, есть просто шарлатанство и вздор. Или, в самом лучшем случае, выбор разрозненных и произвольно подобран­ ных фактов, не связанных никакими нитями причинности. В конце прошлого и в начале нынешнего столетия в Европе вырос “научный социализм” — то есть выросла наука о несуществующем в природе явлении. Наука о вымысле. Или, по крайней мере, о мечте. Если Гегель и Маркс есть наука, то Сталин и Гитлер есть ис­ тинно научные работники человечества, а НКВД и гестапо есть ис­ тинно научные учреждения. И Сталин, и Гитлер не выдумали ре­ шительно ничего нового. То, что сейчас практически реализует Сталин, было подготовлено, сформулировано и даже вычерчено целыми поколениями русских философов. То, что попытался прак­ тически реализовать Гитлер, было подготовлено, сформулировано и вычерчено целыми поколениями немецких. Произвола тут нет никакого. Есть изумительное по своей последовательности шествие по путям науки. Или наук. Разных наук. Если Гегель и Маркс есть наука, то НКВД и гестапо есть самое современное достижение этой науки. Если философия хоть что-ли­ бо понимает в человеческой жизни, то организация этой жизни в Европе вообще, а в России и Германии в частности и в особенно­ сти, есть одно из высочайших достижений в области построения жизни на истинно философских началах: так Европа не жила даже и в гуннские времена. Если Гегель и Маркс, Руссо и Конт, Черны­ шевский и Лавров, Зомбарт и Каутский есть наука — то пеницил­ лин есть вздор. И — наоборот. Если пенициллин есть наука, то гегели и гегелята есть вздор. Сейчас философски просвещенный европейский наблюдатель по наивно-реалистическому повседневному своему опыту может установить тот совершенно очевидный факт, что никакой пе­ 284 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век нициллин английской медицины не может компенсировать последст­ вий европейских гегелей и никакие миллиарды американских додствордов не могут прокормить разоренного гегелевского потомства. Мы, на предельных скоростях современной техники, мчимся по дорогам, утыканным фальшивыми сигнальными знаками. Тито на­ зывают демократом. Сталинский феод называют республикой. Американскую нянюшку и кормилицу называют акулой. Выкуп железных дорог в казну называют социализмом, Николая II — ре­ акционером, а мистера Эттли — фашистом. Тоталитарный строй — плодом восточной психологии. Демократический — плодом запад­ ных оккупационных зон. Постройка карточных домиков из заведо­ мо фальшивых карт называется “наукой” — общественной наукой. Проектирование воздушных замков — из тех же фальшивых карт — называлось научным социализмом... ...Замки все-таки были построены. Вот в них-то мы сейчас и си­ дим: четверть фунта хлеба утром и четверть фунта хлеба вечером. Пять шагов вперед и пять шагов назад. На окнах решетки, запирающие вы­ ходы из замка, за окнами — щиты цензур, загораживающих свет Бо­ жий. Подвальные этажи заняты застенками. Где-то на вершинах ба­ шен сидят гении, планирующие хлеб, свет и расстрелы. ОБЩИЙ ОБЗОР Не так давно — лет сорок тому назад, до победы научного социа­ лизма над трудящейся Европой, общественные науки вообще, а фило­ софия в частности, объясняли нам прошлое и обещали нам будущее. Объяснения прошлого могли нам нравиться и могли нам не нравить­ ся, но спорить с ними было трудно. Каждый представитель истории и философии, философии истории и истории философии мог, в сущно­ сти, дать объяснение, и опровергнуть его было так же трудно, как и любое другое. “Экономические отношения” Маркса или “Мировой дух” Гегеля, “Типы культуры” Шпенглера или “Жизненный разбег” Бергсона — “стихия”, “зоны”, “империализм” и даже случайность — все шло для стройки философских систем, объясняющих нам про­ шлое. Как во всем этом было разобраться? Всякий читатель имел пол­ ную, истинно демократическую свободу: поверить в то, что ему нра­ вится, и отбросить то, что ему не нравится. Сейчас мы потеряли и эту свободу. На основе объяснений про­ шлого философия давала нам предсказания будущего. Это будущее уже настало. Оно нам может нравиться и может не нравиться, но отбросить его мы не имеем никакой возможности: оно стало на­ шим настоящим, фактом нашей сегодняшней жизни. Выбора у нас Диктатура импотентов 285 нет. Полвека тому назад мы могли рыться в картотеках научных предсказаний и извлекать самые симпатичные. И вовсе не смот­ реть на самые несимпатичные. Сейчас это кончено. С совершенно потрясающей степенью точности реализовались пророчества людей наиболее несимпатичных — реакционеров. Профанов. Людей, со­ вершенно необразованных философски. Людей, погрязших в по­ повских суевериях. Ретроградов и мракобесов, как их называли у нас, в России, в первой стране, вступившей на пути, научно нама­ леванные в работах русских общественных наук, и антинаучно предсказанные в “Бесах” Достоевского. Мы, русские, прошли поч­ ти все бесовские пути. Почти все. В этой книге я привожу целую коллекцию научных предсказаний. Они документально бесспорны. Сегодняшний день бесспорен факти­ чески. Никакая базарная гадалка не имела возможности дать меньший процент удачных пророчеств, ибо промах больше, чем на 180 граду­ сов, невозможен математически — а вся сумма общественных наук постаралась промахнуться именно на все 180 градусов. Сегодняшний день Европы вообще, и России в частности и в особенности, — это есть день великого провала, безмерно худшего, чем это было во време­ на гуннских нашествий — ибо гуннские нашествия пришли извне, а сегодняшний провал пришел изнутри. На Европу никто не нападал — она напала на самое себя. Ее никто не разорял — она разорила самое себя. Ее никто не расстреливал — она расстреливает самое себя. Ни­ кто ей не навязывал ни гегелевских, ни контовских, ни марксистской философии истории — оно это произвела из недр своих. Никто не са­ жал на ее шею ни Ленина, ни Сталина, ни Муссолини, ни Гитлера — она всех их посадила сама. Современному положению Европы можно сочувствовать. Но, сидя где-нибудь в Кентукки, можно и не сочувствовать: tu Га voulu, George Dandin. Однако, даже и сидя в Кентукки, никак нельзя считать себя застрахованным от последствий европейской философии. Политический изоляционизм может и не быть вполне утопическим. Идеологический изоляционизм утопичен вполне. Тот “страшный и умный дух разрушения”, о котором говорит Достоев­ ский в своей “Легенде о Великом Инквизиторе”, заперт в Европе, как в магической бутылке, — и он рвется наружу. В нем нет ничего магического. Это есть силы организованных подонков Европы, ко­ торые зарвались слишком далеко и отступления которым нет. Им в унисон вибрируют вожделения подонков всего человечества — и эти подонки уже имеют не только свою философскую, но и свою организационную и свою военную точку опоры. Кентуккийский изоляционизм есть утопия. От борьбы с “духом зла” не уйдет ни­ 286 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век кто в мире, ибо этот дух претендует на мировое господство и поч­ ти половину пути к этой цели уже прошел: ему помог изоляцио­ низм европейских кентуккийцев, которые в свое время надеялись на то, что русский коммунизм касается только России, что это — чисто локальное явление, что если коммунистический крокодил и попытается съесть, скажем, Италию или Францию — то только в последнюю очередь. Сейчас этот коммунизм завоевывает и США. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности — это только детская иіра. Территории, на которых тренируют и кон­ центрируют свои силы сторонники духа разрушения, находятся вне сферы достижения каких бы то ни было комиссий. Это, с одной стороны, те “вершины человеческой мысли”, которые находятся под охраной “табу” свободы мысли, и, с другой стороны, то под­ полье индустриальных трущоб, которое сумеет скрыться от любых комиссий и от любых полиций мира. Об одном из обитателей это­ го подполья ОТенри писал: “Доллар в чужом кармане казался ему личным оскорблением”. С “вершин человеческой мысли” доллар в чужом кармане кажется философским оскорблением. На ваш дол­ лар, на ваш коттедж, на вашу свободу, на вашу семью нацеливают­ ся одновременно и вершины человеческой мысли и подонки чело­ веческой биологии. От этого вас никакие комиссии не изолируют... Около десяти лет тому назад почти на всех европейских языках и на некоторых внеевропейских была издана моя книга “Россия в концлагере”. Она рассказывала о том, что совершается в царстве победившего социализма — в республике товарища Сталина. Этой книге поверили не все. Даже часть русской эмиграции, бежавшая от победы ею же вскормленного социализма, нашла в этой книге только полное собрание преувеличений, карикатур и клеветы. С тех пор прошло около десятка лет. Прогнозы, сделанные в этой книге, исполнились все. Десятки людей, с тех пор посетивших СССР, предложили миру свои фактические сообщения, не менее “преувеличенные”, чем мои. Сто пятьдесят тысяч польских евреев, в свое время эвакуированных из Польши в СССР и оттуда через Польшу бегущих куда глаза глядят, передали через европейскую газету “ѴопѵаеПз” в Нью-Йорке свои переживания в подвалах воз­ душного замка, построенного социализмом. Американский капита­ листический посол в Москве и австралийский социалистический посол в той же Москве сообщили миру о своих профессионально, служебно сделанных наблюдениях. Десятки репортеров пинкертоновскими своими глазами заглядывали за кулисы банкетов и пропаганды, Диктатура импотентов 287 и то, что они там обнаружили, было и страшно и отвратительно. Пять миллионов русских пленных и рабочих отказались вернуться на свою победоносную родину — и были туда посланы насильственно. Многие предпочли самоубийство возвращению домой. Сейчас все это находится, вне всякого сомнения. Торрез4 и Пик5, Галлахер6 и Толлиатти7 не могут признать всего этого по чисто платным соображениям. Левая часть русской эмиграции от­ рицает все это бесплатно. Она родила русский коммунизм. И как бы ни был уродлив и кровав ее сифилитический и социалистиче­ ский потомок — он остается ее потомком. Русская левая эмиграция сейчас никакой роли не играет, пра­ вая, впрочем, тоже. Но она имеет огромное, по-настоящему науч­ ное значение: именно по ней, по дореволюционным строителям революции, можно легче всего изучить тот процесс биологического и морального вырождения, который, начинаясь от физиологиче­ ской импотенции, переходит в атеизм, из атеизма переходит в ком­ мунизм, отбрасывает Бога, следует “духу разрушения” и разрушает все. В том числе и самого себя. Ибо дух разрушения есть в то же время и дух самоубийства. До Второй мировой войны русская революция могла считаться ло­ кальным явлением. Особенно для людей, забывших жизненный уклад Великой французской революции. Сейчас стало ясно: это есть мировое явление, находящее свой резонанс везде, где есть философия и где есть подонки, — а какой-то процент философов и подонков имеет всякая нация в мире. И никто не может считать себя иммунным. Сейчас Европа разделена на две не совсем равные половины: одна живет под властью духа разрушения, другая — под его угрозой. Дух разрушения — это страшный и это умный дух — поскольку борьба с Богом вообще может быть умна. Такой организации, какою этот дух охватил большую часть Европы и стоит перед охватом ее ос­ тальной части, мир еще не видел. Дух знает очень точно, что именно и как именно он собирается разрушить. Его противники только очень тускло представляют себе и методы борьбы й причи­ ны коммунистических завоеваний. Фактическая сторона тоталитар­ но-атеистических режимов сейчас стала бесспорной — по крайней мере для людей, обладающих нормальным запасом совести и моз­ гов. Но причинная связь сегодняшнего положения всей Европы с предшествующими достижениями всей суммы европейского про­ шлого остается вне всякого общественного внимания. В своей первой книге я рассказал, что получилось. Теперь, больше десяти лет спустя, пройдя германский опыт, я пытаюсь по­ казать, как это получилось. Исторический ход событий трех, до 288 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век поры до времени, победоносных революций — великой француз­ ской, великой русской и великой германской, идет поистине по­ трясающе параллельным путем. Две великих современных револю­ ции я пережил собственным опытом — и исторический опыт французской мне, вероятно, понятнее, чем кому бы то ни было. Может быть, непредубежденному читателю удастся понять и то от­ вращение, которое я питаю ко всем трем. О СЕБЕ САМОМ Когда вы кому бы то ни было начнете говорить о вашем отвра­ щении к революции, в уме вашего собеседника более или менее непроизвольно возникает образ “контрреволюционера”. Вся наша гуманитарная литература всегда окрашивала всякую революцию в ангельски-белоснежный цвет и всякую контрреволюцию — в цвета “черной реакции”, к “реакции” всегда приклеивался эпитет “чер­ ная”. С моей точки зрения, как я уже говорил, и реакция и рево­ люция есть решительно одно и то же. В уме вашего просвещенного собеседника более или менее ав­ томатически возникает образ капиталиста и эксплуататора, аристо­ крата и привилегированного человека, который пытается идейно защитить содержимое своих карманов или вооруженным путем отобрать его, если оно успело исчезнуть в стихии революции. Ни­ кто, кажется, еще не пытался написать историю Французской ре­ волюции с точки зрения именно трудящихся. Эта история была из­ ложена по преимуществу с точки зрения пишущих людей, то есть с профессионально неизбежным преобладанием романа над уголов­ ной хроникой. Я по своей основной профессии — репортер. И ко­ гда я писал в русской дореволюционной печати уголовную хронику петербургских судов — я писал уголовную хронику, а не детектив­ ный роман. Всякий же пишущий человек, профессионально поды­ мающийся над уровнем репортера, старается облечь грязь уголов­ щины в романтические одежды беллетристики. Так на навозе пре­ ступления взращиваются орхидеи вымысла. Кроме того, профессионально пишущие люди склонны говорить не “я”, а “мы” — утверждая таким путем некую безличность, объек­ тивность, научность своей беллетристики. В таком стиле говорили и говорят монархи: “Мы, Милостью Божией”... Но у монархов это име­ ет какой-то смысл: они говорят от собственного лица. Авторы всегда говорят от собственного лица. Можно отдать обобществлению свои доллары, своих детей и даже свою жену, но до обобществления лич­ ности мы, кажется, еще не дошли. Может быть — дойдем. Диктатура импотентов 289 Эта книга есть книга личного опыта. В личном опыте личность автора играет, конечно, какую-то роль. Поэтому я прежде всего хотел бы заранее предупредить некоторые личные подозрения по моему адресу. Я никогда, ни с какой стороны ни к каким привилегирован­ ным классам не принадлежал и не принадлежу: мой отец — крестьянин. Впоследствии, в годы моего детства, он стал сель­ ским учителем. Еще впоследствии, в годы моей зрелости, — провинциальным журналистом. У меня никогда не было никакого текущего счета, никакой не­ движимой собственности, а сумма движимой редко превышала ту норму, о которой было сказано: “Все мое ношу с собой”. Мое слу­ жебное положение в начале революции: репортер. Социальное — рядовой Кексгольмского полка. Среднее образование я одолел са­ мостоятельно, так как работать для заработка пришлось с шестна­ дцати лет. Юридический факультет Петербургского университета я кончил уже после революции. В моей последующей биографии очень значительную роль сыграл тот факт, что в 1914 году, в срав­ нительно узкой области тяжелой атлетики, я занимал второе место в России. Советской и немецкой тайной полицией я был арестован десять раз, советской милицией три раза был приговорен к смерт­ ной казни,— не без достаточных к этому оснований, имел основа­ ния опасаться немецкой виселицы, бежал от советского и от наци­ стского рая в общей сложности двенадцать раз и на мою жизнь за границей были произведены три покушения. Одно из них — 3 февраля 1938 года, в Софии, окончилось гибелью моей жены и моего секретаря: в квартиру была прислана бомба. За революционные тридцать лет я перепробовал профессии: коо­ ператора, инструктора спорта, профессионального грузчика, про­ фессионального рыбака, циркового атлета, фоторепортера, варил мыло из дохлого скота и питался так называемой спекуляцией, но из этого ничего не вышло. Сидел в советском концентрационном лагере и попал в германскую ссылку. Голодал много и сильно. Опытом тридцати лет революционной жизни в социалистическом СССР и национал-социалистическом Третьем Рейхе может похва­ статься не всякий. Если бы меня сейчас спросили, что есть самого ха­ рактерного во всем этом опыте, я бы ответил: чувство унижения. Люди пишут о страхе, и люди пишут о голоде. Все это более или менее верно. Но, может быть, самое страшное, что несет с со­ бой “дух разрушения” — это чувство непрерывного и всеохваты­ вающего унижения. Чувство человеческого достоинства присуще, может быть, не всем людям земного шара. Те люди, которые ста­ 290 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век новятся винтиками и шестеренками в машине всеобщего униже­ ния, этого чувства, вероятно, лишены, иначе своей профессии они бы выдержать не смогли. Те люди, которые профессионально за­ нимались унижением других — беззащитных и безвинных людей в Соловках или в Бельзене, вероятно, устроены как-то иначе, чем устроены мы, все остальные: иначе они бы сошли с ума. Люди, конечно, привыкают ко всему — и к страху, и к голоду, и к потере человеческого достоинства. Но думаю, что к последнему при­ выкнуть труднее всего. Голод испытывали разные люди и в разных ус­ ловиях. Во время своих полярных экспедициях Фритьоф Нансен голо­ дал сильно — но этот голод не был унизительным. Голодал Кнут Гамсун — и этот голод был унизительным. Чувство страха и голода мил­ лионы людей испытывали на войне — но и в страхе и в голоде не бы­ ло ничего унизительного. В революции счастливо сочетается все: и страх, и голод, и унижение. Иногда люди бывают все-таки сыты, ино­ гда они получают передышку от страха. Что же касается унижения, то оно пронизывает собою все революционные дни. Вы обязаны стать винтиком в машине революции. Вы обязаны отдать ей и вас самих, и вашу жену, и ваших детей. Вы обязаны отдать ей ваш труд и даже ваш энтузиазм. А если энтузиазма у вас нет — вы обязаны его инсцениро­ вать. Вы голодаете — и вас заставляют делать вид, что вы сыты. Вы в страхе за жизнь вашу — и, что хуже, за жизнь вашей жены и ваших детей — и вас заставляют славить строй, организующий голод и страх. Вас гонят на выборы, и вы обязаны поднимать вашу руку за людей, организующих голод, страх и унижение. Вы больше не человек. Вы только бездушное и бессловесное орудие в руках апостолов духа разру­ шения. Вы меньше, чем домашнее животное, ибо животное стоит де­ нег, а вы не стоите ни копейки. Вы только удобрение. И именно вами Сталин и Гитлер хотят удобрить огород, на котором будут посеяны се­ мена нового голода, страха и унижения. По этому всему в личных переживаниях революционной эпохи есть вещи, о которых писать не хочется, но, о которых писать все-таки нужно. В своих первых книгах я писал очень о многом. О том, как приходилось и воровать, и изворачиваться, и лгать — печатно и непе­ чатно. Все те, кто живым выскочил из литературного рая, этим зани­ мались. Все. Эго есть абсолютная неизбежность. Но и она не кончает­ ся у тоталитарно-райских врат. Последствия и Гитлера и Сталина — то есть и Маркса и Гегеля — еще долго будут свирепствовать в Европе. С самых белоснежных вершин человеческой мысли мы все совершили пресловутый прыжок из царства необходимости в разные царства. И с Монблана философии сиганули в помойную яму сегодняшнего дня: во всеевропейскую Питекантропию... Диктатура импотентов 291 Совсем недавно, в марте 1947 (сорок седьмого!) года, я очень хотел есть. Не в первый раз, и не я один: также хотели есть мой сын, его жена и мой внук. И есть было нечего: очередная посылка от наследников Нэтти Бумпо нам, наследникам Гегеля, где-то за­ стряла по дороге. Я шатался по перелескам и размышлял о всяче­ ской пище. Вспомнил о тех исполненных черной реакцией годах, когда можно было зайти в любой кабак и заказать там яичницу или что-либо иное столь же реакционное. Мечты были вполне утопическими. Шагах в ста от меня я вдруг заметил какой-то копошащийся клубок. Мои репортерские глаза заметили огромную хищную птицу, что-то доедающую, а мои фут­ больные ноги понесли меня к ней. Это было что-то вроде морско­ го орла, и доедал он — без карточек — какого-то кролика. Орел был огромен. Он расправил свои самолетные крылья и встретил меня угрожающим клекотом. Я сіреб основательный сук: дело шло о struggle for life — о пище. Так стояли мы оба: писатель и птица. Я сделал несколько шагов вперед. Птица еще выше подняла свою орлиную голову. Я снял пальто, обернул его вокруг левой руки, как плащ тореадора, и стал наступать. Птица заклокотала еще раз — потом, видимо, признав мое культурное превосходство, взмахнула крыльями и улетела. На земле оказались задние ноги кролика, остальное птица уже успела съесть. Я эти остатки поднял. Мы их сжарили и съели. Ну чем не Питекантропия? Возвращаясь с птичьими объедками домой, я вспоминал о про­ гнозах, пророчествах и обещаниях: Конта и Канта, Гегеля и Мар­ кса, Милюкова и Керенского, Ленина и Сталина, Гитлера и Геб­ бельса. Ниже я привожу кое-какие из них. О птичьих объедках ни­ кто не сказал ничего: этого ни наука, ни научная политика как-то не предусмотрели. Кое-кто из неученых людей все-таки предвидел. Но даже и птичьи объедки сейчас являются праздником на общем фоне нашей жизни, научно организованной нам всем всей суммой наших социальных наук. Вся эта сумма сейчас заканчивается (заканчивается ли?) истин­ но небывалым в истории человечества скандалом. Все ее диагнозы оказались отсебятиной, все ее прогнозы — промахом. Все ее ре­ цепты — уголовным преступлением. Вся эта сумма свергала все де­ сять заповедей. И когда заповеди благополучно были свергнуты, то из-под их развалин автоматически возник Питекантроп — носи­ тель идеи первозданного, досинайского коммунизма. Он, конечно, возник и во мне, как во всяком человеке, поставленном в социаль­ ные условия Питекантропии. Был момент — о нем я говорил в своей первой книге, — когда я готов был на убийство из-за фунта 292 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век керосина, а я не думаю, чтобы я был врожденно преступным эле­ ментом. Были годы, когда каждое произнесенное в обществе слово было ложью. Я собирал окурки на улицах и таскал дрова из чужого леса. В большинстве случаев вопрос шел о жизни и о смерти в бу­ квальном смысле этого слова. С той только разницей, что в камен­ ном веке людей все-таки никто не заставлял лгать. Люди, которые читали эту книгу в рукописи, делали мне два упрека: в ненависти и в национализме. Говоря по совести — ни одного из этих упреков я принять не могу. Само собою, разумеет­ ся, что особенных восторгов ни наше нынешнее положение, ни “summa scientiae", которая к нему привела, у меня не вызывает. Было бы преувеличением утверждать, что расстрелыцики Соловков или Бельзена мне особенно симпатичны. Положение в Европе во­ обще, а в России в особенности, совершенно отвратительно. Есть люди, сознательно паразитирующие на этом положении вещей, есть люди, попавшие в него не по своей вине. Но я не думаю, что­ бы новый призыв к новой ненависти мог бы внести успокоение в национализированную совесть и в обобществленные мозги Евро­ пы. В числе прочего Европа переживает своеобразную чехарду: вчерашние жертвы сегодня становятся палачами, для того чтобы завтра стать жертвами, — это обычная судьба всех революций. На путях этой чехарды никакого разумного выхода не видно. Подав­ ляющее большинство людей, в ней участвующих, оказались жерт­ вами уже в момент своего вступления в сознательную взрослую жизнь: они были обмануты и потом они попали в клещи не ими созданного аппарата насилия. Немецкий га-йот и русский комсо­ молец воспитаны очень плохо. Но они лично не виноваты ни в чем. Виноваты прошлые поколения. Эти прошлые поколения себя самих уже почти полностью уничтожили. Они, совсем по Интерна­ ционалу, “добились освобождения своею собственной рукой”... Вопрос о национализме несколько более сложен. Я, конечно, русский националист. И даже больше этого: русский монархист. Обе эти идеи нельзя рассматривать в политической плоскости, и поэтому оба эти термина только с очень большим трудом могут быть переведены на любой язык, в том числе и на обычный рус­ ский. Русская дореволюционная — космополитическая и социали­ стическая — интеллигенция применяла их в их западноевропей­ ском смысле, действуя по тому же принципу, по какому товарищ Сталин называет себя демократом. Подтасовка терминов сыграла огромную роль в истории всех революций, а в русской в особенно- Диктатура импотентов 293 сти. Русский “царизм” имеет очень мало общего с европейской монархией: в Европе монархия была ставленницей феодальных верхов, в России — крестьянских низов. В Европе это была опора крупного землевладения, а в России, по формулировке В. Соловье­ ва, — “диктатура совести”. Сейчас она заменена диктатурой бессо­ вестности. Русский национализм так же непереводим на общепринятый политический язык, как и русская Монархия. Русский национа­ лизм есть явление не хозяйственно-политического, а морального характера. Об этом писал Ф. Достоевский. Этой же теме перед Второй мировой войной посвятил целый том швейцарский про­ фессор Шубарт (“Европа и душа Востока”). Русский национализм есть защита известного комплекса, который профессор Шубарт формулирует как “объединение во имя дружбы” — в противовес римскому “разделяй и властвуй”. Таким образом, сегодняшнее ста­ линское объединение во имя насилия и ненависти есть вещь так же неприемлемая для русского национализма, как и гитлеровская новая организация Европы. Сейчас Россия стоит во главе революционного движения всего ми­ ра. Москва, которая полвека тому назад считалась отсталым захолусть­ ем, заброшенным куда-то на границу Европы и Азии, сейчас претен­ дует на роль “столицы трудящихся всего мира”. Русская — хотя и коммунистическая — организация охватывает весь мир щупальцами своих братских партий и пятых колонн. “Отсталая, захолустная про­ винциальная Россия Николая II” путем какой-то таинственной ис­ торической мутации, какого-то исторического чуда проскочила на место “самой передовой страны всего мира”. Русская история, ка­ жется, специализировалась на поставке всяческих неожиданностей ее более просвещенным и менее просвещенным соседям. Комму­ нистические партии европейских и внеевропейских парламентов, целиком подчиненные приказам из Москвы и слепо выполняющие эти приказы, есть, конечно, неожиданность, одна из неожиданно­ стей. Но неожиданность — это только псевдоним незнания: если бы мы знали, то мы могли бы и ожидать. НЕОЖИДАННОСТЬ Еще Ф. Достоевский горько жаловался на то, что иностранцы никак не могут понять России и русского народа. Эти жалобы мне кажутся несколько наивными: что же требовать от иностранцев, если ни России, ни русского народа нс понимала та русская интел­ лигенция, которая, в частности, служила единственным источни­ 294 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ком и для всей иностранной информации? Та русская интеллигенция, которая, по ее же собственному традиционному выражению, “оторва­ лась от народа”, стала “беспочвенной”, оказалась по другую сторону “пропасти между народом и интеллигенцией”. Та интеллигенция, ко­ торая веками “свергала самодержавие царей” для того, чтобы оказать­ ся лицом к лицу с “неожиданностью” товарища Сталина. Эта книга не претендует ни на какую “научность” — после на­ учностей Гегелей и Марксов термин “научность” принимает явно скандальный оттенок. Но на некоторую долю здравого смысла эта книга все-таки претендует. С точки зрения простого здравого смысла, в истории нет и не может быть никаких случайностей: здесь все развивается по закону больших чисел. И “неожидан­ ность” существует только для людей, которые не ожидали, ибо не знали. Так, разгром на востоке был для немцев истинной неожи­ данностью — потому что военного прошлого России они: а) не знали и б) не хотели знать. Коммунистические партии и пятые ко­ лонны явились неожиданностью для людей, не знавших политиче­ ского прошлого России. Давайте исходить из той точки зрения, что все то, что совершилось и совершается в Европе и в России, не есть случайность и не должно было бы быть неожиданностью. Что все это закономерно выросло из прошлого — вся та жуть, и все те безобразия, которые творятся и в России и в Европе. Сейчас Россия стала страной самой классической революции во всей истории человечества. Великая французская революция те­ перь кажется только детской иірой. Угроза коммунизма нависла надо всем миром — от Берлина до Явы и от Нанкина до Пенсиль­ вании. Война между коммунизмом и всем остальным человечест­ вом неизбежна абсолютно. Возможно, что эта книга не успеет поя­ виться на свет до начала этой войны. В этой войне человечество может наделать точно таких же ошибок, какие наделали Наполеон и Гитлер, и очутиться лицом к лицу с одинаково неприятными не­ ожиданностями. Их лучше бы избежать. Ибо при мировой победе коммунизма — хотя бы и русского — всем порядочным людям ми­ ра — хотя бы и русским, не остается ничего, кроме самоубийства. Непорядочные, вероятно, найдут выход: будут целовать следы ко­ пыт гениальнейшего и получат за это паек первой категории. Как сейчас вчерашние немецкие патриоты получают в восточной зоне “сталинские пакеты”, — для немецкого патриотизма это тоже, ве­ роятно, явилось “неожиданностью”. Как видите, русский национа­ лизм, говорящий о самоубийстве в случае победы хотя и красной, но все-таки России, не совсем укладывается в рамки соответствен­ ного европейского термина. Диктатура импотентов 295 Для того чтобы хоть кое-как понять русское настоящее, нужно хоть кое-как знать русское прошлое. Мы, русская интеллигенция, этого прошлого ие знали. Нас учили профессора. Профессора ча­ стью врали сознательно, частью врали бессознательно. Их общая цель повторяла тенденцию петровских реформ начала XVIII века: европеизацию России. При Петре философской базой этой евро­ пеизации служил Лейбниц, при Екатерине — Вольтер, в начале XIX века — Гегель, в середине — Шеллинг, в конце — Маркс. Об­ разцы, как видите, не были особенно постоянными. Политически же европеизация означала революцию. Русская интеллигенция во­ обще, а профессура в частности, работала на революцию. Если бы она хоть что-нибудь понимала и в России и в революции — она на революцию работать бы не стала. Но она не понимала ничего: ее сознание было наполнено цитатами из немецкой философии. Как показала практика истории — немецкая философия тоже не понимала ничего. Так что слепой вел глухого, и оба попали в одну и ту же яму, кое-как декорированную “сталинскими пакетами” в Берлине и Моск­ ве и CARE пакетами в Мюнхене. Сидя в этой яме, обе профессуры продолжают заниматься все тем же: пережевыванием цитат. Европейская интеллигенция больна книжностью. Я не пропове­ дую неграмотности. Книги нужны человеческой душе, но нельзя питаться только книгами. Человеческой крови нужно железо, но из этого не следует, что надо питаться гвоздями. Мы все больны книжными представлениями о мире, — представлениями, создан­ ными книжными людьми. В этом, кажется, отдают себе отчет в США: мистер Труман посылает на Балканы и в прочие места не профессоров и не философов, а банкиров и репортеров: те хоть что-нибудь увидят. Самая толковая книга о России, какая до сего времени попадалась мне на глаза, принадлежит мистеру Буллиту. Самые верные прогнозы будущего делали репортеры, полицейские и деловые люди. В России, кроме того, делали еще и поэты, то есть почти все, кроме профессоров и философов. Теперь это оче­ видно до полной бесспорности. Но представления, созданньіе про­ фессорами и философами, въелись в нашу психику, как татуировка в кожу или как рак в печень. И все, что идет вразрез с этими пред­ ставлениями, вызывает бессознательный внутренний протест, ка­ жется ересью, реакцией, пропагандой или враньем. Я боюсь, что наиболее резкий внутренний протест вызовут мои утверждения о России и об ее истории. Однако — если отбросить эти утвержде­ ния, тогда придется признать принцип случайности в истории: Сталина, рожденного путем непорочного зачатия. И пятые колон­ ны, свалившиеся с неба. 296 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век КОЕ-ЧТО О РОССИИ Я начну с установления некоторых элементарных фактов, кото­ рые можно проверить по любому хронологическому справочнику. 1. Россия является самым старым государственным образованием в Европе. Она уже как империя, то есть как огромное и многонацио­ нальное государство, возникла в середине IX века. С тех пор ее язык, сознание или даже фразеология изменились очень мало. Полулеген­ дарный князь Олег в начале русской истории собирался “пригвоздить свой щит” на воротах Византии. Московские великие князья XV — XVII веков претендовали на политическое и религиозное наследие Константинополя. Александр II шел восстанавливать “крест на Свя­ той Софии”. П. Милюков во временном правительстве 1917 года тре­ бовал “проливов для русского экспорта”. Сейчас товарищ Молотов повторяет программу: Олега, Великих Князей, Александра II и П. Ми­ люкова. За одиннадцать веков изменилось очень мало. 2. Россия имеет самый большой политический опыт в мире. В ней были республики: аристократические, буржуазные и просто разбойные. В ней были монархии выборные, ограниченные, наем­ ные и даже почти неограниченные. К концу XVII века Московская Русь имела двухпалатное представительство, суд присяжных, habeas corpus act и чрезвычайно широкое местное самоуправление. К се­ редине XX века она имела из всего этого — ничего. 3. На территории России разыгрывались величайшие войны миро­ вой истории и были разгромлены величайшие военные могущества и Востока и Запада: монгольская империя начала этого тысячелетия, Польша его середины, шведы Карла XII, Франция Наполеона и Гер­ мания Гитлера. Параллельно шел разгром Турции султанов. Русская армия (точнее, русские вооруженные силы) знавали истинно скан­ дальные поражения. Но, в общем, на протяжении одиннадцати веков она как была, так и осталась сильнейшей армией мира. 4. Находясь на сквозняке между Европой и Азией, Россия была жертвой бесчисленных нашествий и с востока и с запада, иногда и одновременно с востока и с запада. Нашествие немцев в XX веке было ничуть не лучше нашествия монголов в начале тринадцатого. За семь веков и тут изменилось очень мало. Ненамного лучше бы­ ли нашествия французов и поляков. Монгольские набеги закончи­ лись только в конце XVIII века. До этого момента Россия еще пла­ тила татарской крымской орде регулярный налог для выкупа рус­ ских пленных-рабов. 5. Монгольские орды висели над Россией почти тысячу лет. Их главной военно-политической целью был захват рабов. Турецкая Диктатура импотентов 297 империя, военно-политическая наследница монгольских орд, строила свою экономику главным образом на торговле рабами, ко­ торых орды захватывали на востоке, — Германия Гитлера только повторила военно-хозяйственные предприятия средних веков. Чис­ ло русских, уведенных таким образом в рабство в течение XV — XVII веков, приблизительно равно всему населению страны в сере­ дине этого периода — около пяти миллионов. Русских рабов поку­ пали и Кольбер8, и Кромвелль. 6. Русский народ есть самый упорный из всех выживших народов мира. Об этом писал деловой человек мистер Буллит. Профессора и философы писали о “мягкой славянской душе”. Все большие войны носили характер истребительных войн — Vernichtungskrieg выдумана не в Германии, а в России. Великая армия всей Европы под водитель­ ством, вероятно, действительно великого полководца Наполеона, была истреблена вся: из шестисот тысяч ушло только около восьми. Монго­ лы были истреблены: их остатки составляли только 1,7 процента насе­ ления Империи Николая II. Почти то же пережила и армия Гитлера. Шведские армии были истреблены полностью. Армия польской ин­ тервенции начала XVII века доходила до Урала, и из их состава домой не вернулся никто. 7. Русский народ при Николае II был самым бедным народом в Европе. Теперь он стал самым бедным народом в мире. Хозяйственная нищета России не имеет никакого отношения к “царизму” или к “де­ мократии”. Как ни к чему этому не имеет никакого отношения богат­ ство США. Недемократическая Германия Вильгельма II — при ее ста сорока человеках на квадратный километр - была не беднее или нена­ много беднее демократических США 1910 года. Кроме того, Германия Вильгельма II была, конечно, культурнее США. Россия была бедна потому, что ее все время жгли — и с востока и с запада. И потому что все “живые силы страны” были заняты по преимуществу вопросом физической защиты от рабовладельческих войн ханов, султанов, коро­ лей, императоров и вождей — как в десятом веке, так и в двадцатом. 8. Под страшным давлением необходимости в России был органи­ чески выработан технически самый совершенный государственный строй. Этот строй не имеет никакого отношения к “культуре”. Фран­ ция эпохи господина Блюма9, разумеется, гораздо “культурнее” Рима эпохи сената. Но так же само собой разумеется, что как техническое орудие управления Римский сенат стоит неизмеримо выше палаты де­ путатов всех четырех республик, даже и вместе взятых. 9. Русская государственность, как и русский национализм, все­ гда носили космополитический характер. Дружина того же Олега включала в себя варягов, славян, татар и даже евреев. Император­ 298 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век скими министрами были поляки, немцы, татары, армяне и даже греки. Русские династии были варяжскими, славянскими и немец­ кими. Борис Годунов был татарином. Коммунистический Интерна­ ционал, таким образом, в некоторой степени является законным наследником и Олега, и императоров. 10. Россия никогда не была “тюрьмой народов”. Ни один наро в России не подвергался такому обращению, какому подвергалась Ирландия времен Кромвеля и времен Гладстона10. За очень немно­ гими исключениями все национальности страны были совершенно равны перед законом. Финляндия от момента ее отвоевания от Швеции и до 1917 года оставалась, в сущности, республикой. Бал­ тийские бароны оставались балтийскими баронами. Полудикое на­ селение окраин охранялось самым заботливым образом. На кавказ­ ской нефти делали свои миллионы не русские капиталисты, а кав­ казские туземцы — Лианозовы и Манташевы. Если бы все это было иначе, то Россия не выдержала бы ни одного серьезного удара извне. Она подвергалась бы распаду изнутри — что ей и предсказывала германская философия, сконструировавшая тео­ рию “колосса на глиняных ногах” или перезрелого апельсина, готово­ го распасться на дольки. Теорию глиняных ног я лично застал в Бер­ лине 1938 года. На этой теории был построен философски вполне обоснованный восточный поход Гитлера. Практические уроки пред­ шествующих походов ничему не научили ни философию, ни вождей. Со всех этих, не совсем обычных точек зрения русская револю­ ция принимает некоторую закономерность: самая современная фи­ лософия Западной Европы скрестилась с технически самой совер­ шенной традицией управления России. Болезни России скрести­ лись с болезнями Запада. Основной внутренней болезнью России были всегда гипертрофия государственной власти, национальной дисциплины и всяких вещей в таком роде. Она понизила инстинкт борьбы за личную свободу во имя борьбы за государственно-на­ циональную: она создала вооруженное дворянское сословие, кото­ рое при Петре I, то есть после разгрома основных врагов России — монголов и Польши, захватило власть в свои руки, ликвидировало почти на сто лет Монархию, установило крепостное право, родило беспочвенную книжную, философствующую интеллигенцию, кото­ рая и привела к спариванию идеи социализма — чисто европей­ ской идеи — с чисто русской традицией концентрации всех сил в центре государственного аппарата страны. Традиция управления ста шестьюдесятью народами Российской империи довольно про- Диктатура импотентов 299 стам путем привела к технике Третьего Интернационала. Так из противоестественного брака европейской философии с русской традицией и родился страшный и кровавый ублюдок НКВД. В Европе развитие пошло несколько иными путями и из не­ сколько иных источников. Социализм, как и туберкулез, может родиться: от нездоровой наследственности, от нездоровых усло­ вий жизни, от плохого питания. Он может иметь различные ин­ дивидуальные формы: легочный, костный, суставной, глазной и прочее. Но во всех случаях в его основе будет лежать все та же коховская палочка. Самое трагическое во всей этой истории заключается, может быть, вот в чем: параллельно с нарастанием социализма в России нарастали и предупреждения против него. Наши самые крупные поэты, как Пушкин, Лермонтов, Волошин и Блок, наши самые крупные ученые, как Менделеев и Павлов, наши самые крупные мыслители, как В. Соловьев, Герцен и Розанов, делали в этом от­ ношении то же самое, что делало русское охранное отделение: пы­ тались остановить гадаринское стадо русской интеллигенции от убийства и от самоубийства. Пророчества всех этих людей порази­ тельны по своей точности — ниже я их привожу почти все. Значит, были люди, которые видели. Я привожу и пророчества русской профессуры (а также и не­ мецкой и французской). Над этими профессорскими пророчества­ ми зримо и ощутимо витает великий дух кретинизма. Это сейчас очевидно до полной бесспорности. Как очевидны и нынешнее по­ ложение Европы и предшествующие деяния ее сегодняшних вла­ стителей и владык — и интеллектуальных, и огнестрельных. ПРОРОЧЕСТВА РЕАКЦИИ На путь последовательного, “научного” социализма Россия вступила первой в истории мира. Та русская интеллигенция, остат­ ки и наследники которой в своем большинстве сейчас находятся в эмиграции, по понятным причинам не может сознаться в том, что эту социалистическую революцию подготовила именно она. Что все, что сегодня практически проводит товарищ Сталин, было за­ ранее спланировано властителями дум русской интеллигенции — и единая партия, и единый вождь, и коллективизация деревни, и диктатура тайной полиции. Но когда мы переходим к вопросу о русской интеллигенции и ее вине в том, что ныне делается в Рос­ сии и из России, мы снова вступаем в обычную для всех общест­ венных наук путаницу терминов. 300 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век История русской общественной мысли делится на две очень не­ равные части. В первой части работали люди первого сорта. Их чи­ тали все, но их не слушал никто. Второю частью безраздельно за­ ведовали литераторы второго сорта. Их читали мало, но им пови­ новались все. Достоевский и Толстой, Пушкин и Блок, Тургенев и Лесков были, конечно, людьми первого сорта. Но политически они были — или считались — реакционерами. Еще в большей сте­ пени это же относится к представителям русской науки. Периоди­ ческая система элементов Д. Менделеева кое-что говорила и уму и сердцу каждого русского интеллигента. Но политические убежде­ ния Менделеева не интересовали никого: они были “реакционны­ ми”. Точно так же никого не интересовали и политические убеж­ дения И. Павлова. Русское интеллигентское стадо было целиком захвачено “Бесами”, и никакие предупреждения автора этих “Бе­ сов” не помогали ничему. Это стадо так и покончило свою бездар­ ную и безмозглую жизнь: бросилось в омут революции. Но “Бесы” пока что остались живы. Мы, русские, вступили первыми на истинно бесовский путь. Может быть, мы первыми и сойдем — окончательно и навсегда. По крайней мере те из нас, кто уцелеет до этого времени. Может быть, наш конкретный, наглядный, вопиюще очевидный пример послужит некоторым предупреждением и тем “революционным интеллигентам”, которые в иных странах одержимы теми же беса­ ми и стоят перед тем же омутом. Тогда, может быть, гибель почти сотни миллионов людей России и ее соседей не будет совсем уж бесплодной. Может быть, именно сейчас человечество вспомнит и о другой стороне медали: социальная революция назревала и гото­ вилась прежде всего в России. Но из России же пришли и первые страшные пророчества о грядущей победе социализма. Почти сто лет назад Александр Герцен писал: “Социализм разовьется во всех фазах до крайних последствий, до нелепости. Тогда снова вырвется из титанической груди рево­ люционного меньшинства крик страдания и снова начнется смерт­ ная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консер­ ватизма и будет побежден грядущей нам неизвестной революцией” (Собр. соч. Женева. Т. 5. С. 121). Около полувека тому назад писал Ф. Достоевский: “Дай всем этим современным высшим учителям полную воз­ можность разрушить старое общество и построить новое, то вый­ дет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчело­ вечное, что все здание рухнет под проклятиями человечества преж­ де, чем будет завершено... Раз отвергнув Христа, ум человеческий Диктатура импотентов 301 может дойти до удивительных результатов” (Дневник писателя / / Гражданин. 1873. № 50). Почти одновременно с Достоевским — лаконически, но с изу­ мительной точностью — Лев Толстой нарисовал историческую схе­ му будущей революции: “К власти придут болтуны адвокаты и пропившиеся помещики, а после них — Мараты и Робеспьеры” (Яснополянские записки. С. 81). На самом пороге революции, в 1912 году, предупреждал В. Ро­ занов: “В революции нет и не будет никакой радости. Никогда это царственное чувство не попадет в объятия этого лакея... В револю­ ции никогда не будет сегодня, ибо всякое завтра ее обманет и пе­ рейдет в послезавтра” (Опавшие листья). Почти за сто лет до революции начала пророчествовать и наша поэзия. И кончила пророчествовать на самом пороге 1917 года. Почти сто лет назад М. Лермонтов писал: Настанет год, России черный год, Когда царей корона упадет... И — на самом пороге этого падения — А. Блок предупреждал: Люди, вы ль не узнаете Божией десницы: Сгибнет четверть вас от глада, мора и меча... Все это уже свершилось: “России черный год” — настал. К вла­ сти пришли: болтуны адвокаты (Керенский) и пропившиеся поме­ щики (князь Львов, председатель первого революционного прави­ тельства), и за ними Мараты и Робеспьеры — Ленин и Сталин. Со­ циализм “развивался до крайних последствий”. Получилось: “мрак, хаос, нечто грубое, слепое, бесчеловечное”. Около четверти населения страны действительно погибло — от тифов, гражданской войны, от голода коллективизации, от меча террора. И — нет ни­ какого “сегодня”: каждая завтрашняя пятилетка обманывает и пе­ реходит в послезавтрашнюю. Но началась и “смертная борьба”. Ре­ волюционное — правда, не меньшинство, а большинство, “титани­ ческая грудь” которого надрывается от отвращения и рвоты при истинно бесчеловечных свершениях тоталитарного социализма, ве­ дет эту “смертную борьбу” уже с 1917 года и уже заплатило в этой борьбе десятками миллионов жизней. Но и это большинство пока что бредет ощупью. Оно еще не в состоянии “отрешиться от ста­ рого мира” и забыть те заповеди научного социализма, которые оно всосало с млеком всех философских систем Европы. Человек есть то, что он ест. Человеческая жизнь есть кратчайшее расстоя­ 302 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ние между органами хватания и органами выделения — вот млеко этих систем, сгущенное до двух строчек. Но на этом питании выраста­ ли поколения, принимавшие за науку то, что было безмерно хуже вся­ кой схоластики: черную магию печатных значков на белой бумаге полных собраний сочинений Великих Жрецов Ненависти и Лжи. “Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы Меня. Но ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала... Когда он говорил ложь, — он говорил свое, ибо он лжец и отец лжи” (Ин. 8, 42 — 44). Великие жрецы философии, подчинившей Европу, были лжеца­ ми, и отец их был отцом лжи. Вся сумма современных “гуманитар­ ных наук”, в течение тысяч лет звавших нас к невыразимо пре­ красному будущему материалистического утопизма, была основана на лжи. Сейчас, когда обещания выполнены и утопии реализова­ ны, когда вся Европа захлебывается в голоде, грязи и крови, когда та вавилонская башня безбожного социализма, которую предска­ зывал Достоевский, почти достроилась и уже начинает рушиться — нам, всем нам окаянно трудно примириться с тем фактом, что в основу философии и в фундамент башни была заложена ложь. Карл Маркс был по-своему прав, когда он сказал: “Философия — это душа пролетариата”. В душе пролетариата, да и не только его одного, философия заменила религию и Гегели заменили Бога. Мы все, прямо или косвенно, сознательно или бессознательно, воспи­ таны на Гегелях. Нам всем трудно примириться с тем фактом, что перед всеми нами стоит выбор: или философия — или религия, с тем фактом, что вся сумма гуманитарных наук есть заведомо орга­ низованная ложь и что самая научная книга, когда бы то ни было написанная о человеческом духе и о человеческом общежитии, есть просто Священное Писание. И что реакционна не Библия — реакционна революция. Что “опиум для народа” поставлял не Христос — этот опиум поставляла вся философия, начиная от Пла­ тона и кончая пока что Гегелем и Марксом. Весь умственный багаж ведущих слоев современной Европы со­ стоит из философий. Этим слоям торговать больше нечем. Мои ут­ верждения о лжи философии в частности и гуманитарных наук во­ обще будут для этих слоев профессионально неприемлемы. Для среднего человека, наделенного здравым смыслом, но наделенного и рядом въевшихся в сознание галлюцинаций, эти утверждения бу­ дут неправдоподобны. Я пытаюсь доказать их документально. Эти доказательства — или, по крайней мере, часть из них — мне ка­ жутся совершенно неоспоримыми. Но я отдаю себе достаточно яс­ ный отчет в том, что современная техника пропаганды окончателъ- Диктатура импотентов 303 но убила всякое доверие ко всяким документам, доказательствам, ссылкам и цифрам. Современная техника публицистики развила такую — еще невиданную — ловкость рук, при которой одинаково документальным путем можно доказать — или, по крайней мере, доказывать — решительно все что угодно. Однако вся Европа сей­ час находится в таком положении, какое лет тридцать назад пока­ залось бы совершенно неправдоподобным всякому человеку, обла­ дающему нормальным здравым смыслом и нормальными человече­ скими инстинктами. Неправдоподобен тот факт, что Россия — не­ давняя житница Европы — уже тридцать лет не выходит из хрони­ ческого голода. Неправдоподобен тот факт, что народ Гегеля и Канта, Гете и Бетховена до последней капли крови сражался за по­ следнюю комнату в Reichskanzlei и за идеалы Бельзена и Дахау. Неправдоподобен тот факт, что в Европе, после полутора тысяч лет сверхчеловеческих усилий христианства, на очередь дня был поставлен вопрос о физическом уничтожении целых классов и це­ лых рас — этот вопрос и сейчас еще не снят с повестки дня. Люди, когда-то праздновавшие 1900 год — переход от XIX века к двадца­ тому, присутствовавшие при исполнении древней сказки о завоева­ нии воздуха и подводившие некоторые итоги беспримерным в ис­ тории человечества завоеваниям XIX века, — что сказали бы эти люди, если бы в юбилейных сборниках начала XX века им нарисо­ вали бы картину его середины? Европа, сидящая в голоде, грязи, бараках, развалинах, в крови, ненависти, страхе и отчаянии? Роди­ на белой расы и всей ее культуры, расколотая трещинами и клас­ совой и национальной ненависти. Национальные войны перепле­ таются с гражданскими, расовый террор — с классовым террором. Одни “пролетарии” грабят других “пролетариев”. Одни народы пытаются истребить другие народы. Одна часть европейцев ждет спасения от “империализма доллара”, другая от демократии — НКВД. И никто не верит ни во что, кроме как кусок хлеба, который то ли нужно добывать путем грабежа, то ли спасать от грабежа. “Чело­ век есть то, что он ест” — эта аксиома написана на знаменах револю­ ционной Европы, и к этой аксиоме Европа и пришла: кроме куска хлеба, за душой не осталось ровным счетом ничего. Европа наполнена голодом. Это очень плохо, и об этом пишут и говорят все. Но Европа еще больше наполнена ненавистью — о ненависти сейчас, в сахаринные дни ООН, не принято ни писать, ни говорить. Однако было бы глупо предполагать, что поляки мо­ гут забыть подвиги гегелевской Германии в Польше 1939—1944 го­ дов или что немцы постараются не вспоминать подвиги марксист­ ской Польши на востоке Германии в 1944—1947 годах. Что доктор 304 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Шумахер забудет подвиги геноссе Пика, венгры — демократиза­ цию по “восточному образцу”, “королевские сербы” — генерала Михайловича11, красные испанцы — подвиги Франко и белые ис­ панцы — подвиги красных, что миллионов двадцать европейских пролетариев, “смещенных” со своих очагов, ограбленных до нит­ ки, выданных то ли на произвол УНРРА, то ли на милость НКВД, забудут все то, что они пережили за годы окончательных торжеств гегелевской философии в ее расистском варианте и той же фило­ софии в ее марксистском варианте. В юбилейный 1900 год все это показалось бы совершенно не­ правдоподобной ерундой. Но все это стало реальностью. Неправдо­ подобная реальность по необходимости должна иметь неправдопо­ добное объяснение. По-видимому, самым неправдоподобным из всех объяснений будет рождение социализма просто из сексуальной неполноценно­ сти: из извечной обиды сексуально ущемленного homo sapiens, не­ навидящего Господа Бога именно за эту обиду — но ненавидящего и все остальное в мире. Сейчас социализм предпочитает не вспо­ минать о тех двух тысячах лет своей пропаганды, когда “обобщест­ вление жен и детей” стало на первом месте всех социалистических программ. Обобществления и женщин и имущества по понятным соображениям добиваются прежде всего те, у кого нет ни того, ни другого,— пролетарии кармана и санкюлоты пола. И они, от Пла­ тона до Гитлера, шли в атаку не столько против “частной собст­ венности”, сколько против семьи. Импотенты стояли у философ­ ских истоков социализма — импотенты стали и на верхах револю­ ционной власти. Великий и многоликий урод отравил все источни­ ки человеческого бытия и основу всего — религиозный инстинкт. Евангелие Блага, Весть любви, заменено полными собраниями учебников ненависти — расовой, классовой, национальной, груп­ повой и какой хотите еще. Философия, “душа пролетариата” и идейная основа революции, объявила войну Евангелию — больше ей ничего и не оставалось. Европа продала душу свою духу безбожия, и Европе были обеща­ ны все блага мира. Русский фольклор в самых разнообразных ва­ риантах повторяет сказку о человеке, продавшем черту душу свою за заколдованный клад. Этот человек убивает ближних своих, их кровью подписывает соответствующий контракт, получает клад, приносит его домой, и то, что казалось грудами золота, оказывает­ ся кучей черепков — чертовых черепков. Ни души — ни золота. Европе были обещаны “все блага мира” — в обмен на ее душу. Ду­ ша была продана. Сейчас Европа, как Иов, сидит на гноище и че­ Диктатура импотентов 305 репками отскребывает язвы свои. Философия материализма опус­ тошила души нынешнего поколения — но материальная компенсация за проданную душу была выдана черепками. Ни душ — ни калорий. Почти две тысячи лет тому назад некий — сейчас основательно забытый — Автор предупреждал нас: “Берегитесь волков в овечьей шкуре — по делам их узнаете их”. Мы не послушались. Мы объя­ вили Забытого Автора агентом капитализма, защитником реакции, пропагандистом опиума, суеверия, невежества и чепухи. Теперь — волки пришли. Для всех нас, для всего человечества, вопрос заключается в том, удастся ли нам вернуться к Забытому Автору или весь мир пойдет по стопам Европы. С той только разницей, что социалистическую Европу пока что кормит и спасает от окончательного взаимоистребления капиталистическая, реакционная, монополистическая, философски невежественная Америка. Но что будет, если и Аме­ рика пойдет по путям философии? Кто тогда положит кусок хлеба в протянутую через океан руку строителей невыразимо прекрасно­ го, философски обоснованного, научно неизбежного социалисти­ ческого будущего? Атомистическая философия празднует у нас свою победу: человечество, европейское человечество, преврати­ лось в атомизированные кучи никакими заповедями не связанных людей. Что будет, если и Америка пойдет по этому пути? Тогда останется одно — но только одно — утешение: строители не­ выразимо прекрасного будущего съедят самих себя. Они вырежут друг друга до последнего. Будущим богословам они дадут недостающее до­ казательство бытия Божия: жизнь без Бога оказывается невозможной. Это будет великое утешение — для тех, кто до него доживет... ВОЛКИ, ШКУРЫ И ФАКТЫ Мир нуждается в мировом правительстве. Но еще больше мир нуждается в мировой организации всеобщего обезвздоривания. Ибо, если тот вздор, которым питалась и пропиталась Европа по­ следней эпохи, не будет смыт, не поможет никакое мировое пра­ вительство. Есть один, и только один способ ликвидации этого вздора: победа репортажа над философией, реальности над схола­ стикой, то есть фактов над вымыслами. Если мы отбросим в сторо­ ну всякую философию — революционную или реакционную — это безразлично, всякую схоластику — богословскую или философ­ скую — это тоже безразлично, всякие вымыслы — независимо от 306 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век того, приятны или неприятны, то общая линия общественного раз­ вития Европы последних ста лет станет совершенно очевидной и совершенно бесспорной. Эта линия протягивается так. Из утопических мечтаний философов, начиная от Платона и кончая Беллами и Марксом, вырос “научный социализм” — наука о том, чего в природе не существует. Или, по крайней мере, не существовало до 1917 года. Из научного социализма зарождались его практические деятели, заседавшие за столами международных социалистических конгрессов и обещавшие нам, маленьким людям мира сего, кучу всяческих благ: мир, хлеб, свободу и всяческие остальные производные мира, хлеба и свободы. В начале девяностых годов было также неприлично не быть социалистом, как нынче в капиталистической стране появиться на диннер-парти без штанов. До Первой мировой войны во всех странах Европы медленно, но верно шли к власти социалисты. Даже в парламенте царской России заседала партия социал-демократов — большевиков, впо­ следствии принявшая название коммунистической. И если власть в царской России фактически еще принадлежала царскому режиму, то моральная власть давно перешла в руки социализма. После Пер­ вой мировой войны, использовав европейскую катастрофу и про­ рвав последние проволочные заграждения капиталистических и прочих старых режимов, социалисты к власти пришли. В конти­ нентальной Европе не осталось ни одного несоциалистического правительства. Перечислим по пальцам. В России к власти пришел Владимир Ленин — член Российской социалистической партии большевиков. В Польше — Иосиф Пилсудский, член польской рабочей со­ циалистической партии. В Венгрии — Бела Кун, член венгерской рабочей социалистиче­ ской партии. В Германии — раньше Эбер, член германской социал-демокра­ тической рабочей партии, а потом Адольф Гитлер — член герман­ ской национал-социалистической рабочей партии. В Чехии — Ян Масарик и Эдуард Бенеш — члены чешской ра­ бочей социалистической партии. В Италии — Бенито Муссолини, член итальянской рабочей со­ циалистической партии. Во Франции — Леон Блюм и прочие — члены французских со­ циалистических партий. В Бельгии — Эмиль Вандервельде, член бельгийской рабочей социалистической партии. Диктатура импотентов 307 В Швеции, Норвегии, Дании, Испании и Финляндии и про­ чих — со всякими колебаниями политической борьбы — пришли всякие иные, но тоже социалистические партии. Реакционные ре­ жимы: Романовых, Гогенцоллернов, Габсбургов, Бурбонов, Савойцев были заменены социалистическими режимами Ленина, Гитле­ ра, Бела Куна, Миахи, Муссолини и других. Романовы и прочие, сидя на своих престолах, не обещали, собственно, ровным счетом ничего и никакого рая нигде не проектировали. У них были и по­ лиция, и тюрьма, и армия. Они вели войны. Они занимались “им­ периализмом” и “национализмом”. Ни на одном европейском пре­ столе не сидело ни одного гения. В Европе не голодал никто. Ни­ кого без суда не расстреливали. Можно было ездить от Мурманска до Гибралтара и обратно. Можно было спать, не опасаясь ночных визитов тайной полиции. Можно было работать, не боясь, что зав­ тра плоды ваших рук подвергнутся то ли девальвации, то ли на­ ционализации, то ли просто грабежу. Мы можем утверждать, что при Романовых и прочих в Европе все-таки было плохо. Но никак невозможно отрицать, что при “пролетариях всех стран” в той же Европе стало безмерно хуже. Когда эти пролетарии к власти шли — они в числе прочего кля­ лись и солидарностью всех народов. Придя к власти, каждый со­ циалист заявил, что каждый другой социалист есть: предатель ра­ бочего класса, социал-соглашатель, изменник социализму, крова­ вый фашист, кровавый тоталитарист и вообще сволочь, которую по мере возможности нужно зарезать. Настоящий же социалист — это только “Я”, единственный, неподражаемый, гениальный и ге­ ниальнейший. “Государство — это я ”. “Социализм — это тоже я”. “Нет Бога, кроме социализма, и Сталин (Муссолини, Гитлер, Бе­ неш, Блюм и пр.) единственный пророк его”. В Европе началась эпоха всеобщей пролетарской резни. Будущие профессора университетов и ученики средних учебных за­ ведений так, вероятно, и не смогут понять: из-за чего, собственно, Сталин зарезал Троцкого, Гитлер — Рема12, Муссолини — Матгеотги13 и несколько миллионов одних социалистов. Как это все они, столе­ тиями призывавшие к единению, не могли хотя бы сговориться? Не очень ясно это даже и сейчас, над совсем еще свежими могилами ере­ тиков и ересиархов социализма, удушенных в братских объятиях про­ летариев всех стран. Кто в 2000 году сможет уловить принципиальные различия в среде “железной гвардии Ленина” — как до полного взаимоистребления этой гвардии ее называла официальная фразеология большевиков? И кто в том же 2000 году сможет провести грань, отде­ ляющую истинный социализм от не совсем истинного? 308 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век В разных странах Европы к власти пришли все-таки разные люди. Отделяя “западный” социализм от его “восточного” собрата, можно, например, сказать, что западные социалисты предпочитали запускать в банковские портфели свои невооруженные руки: становились мини­ страми и получали мзду. Восточные предпочитали action directe. Два самых прекрасных Иосифа мировой истории — Иосиф Сталин и Ио­ сиф Пилсудский промышляли “экспоприациями” — так по тем вре­ менам назывался вооруженный грабеж под фирмой идеологии. Иосиф Сталин возглавлял кавказских гангстеров, и самым крупным его под­ вигом было ограбление тифлисского казнЛейства, во время которого взрывом бомбы было убито несколько десятков случайных людей и было похищено что-то около двухсот тысяч рублей — царским золо­ том, не сталинскими кредитками. У другого Иосифа — Пилсудского, масштабы по тем временам были скромнее: при вооруженном нападе­ нии на почтовый поезд на станции Беэданы было убито всего только два почтовых чиновника и украдено что-то около десятка тысяч руб­ лей. Оба Иосифа сидели в той же царской ссылке, заседали или пыта­ лись заседать на тех же социалистических конгрессах и вообще кля­ лись в вечной пролетарской солидарности. Потом пути их несколько разошлись. Один Иосиф стал гением в Варшаве, другой Иосиф стал гением в Москве. Один из сподвижников польского гения — тоже по­ ляк Феликс Дзержинский остался в ленинско-сталинском лагере. И стал основателем ВЧК — потом ОГПУ и теперь МВД. Другие после­ дователи польского гения основали в Польше диктатуру так называе­ мых пилсудчиков. Социалистические наследники Дзержинского рас­ стреляли в Катыни десять тысяч пленных — социалистических на­ следников Пилсудского. И свалили вину на социалистических после­ дователей Гитлера. Социалистические последователи Гитлера расстре­ ляли несколько миллионов социалистических последователей Пилсуд­ ского и Сталина. Пролетарии СССР уморили голодом около двух миллионов пленных немецких пролетариев. Трудящиеся Польши от­ правили на тот свет какое-то еще нам неизвестное количество немец­ ких трудящихся, проживавших восточнее линии Одер—Нейсса. В на­ стоящий момент все эти варианты социалистической солидарности остановились на линии Эльбы. Но это не потому, что к западу от Эль­ бы начинается психология социализма по западному образцу, а пото­ му и только потому, что к западу от Эльбы господствует капиталисти­ ческая полиция США и Англии. Люди, говорящие о "демократии по восточному образцу” и о демо­ кратии по западному, склонны начисто забывать о наличии в Европе капиталистических вооруженных сил — сил Америки и Англии, и о том факте, что граница “западной” и “восточной” психологий совер- Диктатура импотентов 309 шенно точно определяется границей оккупационных зон. Человече­ ская память вообще очень несовершенное орудие познания мира. Позднейшие итальянские фашисты начисто забыли, что, отправляясь в свой всемирно-исторический поход в Рим, Муссолини требовал ре­ шительно того же, чего требовал Ленин, отправляясь в немецком по­ езде и на немецкие деньги в свой тоже всемирно-исторический поход на Петербург, национализации крупных банков и заводов, ликвидации армии и дворянства, созыва итальянского учредительного собрания как секции всемирной социалистической конституанты. Тогда Муссо­ лини был социалистом-интернационалистом, и первые уроки мар­ ксизма ему давала Анжелика Балабанова, одна из ближайших учениц и сподвижниц Ленина. Первый послевоенный президент Финляндии мистер Свинхувуд14 сидел в царской ссылке вместе с Лениным и про­ чими. Недавний министр иностранных дел той же Финляндии мистер Таннер15 в свое время скрывал в своем доме товарища Сталина — во время его очередных самовольных отпусков из царской ссылки. Во время “зимней войны” 1939 — 1940 годов мистер Таннер пытался умилостивить товарища Сталина тем благодарственным письмом, ко­ торое Сталин ему в свое время прислал. Письмо не помогло. Дороги “пролетариев всех стран” стали расходиться. Так, товарищ Пилсуд­ ский, придя к власти, заявил делегации своей партии — делегация пришла поздравлять его с победой, которую генерал Вейган одержал над армиями товарища Ленина: — А теперь прошу называть меня не товарищем, а паном маршалом. Делегации это не понравилось, но протестовать она не посмела. Потом — пути разошлись еще дальше. Пан маршал остался у власти, а товарищи социалисты поехали в концентрационный лагерь Картуз-Бе­ резу — польский социалистический вариант Дахау и Соловков. Там их вешали, секли розгами и заставляли есть нечистоты. Пан Пилсудский также присвоил себе чужую победу и чин маршала, как это сделал и товарищ Сталин. Братскую социалистическую резню он начал гораздо раньше, чем начал ее товарищ Сталин. В последующем ходе событий Муссолини и Гитлер своровали систему Ленина и Сталина. Однако еще не ясно: в какой именно степени Ленин и Сталин обворовали Пилсудского? Первая братская резня, первые концентрационные лаге­ ря и первый чин вождя и маршала — все это возникло в Польше. Первая социалистическая тайная полиция, ВЧК, была организована — хотя и в России и по русским чертежам, но все-таки двумя поляка­ ми — Дзержинским и Менжинским. Техника власти, как и техника вообще, осталась, по-видимому, единственным звеном, объединяю­ щим пролетариев всех стран. Все остальные звенья — лопнули. 310 Салоневич И.Л. Наша страна. XX век Победители над Европой двадцатых и тридцатых годов были разные люди, с разными индивидуальными наклонностями, вырос­ шие в разных национальных традициях, попавшие в разные эконо­ мические и политические условия. Одни из них успели дорваться до настоящей власти, как Ленин, Сталин, Муссолини, Бела Кун, Пилсудский и Гитлер. Другие до настоящей власти еще не дошли, застряв где-то на полдороге компромисса с буржуазным уголовным правом. “Керенский период” социалистической революции про­ длился в Польше недели две, в России — месяцев восемь, в Герма­ нии — лет пятнадцать, во Франции он тянется лет пятьдесят. Чем кончится французский? Французский Ленин, по-видимому, опо­ здал. Можно представить себе, как ленинские и сталинские лавры и титулы не дают спать товарищу Торрезу. Может быть, даже и то­ варищ Торрез, несмотря на ближайшее соседство капиталистиче­ ской полиции — не совсем опоздал? Все эти люди, конечно, разные люди. Но все они были социа­ листами. Все они опирались на социалистические, пролетарские партии. Все они говорили одним и тем же языком, и все они обе­ щали одно и то же. За спиной их всех стояла несколько по-разно­ му сформулированная, но одна и та же “научная теория”. Наше поколение еще помнит, а более молодое уже и понятия не имеет о тех мировых социалистических конгрессах, на которых все эти благодетели человечества истекали сахаринным елеем умилитель­ ных слов и, тщательно пряча за пазухами остро отточенные ножи фракционной идейной, а больше всего личной ненависти — нена­ висти всех против всех, — засыпали страждущее человечество ла­ винами сладчайших обещаний. Идя к власти, эти люди в обещани­ ях не стеснялись никак. Придя к власти, они перестали стесняться чем бы то ни было. Может быть, по некоторым деталям полемики между Робеспьером и Дантоном, Вольтером и Руссо, Гегелем и Шеллингом, Марксом и Бакуниным можно было бы заранее дога­ даться о той первозданной, стихийной ненависти, которая клоко­ чет в каждой душе каждого истинного революционера? Каким-то таинственным образом “наука” этой ненависти не заметила. А мо­ жет быть, не хотела заметить? Бакунин и Маркс ненавидели друг друга лютой и личной ненавистью. Такое сквернословие, каким они осыпали друг друга, немыслимо ни в какой буржуазной печа­ ти. Свою политическую карьеру Бакунин закончил каким-то пись­ мом, написанным охранному отделению. Я этого письма разыскать не смог. В сорокатомной русской энциклопедии дореволюционно­ го издания сказано глухо: это письмо не подлежит опубликованию, Диктатура импотентов 311 ибо оно могло бы набросить тень на имя великого русского рево­ люционера. Оно и не было опубликовано. Так гуманитарная наука завязывает себе правый глаз, чтобы все видеть только с левой точ­ ки зрения. Стоя вот на этой точке зрения, “наука” видела все обе­ щания грядущей солидарности и отказалась видеть — а тем более показать нам — те моральные свойства революционных вождей и армий, которые совершенно ясно видны были и сто лет тому на­ зад. Наука, европейская гуманитарная наука, изучала декорации и декламации. И тщательно, в меру всех своих наличных сил, поста­ ралась скрыть от всех нас то, что скрывалось за декоративно-дек­ ламационной вывеской революционного притона. Теперь вывеска сорвана, и притон виден во всей его кровавой отвратительности. Постараемся по этому поводу забыть все то, о чем говорила нам “самая современная наука”, и вспомнить о том, что сказал нам За­ бытый Автор, никогда ни на какую научность не претендовавший: “Берегитесь волков в овечьих шкурах — по делам их узнаете их!” Сейчас шкуры сняты все. Реальность обнажена так, как не была обнажена, может быть, никогда в истории человечества. Для вся­ кого вождя и для всякой шкуры техника современной “науки” еще может подыскать достаточно жуликоватые объяснения. Но вся сумма обещаний, вождей, шкур и реальности так удручающе оче­ видна, так безнадежно бесспорна, что, может быть, совет Забытого Автора мы примем наконец всерьез. И будем судить: слова — по словам, и дела — по делам. ВОЛКИ и о в ц ы Я не хочу утверждать, что все социалисты Европы были волка­ ми в овечьей шкуре. Их подавляющее большинство состояло из баранов в волчьих шкурах. Эту последнюю категорию лучше всего персонифицировать в А. Ф. Керенском, “первенце русской рево­ люции” и первом социалистическом премьере русского революци­ онного правительства. Его имя — может быть, и без какой бы то ни было личной вины с его стороны, стало исходным пунктом для всякого рода презрительных неологизмов: “керенки”, “керенщи­ на” — символы чего-то бессильного и бестолкового. Сидя на ми­ нистерском посту, Керенский произносил речи, переполненные клятвами и угрозами: он не допустит, он не потерпит, он раздавит, он будет стоять до последней капли крови. Ленин не произносил почти никаких речей, а Сталин — и вовсе никаких. Ленин был во­ обще очень плохим оратором, одним из худших, каких я когда-ли­ бо слышал, а Сталин по тем временам по-русски говорил не без 312 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век некоторого труда. Словом, Керенский говорил, а Ленин и Сталин оттачивали свои зубы без речей. И когда дело дошло до зубов, то Керенский сбежал без всякого пролития крови, по крайней мере своей. На будущих аукционах любители исторических сувениров, вероятно, заплатят хорошие деньги за ту женскую юбку, на кото­ рую А. Ф. Керенский сменил наряд их волчьей шкуры. Керенский бежал из Зимнего дворца, переодевшись в женское платье, предос­ тавив защиту и царского дворца и революционной демократии женскому ударному батальону. Приблизительно по той же схеме сняли свои революционные боевые шкуры германские социал-демократы, итальянские социа­ листы, чешская социалистическая партия и многие другие. Иногда это носило отпечаток трагедии. В сумме это привело к катастрофе. Находясь в здравом капиталистическом уме, трудно, собственно, представить себе: как это люди могли верить тому истинно вопиюще­ му вздору, который обещали им торговцы невыразимо прекрасным будущим? Лев Троцкий обещал всякому комсомольцу гений Платона или Аристотеля. Лабориола и Каутский не очень отставали от Троцко­ го — или, точнее, Троцкий слегка обогнал их. Ленин в “Правде” 1922 года писал о том, что лет через десять научного социалистического — то есть ленинского — строя люди будут работать по несколько часов в день и только несколько лет своей жизни, лет этак пять-десять. На ту сумму материальных благ, которые они по социалистической системе успеют произвести за эти немногие часы и годы своей работы, они смогут спокойно наслаждаться всей своей остальной жизнью: жить в Давоссе или Ницце, в Крыму или где им будет угодно, и социалисти­ ческое правительство будет добросовестно и аккуратно высылать им их социалистическую ренту. Муссолини обещал “математически га­ рантированную победу” римских Лаццарони, а Гитлер строил свою имперскую канцелярию сразу на тысячу лет. Трудно сказать, в какой именно степени вожди социализма верили своим собственным словам. Вот верил же Фурье в своих летающих тигров! Фурье был клиниче­ ским сумасшедшим. Но ведь люди верили и Фурье! Троцкий сума­ сшедшим, кажется, не был. Кто-то верил и Троцкому... Но я никак не могу себе представить, чтобы Троцкий, Ленин и Сталин верили хотя бы единому слову, с которым они обращались к “массам”... К вопросу о первом социалистическом соревновании в исто­ рии — о соревновании в обещаниях, я вернусь несколько дальше. Пока что желательно установить тот факт, что волки в овечьих шкурах, обращаясь к баранам в юбках и штанах, сами попадали в условия жесточайшей конкуренции — именно она привела позже к взаимоистреблению. Каждый из вождей больше всего боялся, как Диктатура импотентов 313 бы не оказаться “отсталым”, как бы его не опередил его более ле­ вый конкурент. Боязнь оказаться несколько правее откровенного сумасшедшего дома определила собою весь ход европейской дема­ гогии. Вождь Номер Первый предлагал трехчасовой рабочий день. Вождь Номер Второй был вынужден предложить двухчасовой. Вождь Номер Первый обещал невыразимо прекрасное будущее на послезавтра. Вождь Номер Второй был вынужден обещать его на завтра. В общем, как показала практика, побеждали люди, обещав­ шие все и на сегодня вечером. “Муки рождения” на несколько ча­ сов и невыразимое блаженство до скончания мира. Впрочем, даже и “муками рождения” должны были расплачиваться эксплуатато­ ры. “Угнетенные” не теряли и теоретически не могли потерять ни­ чего, “кроме своих цепей”. Так говорил Маркс. Приблизительно то же говорили и остальные. Гениальность Аристотеля и Платона, обещанная товарищем Троцким комсомольцам, летающие тигры, обещанные ситуайеном Фурье французским баранам, Давосе и Ницца, обещанные Лени­ ным русским ягнятам, — все это можно считать крайностью, пре­ увеличением, вообще чем-то вполне укладывающимся в некую среднюю схему социалистических обещаний и программ. Как, с другой стороны, можно считать некоторой социалистической крайностью английских фабианцев, обещавших рай земной лет этак через пятьсот. Или — через пять тысяч. Фурье с его летающи­ ми тиграми и Эттли с его национализацией железных дорог можно считать самым левым и самым правым флангами общей социали­ стической линии. Как я уже говорил, мистер Эттли в своей поли­ тике ничем существенным не отличается от Николая 1Р, так же как Фурье ничем не выделяется из среднего уровня психиатриче­ ской больницы. Эттли и Фурье мы можем считать нетипическими явлениями. Но были даны обещания, подписанные всеми социалистами мира. Вот эти обещания: 1. Мир между народами. 2. Мир и свобода внутри каждого народа. 3. Отмена смертной казни. 4. Невиданный рост всяческого благополучия. ' Кстати: в стране мистера Эттли в августе 1947 года происходили ев­ рейские погромы, так же как в стране Николая II в 1907 году. В обоих случаях — по той же причине. В обоих случаях подонки городов гро­ мили консервативное еврейство за преступления еврейских подон­ ков — Бунда в России и Иргун Цво Леуми — в Палестине. 314 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век 5. Невиданный расцвет всяческой культуры. При всяких поправках на человеческие слабости и ошибки, страсти и пороки дела всех этих людей стали сейчас совершенно наглядными, абсолютно бесспорными для каждого человеческого существа, наделенного нормальными человеческими глазами и нормальной человеческой совестью. Отпадает даже ссылка на вся­ кие локальные или хронологические случайности: во всех странах, где эти люди и дела их пришли к власти, ход событий развивается с истинно железной закономерностью — на Востоке и на Западе, в некультурной России и в культурной Германии, в католической Испании и в православной Югославии — при Ленине и Сталине, Бела Куне и Гитлере, Муссолини и Тито. Вот эти дела — в том же порядке, в каком были приведены слова. По пункту первому: о мире. а) Всеобщий мир начался с организации целого ряда граждан­ ских войн: в России, в Германии (Баварская советская республи­ ка), в Венгрии (Венгерская советская республика), в Китае, в Фин­ ляндии, Испании, Австрии, Италии, Болгарии и прочих. Сорва­ лись попытки организации гражданской войны в Англии (забас­ товка 1926 года) и в США (демпинг для поддержки кризиса). б) В тех странах, где гражданская война закончилась победой одной из философий — в России, Италии и Германии, — после уничтожения буржуазных конкурентов в борьбе за власть победи­ тели стали истреблять всех социалистических конкурентов. Истре­ бив социалистов всех иных партий, они стали истреблять конку­ рентов в своей собственной. в) Истребив внутри своих стран своих домашних конкурентов, все победившие вожди всего обновленного человечества начали су­ дорожно готовиться к истреблению внешних. Начав свои карьеры с протестов против империализма, вооружений, постоянных армий и “милитаризма”, СССР, Италия и Германия начали в мирное вре­ мя ковать оружие в масштабах, никогда невиданных ни при каком капитализме. Вся жизнь народов победивших социализмов оказа­ лась подчиненной режиму казармы и военного завода. Подготовка СССР к “тотальной войне” началась за шесть лет до прихода к власти Адольфа Гитлера — когда ни с какой стороны ни о какой угрозе для СССР не могло быть и речи. Там, где победившие социализмы воевать не собирались или не могли, они всеми силами старались спровоцировать чужие войны. Так, СССР своим догово­ ром с Гитлером спровоцировал нападение Германии на Польшу, Германия всей своей политикой толкала на войну Японию, Италия вооружила абиссинских “асов” — и все три системы старались по Диктатура импотентов 315 мере всех своих сил увеличить хаос во всем остальном мире. Дого­ вором 23 августа 1939 года Советская Россия обязалась снабжать Германию хлебом, нефтью, марганцем и в особенности смазочны­ ми маслами, так необходимыми для войны против демократий. Че­ рез неделю после этого договора Германия начала войну. Сейчас Советская Россия разжигает войны в Китае, на Балканах, в Индо­ незии и Индокитае, открыто или скрыто стоит за спинами тех про­ летариев всех стран, которые в простоте душ своих полагают, что обилия хлеба, масла, штанов, жилищ и безопасности проще всего достигнуть путем прекращения работы. Итак, обещания всеобщего мира были реализованы сначала в виде гражданских войн в своих собственных странах, потом в по­ пытках организации гражданских войн за границей, потом в пре­ вращении своих собственных стран в сплошные вооруженные ла­ геря, потом в провокации всяких войн в мире, потом в виде Вто­ рой мировой войны — и сейчас в виде подготовки к третьей миро­ вой войне. По пункту второму: о свободах. а) Организация всяческих свобод, прокламированных в тече­ ние столетий, началась с устранения всего населения всех по­ следовательно социалистических стран от какого бы то ни было участия в решении своих собственных судеб. “Волю народа” за­ менила воля вождя, повелевающего единой партией, проводя­ щего свою политику путем беспощадного подавления и массы, и ее мнений, и ее интересов. б) “Всеобщее, равное, прямое и тайное” избирательное право, только еще вчера прокламированное всеми социалистическими партиями, превратилось из права в повинность, выполняемую под надзором тайной полиции. г) Все органы самоуправления и даже самообслуживания заме­ нены централизованной бюрократией, подчиненной полиции, пар­ тии, вождю. Все население страны подчинено полицейскому участ­ ку, который хуже всякого иного в мире хотя бы по одному тому, что никакой иной полицейский участок в мире не наделен такой властью, какою наделен социалистический. д) Гласный суд заменен тайными судилищами, и их произволу отдан каждый гражданин страны — от пастухов до министров. От свободы слова, совести, союзов и прочего не осталось ни следа: “вся власть трудящимся” оказалась всей властью над трудящимися. е) Однако все это есть не только лишение свободы — не только запрет сочувствия какому бы то ни было иному общественному строю, кроме декретированного Вождем, — это, сверх того, есть 316 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век поддерживаемое террором принуждение этому строю сочувство­ вать, его укреплять и его всячески восхвалять. Человек, который в Германии, Италии или СССР стал бы восхвалять Рузвельта или Черчилля, был бы расстрелян. Но, рано или поздно, попадают под расстрел и люди, которые уклоняются от восхваления Сталина, Гитлера или Муссолини. От “трудящихся” победивший социализм потребовал не только отказа от свободы — от всякой свободы. Он, трудящийся, кроме того, обязан — под угрозой гибели — ежеднев­ но демонстрировать свое восхищение режимом голода, рабства, унижения всякого человеческого достоинства. Итак, в результате победы философски обоснованного и научно неизбежного прекрасного будущего люди не только не получили новых свобод, но оказались лишенными и тех, которые они имели при “реакционных режимах” Романовых, Гогенцоллернов, Габс­ бургов и других. Им, трудящимся, было сказано, что им нечего те­ рять, кроме цепей. Они получили только цепи. И их, под угрозой смерти, заставляют эти цепи славословить и целовать. По пункту третьему: о процветании. а) Россия, первая вступившая на путь последовательного социа­ лизма, из недавней житницы Европы превратилась в страну хрони­ ческого голода, который временами обострялся до людоедства. Американская администрация помощи (АРА) точно так же снабжа­ ла умиравших от голода детей социалистической России капитали­ стическим пайком, как сейчас другая американская организация — УННРА снабжает тем же пайком тех же социалистических детей — только уже не одной России, а всей Европы. Вместо хлеба трудя­ щиеся России получили военно-каторжные заводы, трудящиеся Германии — пушки вместо масла и трудящиеся Италии — Абисси­ нию вместо макарон. б) За хлебным голодом последовали и все остальные мыслимые его разновидности: жилищный, топливный, одежный, бумажный, культурный и прочие. Жизнь постепенно стала приближаться к идеалу тюрьмы, основанной на принципах самоснабжения — каки­ ми были тюрьмы Древнего Востока. в) Вся хозяйственная жизнь всех революционных стран оказа­ лась направленной вовсе не к удовлетворению потребностей трудя­ щихся, а к насыщению воли к власти Вождя и жажды привилегий правящей партии. Все строилось для власти — то есть для войны. Трудящимся оставались только объедки. г) Сельское хозяйство подорвано на десятилетия: скот вымер, поля засорены, леса вырублены, ликвидированы самые хозяйственные эле­ менты крестьянства. Разгромлены ремесла, выросшие веками. В СССР Диктатура импотентов 317 в 1935 году правительство уже не смогло найти людей, еще сохранив­ ших технику кустарного художественного ремесла. В Германии уже нет молодежи, которая могла бы принять на себя наследство старин­ ного и высококвалифицированного немецкого ремесла. Но созданы ни для какой нормальной жизни не нужные гиганты военной про­ мышленности, и воспитаны миллионные кадры ни для какой нор­ мальной жизни ненужных людей: сыщиков, плановиков, председате­ лей колхозов, или бауэрнфюреров, красных директоров, или трейгендеров, пропагандистов и лжецов — философов диалектического мате­ риализма и профессоров гегелевской диалектики; воспитаны десятки миллионов молодежи мужской и даже женской, которые ни на что, кроме войны, не годны и которые ничего, кроме ненависти, не знают. Вся хозяйственная жизнь всех революционных стран подчинена пол­ ностью интересам слоя подонков, паразитирующих на хозяйственном строе, возведенном на самых современных философских и идиотских основаниях. Этот слой не производит ничего. Но он и другим ничего не дает производитъ. Итак, общественный строй, воздвигнутый на основах материа­ листической философии — разных материалистических философи­ ях, — привел, прежде всего, к такой материальной нужде, которая грозит если не вымиранием, то, по крайней мере, физическим мо­ ральным вырождением целых племен, слоев и народов. Жалкие крохи лабораторных достижений тоталитарной науки бесследно то­ нут в болоте полного и всеобщего хозяйственного развала. По пункту четвертому: об отмене смертной казни. а) Начав свои карьеры с протестов против смертной казни как против варварской системы наказания, победившие социалистиче­ ские партии ввели смертную казнь сначала для своих классовых врагов, потом для своих соперников по социализму, потом для своих товарищей по партии, потом для своих политических брать­ ев (Бухарин и Рем). б) Смертная казнь введена для всего населения страны, в том числе для женщин и детей. В СССР смертной казни подлежали де­ ти старше 14 лет. Она применялась по поводам, по каким не при­ менялась никогда и нигде в мире. Все варианты “саботажа”, “вре­ дительства”, “измены народу” и прочего в этом роде караются смертной казнью. И германская и русская революции казнили де­ тей, которых эти же революции лишили семьи, хлеба и Бога. Но эти же революции казнят и самих себя: принцип истребления до­ веден до логического конца. в) Смертная казнь получила массовое применение. И в этом своем новом качестве она превратилась в орудие физического ис­ 318 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век требления целых слоев, наций, классов и рас. В России действует по преимуществу классовый принцип, в Германии действовал по преимуществу расовый. Но человеку, которого ведут на казнь, ре­ шительно все равно, на эшафоте какой философии отправят его на тот свет: на основах Гегеля, стоящего на своей собственной голове, или на основах Маркса, поставившего гегелевскую философию с головы на ноги. г) Истребляя враждебные классы или расы, победивший социа­ лизм обескровливает и свои собственные. Как общее правило, ис­ требляются лучшие представители и народа, и класса: те, у которых осталась воля к свободе, воля к сопротивлению, у кого остались талант, инициатива, совесть, нормальный человеческий здравый смысл. Остаются жить пресмыкающиеся. Истребляется все то, что возвышается над пресмыкающимся уровнем. Истребляются лучшие гены грядущих поколений. д) И наконец, как завершение карательной и истребительной системы социализма — введен институт заложников. Каре подле­ жат не только виновный, но и его семья. Или, иначе: наказанию подлежат заведомо невиновные и ни в чем не обвиняемые люди. Это самая сильная сторона тоталитарных режимов. В очень многих сердцах есть достаточное количество мужества, чтобы смотреть в глаза собственной смерти. Но почти невозможно идти на свою смерть, зная, что за ваше преступление — или за ваш подвиг — власть будет пытать вашу мать или вашу дочь. Институт заложни­ ков связывает лучшую часть нации — ту, которая готова жертво­ вать своей жизнью, но которая останавливается перед жертвой жизнью близких своих. Итак, смертная казнь вошла в обиход, стала основным стержнем устрашения масс и удержания власти. Террор всякой революции, французской, немецкой и русской, направлен не только против классовых врагов — или расовых врагов, — он направлен против всей нации, а в перспективе — против всего человечества. Владыки последовательно революционных стран Робеспьер — Сталин — Гитлер — ввели террор вовсе не для то­ го, чтобы удовлетворить свою собственную кровожадность, и ьэвее не для подавления расовых или классовых врагов народа. Вся конструкция революционного и тем более социалистиче­ ского общественного строя является противоестественной кон­ струкцией — и поэтому может быть поддержана только проти­ воестественными мерами. Из всех этих мер смертная казнь яв­ ляется основной мерой. И смертная казнь становится альфой и омегой внутренней политики социализма. Диктатура импотентов 319 По пункту пятому: о культуре. Если вся хозяйственная жизнь страны подчинена закону убий­ ства — террору и войне, — то вся духовная жизнь подчинена зако­ ну ненависти. На ненависти никакой культуры создать нельзя. И если материальная культура кует оружие для мировой власти Ро­ беспьера — Сталина — Гитлера, то этому же требованию должна удовлетворять и духовная культура. Писатели подвергаются цензур­ ным и всяким иным преследованиям не только за то, что они пи­ шут, но и за то, чего они не пишут. Всякое творчество превраща­ ется в проституцию, отказ от которой оплачивается гибелью. Со­ ветский сатирик М. Зощенко в течение почти четверти века дер­ жался на литературной поверхности СССР. Он никак не протесто­ вал против власти. Он сатирически клеймил всякую “мелкобуржу­ азную психологию”, которая этаким камнем преткновения валяет­ ся на шоссе к невыразимо прекрасному “послезавтра”. М. Зощен­ ко — это только третий сорт литературы, первые два сорта вымер­ ли давно. После войны и опьянения победой даже эта литература показалась излишней. М. Зощенко подвергли “чистке”, заставляя каяться и унижаться и перейти на описания “героев сталинской стройки”. Так умирает великая русская литература. Так же умерла и поэзия: два крупнейших поэта советских времен — Есенин и Маяковский — покончили жизнь самоубийством. В операх и сим­ фониях партийные бюрократы находят “партийные уклоны”. Хи­ мики Ипатьев и Чичибабин16 сбежали из СССР. Работник в облас­ ти физики атома профессор Капица17 бежал раньше, но был зама­ нен в СССР, и его заставляют работать на разложение атома для сталинских атомных бомб. Из всего того, что мы привыкли назы­ вать культурой, остались только пропаганда мировой власти Вождя и техника, нужная для завоевания этой власти. Организационная сторона культуры оказалась ниже средне­ вековой. Средневековый школяр мог кочевать из Пражского университета в Сорбоннский и из Падуанского в Гейдельберг­ ский — и он был в курсе всей современной ему человеческой мысли. Сейчас каждый схоласт каждой секты социалистическо­ го богословия отделен непроницаемым “железным занавесом” от всего остального мира. Так, все население Третьего Рейха было убеждено, что Вторая мировая война была проиграна исключительно в результате преда­ тельского “удара в спину” — Дольхштосса. Так, население СССР воспитывается в представлении, что весь остальной мир — неком­ мунистический, нефашистский, нетоталитарный, — мир демокра­ тии, плутократии, капитализма и прочего, прогнил окончательно, 320 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век разложился морально и физически и ждет только толчка со сторо­ ны Муссолини — Гитлера — Сталина, чтобы рухнуть в могилу. Два толчка уже были даны. Два тоталитарных строя уже рухнули в мо­ гилу. И на этих могилах уже растут зеленые побеги неофашизма и неонацизма. Ибо и в Германии и в Италии еще остались люди, ко­ торые при Гитлере и Муссолини были “всем”, а теперь стали черт его знает чем. Такие же люди останутся и в России после толчка, который Сталин даст капиталистическому миру. Именно поэтому никакая грязь, вонь и кровь революции не создает никакого имму­ нитета. Всегда остаются люди, которые ни для чего больше в мире не нужны. Они уже создают теорию неизбежной германской побе­ ды в 1945 году, сорванной Дольхштоссом генеральского заговора 20 июня. Это они создадут в России теорию “вот-вот”: Советская Россия “вот-вот” доходила до вознаграждения за все жертвы пре­ дыдущих лет — до сбора урожая, посеянного годами лишений и страданий, — и вот в этот самый момент капиталисты, испугав­ шись невиданного в истории человечества расцвета СССР, органи­ зовали какой-то подвох — вот вроде Дольхштосса, заговора, изме­ ны и прочего. Давайте, дорогие ситуайнены, геноссе и товарищи, начинать сызнова! Может быть, и в самом деле начнут сызнова: французские санкюлоты начинали сызнова раз пять. Все то, что я здесь перечислил, ясно до степени абсолютной бесспорности. Из всех обещаний социализма не вышло ничего. Самая капиталистическая страна мира — США — является са­ мой свободной, самой сытой страной. Самая социалистическая страна — СССР — является самой порабощенной и самой го­ лодной. Но никакая очевидность не действует на человека, про­ фессионально заинтересованного во лжи. И очень мало — на людей, в этой лжи воспитанных. Пролетарии Европы докати­ лись до уровня Питекантропии. Им есть нечего. Им жить негде. Но они твердо убеждены в том, что именно в этот момент нуж­ но возможно меньше работать и возможно больше получать. Французские горняки оставляют французских банковских чи­ новников без топлива — те оставляют горняков без заработной платы. Американские моряки оставляют рурских горняков без хлеба — рурские горняки оставляют немецкую промышленность без угля, немецкая промышленность оставляет немецкого му­ жика без горючего, машин и удобрений — и немецкий мужик оставляет немецкую промышленность без хлеба. Так соединя­ ются пролетарии всех стран. Диктатура импотентов 321 ВОСТОК И ЗАПАД В реакционную эпоху истории, закончившуюся 1914 годом, Ев­ ропа имела время думать. Немецкий бюргер, французский ситуайен, русский интеллигент, за кружкой пива, стаканом вина или рюмкой водки имели возможность обсуждать и даже обдумывать факты, идеи и программы. Вы можете сказать, что этой свободой Европа воспользовалась плохо — и вы будете правы. Но, во всяком случае, в Европе были люди, которые пользовались своей головой не только для ношения головного убора. Кое-какие остатки этих людей прозябают, вероятно, и сейчас — смятые победоносным маршем головных уборов. Не знаю, есть ли у них время думать сейчас. Боюсь, что нет. Европа переживает полосу хронических землетрясений. Во вре­ мя землетрясения думать, вероятно, очень трудно. Homo sapiens, ныне населяющий европейские территории, если и думает, то только узкопрактически — где достать кусок хлеба, вязанку дров и окурок папиросы. Да и это примитивное мышление заглушается ревом всяческих пропаганд, а также слухами, вносящими кое-ка­ кую — в общем, все-таки здоровую — поправку в эти пропаганды. В катастрофические периоды личной и общественной жизни дей­ ствуют не призывы к рассудку, действует вопль: то ли “ура”, то ли “караул”. Действует психология паники. Из всей сложности психологических и всяких иных стимулов, свойственных человеческому существу, остались почти исключи­ тельно хватательные инстинкты. Причем некоторая анемия приво­ дит к тому, что люди хватают и то, что следовало бы хватать, и то, чего хватать вовсе не следовало бы. Польша хватает Штеттин, не дожидаясь “мирного договора”. Советы нацеливаются на Север­ ную Африку, Югославия — на Каринтию, Торрез — на Рурский бассейн, бельгийцы, датчане, голландцы — на какое-то “исправле­ ние границ”. Немецкий мужик ворует по ночам союзное военное имущество, от которого какого толку нет, но за которое можно угодить в тюрьму. Европа действует по правилам вольноамерикан­ ской борьбы — catch as catch сап: хватай что можно, потом разбе­ ремся. Разбираться будет очень трудно. По тому же принципу — “хватай что можно” — люди ухватыва­ ются и за какие-то теории, идеи, термины и слова. Вероятно, не вполне отдавая себе отчета в том, что за эту “захватническую по­ литику” потом придется кое-чем расплачиваться. Особенным разу­ мом Европа не блистала и раньше, иначе бы нынешнего социали­ стического рая она не переживала бы. Но сейчас обращение с 322 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век мыслью и словом приобрело такой характер, как если бы писатели, публицисты и ораторы считали бы свои аудитории состоящими из сплошных кретинов — людей, безнадежно больных не только ане­ мией мозгов, но и анестезией памяти. Лидер германских социал-демократов доктор Шумахер в речах и статьях развивает такую мысль: предоставим Востоку свойственный ему тоталитарный режим. Мы же, европейцы, люди западной культу­ ры, рождены демократами, а мы, немцы, передовой отряд западной культуры на Востоке, должны стоять на страже — где-то то ли на Эль­ бе, то ли на Одере, то ли, может быть, на Висле — доктор Шумахер предпочитает не выдавать военной тайны стратегической дислокации своих идей. Была германская “Wacht am Rhein”, теперь будет что-то вроде “Wacht am Weichsel”. Та же “культурная миссия на Востоке”, которою оперировали и Вильгельм и Гитлер, только средактированная на потребу эпохи разгрома, бессилия и унижения. Эта тема варьируется не только на германских выгонах и паст­ бищах. Всеядное двуногое пережевывает эту тему и в других стра­ нах — демократия по западному образцу и демократия — по вос­ точному: славянство и германо-романский мир. Почти по Р. Кип­ лингу: “Запад есть Запад, и Восток есть Восток, и никогда им друг с другом не сойтись”. Люди с анестезированными мозгами глотают все это даже и без пережевывания целыми глыбами. Тоталитарный режим действительно существует и в СССР — хотя в 1914 году его так не называли ни немцы, ни союзники. Он существовал и на Западе: нельзя же считать Германию востоком, Италию — Азией, Испанию и Португалию — выразительницами истинно славянского мировоззрения. Тоталитарная Франция Ро­ беспьера и Наполеона стояла в центре, а никак не на границах то­ гдашнего культурного мира. И Сталин, и Гитлер строили свои ре­ жимы на принципе "Государство — это я” — принцип этот был средактирован никак не на Востоке. Марксистская философия, ныне безраздельно свирепствующая в России, была создана в Гер­ мании и Англии. Левиафан государственности, питающийся чело­ веческой кровью, был обнаружен англичанином Гоббсом. Полити­ ческая техника нынешних тоталитарных режимов была разработана итальянцем Макиавелли. Самое умное, что по этому поводу можно было бы сказать, — что всех нас во грехах родили матери наши и что все мы мазаны приблизительно одним миром. И болеем при­ близительно одними и теми же болезнями, и от тоталитарного си­ филиса не застрахован никто. Все это нужно бы считать совершеннейшей очевидностью: ни Сталин, ни Гитлер, ни Муссолини, ни Наполеон решительно ни­ Диктатура импотентов 323 чего общего не имеют ни с Востоком, ни с Западом, ни с таинст­ венной славянской душой грузинского происхождения, ни с нор­ мальной душой австрийского, ни с французской душой корсикан­ ского. И высказывания Шумахера есть абсолютный вздор. Но есть вещи несколько менее очевидные. Тоталитарный режим в России возник в 1917 году. И так как воспоминания о Робеспьере уже исчезли из памяти просвещенной Европы, то можно сказать, что этот режим был нов и что люди, которые его строили или помогали его строить, еще не знали, чем именно все это кончится. Тоталитарный режим в Германии возник на шестнадцать лет позже: русский опыт уже был налицо. И Ленин, и Гитлер ликвиди­ ровали не “старые реакционные режимы” — оба они проломили черепа новорожденным демократиям, русской и германской. Так вот: в защиту русской демократии много лет подряд велась жесто­ чайшая в истории страны гражданская война. В защиту германской демократии не поднялся ни один штык. Были ли белые русские генералы “реакцией” или не были — сейчас ответить на это нелегко. Но против Ленина восставали не только белые генералы: восстали кронштадтские матросы, ярослав­ ские и уральские рабочие, пытался восстать Всероссийский союз железнодорожников, и по всему пространству России — в разное время и в разных местах — восставало почти все русское крестьян­ ство. Больше трех миллионов людей бросили свою Родину, бежали в эмиграцию, где сидят и до сих пор вот уже тридцать лет. Так русский “Восток” ответил на насилие над демократией. А — как ответил германский Запад? Принцы крови, в том числе и наследник престола, социал-де­ мократы, в том числе и герр Лебе, коммунисты, в том числе и те из них, которые из рядов компартии перешли в ряды СС и теперь вернулись обратно, — почти вся Германия сказала Гитлеру zum Befehl! Вся Германия защищала Гитлера — до последней-капли крови в последнем подвале Райхсканцлей. Красная Армия стала за­ щищать Россию — а следовательно, и СССР, а следовательно, и Сталина, только с того момента, когда выяснились цели Германии. Германская армия пыталась воткнуть нож в спину Гитлера только в тот момент, когда выяснился провал целей Германии. Доктор Шумахер не имеет никакой возможности не знать всего этого. Если предполагать, что докторский чин доктора Шумахера не окончательно анестезировал его умственные способности, то можно было бы утверждать, что доктор Шумахер не имеет никакой возможности отделять тоталитарный режим от демократического 324 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век географическими, национальными или расовыми границами. Но он это делает. Почти то же делал и Гитлер: на Востоке живет раса, при­ выкшая лобызать кнут. Сейчас в Берлине живет раса, устами Пика и Гротеволя лобызающая московские чеки. В Париже — раса, руками Тореза загребающая московские чеки. Что есть Запад и что есть Вос­ ток? И какою границей мы можем отделить совершенно очевидный вздор от вздора, по крайней мере не совершенно очевидного? Сейчас, когда германский тоталитарный режим — вопреки ис­ тинно героическому сопротивлению всей нации — разгромлен из­ вне, участники и наследники этого режима делают демократиче­ ские постные лица и говорят: они тут ни при чем. Их принудили. Их заставили. Если бы они не вступили в партию, то они были бы обойдены очередным чином какого-нибудь рептилин-рата или доктора блудословия. Они, эти люди, совершенно искренны: если бы они не пошли в партию, их чины, карманы, гельтунгстиб и прочее, конечно, пострадали бы — как же можно поступить иначе. На славянском “востоке” люди как-то ухитрялись поступать иначе. Я, Иван Солоневич, сидел восемь раз в тюрьме советского тотали­ тарного режима и два раза — в тюрьме германского. Пойдя в ком­ партию, я, вероятно, мог бы получить чин какого-нибудь рептилин-пресс-шефа — я не пошел. Миллионы и миллионы других рус­ ских — тоже не пошли. Десятки миллионов заплатили не только чином или карманом, но и жизнью. Какие выводы можно сделать отсюда о “расе рабов” и о “народе господ”, о славянской склонно­ сти к тоталитарному режиму и о германской верности демократии? Все это я пишу не для полемики с доктором Шумахером. Он, надо полагать, знает свою аудиторию и, вероятно, точно оценивает ее глотательные способности. Да и сам доктор Шумахер является только производной величиной и аудитории и всего того философ­ ского развития, которые почти всех нас привели к данному поло­ жению вещей. Данное же положение вещей, в частности, характе­ ризуется тем, что культурной, просвещенной, более или менее фи­ лософски и социалистически настроенной аудитории можно пред­ лагать любой мало-мальски мыслимый вздор — и она этот вздор проглотит. Человеческий здравый смысл не очень уж усовершенст­ вован технически; но он может, и он обязан отмечать, по крайней мере, совершенно очевидные вещи. Но, однако, вся сумма совре­ менного философского развития привела нас к тому, что именно самые очевидные вещи теряют не только очевидность, а и вообще признание их бытия, замазываются десятками лживых терминов, обходятся сотней окольных путей, теорий и вранья — и перед слу­ шателями какого-нибудь доктора Шумахера восстает картина ми- Диктатура импотентов 325 ра, изуродованная в деталях и в целом. Только что вырвавшись из пролетарских объятий гитлеровского тоталитаризма, Шумахеры на­ зывают сталинский типично восточным явлением. Уровень жизни американского рабочего — поскольку его нельзя скрыть — в СССР объясняется так: подкуп капиталистами верхушки рабочего класса. Голод в СССР объясняется “наследием проклятого царского режи­ ма”. Уход Англии из Индии — попытками закабалить народы этой страны. Повальное прекращение работы пролетариями всех стран — лучшим способом добыть возможно большее количество хлеба и пиджаков. И возникающий от всего этого голод — сабота­ жем со стороны мелкого собственника — мужика, который работа­ ет все семь дней в неделю, который не имеет ни одного отпуска ни разу в десять лет и которого грабят все пролетарии решительно всех стран, — это единственное, в чем они действительно идеоло­ гически едины вполне. Все это кажется совершеннейшей нелепицей. Но даже и в этом есть свой смысл. Социализм — настоящий, революционный социа­ лизм, а не его фабианский раствор, ставит свою ставку на нена­ висть и на ложь. Все остальное: “Восток и Запад”, “подкуп рабо­ чей аристократии”, спасительность забастовок и прочее в этом ро­ де — являются только “идеологическими надстройками” в борьбе за ненависть против любви и за атеизм против Бога. Социализм обязан сеять ненависть, чтобы разделять людей, и обязан разделять людей, чтобы властвовать над ними, — чтобы строить, как об этом говорил Достоевский, вавилонскую башню без Бога и против Бога. Предприятие в конечном счете безнадежное. Но именно эта линия предприимчивости объясняет нам существование Троцких и Ста­ линых, Гитлеров и Шумахеров, Робеспьеров и Торрезов. Каждый из них, повторяя древнюю восточную формулу, считает, что “госу­ дарство — это я”, все же остальные - уклонисты, предатели рабо­ чего класса, изменники социализму, узурпаторы и насильники. О ПРОЛЕТАРИЯХ ВСЕХ СТРАН Пролетарии всех стран сейчас командуют всеми странами Евро­ пы — с небольшими поправками на американскую оккупационную армию, на генерала Франко и еще на два-три более или менее ка­ питалистических острова Европы. Лозунг “Коммунистического Интернационала” красуется на официальном гербе СССР. Он же треплется и на знаменах тех партий, которые до государственного герба еще не доросли, но надеются, что дорастут. Автор этого ло­ зунга Карл Маркс считается официальным святым не только для 326 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век СССР, но и для мистера Шумахера, Леона Блюма, кажется, даже и для мистера Эттли. В 1947 году в британской оккупационной зоне праздновалось открытие музея в Трире, в том доме, где родился Карл Маркс. На торжестве присутствовали пролетарии почти всех европейских стран, кроме, кажется, СССР. Французские пролета­ рии жали руки немецким, чешские — венгерским, другие — дру­ гим. О некоторых вещах на этом празднике, кажется, не говори­ лось. Как в доме повешенного обычно не говорится о веревке. Вожди пролетариев всех стран призывали пролетариев всех стран по меньшей мере к международной пролетарской соли­ дарности. Можно было бы отметить и тот факт, что испытания Первой мировой войны эта солидарность не выдержала: проле­ тарии всех стран и представители пролетариев всех стран голо­ совали за военные кредиты — как это, например, сделала гер­ манская социал-демократия. Русская коммунистическая партия — тогда еще только левая фракция той же социал-демократиче­ ской партии — имела все логические и моральные основания упрекать остальных социалистов мира в “социал-патриотизме”, “социал-предательстве” и “социал-соглашательстве”. Тогда, в 1914 году, этот патриотизм, предательство и согла­ шательство могли бы быть оправданы наличием реакционных режимов Романовых, Гогенцоллернов и Габсбургов. Каждый со­ циализм стремился свергнуть каждую реакцию — но главным образом соседнюю. Потом все реакции были свергнуты. Во всех странах Европы остались одни социалисты. Теоретически в 1918 году можно было бы предполагать, что вот тут-то и насту­ пило если уж не царство, то, по крайней мере, республика про­ летарской солидарности. Неумолимая и неоспоримая практика жизни показала, что тут, как и решительно во всех иных отно­ шениях, все, что произошло при революционных и социалисти­ ческих режимах, было неизмеримо хуже всего того, что проис­ ходило при монархических и реакционных. Старая, отсталая реакционная Европа — Европа королей, импе­ раторов и пап, — воевала и даже завоевывала. Приблизительно тем же занималось, впрочем, и остальное человечество, в том числе и США. В ряду государств-завоевателей Россия, конечно, занимала первое место: двадцать два миллиона квадратных километров так же не свалились с неба, как не свалился и товарищ Сталин. Мож­ но утверждать, что часть этих завоеваний носила вынужденно обо­ ронительный характер — например, завоевание Крыма или даже завоевание Польши. Можно дальше утверждать, что другая часть носила экономически принудительный характер, например завое­ Диктатура импотентов 327 вание Балтики или Финляндии. Просто завоевательных войн, как из­ вестно, не ведет ни одно правительство мира. Каждая война или вы­ звана, или спровоцирована, или навязана. Обвинительные акты о за­ воевательных попытках предъявляются только побежденными нация­ ми. “Победителей не судят” — ибо судить их некому. Этот афоризм принадлежит Екатерине II — мелкой немецкой принцессе, ставшей, путем мужеубийства и цареубийства, почти тем же, чем сейчас являет­ ся Сталин. Кстати один из официальных эпитетов Сталина взят из словаря екатерининской эпохи: это ее придворная историография на­ звала “матерью народов”. Сталин, соответственно, стал отцом. Стать матерью ему было бы затруднительно. Екатерину II — по официальной терминологии Великую — су­ дить было некому. Кажется, некому и до сих пор. При ней была разделена Польша, был завоеван Крым, были ликвидированы по­ следние остатки монгольских орд, были нанесены сокрушающие поражения туркам. При ней закончилось закрепощение русского крестьянства. Это был, может быть, самый блестящий век русской военной истории. И если исключить эпохи Петра и Сталина, то это были самые реакционные десятилетия русской исторической жизни, десятилетия дворянской диктатуры, омраченные страшным Пугачевским восстанием. При Екатерине II было совершено величайшее внешнеполити­ ческое преступление русской истории. Живое тело польской нации было разорвано на три части и поделено между Россией, Пруссией и Австрией. Нужно, впрочем, внести существенную поправку: при первом разделе Россия не взяла ни одного клочка чисто польских областей. Но все-таки Польша была поделена, порабощена, боль­ шая ее часть попала Пруссии. Руками мелкой немецкой принцес­ сы, уголовным путем вознесенной на престол Российской импе­ рии, было положено начало прусскому могуществу. Впрочем, не следует переоценивать роль Екатерины: она была куклой в руках тех людей, которые несли ее и на кровать и на престол. Она была только вывеской. Она была названа Великой — именно под ее вы­ веской окончательно консолидировался и окончательно закрепил свою диктатуру слой победителей в жизненной борьбе — русское рабовладельческое дворянство. Пример Екатерины и Польши я беру как самый черный пример русской военно-политической истории — все-таки до сих пор са­ мой успешной в мире. К этому примеру нужно бы сделать ряд ого­ ворок. Польша до XVIII века играла по адресу России совершенно ту же роль, какую Германия Бисмарка и Гитлера играла по отно­ шению к Польше: культурная миссия на Востоке и прочие вещи в 328 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век таком же стиле. Польша завоевала Киев — в первый раз в 1211 го­ ду и в последний раз — в 1921-м. Даже и после попытки Пилсудского под властью Польши оказались русские западные области — в том числе и та Гродненская губерния, в которой мои крестьян­ ские предки жили сотни лет и в которых был установлен реши­ тельно такой же режим, какой немцы установили в Польше в 1939 — 1945 годах. После взятия Кракова Гитлер недаром ездил поклоняться праху Пилсудского. Для невежливого обращения с Польшей у России были доста­ точные исторические основания. Но и раздел Польши и дальней­ шие попытки ее русификации относятся к числу самых черных дел самой воинственной в мире истории — русской истории. Прибли­ зительно в эту же эпоху закончились и остальные западные завое­ вания России: была отвоевана у Швеции Финляндия. Повторяю, это были самые блестящие военные десятилетия России: ликвидация Польши, уничтожение татарских орд, разгром Турции и, как венец этой эпохи, — уничтожение наполеоновской армии, взятие Берлина и Парижа и диктатура Александра I и Ни­ колая I надо всей Европой — что по тем временам было более или менее эквивалентно мировой власти. Русская история назвала Ека­ терину Великой, Александра I Благословенным и Николая I — Палкиным. В реальности Екатерина была сплошной реакцией, Александр был пустым местом, Николай I был, может быть, един­ ственным светлым пятном: он вернул конституцию Польше, под­ твердил конституцию Финляндии и, что самое важное, начал рабо­ ту по освобождению всех крепостных крестьян всей Империи. Но, как это случается с историками, Екатерина, при которой крестьян­ ство было окончательно лишено всяких человеческих прав, оказа­ лась Великой, а Николай I, который все свое царствование вложил в освобождение крестьянства, оказался Палкиным. По совершенно такой же схеме пролетарии всех стран оказываются прогрессом, а капиталисты тех же стран оказываются реакцией. Итак, самая крупная, самая воинственная и самая реакционная государственность Европы завоевала: Польшу, Балтику, Финлян­ дию, Крым и еще целую массу других мест. Во всех этих окраинах были оставлены их старые конституции, вольности и прочее. Польская конституция была ликвидирована только после польско­ го восстания 1832 года. Финская действовала до 1917-го. Взаимоот­ ношения между завоеванной Финляндией и ее завоевательницей не имели, вероятно, прецедентов во всей мировой истории: все граждане Финляндии пользовались всеми правами на всей терри­ тории Империи, и все остальные граждане всей остальной Импе- Диктатура импотентов 329 рии не пользовались всеми правами на территории Финляндии. Во всяком случае, ни в одном из этих завоеваний ни у одного из по­ бежденных помещиков или мужиков не было отнято ни одного клочка земли, никто не переселялся и не перегонялся с места на место: финн генерал Маннергейм18 был свиты Его Величества ге­ нерал-адъютантом, поляк генерал Клембовский был генерал-квар­ тирмейстером всех русских армий в Первую мировую войну. Русская политика наделала много ошибок, промахов и даже преступлений: раздел и попытки русификации Польши были пре­ ступлением. Однако польские помещики около Харькова и поль­ ские помещики около Варшавы продолжали владеть своими поме­ стьями — иногда гигантскими поместьями, — а до 1861 года некая часть народа-завоевателя и народа-победителя — семьи Солоневичей — оставались крепостными рабами помещиков, принадлежав­ ших к побежденному и завоеванному народу. Особенно умно это не было. Но это характеризует завоевательную политику реакции. Сейчас начали свою антимилитаристическую политику пролетарии всех стран. Мы сейчас можем сказать, что товарищ Сталин ведет по­ литику откровенной экспансии. Но мы можем утверждать и нечто другое: все остальные социалистические правительства Европы вели бы точно такую же политику, если бы у них для этою было бы доста­ точно сил. Разницу между Сталиным и остальными социалистически­ ми политиками Европы нужно искать не в потенциале желания, а в наличии силы. Совершенно очевидно, что если бы те пролетарии всех стран, которые нынче властвуют во Франции, были бы достаточно сильны, то они делали бы в Руре решительно то же самое, что делает товарищ Сталин в Берлине, и делали бы это без всякой оглядки на интересы, желания, голосования или голод тех пролетариев всех стран, которым не повезло во Второй мировой войне. Дети немецких пролетариев всех стран голодают неистово — мини­ стры норвежских пролетариев налагают свое вето на немецкое рыбо­ ловство и китобойный промысел. Датские пролетарии пытаются оття­ пать Шлезвиг, бельгийские и голландские — “исправить границы”, чешские пролетарии выселили немецких и венгерских, венгерские — словацких и чешских, сербские и румынские — швабских и австрий­ ских, австрийские — немецких и так далее. Можно сказать, что австро-венгерская монархия была реакци­ онной. Однако дюжина народностей все-таки как-то уживались друг с другом. Сейчас люди, жившие веками на территориях этой бывшей реакции, согнаны со своих веками насиженных мест, ог­ раблены до нитки, выброшены в голодную неизвестность. И это все делается пролетариями по адресу пролетариев. 330 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Немецкие национал-социалисты начали свою внешне неполи­ тическую деятельность с полного уничтожения польских народных социалистов. Теперь польские социалисты занялись плохо органи­ зованным истреблением немецких трудящихся. Об обстановке вы­ селения немцев из-за Одер—Нейсе “Таймс” писал: “Это было луч­ ше Бельзена и Дахау, но это было ненамного лучше”. Около двухсот лет тому назад, в царствование той же Екатери­ ны, князь Потемкин завоевал нынешний юг России, в том числе Крым. В сознании среднего читающего европейского человека имя князя Потемкина неразрывно связано с выражением “потемкин­ ские деревни”. Так пишет история. История не пишет о том, что тогдашние “потемкинские деревни” сейчас называются Одессой, Севастополем, Днепропетровском и прочими такими бутафорски­ ми названиями. Война на юге России была зверской войной. Тата­ ры оказывали отчаянное сопротивление, и население северных районов Крыма было истреблено почти поголовно: детей хватали за ножки — и головой о столб. Приблизительно в таком же стиле разыгрывались и кавказские войны. Так что гаагские принципы в этих войнах не применялись. Крым же в предшествующую эпоху играл ту же роль, какую играли арабские торговцы черным дере­ вом в Африке времен Стенли. Для демократических принципов ве­ дения войны места там не было. Однако после капитуляции Кры­ ма его населению был предоставлен выбор: оставаться в России или эмигрировать в Турцию — Крым до того принадлежал Турции. Часть осталась, часть предпочла уехать. Уезжавшим бьш предостав­ лен тоннаж для них и для всего их имущества, были выданы день­ ги на проезд и деньги на обзаведение на новых местах. Эта было двести лет тому назад, в одну из самых реакционных эпох России, по отношению к разбойным племенам, профессионально промыш­ лявшим торговлей живым человеческим мясом. Оставшиеся крымские татары совершенно мирно прожили две­ сти лет. Сейчас они все выселены на север Сибири. Около двух с половиной миллионов поляков в течение примерно тех же двухсот лет также мирно жили на юге России — все они высланы к линии Одер—Нейса, где они решительно не знают, что именно со всеми ними станется завтра. Крымские татары специализировались на табаководстве — луч­ шем в России. Теперь на севере Сибири они, вероятно, просто вымрут. Немецкие рабочие в Чехии веками специализировались на стекольной промышленности, кажется, лучшей в мире: теперь им и деваться некуда и делать нечего. Финские пролетарии специали­ зировались по водному транспорту в Петербурге — и при царской Диктатура импотентов 331 реакции жили там сотню лет, работали, и никто их не трогал. С началом пролетариев всех стран они выселены все. Немецкие ко­ лонисты в России жили там почти двести лет и создали за Волгой очень высококвалифицированные сельские хозяйства — они вы­ сланы на тот же север Сибири и с теми же шансами на жизнь. Правительство русских пролетариев уморило голодом два миллио­ на пленных немецких пролетариев, и правительство французских пролетариев пыталось также уморить тех же немецких пленных — пока в эту историю не вмешалось правительство антипролетарских США. За “пролетариев всех стран” сейчас вступается только анти­ пролетарское, капиталистическое и плутократическое и прочее правительство США — только оно одно. Это оно кормит детей ев­ ропейского пролетариата, которых грабят пролетарии всех стран. Это оно, и только оно одно, спасает отряды европейского пролета­ риата от места их последнего соединения — от виселиц, подвалов и ораторских могил голода. Чем и когда помогли одни пролетарии другим пролетариям? Кто из них положил кусок хлеба в протяну­ тую руку своих голодающих товарищей по классу? Кто из них дал бы стакан молока голодающим детям капиталистических стран — если бы дети голодали в капиталистических и имели бы молоко в социалистических странах? Позвольте нарисовать социалистическую утопию, не предусмот­ ренную пока что никакой философией мира. Американцы из Ев­ ропы ушли. Для простоты картины предположим, что большевики на их место не пришли. Что будет завтра в социалистической Ев­ ропе пролетариев всех стран? Забудут ли немецкие трудящиеся свою землю по ту сторону Одера и Нейссы? Договорится ли това­ рищ Шумахер с товарищем Торрезом? Согласятся ли немецкие ры­ баки отказываться от рыбьего жира в пользу своих норвежских то­ варищей? Поделят ли венгры, словаки и чехи наследие ограблен­ ных немецких и австрийских рабочих? Примирится ли мистер Ти­ то с австрийской Каринтией? И что будут есть все они на другой день после прекращения капиталистической помощи невыразимо прекрасной Европе сегодняшнего дня? ...Если сегодня днем акулы американизма из Европы уйдут, то сегодня вечером в Европе все начнут резать всех. Немцы вышибут поляков из Померании. Поляки вышибут русских из Кенигсберга. Французы постараются захватить Рур, и датчане — Шлезвиг. Тито ринется на Австрию. Словакия восстанет против Чехии. Немецкий рабочий ринется грабить немецкого мужика. Немецкий мужик по­ старается вырезать немецких беженцев — не говоря уже об ино­ странных “ди-пи”. Даже старые, давно забытые кровавые распри 332 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век между религиями примут социалистически-модернизированный характер: православные сербы начнут резать католических хорва­ тов, а в Западной Украине ликвидация унии, начатая Екатериной Великой, будет продолжаться методами Великого Сталина: мечом и виселицами. Вы можете отвергнуть этот вариант социалистической утопии. Но совершенно невозможно отрицать социалистическую действитель­ ность сегодняшнего дня: все, что можно было использовать для нена­ висти, — использовано для ненависти. Раньше нам все говорили толь­ ко о ненависти к эксплуататорам. Сейчас культивируется ненависть и к “эксплуатируемым”. Пролетарии всех стран добились одного: во всякую щель, где только затаились остатки вековых споров, вбиты но­ вые клинья свежей ненависти — классовой, групповой, национальной и даже религиозной. Кто мог себе представить товарища Сталина, вы­ ступающего в качестве “защитника православия” методами инкви­ зиции XVII века? Кто мог представить, что вожди русского и французского пролетариата станут сознательно убивать голодом миллионы немецких пролетариев, только что “освобожденных от власти кровавого фашизма”? Кто мог представить себе русского социалистического “богоносца”, насилующего берлинских проле­ тарок или немецкого социалистического профессора, впрыскиваю­ щего бензин в вены пленных рабочих и крестьянок? Фактическая история всех этих моральных достижений еще не написана вся. Сейчас мы знаем только немецкие зверства. То, что русские эмиг­ ранты мне говорили о чешских, даже и мне, человеку, видавшему всякие виды, — кажется невероятным. Товарищ Шумахер есть со­ циалист. Но ведь и товарищ Пик есть социалист. Товарищ Шу­ махер раздувает ненависть против России, Польши, славянства, против немецких помещиков и фабрикантов, против “христиан­ ской демократии” и капиталистического либерализма. Товарищ Пик раздувает ненависть против США и Англии — и против тех же демократов, либералов и капиталистов. Товарищ Торрез разду­ вает ненависть против немецких пролетариев и американских ка­ питалистов, и товарищ Сталин трабит немецких трудящихся точно так же, как ограбил и русских. Советский идеолог Илья Эренбург вопил: “Смерть немцам” — и под этим лозунгом Красная Армия шла на Берлин — насиловала, грабила и убивала. До этого почти под таким же лозунгом шла на восток германская социалистиче­ ская армия и делала то же самое. При Романовых, Гогенцоллернах и прочих было, может быть, плохо. Но никто в мире, имеющий ум и совесть, не имеет никакого права оспаривать того факта, что при пролетариях всех стран все стало неизмеримо хуже. Диктатура импотентов 333 Русский Император Павел I, которого Бернард Шоу называет та­ ким же чудовищем, каким был Нерон, взял в плен вождя польского восстания Тадеуша Костюшко. Костюшко был привезен в Петербург, принят Павлом, получил деньги и свободу и уехал в США. Шамиль, организовавший на Кавказе одно из самых кровавых восстаний русской окраинной истории, был взят в плен, был при­ нят царем Александром II, получил имение на Волге — правда, с запретом возвращаться на Кавказ — и потом уехал в Мекку. Па­ вел I и Александр II были “реакционерами”, и оба были убиты — первый — за то, что начал освобождение русских рабов, второй — за то, что он его кончил. Что сделали реакционеры, убивавшие “реакцию”? Кого помиловали они? Кого они освободили и из чис­ ла своих противников, и из числа своих друзей, и из числа тех тру­ дящихся, во имя которых они подняли свои кровавые знамена? Мы можем сказать, что Павел 1 в Польше и Александр II на Кав­ казе вели империалистическую политику — и это будет правильно. Но разве не тот же империализм проводят или пытаются проводить поль­ ские социалисты на линии Одер—Нейссе, французские — в Сааре и в Индокитае, датские — где-то в Шлезвиге, русские — по всем своим границам, и даже итальянские — где-то в Эритрее? Империализм действительно был — но он остался и при социа­ листах. Однако до пролетариев всего мира в Европе, кроме импе­ риализма, капитализма и прочих разновидностей реакций, было все-таки чувство общественного приличия и были традиции чело­ вечности — или, по крайней мере, джентльменства. Разгром Кос­ тюш к и или Шамиля был обусловлен такими-то и такими-то сооб­ ражениями. Но они не были преступниками, и они не рассматри­ вались как преступники. Социалистический мир сейчас поделен на три неравные части: первая — вождь, вторая — его уголовная по­ лиция, третья — все остальное преступное человечество. Я перечислил факты. Любому отдельному из них вы можете найти любое отдельное объяснение. Любую ненависть вы можете объяснить любым “наследием прошлого”. Но ведь вся Россия ста­ ла социалистической, во всей Европе творятся приблизительно од­ ни и те же вещи, и все источники европейской жизни заражены одной и той же ненавистью. До победы социализма над кровавыми старыми режимами, над реакционными капиталистами, над несоз­ нательными трудящимися, над еретическими философами, над ос­ тальными оппозиционными социалистами — в Европе все-таки су­ ществовали законы, преследовавшие за “возбуждение националь­ ной, сословной, классовой или религиозной ненависти”. Эти зако­ ны были несовершенны, выполнялись они не всегда, и все про­ 334 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век шлое Европы оставило достаточно поводов для всяких трений. Че­ го стоит одна Эльзас-Лотарингия с ее перемежающимися попытка­ ми то германизации, то галлизации. На европейских территориях есть например, Эстония с ее миллионом населения. Тысячу лет жила она под чужим государственным владычеством — немецким, датским, шведским, а потом русским, — страна, которая не имеет никаких шансов на собственную культуру и самостоятельность, на­ копила тысячелетнее раздражение и пыталась излить его и на нем­ цев, и на шведов, и на русских. На территориях достаточно горю­ чего материала и для резни и для ненависти. Почти во всей Европе существовало в свое время крепостное право, и к 1945 году почти во всей Европе еще существовали его пережитки. Все это не было забыто, как не были забыты и кровавые религиозные войны между католицизмом, протестантизмом и православием. И менее крова­ вые столкновения в пределах этих религий — между их отдельны­ ми разновидностями. Все это было исторической давностью. Но со всем этим “старые режимы” пытались бороться — и, в общем, при отдельных ошибках боролись все-таки не без успеха. Сейчас при­ шли пролетарии всех стран, и во всех странах раздувают все мыс­ лимые и немыслимые уголья ненависти. Я утверждаю, что социализм родился из ненависти. Думаю, что это очень трудно доказуемо. Но, возможно, несколько легче доказать, так сказать, чисто техническую сторону этого вопро­ са. В самом деле: Авторы социальной революции во Франции 1789 года звали “массу” ненавидеть: аристократов, тиранов, королей, панов, Кобленц, Питта, Англию, Россию, жирондистов, гербертистов, дангонистов, вандейцев, лионцев, тулонцев — короче, всех, кроме самих себя. Авторы социальной революции в России звали массу ненави­ деть: эксплуататоров, плутократов, монархов, попов, белогвардей­ цев, Черчилля, Англию, Германию, США, Керенского, Троцкого, Бухарина — то есть всех, кроме самих себя. Авторы социальной революции в Германии звали массу ненави­ деть: союзников, демократию, плутократию, Англию, США, ремовцев, штрайхеровцев, евреев — словом, всех, кроме самих себя. Все они, кроме того, звали к травле: вредителей, саботажников, изменников, уклонистов и всех тех, кого наивная терминология Французской революции определяла суммарно как “подозритель­ ных”. Ученые мужи, оккупирующие университетские кафедры, склонны оперировать объяснениями, которые суммарно можно было бы сформулировать так: “гнев народа”. Хотя довольно оче­ видно, что ни в сентябрьских убийствах в Париже, ни в деятельно- Диктатура импотентов 335 ста гестапо, ни в подвигах ВЧК - НКВД никакой народ никакого участия не принимал. Поставим вопрос несколько иначе. К власти пришла социалистическая партия. Она “вводит социа­ лизм”. Но так как даже Ленину ясно, что сразу и на все сто про­ центов этого сделать невозможно, то социалистическая отрава да­ ется в ее, скажем, десятипроцентном растворе. Ленин, вероятно, был совершенно убежден, что уже и десятипроцентный раствор окажет благодетельное влияние на ход хозяйственной жизни стра­ ны, что наступит пусть и не полное, но хотя бы десятипроцентное облегчение капиталистических страданий человечества. Итак, вве­ дено десять процентов социализма. И жизнь становится на два­ дцать процентов хуже. При нормальных человеческих мозгах и при нормальной чело­ веческой совести здесь нужно было бы остановиться и начать про­ верять теорию путем анализа практического эксперимента. По тео­ рии, больное капитализмом человечество должно бы почувствовать хоть и небольшое, но все-таки облегчение. Вот, социализировали, допустим, железные дороги, и они, вместо того чтобы работать лучше — стали работать хуже. Давайте посмотрим, в чем тут дело. Но неудача с десятью процентами имеет только одно последствие: авторы переворота сгущают раствор до сорока. И так далее до сто­ процентного “тотального” социализма — Гитлер этого не успел проделать, Сталин уже успел. Нет никакого сомнения в том, что и Ленин, и Гитлер, и Сталин были вполне информированы о хозяй­ ственных и прочих последствиях социализма во всех растворах. Мы можем сказать: все это догматики, фанатики, теоретики, стоящие на гегелианской точке зрения: “тем хуже для фактов”. Но можно поставить вопрос и совсем с другой стороны: а что же им остается делать? Сказать: игЪі еі огЬі — извините, ситуайены, това­ рищи, геноссе и камерады, наш фокус не удался, наша теория ока­ залась не того... И вернуть железные дороги капиталистам, власть — эксплуататорам, жизнь — миллионам людей, уже убитых на путях к победе социализма? Это, разумеется, совершенно утопично. Это означало бы самоубий­ ство науки и теории науки, партии и вождей, похороны “невыразимо прекрасного будущего”, а также и свои собственные. В случае выбора между убийством и самоубийством люди предпочитают все-таки пер­ вое. А третьего выбора у начинателей революции — нет. Поэтому-то и идут неименные поиски классового и внеклассо­ вого козла отпущения. В русском случае поиски эти развивались по такой линии: нужно свергнуть проклятый старый режим. Сверг­ ли. Стало хуже. Нужно свергнуть буржуазное Временное прави­ 336 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век тельство. Свергли. Стало хуже. Нужно разбить Колчака, Деникина и прочих — разбили. Нужно ликвидировать “капиталистические остатки” в стране. Ликвидировали. Нужно ликвидировать кресть­ янство — почву, из которой рождаются капиталистические отно­ шения, — ликвидировали. Нужно искоренить троцкистских фаши­ стов — искоренили. Нужно расстрелять бухаринских уклонистов — расстреляли. Нужно разбить германских фашистов — разбили. Нужно разбить американских милитаристов — пока еще не разби­ ли. И вот в результате всех этих всемирно исторических побед по­ бедоносный трудящийся России ночью, вором, пробирается на по­ ля, которые раньше кормили пол-Европы, — там крадет колосья и за кражу их отправляется на каторжные работы. И этому трудящемуся, даже и сидящему на каторжных работах, власть говорит: виноваты последствия проклятого старого режима, потери гражданской войны, саботаж капиталистической агенту­ ры — Троцкий, Бухарин и прочие, — виноваты немецкие фаши­ сты, американские империалисты, интеллигентские саботажники, несознательные рабочие, виноваты все, кроме нас. Нужно ненави­ деть всех, кроме нас. Все это, конечно, можно объяснить и гораздо проще. Один из ста шансов на жизнь — это очень мало. Но все-таки это больше, чем все сто шансов на виселицу. Нужно переть в этот один шанс. А этот один шанс — один и единственный — обозначает завоева­ ние всего мира. Однако, в конечном счете, иллюзорен и этот шанс. НЕНАСТОЯЩИЙ СОЦИАЛИЗМ О том, что всякий вождь социальной революции или всякий кандидат в вожди говорил о всяком ином вожде или кандидате в вожди всякой другой социальной революции, можно было бы со­ ставить целую непечатную энциклопедию. Из принятых в печати эпитетов такого рода самый замечательный был обращен по адресу товарища Бухарина: “злейший враг рода человеческого”. Он был напечатан в Малой Советской Энциклопедии, которая вышла го­ дами тремя позже Большой. В Большой Советской Энциклопедии Бухарин еще именовался вождем пролетариата и учеником Ленина. Потом он оказался “злейшим врагом рода человеческого” — кон­ курентом Сталина в борьбе за престол Сатаны. Я не знаю, как сейчас обзывают друг друга Блюм и Торрез. Им обоим, вероятно, очень трудно. Под внешним покровом социали­ стического большинства в палате депутатов кое-как доживают дни свои буржуазная полиция и буржуазный суд. Они не разрешают не Диктатура импотентов 337 только резать, но даже и сквернословить. Они спасают товарища Блюма и товарища Торреза, и товарищей Блюма и товарищей Тор­ реза от их социалистического самоистребления. Полиция царской России, вероятно, была плоха — лучшей я пока не видал. Но в числе ее немногочисленных заслуг была и такая — до сих пор еще неоцененная товарищами всех стран: она защищала их друг от дру­ га. Она время от времени отправляла их на их партийные канику­ лы в Сибирь, но она не давала им возможности ни истреблять, ни даже печатно оскорблять друг друга. Потом полиция ушла. Что бу­ дет во Франции после ухода ее буржуазной полиции? Юриспруденция существует тысячи лет — и юристы до сих пор не могут договориться о том, что есть право. Это, конечно, не ме­ шает им ни судить, ни даже получать гонорары. Но юриспруден­ ция есть органически выросшее явление жизни и, как все органи­ ческое, трудно поддается какому то ни было определению. Социа­ лизм же есть теория, построенная с заранее обдуманной целью и заранее сформулировавшая свой идеал. О трудах классиков социа­ лизма современная социалистическая Европа уже успела забыть — если когда бы то ни было и вообще знала их. Пушечное мясо сего­ дняшних революций повинуется вождям и принимает их формули­ ровки. Впрочем, для пушечного мяса революции и на формулиров­ ки плевать. Оно состоит из простых духом людей, всему в мире предпочитающих нож. А также и гонорары, ножом добываемые. Чем был для французского якобинца “Общественный договор”, чем является для русского коммуниста “Капитал” и для немецкого нациста “Майн кампф”? Никто из них ничего этого не читал. Но все они молчаливо признают, что грабить с идеологией все-таки удобнее, чем грабить просто — без идеологии. У каждого коммуни­ ста красуется на полке “Капитал”, как у каждого нациста красо­ вался “Майн кампф”. Но и “Капитал” и “Майн кампф” — это бы­ ли обязательные предметы домашней партийной обстановки. К практической деятельности НКВД или гестапо они не имели ровно никакого отношения. Когда я впервые стал обдумывать мысли, изложенные в этой книге, мой сын, более, чем я, знакомый с уровнем западноевро­ пейского культурного человека, стал утверждать, что указанный человек не имеет в среднем ровно никакого понятия, что есть со­ циализм, и следовательно, не будет иметь никакого понятия, про­ тив чего именно направлены мысли этой книги. Я возражаю: нет, не может быть: Европа, культура, философские кафедры универси- 338 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век тегов, социал-демократические фракции парламентов — должны же люди знать. Обязаны знать. Практика личного ознакомления с европейской культурой показала, что сын был прав. В представлении среднего культурного европейца социализм оз­ начает такой общественный строй, при котором “все будет хоро­ шо”. Не будет ни богатства, ни бедности, ни дворцов, ни трущоб, ни проституции, ни зубной боли, ни сырости, ни налогов, ни войн, ни даже революций, ибо какая же революция может быть против социализма? Вообще — будет хорошо. Не будет никаких неприятностей. Никто к вам не будет приставать ни с какой рабо­ той. Все будут делать машины. А машины даст государство — у не­ го уж найдется'. Это определение я задумал как карикатуру. Оно оказалось фотографией. Американский исследователь, мистер Дэн Гриффист, в своей книге “Что есть социализм” приводит 261 (двести шестьдесят од­ но) определение социализма. Немецкий исследователь нашел бы, вероятно, больше, но и двухсот шестидесяти одного вполне доста­ точно. На крайнем левом фланге этих определений стоит некто мистер Боуэн: “Социализм есть свет во тьме угнетенного человечества, надеж­ да и упование всех народов, хозяйственная мудрость и религиозная деятельность (practice)”. Я не знаю, кто такой мистер Боуэн — моя эрудиция для этого недостаточна. Он говорит почти библейским слогом: “Свет во про­ свещение языков и слава людей твоих, Израиль” . В Соловках и Дахау он, к сожалению, не сидел — тогда “надежд” и “упований” у него осталось бы значительно меньше. На другом фланге этих определений сидит автор, пожелавший остаться неизвестным: “Со­ циализм есть суррогат Христа, приноровленный к каиновой психо­ логии промышленности и политики”. На этом уровне понимательных способностей, который нахо­ дится где-то посередине между “надеждой и упованием” , с од­ ной стороны, и “каиновой психологией” — с другой, задачи со­ циализма формулировались несколько отчетливее: защита инте­ ресов трудящихся масс. Никаких миллионеров: кто не работает, тот и не ест. Какой-нибудь Форд работает так мало, что трудя­ щимся приходится изнемогать от работы. И потребуется столь­ ко мяса, комнат, автомобилей и штанов, что трудящимся оста­ ются только объедки, трущобы, трамваи и лохмотья — правда, американские трудящиеся объедками не питаются и в лохмоть­ ях не ходят. Но именно такую точку зрения формулировала русская революционная песня: Диктатура импотентов 339 Твоим потом жиреют обжоры, Твой последний кусок они рвут. ...Голодай, чтоб они пировали, Чтоб в постыдной игре биржевой Свою совесть и честь продавали, Чтоб глумились потом над тобой. Это не очень научно, но вразумительно и здорово. Понятно ка­ ждому среднему питекантропу: это Форды рвут последний кусок мяса из рта голодного американского пролетария — например, мистера Люиса, — продают в постыдной игре биржевой и свою со­ весть, и свою честь, и потом злорадно глумятся над социал-соглашательскими профсоюзами... На том уровне, который находится чуть-чуть повыше питекантропского, “социализм есть план”. Капитализм, по мнению людей этого уровня, есть хозяйственная анархия. По их же мнению, чело­ век, прочитавший, а еще лучше написавший, несколько томов за­ ведомой ерунды, касающейся хозяйственной жизни человечества, достаточно компетентен для того, чтобы планировать производство хлеба в России, авто — в США, селитры — в Чили и еще миллио­ на других вещей в миллионе других мест. Это ведь так просто... Людям такого типа мышления я и приводил пример О. Бальза­ ка. Бальзак был, конечно, великим писателем. Он рисовал совре­ менный ему экономический быт Франции. Технику обогащения своих героев Бальзак довел до высокого уровня совершенства. Од­ нако когда он сам пытался перенести эту технику с бумаги своего воображения на тернистую почву реальности — он разорялся неиз­ менно и скандально. И снова садился за перо, чтобы своими лите­ ратурными доходами покрыть свои предпринимательские провалы. Карл Маркс советовал изучать историю третьего сословия во Франции по произведениям Бальзака. А что если и сам Карл Маркс имел о реальной хозяйственной деятельности не большее понятие, чем Оноре Бальзак? Я, не хозяйственник и не предприниматель, склонен думать, что люди, пишущие о хозяйстве, так же мало способны организо­ вать его, как люди, пишущие о литературе, — написать “Короля Лира” или “Войну и мир”. Или, еще проще и нагляднее, — как люди, пишущие отчеты о боксе, выступать против литературно беспомощного Демпсея. В этом последнем случае при нежелании быть побитым в первых же секундах первого раунда такому теоре­ тику боксерского планирования оставалось бы одно: бросить вся­ кие перчатки и взяться за нож. Что на практике и сделал такой ав­ 340 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век торитет в области политической экономии и народно-хозяйствен­ ного планирования, каким был Владимир Ленин. Из всех его хо­ зяйственных планов до сих пор не вышло решительно ничего. Но все эти планы и до сих пор с достаточным успехом заменяет нож. Еще несколькими этажами выше обитают носители мировой со­ вести. Говоря несколько схематически, носители бывают салонные и бывают трактирные. К типу салонных носителей относится, по-видимому, мистер Бернард Шоу. Это одна из самых лучших, спокойных и хорошо оплачиваемых профессий мира. По крайней мере до тех пор, пока “неземные идеалы” не спускаются не грешную землю. Тогда но­ сителям совести и идеалов приходится или эмигрировать за границу, или садиться в Соловки или Дахау, или каяться, как это делали Зо­ щенко и Зомбарты. Но носители совести и идеалов считают, что на их век дураков хватит. Обычно действительно хватает. Однако при темпах современной политики этот расчет очень уж зыбок: может и не хва­ тить. Русским, итальянским и немецким носителям мировой совести и неземных идеалов времени несколько не хватило. Или они не рассчи­ тали времени. Не хватило и наличного запаса дураков. Или они не рассчитали наличного запаса дураков. Однако профессия носителя совести и идеалов, при всей гибко­ сти первой и изменчивости вторых, остается все-таки выгодной профессией — если удается ее заблаговременный экспорт за преде­ лы территорий, где совесть победила и идеалы реализовались. Из русских носителей этим по-прежнему промышляет, например, Бердяев. Не очень отстает от него, кажется, и Томас Манн. Только что в “Люнебургер Ландеп Цайтунг” от 27 июня 1947 года я про­ чел заметку о немецком носителе совести и идеалов. “Было очень интересно, — пишет газета о лекции Манна в Лондонском универ­ ситете, — какую точку зрения будет отстаивать Манн, который так часто менял свои точки зрения. Он оказался верен той доктрине, которой он присягнул последний раз”. Затем идет перечисление блужданий и смены вех. Пока что они закончились превращением яростного немецкого шовиниста Тома­ са Манна в яростного американского патриота — того же Томаса Манна. Газета меланхолически говорит: “Собственно, это истинно немецкий случай”. Мы, русская эмиграция, полагали, что это "ис­ тинно русская” история. Но, может быть, как и в вопросе о Восто­ ке и Западе, ни немцы, ни русские тут решительно ни при чем: это вопрос не нации, это вопрос профессии. В большинстве случаев профессиональная ловкость этих людей оказывается достаточной, чтобы унести их ноги от реализации их же идеалов и велений их же совести. В защиту русских носителей могу только сказать, что Диктатура импотентов 341 до уровня Томаса Манна из них, кажется, не спустился никто — никто не отказался от своей Родины. Носители совести меняют свою ношу, как правило, без особого напряжения задерживающих центров — моральных и физических. И в конечном счете выигрывают мало. Русскими носителями со­ вести и строителями социализма переполнены концентрационные лагеря СССР, полуконцентрационные лагеря покойной УНРР и безвестные могилы в чрезвычайках всех видов и наименований. Но во всех этих местах, кроме носителей и строителей, гибнут или си­ дят также и миллионы других людей, не имеющих решительно ни­ какого отношения ни к носительству, ни к строительству. В результате деятельности всех этих носителей и строителей в голо­ вах средней трудящейся массы европейского — вероятно, также и аме­ риканского — населения образовалась совершеннейшая путаница по­ нятий и представлений. В общем, приходится признаться, что “надеж­ да и упование” — при всей неясности этой формулировки — является наиболее общепринятым определением социализма. Социализм есть все-таки невыразимо прекрасное будущее. И всякий, кто против со­ циализма, — против этого будущего, он, следовательно, если и не все­ гда преступник, то всегда враг. Именно таким врагом оказался и я по отношению к очень добропорядочному немецкому рабочему, с кото­ рым я познакомился в берлинской тюрьме гестапо. Он, по его словам, был старым социал-демократом, то есть чле­ ном той партии, которую нынче пасет доктор Шумахер. Он когдато — я не помню, когда именно, — эмигрировал из Германии в США, а из США в 1938 году вернулся домой в страну строящегося социализма. Настоящего социализма, по его просвещенному мне­ нию, в России, при ее культурном уровне, настоящего социализма быть не могло. В социалистической Германии его посадили сра­ зу — точно так же, как сразу бы посадили и в другой по-настояще­ му социалистической стране. Здесь, в Германии, мой собеседник обнаружил, что в США решительно все лучше, чем в Германии. Там, в США, он зарабатывал семь долларов в день. На эти семь долларов он мог купить то-то и то-то. Имел домик. Откладывал. Мог говорить что угодно и делать более или менее что угодно. Здесь ему платили меньше семи марок, на которые, кроме того, трудно было что-нибудь достать. Делать можно только то, что при­ казывают делать, а говорить и вовсе нельзя: вот он, немец, рабо­ чий и социалист, попытался проводить параллель между семью долларами в США и семью марками в Третьем Рейке, и его, немца, 342 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век рабочего и социалиста, немецкая рабочая национал-социалистическая партия посадила в тюрьму — где он вот и сидит уже три года. Мой собеседник прошел основательную партийную подготовку, его мозги были вывихнуты окончательно. Из сравнения общест­ венных порядков в США и в Третьем Рейхе мой рабочий вывел та­ кое заключение: настоящий социализм — это в США: семь долла­ ров, говори что хочешь, поступай как хочешь, в тюрьму можно по­ пасть только по суду, — нет, настоящий социализм — это только в США. А здесь, в Третьем Рейхе, — только капитализм. Кровавый, проклятый и прочее — но капитализм. Я пытался доказать моему сотоварищу по социалистическим пе­ реживаниям, что настоящий социализм — это в СССР и в Герма­ нии. И что в США сидят такие же настоящие капиталисты: сто­ ронники частной инициативы, апостолы свободной торговли, ка­ питаны промышленности и вообще такие дяди, которых здесь, в Европе, по мере возможности отправляют на тот свет. Моя дружба с социалистическим рабочим на этом и кончилась. Кажется, он принял меня просто-напросто за провокатора. Он никак не мог со­ вместить в своей партийной голове социализма с голодом и капи­ тализма с сытостью. Я только потом сообразил довольно простую вещь: для всех этих партийных и беспартийных стад самый звук “социализма” связался со всякими “надеждами и упованиями”. И всякое напоминание о капитализме — с гибелью всяких надежд и всяких упований. Термин “капитализм” въелся в сознание как не­ что гнусное, реакционное, бесчеловечное: “кровавый капитализм”, “акулы кровавого капитализма”, “эксплуатация человека челове­ ком” — словом, “твоим потом жиреют обжоры, твой последний ку­ сок они рвут”. Бабели и Каутские, Шумахеры и Торрезы, Плехано­ вы и Бердяевы, Шоу и Уэльсы вдалбливали это представление лет сто подряд. Оно въелось в сознание. Как, с другой стороны, въе­ лась “надежда и упование”. И вот — приехал человек с “надеждой и упованием” и слава Тебе Господи — сидит в тюрьме: чего уж на­ гляднее? Я рассказывал ему о других таких же человеках, приехав­ ших с такими же надеждами и упованиями в такую же страну та­ кого же настоящего социализма — и тоже попавших в такую же тюрьму. Рабочий смотрел на меня с таким видом, как будто все хо­ тел спросить: а сколько тебе, сукиному сыну, капиталисты запла­ тили за твою провокацию? Партийно-тренированная голова оказа­ лась наполненной таким вздором, что ни для каких фактов в ней места уже не нашлось. Социализм должен быть светлым, а капита­ лизм должен быть кровавым. И если свет в США, а кровь — в Третьем Рейхе, то это может значить только одно: настоящий со­ Диктатура импотентов 343 циализм — это в США. С этим твердым убеждением мой собеседник так и покинул тюрьму: его переправили в концентрационный лагерь. ...Для какого-то мне неизвестного процента западноевропейских пролетариев, “трудящихся” салонных снобов, трактирных проповед­ ников, заблудших интеллигентских душ и прочего в этом роде терми­ ны “социализм” и “капитализм” стали чем-то вроде магических за­ клинаний: призыв светлых сил и оборона от темных. И имеют точно такой же логический смысл, как и всякое заклинание. Отнимите у лю­ дей социализм — они лишаются “надежды и упования”. Надежды — не важно, на что именно, но все-таки надежды. Скажите им о “ка­ питализме”, и им будет мерещиться гробовая крышка: “оставьте всякие надежды все входящие сюда”. “Надежды” вдалбливались лет тысячи две — от Платона до Сталина. И люди, которые на личные силы надеяться никак не могут, возлагают упования свои на те наживки, которыми снабжены удочки профессиональных ры­ боловов в мутных водах городского дна. Над довольно массивным слоем людей, одержимых снобизмом, наивностью, погоней за оригинальностью или просто партийной заработной платой, возвышается очень тонкая и очень влиятельная прослойка людей, которые совершенно точно знают, чего именно они хотят. Они хотят власти. Возможно, что кое-какие идеи и иг­ рают здесь кое-какую роль, но, возможно, что никакие идеи здесь не играют ровно никакой роли. Французские министры последних десятилетий начинали свои политические карьеры трактирной по­ литикой самого неумеренного социализма. Становясь парламента­ риями, они превращались в умеренных социалистов. Получая ми­ нистерские портфели и вместе с ними доступ к банковским сче­ там, они оказывались такими же грешными сторонниками частной собственности, как и мы все, остальные. Фирма иногда менялась. Но иногда не менялась даже и фирма. Так, французская партия “радикал-социалистов”, то есть крайних, радикальных социали­ стов, на практике оказалась чисто консервативной партией, почти контрреволюционной. Трудно сказать, какая именно идея руково­ дила политическими карьерами этих людей. И была ли она вооб­ ще? И насколько правы принципиально-последовательные русские коммунисты, обзывая своих французских товарищей продажными оппортунистами, лакеями капитализма, изменниками святым идеа­ лам Соловков и Лубянки? Во всяком случае, значительная часть западноевропейских со­ циалистов удовольствовалась “программой-минимум”: той частью 344 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век прибавочной стоимости, которая влезала в их собственные карманы. Их немецкие и в особенности русские единоверцы пошли значитель­ но дальше. Крохи, падавшие с капиталистических столов, их не уст­ раивали. Они пришли к настоящей власти. И эта настоящая власть с совершеннейшей логической неизбежностью привела к созданию тота­ литарных режимов. Ибо если тоталитарный режим возможен и без со­ циализма (Наполеон или Франко), то социализм без тоталитарного режима есть такая же логическая нелепица, как прохладительный ки­ пяток, сапог всмятку или бескровная революция. Термин превратился в наживку и в заклинание. В сознательный или бессознательный, намеренный или даже вынужденный обман. Публика клюет только на социалистическую наживку. Что делать по­ литику — в особенности профессиональному политику, даже не склонному ни к каким “надеждам и упованиям”? Так и уходить домой с пустыми руками? Надевает социалистическую наживку и он. Так возникают партии — вроде радикально-социалистической во Франции или христианско-социалистической в Германии, или народно-социа­ листической в России — разумеется, в досоциалистической России. Но если отбросить в сторону все заклинания, наживки, блуд, обман и самообман, то сущность социализма совершенно ясно, точно и бесспорно укладывается в ту формулировку, которую ему дают все классики социализма, от, скажем, Платона, до, скажем, Маркса. Такой знаток экономических учений, как профессор Зомбарт, формулирует: “Социализм есть хозяйственная система, основанная на обще­ ственном владении землей и средствами производства”. Все люди, стоящие на этой точке зрения, и есть настоящие социалисты, какие бы тактические разногласия их ни разделя­ ли. Тактические же разногласия сводятся к двум вопросам: ко­ гда и как? Коммунисты говорят: сейчас и революционным пу­ тем. Фабианцы говорят: через пятьсот лет и парламентарным путем. Тактическая слабость всех фабианских, умеренных и прочих бескровных социалистов заключается в том, что не вся­ кий пролетарий, которому с истинно научной точностью был обещан земной рай, согласится ждать этого рая пятьсот лет. Найдутся люди, которые предпочтут переселиться в этот рай завтра же — если уж сегодня никак нельзя. Найдутся вожди, которые пообещают по меньшей мере завтрашний рай. В том социалистическом соревновании, о котором я уже говорил, — в соревновании на власть и на скорость, неизменно побеждают те партии и вожди, которые гарантируют невыразимо блаженную жизнь именно мне, а не моему правнуку. Диктатура импотентов 345 Какое дело истинному пролетарию до его правнуков? И будут от­ брошены те “соглашатели”, которые, раздразнив пролетария предстоя­ щим ему пирогом богов, уберут и закуску и выпивку из-под самого носа: “Все это, конечно, научно неизбежно — но только через пятьсот лет. Умерьте ваши аппетиты и подождите пятьсот лет!” Нельзя обижаться на людей, которые отказываются ждать пять­ сот лет. Особенно в том случае, если эти люди видят, что их веле­ речивые вожди сами-то пятьсот лет ждать не стали и пока что при­ строились к капиталистическим текущим счетам. Вожди фабианского типа обещают земной рай — но неизвестно когда и неизвестно какими способами. Социалисты континенталь­ ного типа обещают его на завтра и путем резни: минутная опера­ ция по экстракции капиталистов. Вся трагедия, однако, заключает­ ся в том, что настоящая резня начинается именно после экстрак­ ции капиталистов. Жирондисты во Франции, социалисты в Рос­ сии, социал-демократы в Германии — все они ушли без боя, хотя иногда по дороге и оставили свои головы. Они сбросили свои вол­ чьи шкуры и положились: одни — на быстроту ног, другие — на милость победителя. Ноги оказались на практике надежнее: побе­ дители не проявили никакой милости ни по чьему адресу: ни Ро­ беспьер, ни Сталин, ни Гитлер. Те из баранов, которые вчера сбро­ сили волчьи шкуры, а сегодня пишут мемуары, и завтра будут — они или их потомки — писать полные собрания сочинений, пере­ числяли, перечисляют и будут перечислять политические ошибки победителей. Так недостаточно талантливые пишущие люди нахо­ дят стилистические ошибки в “Войне и мире”, недостаточно про­ двинувшиеся военные специалисты — стратегические ошибки На­ полеона и политики салонных и трактирных столиков — политиче­ ские ошибки великих вождей великих революций. Сейчас особен­ но в моде перечислять ошибки гитлеровской и сталинской полити­ ки. Любой передовик любой современной газеты их может пере­ числить по пальцам, если у него хватит на это пальцев. Попробуем установить постулат: все это не ошибки, а неизбежность. Попробу­ ем представить себе, что в политической области, например, Ста­ лин, никак не глупее среднего передовика средней капиталистиче­ ской газеты. Что он информирован бесконечно лучше этого пере­ довика и что если он поступает именно так, а не иначе, то у него для этого есть основания, передовику, может быть, и вовсе неиз­ вестные. И есть политический опыт, какого передовику даже и не снилось. И что если Наполеон шел на Москву, Гитлер разрывал договоры, а Сталин срывает Совет безопасности, то это вовсе не потому, чтобы все трое не имели бы никакого понятия об опасно­ 346 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век сти такой политики, — а потому, что опасности, вытекающие из отказа от именно такой политики, были бы безмерно больше опас­ ностей риска, дерзания, авантюры или войны. Очень трудно себе представить, чтобы товарищ Сталин, который профессионально за­ нимается политикой вот уже пятьдесят лет и из них двадцать пять лет занимает пост абсолютного властителя одной из самых великих стран мира, — чтобы этот Сталин в его собственной политике по­ нимал бы меньше, чем понимали Робеспьер, Наполеон, Муссоли­ ни и Гитлер, чем в ней понимают передовики демократической прессы или политики трактирных и салонных столиков. Можно, конечно, объяснить все это и плохим характером этой big five. Но тогда возникает естественный вопрос: почему же на посты вождей хронически попадают люди с плохим характером и почему ни од­ ного из них ничему не учит опыт их предшественников? Попробуем поставить вопрос несколько иначе: каждый из вож­ дей ведет ту политику, которой требует от него выдвинувший его слой. Вождь не может опереться ни на какую иную группу людей, ибо в своей борьбе за власть — свою и этого слоя — он уже успел достаточно насолить остальным группам и слоям населения стра­ ны. В Древнем Риме времен императоров и в России времен импе­ ратриц правящий слой снабжал их неограниченной властью и бо­ жественными прилагательными. И отправлял на тот свет, когда императоры и императрицы пытались уйти от контроля гвардии. Они могли быть “божественными” и “великими”. Но они жили под вечной угрозой убийства. Российская Екатерина Великая взошла на престол путем цареубийства и всю жизнь провела в страхе, что и ее убьют. Даже любовные связи ее были подчинены известному социаль­ ному заказу. И “правящий слой” недаром служил молебны по поводу восшествия на кровать очередного фаворита. Социальный состав преторианства был, конечно, различен. В Риме это была, так сказать, “интернациональная бригада”. В России это было среднее дворянство. В современных революциях выдвигается иной слой претендентов на власть, и в таких передовых странах, как Советская Россия, этот слой успел определиться с бесспорной четкостью. Это есть слой социали­ стической бюрократии. ЧТО ЕСТЬ БЮРОКРАТИЯ Социализм есть обобществление средств производства и земли. Это есть основной и решающий пункт его экономической про­ граммы. При некотором запасе реалистичности и честности этот пункт следовало бы средактировать так. Диктатура импотентов 347 Пункт первый. “Все фабрики и заводы, имения и фермы, мага­ зины и мастерские, то есть все места и все орудия человеческого труда, отнимаются от их частных владельцев и передаются в руки бюрократии”. Такой пункт, само собою разумеется, невозможен — ибо он оз­ начал бы всеобщее социалистическое самоубийство. Ни одна со­ циалистическая партия не может сказать, что она планирует пере­ дачу всего народного хозяйства — а следовательно, и всей народ­ ной жизни — в распоряжение бюрократии. Социализм, видите ли, передает все это в руки “народу”, “обществу”, “нации”, “государ­ ству”. Однако совершенно очевидно, что народ, общество, нация и государство есть абстракции, а абстракция, как известно, ни рук ни ног не имеют. Ни народ, ни общество, ни нация, ни государст­ во ничем управлять не могут: могут управлять только люди, назна­ ченные народом и прочими абстракциями. Но только люди, а не абстрактные существительные. Эти люди могут быть плохи и могут быть хороши, но во всех случаях “обобществления” они будут на­ емными служащими, государственными наемными служащими — то есть чиновниками. Или, переводя этот термин на язык общеев­ ропейской терминологии, — бюрократами. Поскольку я могу судитъ, на всех европейских языках термин “бю­ рократ” принял явно поносительный характер. На старом русском — до 1917 года — языке термин “чиновник” носил ясно выраженное ос­ корбительное значение и оброс рядом синонимов и эпитетов, вероят­ но, ни на какой другой язык непереводимых. “Человек двадцатого числа”, “чинодрал”, “чинуша”, “чиновничья душа”, “чиновничье от­ ношение к делу”. Предполагалось, что основные психологические, ад­ министративные и прочие качества “чиновника” присущи ему только и исключительно как “прислужнику проклятого старого режима”. По­ том появился новый, благословенный режим. Предполагалось, что с социалистического неба на нас свалится манна. Оказалось — свали­ лись булыжники, как при извержении Везувия. Из нашей социалисти­ ческой перспективы покойник городовой приобрел ангельские очерта­ ния, которых он, в сущности, не имел. Полуподпольная поэзия “пере­ ходного периода” вспомнила о городовом как о потерянном рае: Бранился ль я с неугомонным ванькой Иль ночью брел по улице с трудом, Не ты ль мне был заступником и нянькой. Не ты ли мне указывал мой дом... Разнокалиберная и всесословная русская эмиірация имеет еще небывалый в истории опыт разных бюрократий — будет очень 348 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век жаль, если этот опыт бесследно погибнет для человечества и его историков, для философов и социологов, а также и для новых про­ жектеров новых бюрократических формаций. Например, для про­ роков технократии. Этот опыт нуждается, конечно, в специальном исследовании. Вот мы, то русское поколение, которому сейчас пятьдесят лет, помним еще царского бюрократа, который символи­ зируется старорежимным городовым. Потом пришла несколько пу­ таная и очень кратковременная “непоследовательно-социалистиче­ ская” бюрократия так называемой керенщины. Потом, в эпоху гра­ жданской войны, возникали самые разнообразные бюрократии ок­ раинного “белогвардейского” типа. Потом возникла последова­ тельно социалистическая бюрократия разных эпох советской исто­ рии. Потом, я, например, практически изучал бюрократии Фин­ ляндии, Польши, Болгарии, Франции, Германии мирного времени и Германии военного времени. В 1945 — 1948 годах мы изучали трехэтажную и несколько интернациональную бюрократию, в ос­ новном сконструированную из оккупационных властей, немецкого чиновничества и тех выдвиженцев, которые администрируют в ла­ герях “ди-пи”. Сейчас, по сравнению со всеми ними, городовой кажется дей­ ствительно ангелом-хранителем. И из всего разнообразия пережи­ той нами бюрократии оккупационная трехэтажная оказалась если не самой худшей, то, во всяком случае, наиболее бессмысленной. Советская бюрократия очень плоха — но она, в общем, знает, что и зачем делает. Оккупационная ненамного лучше, но она вообще ни о чем никакого понятия не имеет. И стоя перед каким-нибудь “Борзинг Верке”, она “не знает, что почать”, - взрывать или от­ страивать? Сровнять с лицом земли или заняться расширением? Сегодня проектируется взрыв, завтра — расширение. Причем случает­ ся так, что две ветви одного и того же бюрократического аппарата действуют одновременно, но по разным предписаниям — одна взры­ вает, а другая отстраивает. Или — одна отстраивает, а другая взрывает. Средний немец взирает на все это с чувством окончательного непони­ мания: “Так вот это все и называется демократией?” Эту очень короткую и бездоказательную справку я привожу только для того, чтобы установить еще один исходный пункт: бю­ рократия есть явление столь же интернациональное, как и тотали­ тарный режим. Сейчас английская пресса борется с бюрократиз­ мом, и в “Таймсе” я прочел объявление, которое для меня было исполнено захватывающего интереса: объявление общества борьбы с бюрократизмом. Мы, русские, в этом отношении опередили Анг­ лию лет на тридцать: такого рода общества по инициативе Ленина Диктатура импотентов 349 были в СССР основаны в самом начале революции. И давно уже перестали существовать. Разумеется, вовсе не потому, что объект борьбы с бюрократизмом прекратил бытие свое. А просто потому, что, став властью, он уж никому с собой бороться не позволил. Старорежимный городовой нам не нравился. Теперь, в перспек­ тиве десятков лет и переломных эпох в истории человечества, мы можем трезво оценить неоценимые преимущества этого городово­ го. В самых основных чертах они состояли в том, что: а) от городо­ вого было куда удрать и б) от него можно было откупиться. Бюрократ нормального, не гипертрофированного “режима” не вездесущ и не всеобъемлющ. Есть области человеческой дея­ тельности, которые его никак не касаются. Он не контролирует “выполнение хозяйственного плана”, не руководит ни литерату­ рой, ни музыкой, и на него есть кому жаловаться: газетам, об­ щественному мнению и даже парламенту. Бюрократ сегодняш­ них времен — по крайней мере в большей части Европы — ру­ ководит хозяйственной жизнью, цензурирует прессу и кино, выдает паспорта и визы — в общем, определяет мое право на хозяйственное существование и даже на существование просто. Всех этих преимуществ старый бюрократ не имел. От старого бюрократа, по патриархальности времен, можно было откупиться полтинником. Этот полтинник был, конечно, взяткой. Он, конечно, не одобрялся никакими законодательст­ вами мира, и до сих пор никакое законодательство мира еще не изобрело способа искоренения взятки. Она была, и она оста­ лась. Разница только в том, что сегодняшняя взятка явно пре­ вышает нашу платежеспособность. Во-первых, потому, что мы обеднели до крайности и, во-вторых, потому, что бюрократ раз­ множился до такой же крайности. Для того чтобы не быть вполне голословным, я приведу до­ кументальную справку. В “Виртсшафтс-Цайтунг” от 13 июня 1947 года (Штутгарт) помещена очень тревожная статья о “ Рас­ тущей бюрократии”. В ней приведены официальные статисти­ ческие данные. Из них явствует, что к апрелю 1947 года общее количество “служащих” в британской и американской зонах достигло цифры в 1 439 300 человек — без служащих железных дорог, почты, лесного ведомства и общественных предприятий (Оффентлихе Бетрибе). И без иностранных служащих. Если принять во внимание отсутствующую цифру служащих, не во­ шедших в статистику “ Виртшафтс-Цайтунг” , то можно предпо­ ложить, что общее количество бюрократии должно доходить по меньшей мере до двух миллионов человек. 350 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век В двух оккупационных зонах живет около 35 миллионов населе­ ния — в значительной степени беженского, то есть с преобладанием женщин, стариков и детей над взрослыми мужчинами. Мужского на­ селения в этих двух зонах меньше 15 миллионов. Взрослого работо­ способного мужского населения миллионов семь. Со всякими поправ­ ками на тщету всякой статистики можно все-таки констатировать, что на три-пять взрослых работников страны приходится по крайней мере один бюрократ. Может быть, это было бы еще не так катастрофично, если бы этот бюрократ не плодился бы и не множился. Данные “Виртшафтс-Цайтунг” относятся к началу 1947 года. Эти данные ука­ зывают на рост бюрократии по сравнению с 1938 годом на 54 процен­ та — причем в цифру 1938 года входили армия и партия, ныне несу­ ществующие. Так что следует предполагать, что собственно бюрокра­ тический аппарат, не военный и не партийный, а просто бюрократи­ ческий, вырос с момента Цузамменбруха раза по крайней мере в два. Но и это еще не конец. По цифрам той же газеты, с января по апрель 1947 года бюрократический аппарат вырос еще на 24 процента — на одну четверть за четверть года. Это приблизительно соответствует уд­ воению в один год. Кстати, русские реакционные мыслители предупреждали и об этом. В. В. Розанов незадолго до революции писал: “Социализм за­ ключается вовсе не в том, чтобы от немногих отнять и отдать многим, а в том, чтобы на шею одного трудолюбца посадить четырнадцать дар­ моедов, которые упразднить себя не дадут” (Опавшие листья). При­ близительно ту же мысль на днях высказал довольно малограмотный немецкий ремесленник: "Это очень легко — развести бюрократа, а по­ том попробуйте его угробить”. Угробить себя бюрократ не даст. Или, по крайней мере, постарается не дать. Мне, вероятно, скажут, что положение в западных оккупацион­ ных зонах не имеет ничего общего с социализмом. Я же считаю, что с точки зрения изучения социализма не как теории, а как яв­ ления — то есть не с философской, а с чисто научной точки зре­ ния, опыт британской зоны Германии должен был бы иметь, так сказать, всемирно-историческое значение — здесь, кажется, един­ ственный раз в истории мира социализм родился автоматически. Путем, так сказать, самопроизвольного зарождения. ОККУПАЦИОННЫЙ СОЦИАЛИЗМ В России, Восточной Германии, Венгрии, Польше и прочих та­ ких странах социалистический строй в его разных оттенках и вари­ антах возник на основе заранее спланированной теории. В британ- Диктатура импотентов 351 ской зоне Германии он родился, так сказать, случайно, непреду­ смотренно, можно сказать неожиданно и даже незаметно. Тот строй, который нынче существует в этой зоне, никто, кажется, не называл социалистическим строем. Нигде не было сказано о зако­ нодательном введении социализма. Никто здесь, кажется, даже и не подозревает, что он имеет счастье жить при практически социа­ листическом строе, лишенном только одного — своей “идеологи­ ческой надстройки”. Напомню основное требование всякого социализма: обобществ­ ление средств производства. То есть ликвидация частной собствен­ ности на средства производства. Или — еще иначе — ликвидация частной инициативы. Ибо если ваши средства производства и бу­ дут оставлены как ваша частная собственность, а распоряжаться этими средствами вы права не получите, то ваша частная собствен­ ность без права распоряжаться ею перестает быть частной собст­ венностью. Она уже при Гитлере таяла незаметно и неуклонно. Немцы понимали это как временное явление, обусловленное вой­ ной. Когда война рухнула, то предприниматели, помещики, домо­ владельцы, ремесленники и прочие, с которыми мне приходилось разговаривать, были опьянены предвкушением своих будущих — демократических — хозяйственных свобод. Им всем, даже и на­ строенным в пользу Гитлера и его режима, бюрократ все-таки на­ доел до чертовой матери. Теперь союзники автоматически вышиб­ ли его вон. Конечно, союзники будут грабить нас, немцев, как липку. Конечно, опять будут репарации, контрибуции, реквизиции и все такое. Но мы, немцы, работать любим и работать умеем! Мы все это отстроим в три-пять лет. Кое-кто пограмотнее приводил даже и русскую поговорку о том, что немец обезьяну выдумал. Они, немцы, уж выдумают! Они из кожи вылезут вон, но на ноги они станут. Помещики, домовладельцы, инженеры, ремесленники, фабриканты — все они горели всяким частнопредпринимательским энтузиазмом. Теперь — все они потухли. После очень короткого и бурного периода мечтаний о свобод­ ной инициативе пришли оккупационные власти и сказали: подож­ дите. В объятия оккупационных властей сразу хлынул деклассиро­ ванный и безработный элемент старой национал-социалистической бюрократии, новой просто социалистической, демобилизованных военных, разоренных торговцев, безработных приказчиков и вся­ кого такого неприкаянного люда. В течение нескольких месяцев был сколочен аппарат власти, который никому работать не дал. Оккупационная власть есть, конечно, власть бюрократии, воен­ ной или штатской — это более или менее безразлично. Та бюро- 352 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век кратия, которая пришла с победоносными армиями союзников, не имела никакого понятия ни о каком хозяйстве, о немецком в част­ ности и в особенности. Она, кроме того, не имела никакого поня­ тия, что именно надлежит ей делать. Взрывать ли заводы искусст­ венного удобрения и потом кормить немцев за свой собственный счет? Или предоставить заводам работать, а немцам — есть собст­ венный хлеб? Следует ли топить германский рыбачий флот — и потом ввозить рыбу из Шотландии и Норвегии? Или предоставить немцам возможность есть свои собственные уловы? Вопросов тако­ го типа были тысячи. Ответов на них нет и до сих пор. Немцы любят и умеют работать. Кроме того, немцы любят по­ рядок и закон. Они дисциплинированны и законопослушны. Сей­ час, надо полагать, всякое уважение ко всякому закону выветри­ лось на десятки лет. Но в момент Цузамменбруха мне пришлось наблюдать сценку, которая ни в какой иной стране немыслима. Маленький городок покинут немецкими частями, и его обстре­ ливает союзная артиллерия — на всякий случай. Отступившая не­ мецкая артиллерия обстреливает тот же городок, предполагая, что союзники уже там. Городок горит. Снаряды рвутся. Крестьяне и крестьянки на велосипедах и тележках везут подлежащее сдаче мо­ локо в местную маслобойню. Власти, которая издала этот приказ, уже нет. Но порядок все-таки должен быть. В первые месяцы ок­ купации какой-то преисполненный инициативы дядя приказал ру­ бить плодовые сады: земля-де будет нужна для картошки. Немцы рубили сады — не все немцы и не все сады, но все-таки рубили. По совершенно таким же соображениям немцы — добросовестно и тщательно — жгли все на путях своего отступления: и во Франции, и в России, но также и в Германии: приказ есть приказ. А тот, кто приказывает, должен уж знать свое ремесло. Теперь с этой психо­ логией, кажется, покончено. И на довольно долгое время. Итак, опорной точкой оккупационного социализма в британ­ ской зоне явились не социалисты, а бюрократы. И не свои, а,окку­ пационные. Они пришли из канадских лесов, из лондонских кон­ тор, из новозеландских ферм, и они ни о чем в хозяйственной жизни Германии не имели никакого представления. Но вчерашний клерк из Сити или овчар из Квинсленда стали капитанами или да­ же полковниками, они получили власть казнить или миловать, раз­ решать или запрещать, взрывать или строить. Около них сейчас же создалась прослойка переводчиков и посредников, которые были заинтересованы только в двух вещах: в пайке и во взятке. Вокруг этого центра с истинно молниеносной быстротой выросли всякие управления, советы, бюро, канцелярии и прочее. Все они конвуль- Диктатура импотентов 353 сивно стали планировать: это было единственное, что им оставалось делать. Приблизительно через полгода после начала оккупации жизнь была спланирована до дна. Работать не стало никакой возможности. Те конкретные примеры, которые я собираюсь привести, будут, конечно, мелкими примерами. Дело, однако, заключается в том, что хозяйственная жизнь страны — всякой страны — определяется не ге­ роическими подвигами, не стахановскими достижениями, не пятилет­ ними или четырехлетними планами и не декламацией об этих пла­ нах — она определяется миллиардами маленьких усилий сотен мил­ лионов маленьких людей. Эта жизнь, как это отметила даже и фило­ софия, разнообразна до крайности. Любой человек из сотен миллио­ нов, подчиненных плану и бюрократии, может привести другие десят­ ки других примеров. Это будут тоже мелкие примеры. Но, помножен­ ные на десять, на сто, на триста миллионов, эти мелкие примеры вы­ растают в хозяйственную катастрофу — вот вроде той, какую хрониче­ ски переживает СССР, или той, которую сейчас переживает Германия. Можно, конечно, сказать: хозяйственная катастрофа Германии выросла из ее военной катастрофы. Для СССР отпадает и это со­ ображение. Здесь, в СССР, хозяйственный развал непосредственно и прямо связан с той бюрократической диктатурой, которая в СССР называется диктатурой партии. В оккупационных зонах ни­ какой партийной диктатуры нет — есть просто бюрократическая. И какие бы оправдания ни приводить ее жизни и деятельности — остается, вне всякого сомнения, один и решающий факт: в течение почти трех лет этой диктатуры германское хозяйство, вместо како­ го бы то ни было подъема, неизменно катится вниз. Какую-то часть этого падения мы имеем право переложить на плечи между­ народного положения и прочих стихийных причин. Но совершен­ но ясно: если над каждыми тремя трудящимися сидит по одному бюрократу, то трудиться нельзя. Недавно в немецкой газете “Ди Вельт” появилась очень ма­ ленькая и очень серьезно средактированная заметка под заголов­ ком “Давид и Голиаф”. В заметке было сказано: в Миндене сидит центральное управление почты и телеграфа и центральное управле­ ние хозяйства. В почтовом управлении работают 11 (одиннадцать!) человек, в хозяйственном — 2700 (две тысячи семьсот!). И потому почта работает, а хозяйство разваливается. Лично я не занимаюсь решительно никакой хозяйственной дея­ тельностью, и поэтому две тысячи семьсот бюрократов в Миндене сидят на моей шее не непосредственно. Они сидят на других шеях. Я — иностранец, “ди-пи”, и писатель: я живу главным образом за счет КАРЕ-пакетов из заграницы, и от немецких хозяйственных 354 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век забот я более или менее изолирован. Но я никак не могу быть изо­ лированным от бюрократического воздействия тех органов, кото­ рые призваны стоять на страже директив, изданных двумя с поло­ виной миллионами бюрократов двух оккупационных зон. Я — по своим делам — отправляюсь в Гамбург. В Гамбурге я стою на улице у остановки трамвая № 22 на Штайндами. Против этой оста­ новки, на тротуаре, есть действительно черная биржа. Там можно ку­ пить одну-две папиросы, камушек для зажигалки, лезвие для бритвы и прочие такие товарные массы — ценность* сделок по ценам мирового времени не превышает десятка пфеннигов для каждого отдельного случая. Это — торговая организация голода и плана. Под облаву на этой черной бирже я прпал два раза. Но в пер­ вый раз моей советской практикой наметанный глаз заметил чтото неладное: грузовики с полицией, как-то очень уж невинно про­ езжавшие мимо. За годы социалистических режимов я привык не любить никакой полиции — я почти рефлексивно, под самым но­ сом проходившего трамвая, ринулся на другую сторону улицы. Шагах в трех за мной замкнулся железный круг полицейской обла­ вы. Проявлять дальнейшее любопытство я не стал. Через некото­ рое время на том же самом месте я как-то зазевался. Меня, в числе еще нескольких сотен живого двуногого улова, поволокли в поли­ цию. Там меня и прочих обыскали. Там и у меня и у всех прочих нашли папиросы: даже и в плановой стране люди все-таки что-то курят. Но я, умудренный советским опытом, постоянно таскаю с собой около полуфунта всяких документов, удостоверений, бума­ жек и черт его знает чего еще. В их числе я откопал квитанцию о получении мною посылки из США — и еще таможенную отметку об уплате пошлины за папиросы. Я торжественно предъявил эти бумажки. Они были довольно стары. Не было никакого основания предполагать, что папиросы, найденные у меня в кармане, были именно теми, которые значились в квитанции. Они и не были. Но меня все-таки выпустили. Остальные несколько сот человек оста­ лись торчать в полиции. Я опоздал на поезд и потерял целый день. Я не знаю, куда опо­ здали и сколько времени потеряли мои сотоварищи по частной инициативе. Потом в гамбургской газете я прочел сообщение об облаве и о том, что ею было обнаружено несколько сот папирос — кажется, около пятисот. Закон, так сказать, восторжествовал: пре­ ступные папиросы, как выражаются немцы, были “вісНегЕезіеіи”. Ничего не было сказано о пропаже моего рабочего дня и еще со­ тен двух или пяти других рабочих дней. И никто не занялся под­ счетом народно-хозяйственных результатов этой плановой акции: Диктатура импотентов 355 пятьсот папирос, общей стоимостью около двадцати марок, были, конечно, выкурены самими полицейскими, а сумма рабочего вре­ мени общей стоимостью марок тысячи в две не пошла в пользу да­ же и полиции. Я оставляю вовсе без рассмотрения вопрос о человеческих нервах и о человеческом достоинстве: факторы этого рода никаким планом не учитываются. Не учитывается и тот занятный факт, что если один от­ ряд всеобщей бюрократии устраивает облаву, то в нее попадают и представители других отрядов. И если третий отряд организует голод в стране, то от голода не совсем может уйти и вся бюрократия, взятая в целом. Но все это очень мало меняет положение вещей. Обыски и облавы одно время стали чем-то вроде спортивного про­ мысла или промыслового спорта — как уженье рыбы: и интересно, и питательно. Устраивались облавы на вокзалах — и люди опаздывали к поездам. Устраивались заставы на местах — и целые заводы простаи­ вали, пока рабочих обыскивала полиция. В газетах появились торжест­ вующие заметки о зихергештельте сотен папирос, десятков кило мяса и прочего в таком же роде. Я газеты читаю очень внимательно — про­ фессионально. Я ни разу не читал сообщений о зихерштеллунге сотен тысяч папирос. По самым скромным моим подсчетам, один только Гамбург должен выкуривать в день не меньше двух, а то и пяти мил­ лионов “черных” папирос. Они не могут быть конфискованы, ибо лю­ ди, которые торгуют сотнями папирос, имеют всякие документы на всякую папиросу. Бюрократ должен что-то запрещать — это ею основная функция. Два с половиной миллиона бюрократов обязаны выдумать хотя бы не­ сколько тысяч запретов — это их профессия. Верстах в десяти от нас, по левому берегу Нижней Эльбы расположены крестьянские плодовые хозяйства: это район садов. Урожаи этих садов всегда убирались при­ шлой рабочей силой, и всегда эта сила оплачивалась более или менее натурой. Мы, как и все население зоны, страдали от нехватки витами­ нов. Мы проектировали двинуться всей семьей на уборку урожая яб­ лок, слив и груш. Но в целях борьбы с той же черной торговлей был издан декрет, запрещающий въезд и даже проезд через этот район всем “посторонним лицам”. Крестьяне подняли протест — их никто не слушал. Протестовало и духовенство — никто не слушал и его. Осень была жаркая и сухая, и во влажных районах низовья Эльбы был рекордный урожай фруктов. Собирать их было некому. Урожай на три четверти погиб. Крестьянка, в доме которой мы жили эти годы (1945 — 1948), является теоретической собственницей своего дома и своего участ­ ка. Практически она уже давно ничем распоряжаться не может: 356 Солонеет И.Л. Наша страна. XX век над каждой отраслью ее сложного хозяйства выстроена вавилон­ ская башня бюрократии. Одна башня над полезным хозяйством, другая — над свиньями, третья — над горючим для дизеля, четвер­ тая — над сельскохозяйственными машинами, пятая — над по­ стройками, и даже пруд, в котором выужены еще не все карпы, подвержен какой-то особой ихтиологический дивизии двухмилли­ онной армии чиновников, плановиков и контролеров. В результате предшествующих исторических событий над наши­ ми комнатами стала протекать крыша. Хозяйка приняла меры: по­ дала заявление о разрешении эту крышу починить. Крыша — ка­ мышовая. Пруд — свой. На своем пруду растет собственный ка­ мыш. Но — крыша подчинена строительной инспекции, пруд — ихтиологической, камыш — я уж не знаю какой. Мы в дождливые дни и ночи стали подставлять под протекающие места нашу налич­ ную посуду. Хозяйка слала куда-то просьбы разрешить ремонт. Потом посуды стало не хватать, и потолок стал размываться. Я пригласил хозяйку на военный совет и поделился с ней моим со­ ветским опытом: то же самое делается и у нас в СССР. Стратеги­ ческий план был выработан. Были приглашены рабочие, которые без всякой волокиты нарезали камыш на пруду и починили кры­ шу. Против возможного наскока бюрократии была выдвинуты два стратегических заслона: фунт настоящего кофе с моей стороны и какое-то количество свинины со стороны хозяйки. Свинина была извлечена из санитарного протокола, удостоверяющего неизлечи­ мое заболевание свиньи моей хозяйки и необходимости вынужден­ ного забоя (Нотшляхтен). Мой добрый приятель — русский немец из Балтики, инже­ нер и слегка энтузиаст, решил помочь жилищному голоду и за­ няться фабрикацией цементно-соломенных строительных плит. От одиннадцати заведений он получил одиннадцать разрешений, лицензий, нарядов и прочего. Он продал какие-то фамильные ценности, несколько месяцев ездил по обеим зонам, подбирая старые машины и все такое, свез их, отремонтировал, отстроил какое-то помещение и даже нанял рабочих — двадцать семь че­ ловек. И когда все эти геркулесовские подвиги были заверше­ ны, то в какой-то из одиннадцати инстанций какой-то бюро­ крат то ли куда-то перевелся, то ли как-то проворовался, а но­ вый в чем-то отказал — кажется в топливе. Оставшиеся десять бумажек никуда не годятся без аннулированной одиннадцатой. Так работают две тысячи семьсот человек из центрального хо­ зяйственного управления в Миндене. Так работают и остальные два с половиной миллиона. Диктатура импотентов 357 Моя семья и я — “ди-пи”. Мы приписаны к лагерю в Хайденау, где в идиотских условиях, в бараках и в бочках, как Диогены, жи­ вут около трех тысяч человек. Я жил в советском концентрацион­ ном лагере: там не было хуже, я не хочу клеветать даже и на совет­ ские концентрационные лагеря. Мне могут возразить, что в лаге­ рях "ди-пи” расстрелов нет. Это верно. Но из лагерей “ди-пи” есть выдачи на расстрел. Так что в общем получается одно и то же. Каким-то из бюрократических отрядов трехмиллионной плано­ вой армии (к двум с половиной немецких нужно прибавить еще и оккупационные отряды) был издан приказ, повелевающий всем “ди-пи” жить обязательно в лагерях. Это был идиотский приказ: люди, которые жили вне лагерей, чем-то занимались, работали на фермах или на заводах, сапожничали или плотничали, но чем-то все-таки занимались. Три тысячи человек, согнанные в один ла­ герь у одной деревни, понятно, ничем заниматься не могут: рабо­ тать им негде. Но — приказ есть приказ. Лично я получил от воен­ ного управления разрешение жить на частной квартире. И у меня и у военного управления были для этого достаточные данные. Летом 1947 года над нашим лагерем возникло новое, свежее, импортированное из Англии начальство — некий мистер Левин. Мистер Левин потребовал, чтобы мы в трехдневный срок перебра­ лись в лагерь Хайденау. Мой сын поехал к мистеру Левину и предъявил ему разрешение военного управления. Мистер Левин сказал, что оно устарело. Я потерял рабочий день, поехал в Винзен и получил новое. Мистер Левин сказал, что оно не годится: Хайде­ нау, которым командует мистер Левин, расположено в другом ад­ министративном участке, чем Аппельбек, в котором живем мы. В другой административный участок я не поехал. Я потерял еще два рабочих дня и привел мистера Левина к некому молчанию. Этим молчанием мистер Левин остался недоволен. Мне нужно было поехать в Мюнхен. Для поездки мне нужно разрешение мистера Левина и пропуск от УНРР. Я — писатель. Мои книги изданы на семнадцати языках — в том числе и на анг­ лийском в Лондоне и в Нью-Йорке. У меня на руках отзывы анг­ лийской и американской прессы. Мне 57 лет, и я говорю на трех иностранных языках. Мистер Левин на своей родине был, вероят­ но, писцом и ни на одном языке, кроме английского, он не гово­ рит ни слова. Мистер Левин заявляет мне, что он разрешения мне не даст: “Нечего вам ездить, можете сидеть дома”. Если бы в нор­ мальных условиях я дал бы мистеру Левину по физиономии, я от­ сидел бы неделю или заплатил бы икс фунтов штрафа и считал бы, что за такое удовольствие заплатить стоит. Но если бы я прибег к 358 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век такому способу защиты моей свободы передвижения здесь, то я и моя семья были бы лишены прав “ди-пи” — следовательно, возможности выезда из-под власти мистеров Левиных, и — в некоторой перспекти­ ве — мы рисковали бы тем, что товарищи мистера Левина, бюрократы СССР, большевики, изорвут нас или повесят. Я, следовательно, воо­ ружаюсь подложными документами и еду куда мне надо. У сына родилась дочь. Лагерь выдает на нее паек. Администра­ ция лагеря требует, чтобы ребенка показывали ей раз в неделю: жив еще или помер. От нас до лагеря 15 километров проселочной дороги. Авто, понятно, у нас нет. Возить новорожденного ребенка на велосипеде или на чем попало никакой возможности нет. Сын арендует на час-полтора соответствующего ребенка в одном из не­ мецких семейств в Хайденау и демонстрирует его любвеобильной администрации: вот видите, жив. 3 августа 1947 года в лагере была произведена облава. По дан­ ным, опубликованным в местной прессе, при облаве было конфи­ сковано: 87 велосипедов, 153 пачки папирос и 36 плиток шокола­ да — это на три тысячи человек “ди-пи”. В прессе лагерь был на­ зван “местом ужаса”, из которого “иностранцы” терроризируют все окрестное немецкое население. При облаве были найдены и орудия террора: один револьвер и к нему шесть патронов. Это — официальная сторона облавы. Неофициальная заключается в том, что ночью лагерь был окружен танками и прочим — против одного револьвера и шести патронов, все было перерыто вверх ногами, женщины плакали, дети пищали, и немецкая полиция засовывала конфискованный шоколад в свои собственные карманы. После обыска в лагере английская полиция обыскала немецкую и выуди­ ла указанные в прессе папиросы. Английскую полицию, по понят­ ным соображениям, не обыскивал никто. Все это, конечно, мелочи: потопленные рыбачьи суда, срублен­ ные сады, погибшие урожаи, пропуски, облавы, разрешения, ли­ цензии, наряды и прочее. Эти мелочи сидят за утренним завтраком каждого жителя плановой страны, сидят у каждого обеда и ужина, иногда заглядывают и ночью. Это есть социализм, ибо это есть бесправие. Если вас лишают права распоряжаться вашей собственностью, то должен быть аппарат, который ею будет распоряжаться вместо вас и который будет вас карать за неисполнение его распоряжений. Это, я бы сказал, есть абсолютная неизбежность. Немецкий фило­ соф Фихте, один из творцов современного социализма и национа­ лизма, так и проектировал систему всеобщего и всеохватывающего шпионажа в его будущей социалистической стране. Дальше я при- Диктатура импотентов 359 вожу его просвещенный совет текстуально. Но во времена Фихте философия интересовалась только разделом наличных земель, плу­ гов, жен и прочего. В наши времена она заинтересовалась еще и производством. Фихте мечтал только о бытовом шпионаже. Хозяй­ ственный план предполагает еще и производственный шпионаж. Все это вместе взятое вызывает рождение великого моллюска, ко­ торый присасывается ко всякой трудящейся массе миллионами своих присосков, сосет кровь и не дает двигаться. В нормально со­ циалистических странах этот моллюск рождается по предваритель­ ному плану философии. Здесь, в зонах, он родился случайно: сна­ чала появилась бюрократия и потом возник социализм. Но из ка­ кого бы конца он ни родился, результаты его — в “отсталой” Рос­ сии, и в культурной Германии, и в демократических странах — ре­ шительно одни и те же: бесправие и голод. И над бесправием и го­ лодом — вывеска новых планов, которые послезавтра накормят го­ лодных и дадут права рабам. ПЛАН, КУРИЦА И ВЫЕДЕННОЕ ЯЙЦО В те счастливые внеплановые времена, когда европейские тури­ сты еще имели возможность глазеть на Хеопсову пирамиду, никто из них не задавался моральным вопросом о судьбе рабов, на трупах которых была построена эта пирамида. Вероятно, никто не пред­ полагал, что в роли Хеопсового раба окажется он сам. И что это произойдет в двадцатом веке после Рождества Христова. В веке электричества, радио и самой современной философии и истории человечества. Однако все это произошло. Между египетскими пирамидами и современными есть все-таки некоторая разница. Египетские — действительно стоят. Совсем не­ давно мой знакомый немец посетил Берлин и, движимый туристи­ ческими чувствами, пошел в имперскую канцелярию — она, как известно, была построена на тысячу лет. Канцелярия была разбита и пуста. Только в личном кабинете фюрера мой турист обнаружил несколько рабочих, выламывающих из стен плиты облицовки. Плиты эти, как оказалось, предназначались для памятника Стали­ ну в Берлине. Так проходит слава мира и так проходят планы его. Но идеи славы и плана продолжают освещать сумеречные дороги Европы, и по этим дорогам Европа неизменно въезжает туда, куда как раз въезжать не следовало бы. План разделяет судьбы администрации, национализации, кас­ торки и гвоздя. Железо нужно человеческой крови, но из этого не 360 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век следует, что надо питаться гвоздями. Касторка полезна при запоре, но не следует лечить ею туберкулез. Храмы были, по-видимому, первыми в истории постройками общественного владения — но из этого не следует, что надо национализировать религию. Без адми­ нистрации не может прожить никакое человеческое общество, но не следует превращать администрацию в бюрократию. Если вы, в числе еще десятка потерпевших кораблекрушение, плывете на плотике и на всех вас есть двадцать литров воды, то план ее распределения является необходимостью. Если Англия в обеих мировых войнах была отрезана от ввоза продовольствия — а своего у нее нет и быть не может, — то план распределения хлеба и мяса был такой же необходимостью, как план распределения во­ ды на плотике. Но вот люди куда-то высаживаются с плотика, а Англия как-то кончает войну. Вопрос о воде, хлебе и мясе ставит­ ся совсем в иной плоскости. На плотике нельзя было позволить людям не то что ванны устраивать, а даже и зубы чистить. Но вот люди высадились. И теперь уж пусть каждый из них приложит все усилия к тому, чтобы найти новую воду. Карточная система была введена во всей России только после войны 1914 — 1918 годов. Продовольствия в стране во время войны было масса — результат четырехлетнего прекращения экспорта. И его не стало после вой­ ны — результат введения плана. В Англии карточная система яви­ лась необходимостью — горькой, но все-таки необходимостью. В России она была плодом философии, социализма и “плана” — и оказалась похоронной процессией, которая растянулась уже на тридцать лет и уже стоила нации пятьдесят миллионов жизней. Это, кажется, никого ничему не научило. И этого, кажется, никто не собирается изучать. САПОЖНЫЙ ПЛАН Население Советского Союза состоит из сорока миллионов се­ мейств. Во главе каждого сидит свой Pater Familias, который са­ мым непосредственным образом заинтересован в том, чтобы его семья была сыта, одета и обута. Среди этих сорока миллионов най­ дется, вероятно, миллион, который по собственной своей бестол­ ковости ничего этого обеспечить не может. Он, этот миллион, дей­ ствительно будет заинтересован в том, чтобы существовал план, при котором ему будет житься, по крайней мере, не хуже других. И если вся страна будет ходить босиком — то у него будет моральное утешение: все так ходят, никому не обидно. Этот слой людей лю­ бит, чтобы его планировали, ибо, сознательно или бессознательно, Диктатура импотентов 361 он все-таки понимает, что без няньки он не годится никуда. В от­ вет на спрос со стороны этого миллиона, появляются сотни тысяч людей, предлагающих себя в няньки, и сотни теорий, предлагаю­ щих себя в кормилицы. Потом — есть оказывается совсем нечего. В качестве незыблемой аксиомы нужно установить тот при­ скорбный факт, что все человечество живет по истинно антинауч­ ным положениям частной инициативы. Современный капитан американской промышленности действует на основании той же ча­ стной инициативы, как и его предок — полудикий зверолов. Наша частная инициатива определяет наши гастрономические и половые вкусы. Люди, разлагающие атом, и люди, компонирующие оперы, действуют в порядке частной инициативы. До национализации че­ ловеческой психики не додумался еще никто. И пока психика не может быть национализирована, не могут быть национализирова­ ны и ее проявления в хозяйстве. Следовательно, план, помогающий частной инициативе сорока миллионов отцов семейств, будет ра­ зумным планом. И план, заменяющий инициативу сорока миллио­ нов отцов семейств, будет неизбежно склоняться к социализму, к коммунизму и прочим разновидностям самой современной науки. И если этот план приобретает характер всеобщего плана — он со­ вершенно автоматически создает тюрьму. Передача любого предприятия в руки государства, нации, обще­ ства и прочего автоматически означает передачу его в руки платно­ го и наемного агента этого государства. В зависимости от вашего настроения вы можете назвать его государственным служащим, чи­ новником или бюрократом — сущность этого агента не изменится. Он не может быть выборным, ибо самое существо выборов состоит в проявлении той же злополучной частной инициативы: избирате­ ли избирают того, кого они хотят, а вовсе не того, кто был бы же­ лателен с точки зрения плана. Можно утверждать с абсолютной степенью уверенности, что при любой свободе выборов любая группа населения найдет любые возражения против любого плана любых плановых мудрецов — и тогда план погиб. Поэтому люди, реализующие план, должны быть подчинены плановому органу. И выборы должны превращаться в такую же комедию, в какую они были превращены в СССР или в Германии. Как бы ни была колоссальна любая частнопредпринимательская организация — банк, трест, кооператив, — в ее основе в конечном счете сидит частный интерес и частная предприимчивость. Даже и тогда, когда сфера действий этой предприимчивости ограничена возможностью продать акции одного треста и купить акции друго­ го треста. Но когда вы находитесь под плановым воздействием 362 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век коммунистической или национал-социалистической партии, то у вас нет даже возможности продать ваше советское или германское подданство и перейти в парагвайское: вас за это повесят. Вы ока­ жетесь изменником родине, партии, социализму и вообще лучшим надеждам человечества. Ваше положение безнадежно. Ибо вас, как в Германии, так и в СССР, кормят только надеждами — и больше ничем. И вас лишают всякой возможности перепродать облигации ваших надежд за цену куска хлеба. Догматический план, высиженный в кабинетах философов, не может не быть принудительным планом — “планом-директивой”, как формулирует это советская терминология. Или “планом-при­ казом”, как формулировала германская. План-приказ нуждается в надсмотрщике. В строго централизованном, жестко дисциплиниро­ ванном бюрократе, который станет “приводным ремнем от фило­ софии к массам”. И свяжет эти массы по рукам и по ногам. При учете рождения и последствий всех этих планов совершенно необ­ ходимо иметь в виду, что эти планы вырабатываются людьми, ни­ когда и ничего, кроме книг и речей, не производившими и ни о каком производстве не имеющими никакого понятия, как не име­ ли его ни Маркс, ни Ленин, ни Ш пан19, ни Гитлер. Ни один в ми­ ре идиот не обратится к врачу, который изучал медицину только по книгам. Но целая масса людей, считающих себя вполне разум­ ными, обращается за хозяйственными рецептами к людям, которые никогда никакого отношения к хозяйству не имели — они имели отношение только к книгам о хозяйстве. И вот эти-то люди начи­ нают и планировать, и повелевать. Философы партии планируют все хозяйство страны. В частно­ сти, планируют, например, и сапожное производство. Мы уже ус­ тановили тот печальный факт, что государство есть понятие абст­ рактное и что абстрактные понятия ничего планировать не могут. Планирует, следовательно, некий синедрион сапожнохозяйствен­ ных бюрократов, действующих по указаниям общехозяйственных мудрецов. Сапожный план в миллионах мест смыкается с миллио­ нами других хозяйственных отраслей: с животноводством (кожа), с машиностроением (сапожные машины), с народным образованием (подготовка сапожных мудрецов и мастеров), с бытом, с климатом, модой и, наконец, с тем печальным фактом, что даже и сапожни­ ков кормить чем-то нужно. Сапожный план является только частью общехозяйственного плана страны, пятилетнего или четырехлетнего — это безразлично. Всякое нарушение во всякой другой хозяйственной области бьет по сапожному плану. Всякое нарушение сапожного плана бьет по Диктатура импотентов 363 всем остальным. Если бы мы могли представить себе хозяйствен­ ных мудрецов, обладающих умственными способностями Адама до его грехопадения, то, вероятно, все эти планы работали бы без пе­ ребоев. Но так как даже и товарищ Сталин несет последствия по­ знавательного плана, предложенного нашему общему прародителю, то все эти планы изобилуют теми явлениями, для обозначения ко­ торых советско-русский язык выработал такие, никогда не сущест­ вовавшие, термины, как “неувязка”, “недовоз”, “неполадка”, “не­ комплектность” — или “прорыв” плана, “срыв” плана, “голое ад­ министрирование” или даже “головотяпство”, — не знаю, как все это можно перевести на язык “монополистического капитала”. Из плана, кроме “прорывов” и дыр, не остается, собственно ничего. Но остаются бюрократические армии, хлеб и масло, которые зави­ сят от дальнейшего планирования. Эти армии, как и эти мудрецы, не могут уступать своего места никаким другим людям — ибо тогда и армиям и мудрецам нечего будет есть. Они не могут предоставить любой сапожной мастер­ ской в стране возможности плюнуть на план и шить сапоги на ос­ новах наивного философского реализма — ибо всякая из ста тысяч сапожных мастерских, имеющихся в стране, предпочтет или обой­ ти план, или вовсе обойтись без плана. Ни мудрецы, ни армии не могут позволить сапожному пролетариату избирать его собствен­ ных представителей, ибо пролетариат любой мастерской может взять и выбрать человека, который возьмет и заявит: “Я вот не со­ гласен”. Или, если найдет более благоразумным о своих разногла­ сиях с синедрионом сапожных мудрецов промолчать, то на практи­ ке будет стараться провести в жизнь волю своих избирателей, а не план сапожных мудрецов. Таким образом, у плановой власти нет никакого иного выбора, как последовать примеру халифа Омара, сжегшего Александрий­ скую библиотеку: если свитки этой библиотеки единомышленны с Кораном — то они не нужны. Если они противоречат Корану — они вредны. Если самоуправление единомышленно с планом — оно излишне. Если оно противоречит плану — оно вредно. Во вся­ ком случае, гораздо спокойнее заменить всякие выборы и всякое самоуправление строго централизованным бюрократом, который целиком будет зависеть от планового синедриона и покорно вы­ полнять волю его. Все должно быть строго централизовано. Всякая сапожная мас­ терская должна быть подчинена какому-то государственному тре­ сту, трест — министерству легкой промышленности, министерство легкой промышленности — Госплану, и все это вместе взятое — 364 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век тайной полиции. А также и тайному суду этой тайной полиции. Иначе быть не может. Представьте себе: в некой счастливой стране синедрион сапож­ ных и прочих платоновского типа мудрецов планировал все. И пу­ тем сверхчеловеческих затрат и мозгов и виселиц реализовал про­ ведение, допустим, всероссийского сапожного плана — от Москвы до тайги. И вот некий сапожный администратор попадается в на­ рушении этого всесапожного плана. Власть тянет этого админист­ ратора к суду. Представьте себе дальше, что этот суд будет обычным судом присяжных. То есть он не будет подчинен сапожным мудрецам. То есть он будет выражать какую-то свободную волю каких-то свободных избирателей. И эти избиратели, как и в случае с са­ моуправлением, могут заявить: “ Нет, не виновен”. И могут до­ бавить: “ План был глуп, ибо он не соответствовал таежному климату или вкусам подрастающего женского населения, или был непосилен для администратора, или, наконец, оставил на­ селение вовсе босиком”. Тогда ведь рушится все: не только план, но и сами мудрецы. Несколько десятков таких судов мо­ гут сорвать все “плановые директивы” и могут заявить и о не­ нужности самих мудрецов. Что тогда остается делать этим мудре­ цам? Ведь обычно они даже и в сапожники не годятся! Поэтому всероссийский и всесапожный план с совершеннейшей, истинно железной логической необходимостью должен опираться на режим террора. На режим тоталитарного террора, охватывающего все. Ибо если в каком бы то ни было звене общенациональной жизни будет прорвана дисциплина плана, то плановые мудрецы погибли. Если вы хотите планировать производство сапог, вы должны пла­ нировать и религию — даже и религию. Неискушенный в плановых переживаниях капиталистический обыватель назовет мое утверждение вздором — и будет не прав. Предположите: вот, план создан, виселицы построены, бюрократия организована — и вот появляется Лев Толстой, проповедующий “опрощение”: долой индустриализацию! Или приедут братья-доми­ никанцы, которые начнут демонстрировать хождение босиком, да­ же и зимой. Или объявится вегетарианская секта, которая будет протестовать против хождения в шкурах убитых наших братьев-волов и начнет производить лыковые лапти. Что станет со всесапожным планом, если разрешить свободную агитацию хождения или в лаптях, или просто босиком? Целый ряд споров и казней, которые издали кажутся чисто идеологическими, идейными, философскими и прочее в том же Диктатура импотентов 365 стиле, вблизи оказываются просто-напросто борьбой за самосохра­ нение планирующей бюрократии. Довольно кратковременный председатель Совета народных комиссаров в Москве товарищ Сырцов20 был расстрелян за попытку перестройки колхозной поли­ тики советов. На эту тему и в СССР и за границей, было произве­ дено очень большое количество философских слов. Я предпочитаю смотреть на дело чисто практически: пересмотр колхозной полити­ ки обозначал отказ от “планирования сельского хозяйства”. Отказ от планирования сельского хозяйства означал выкидку за борт об­ щественной жизни около двух-трех миллионов партийной бюро­ кратии, планирующей каждого крестьянина страны и каждую ко­ рову в стране. Все теоретические споры о сельскохозяйственной политике власти были только стыдливой идеологической надстрой­ кой над переживаниями сельского планирующего бюрократа. Он сидел над своим колхозом и дрожал: “Вот, завтра верх возьмет Сырцов — и послезавтра мне деваться будет некуда и есть будет нечего”. Можно, конечно, предположить, что даже и этот партий­ ный бюрократ, полуграмотный орфографически и вовсе неграмот­ ный во всяких других отношениях, остро и чутко переживал дис­ куссии о судьбе зернового экспорта при колхозах или без них, о тех восторгах, которые вызвала коллективизация русского мужика в сердцах американских фермеров, о проблемах социализма в од­ ной стране или революции во всем мире и даже о судьбах “грубо механистического деборинского мировоззрения”, в сравнении с научной философией ЦК партии. Я всего этого не предполагаю. Я собственными глазами видел и собственными ушами слышал раз­ говоры деревенской и уездной партийной администрации. Ни о какой философии и ни о каких американских фермерах там и речи не было. Вопрос стоял просто и грубо: вот он, председатель стан­ ции, секретарь колхозной партийной ячейки, заведующий плани­ рованием, распределением или заготовками, — вот, он сидит здесь, имеет службу, дом, взятки и власть. Завтра Сырцов сожрет Стали­ на. И послезавтра — ничего: ни службы, ни дома, ни взяток, ни власти. Может быть, даже и жизни не останется: изменник народу и пролетариату, сторонник грубо механистической деборинской философии, товарищ Сырцов не может не знать, что он, иванов­ ский предколхоз, был против его, сырцовских, планов перестройки сельскохозяйственной политики власти. И если он, Сырцов, захва­ тит власть — он уж покажет предколхозам, где именно зимуют ра­ ки и чем они во время этой зимовки питаются! Он, Сырцов, во имя собственного самосохранения не может предоставить двухмил­ лионной вооруженной армии сельскохозяйственной бюрократии 366 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век возможности организовать и фронду и заговоры против каких-то сырцовских планов переустройства русской деревни. И так как да­ же и товарищ Сырцов все-таки коммунист, так как и он опирается все-таки на коммунистическую бюрократию — пусть и на иные ее отряды, — он не может подвергать сомнению спасительность пла­ нового принципа. Он будет вынужден сказать: “перегиб”, “левац­ кий загиб”, “голое администрирование”, “бюрократическое голо­ вотяпство”, или даже “вредительство” и “саботаж” — и ошибки плана взвалить на плечи его рядовым исполнителям. Так дела­ лось уже не раз. И не одна партийная жизнь уже окончилась в подвале — за промахи плановых мудрецов расплачивались рядо­ вые козлы отпущения. Итак, что будет, если Сырцов победит? Товарищ Сталин сожрал товарища Сырцова вовсе не потому, что Сталин оказался лучшим истолкователем философии диалекти­ ческого материализма, а просто потому, что именно за Сталиным нерушимой стеной стала двухмиллионная армия деревенской бю­ рократии — и Сырцов погиб. Я вовсе не хочу изображать деревенского плановика Советской России в качестве исчадия коммунистического ада. В среднем это, конечно, отброс. Но его преступные инстинкты едва ли намного превосходят практическую политику того сорта людей, которые называются милитаристами, клерикалистами, шовинистами и про­ чим в этом роде. Гипертрофия клира уже не раз наносила страш­ ные удары католичеству — и его клиру в том числе. Диктатура рус­ ского дворянства не раз ставила на карту и интересы страны, и фи­ зическое существование дворянства. Но каждый из людей, состав­ лявших слой милитаристов, клерикалов, дворян и прочего, жил и действовал в своих собственных непосредственных интересах: чтото там будет дальше, Бог его знает, а сегодня у меня есть социаль­ ное положение, деньги, власть. Гипертрофия органа в конечном счете губит и организм и орган. Но это только в конечном счете. Нельзя требовать от рядового милитариста, клерикала, бюрократа и даже плановика предвидения вот этого “конечного счета”, а так­ же и конечного расчета. Он, как и большинство людей на этом свете, бессознательно действует почти по Евангелию: “довлеет дневи злоба его”. Сегодня он сыт. И сегодня у него власть. Власть портит даже и премьер-министров. Почему она не может портить председателя колхоза? С этой точки зрения мы можем утверждать, что на план, на его выполнение, перевыполнение или даже провал — всем в мире пла­ новикам более или менее наплевать. Было бы, конечно, лучше, ес- Диктатура импотентов 367 ли бы он и в самом деле выполнялся. Но он может и не выпол­ няться. План должен существовать, то есть снабжать жалованием и властью. В условиях планового хозяйства жалование это — грошо­ вое, а власть над людьми нижестоящими весьма серьезно ограни­ чена властью людей вышестоящих. Председатель колхоза имеет со­ вершенно реальную власть над жизнью и смертью почти любого колхозника. Но любой секретарь областного комитета имеет точно такую же власть над председателем колхоза. Там, где имеется про­ извол, он по необходимости охватывает всю страну. Если во власти произвола вы исключите хотя бы одного человека, он станет точ­ кой концентрации всех оппозиционных произволов сил страны. Сталин, так сказать, господствует над всероссийским спланирован­ ным произволом. Но это только кажущееся господство — абсолю­ тизм, ограниченный каким-то новым, еще нам неизвестным, тер­ рористическим актом. Сталин “вырабатывает план”, но в этой вы­ работке он подчинен интересам и пулеметам той партийной пла­ новой бюрократии, которая не может не отстаивать “углубления плана” до последнего теленка страны и охват произволом и терро­ ром всего населения, вплоть до последнего ребенка страны. Это все есть неизбежность, неизбежно вытекающая из плана. Может ли план допустить, например, забастовки, чем бы они ни вызывались? И если не может, то каким способом с ними бороть­ ся? Вести переговоры и во время переговоров непротивленчески смотреть, как проваливается план снабжения углем сапожных мас­ терских, как несознательные отряды пролетариата начинают ду­ мать, что своими забастовками они имеют не только теоретическое право, но и практическую возможность менять предначертания са­ пожных, угольных, кожевенных и прочих мудрецов и плановиков? И ставить им свои философски необоснованные ультиматумы? В двадцатых годах, когда план был юн и неопытен, в Советской Рос­ сии случались и рабочие забастовки. Власть вступала с забастовщи­ ками в переговоры, устраивались митинги, выступали ораторы — все как полагается. Требования рабочих в общем выполнялись — конечно, в ущерб планам. Инициаторов забастовок потом — поти­ хоньку и постепенно — арестовывали и расстреливали. Ибо если план есть план, то такая вещь, как американская забастовка горня­ ков, есть государственное преступление: она срывает весь план. Она делает невозможным никакое планирование вообще. Она под­ рывает самый принцип власти планирующего синедриона и тем са­ мым подрывает его существование. Здесь идет вовсе не борьба за план или плановости — здесь идет борьба за жизнь, за власть, за смерть. В такой борьбе люди не считаются ни с чем. 368 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Апостолы универсального планирования исходят из той, до оче­ видности идиотской мысли, что при современной емкости челове­ ческой черепной коробки и при глубинной калейдоскопичности человеческих вкусов, страстей, мотивов, потребностей, интересов и прочего можно спланировать хозяйственную жизнь такой страны, как Россия, где есть и субтропики и вечные льды, индустриальные гиганты Петербурга и кочевое хозяйство Средней Азии, Периоди­ ческая система Менделеева и самоедские божки из рыбьих костей. И что вообще человеческая жизнь и деятельность поддается планированию. Вся история человечества представляет собою сплошное издевательство над всякими планами. История любой войны демонстрирует тщету всяких предварительных планов. Биография каждого отдельного человека есть история неудавшегося плана жизни. Но есть люди, которые всерьез предпола­ гают — или только делают вид, что предполагают, — что всю эту чудовищную сложность личных и общественных, сознатель­ ных и бессознательных, климатических и исторических моти­ вов, взаимоотношений, подвигов и преступлений, гениальности и идиотизма можно сплющить в несколько сот страниц плано­ вых предначертаний любого синедриона любых мудрецов. Есть также люди, которые совсем всерьез предполагают, что единый план может обойтись без единой тайной полиции. Это те, может быть, и очень милые люди, которые, сидя гденибудь на Palm Beach в десяти тысячах верст от Берлина и Моск­ вы, не имея никакого понятия о том, что фактически совершается в Берлине или в Москве, склонны давать телепатические советы Гитлеру или Сталину: “Ах, все это, в сущности, было бы хорошо или, по крайней мере, не так плохо, если бы не гестапо и ГПУ, — ах, зачем это Гитлер и Сталин развели такую дрянь?” Милые люди из Palm Beach предполагают, что Сталин и Гитлер, как Муссолини и Робеспьер, могли бы обойтись и без террора, если бы они только захотели! Что террор всех четырех плановых революций вызывает­ ся только состоянием печени великих вождей. Или что план воз­ можен без террора. Милые люди ошибаются: если в монолите еди­ ного всеохватывающего плана оставить хотя бы одну щель, то в эту щель, под чудовищным давлением сотен миллионов анархических человеческих воль, ворвется “стихия”, и план будет кончен. Но бу­ дет кончено и с плановиками. План существует не для человечест­ ва — он существует для плановиков. Он автоматически и неизбеж­ но вызывает к жизни рождение нового общественного слоя, слоя Диктатура импотентов 369 платных и плановых бюрократов, который будет бороться за свой план и — что существеннее — за свою жизнь. План может сущест­ вовать без чего угодно: без фабрик и без сырья, без транспорта и даже без хлеба — но без планирующей бюрократии он просто не­ мыслим. И власть этой планирующей бюрократии просто немыс­ лима без режима террора, тем более универсального, чем более универсален план. Никаких идей ни за какими разновидностями этого террора и в помине нет: есть голая борьба за шкуру. Жрецы усидчивости и социальных наук, ничего, кроме книг, в своей жизни и в глаза не видавшие, говорят нам о пафосе револю­ ции и об энтузиастах планирования. Нам говорили, говорят и еще будут говорить, что якобинцы Робеспьера, фашисты Муссолини, нацисты Гитлера или коммунисты Сталина совершали свои убий­ ства и свои зверства во имя: а) свободы, равенства и братства; б) вечного Рима; в) высшей расы и г) мировой пролетарской револю­ ции, и что во всех четырех случаях действовала “идея”, разная во всех четырех случаях, но приблизительно одинаково кровавая во всех четырех. Я лично видел “энтузиастов” двух великих револю­ ций. Могу утверждать категорически: нацистам было так же напле­ вать на высшую расу, как коммунистам на высший класс. То, что делали коммунисты в Соловках или на Лубянке или нацисты в Дахау или в Бельзене — было жутью: казни, пытки, предельное изде­ вательство над человеческой жизнью и человеческим достоинст­ вом. Можно было бы говорить об “энтузиазме” 1917 года, но с тех пор прошло тридцать лет. Энтузиазм, если он и был, давно успел выветриться: как-никак тридцать лет террора, голода, срыва пла­ нов и взаимоистребления. В этом взаимоистреблении погибли по­ следние остатки когда-то ленинской партии — если эти остатки и были еще энтузиастами. Неужели, находясь в здравом уме и твер­ дой памяти, можно предположить, что сегодняшние зверства май­ оров и полковников НКВД объясняются их фанатической привер­ женностью к диалектическому материализму в его сталинской ин­ терпретации? И никак не объясняются личным страхом этих майо­ ров и полковников перед потерей их чинов и нашивок, службы и вла­ сти — а может быть, свободы и жизни? И что их “классовая соли­ дарность” не есть только солидарность банды, захватившей власть и с ужасом думающей о ее возможном конце? Этих полковников, а я их знаю лично, я вовсе не хочу рисовать в виде исчадия коммунистического ада. Были ли лучше английские лорды в Ирландии? Или южные плантаторы в США? Сантафедисты в Италии, инквизиция в Испании и, наконец, дворянство в России? Во всех этих случаях дело шло о слое, насильственно за­ 370 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век хватившем власть и не стесняющемся ничем. Русское дворянство в начале XVIII века захватило власть примерно таким же способом, как в начале двадцатого захватили коммунисты: путем ряда царе­ убийств. С начала XVIII века до освобождения крестьян при Алек­ сандре II в середине девятнадцатого оно зверствовало точно так же, как зверствуют коммунисты сейчас. Те же пытки, исіязания, бессудные казни, право на жизнь и на смерть над многомиллион­ ной массой крестьянства. То же экономическое разорение страны, и тот же страх перед историческим и личным возмездием. Совре­ менный коммунист стоит, вероятно, на самой низкой ступеньке современной европейской культуры. Английский лорд в Ирландии и русский помещик на Волге — вероятно, на самой высокой. Они дали Байрона и Пушкина. И Байрон и Пушкин очень сочувствова­ ли “освобождению Греции”, но оба были совершенно равнодушны к такому же освобождению русского или ирландского крестьянина. Громкоговоритель мировой совести — граф Лев Толстой — всю свою жизнь “боролся против насилия”, но против насилия крепо­ стного права и его пережитков он не написал ни одной строчки. Так это — Байрон, Пушкин и Толстой. Что же вы хотите от майо­ ров и полковников тайной полиции и синедриона мудрецов? Лев Толстой проповедовал раздел земли и непротивление злу. А когда его собственные крестьяне попытались делить его землю — он на­ нял вооруженную стражу из кавказских дикарей. Это было “идео­ логически непоследовательно” — почему товарищ Сталин должен быть более последователен, чем граф Толстой? Ведь вот вела же Англия войну из-за интересов торговцев опиумом — почему не предположить войны в интересах торговцев наркотиками плана? План есть современная форма организации рабства. Мистер Гер­ берт Уэлльс начал свою социалистическую карьеру с проповеди всяческого планирования. В книге, выпущенной в 1933 году, “Об­ разы грядущих вещей” (“The Things to come”), он нарисовал опти­ мистическую картину мировой “тирании”, которая после несколь­ ких десятилетий насилия, хаоса и крови приведет человечество на некую высшую ступень. В течение этих десятилетий “Мировое го­ сударство”, с помощью шпионажа, провокации и террора, подав­ ления религии, истребления священников и прочего в том же пла­ новом роде, подавит всякую оппозицию и после этих десятилетий, так около 2000 года, обеспечит человечеству вечный мир и никогда еще не достигнутый уровень материального благосостояния. Но это будет только в 2000 году. На нашу с вами судьбу, следователь­ но, выпадают только десятилетия “шпионажа, провокации и тер­ рора”. Но потом — потом все будет очень хорошо. Диктатура импотентов 371 До 2000 года Уэлльс не дожил. Судьба оберегла его и от десяти­ летий “шпионажа, провокации и террора”. Но кое-что из этих славных десятилетий уже начало проступать сквозь туманы всяче­ ской фразеологии — в том числе и уэлльсовской. Накануне своей смерти он выпустил нечто вроде своего завещания человечеству: “Конец всего, что мы называем жизнью, близок и неотвратим... Это — конец!” Итак, ни планы, ни плановая тирания не помогают: конец. Как и в случае со Львом Толстым. Мы могли бы сказать, что оба эти художни­ ка слова принесли своим народам и человечеству вообще огромный вред. И что они весьма основательно заработали на торговле своим непротивленческим или своим плановым опиумом. В искренность Толстого я не верю ни на копейку. Относительно Уэлльса у меня дан­ ных нет. Но его предсмертное пророчество звучит искренне: в самом деле, если все то, за что Уэлльс боролся всю свою жизнь, приводит только к “тирании”, а “тирания” — только к концу “всею, что мы на­ зываем жизнью”, то немудрено впасть в антиплановый пессимизм. В особенности если оптимистические гонорары на краю могилы ника­ кого интереса уже не представляют. Значит, конец. Десятилетия шпионажа и крови — и потом крышка. Лично я более оптимистичен: наши внуки так же беспланово будут влюбляться, работать, писать или пахать, как делали это и мы в наши молодые годы — до рождения планов любви и овцеводства. Все-таки мы, русские, пережили больше, чем кто бы то ни бы­ ло другой в этом мире. И исторически и лично. Все-таки было лет сорок — от падения Наполеона до Крымской войны, — когда Свя­ щенный Союз, то есть Александр I и Николай I, были фактиче­ скими диктаторами Европы, что по тем временам приблизительно равнялось "мировой тирании”. Оглядываясь на свежий пример Ли­ ги Наций или еще более свежий пример УНО, мы с некоторой до­ лей мечтательной грусти можем констатировать, что диктатура рус­ ских царей все-таки была лучше. Она ни в какие внутренние дела не вмешивалась — хотя гражданская война в Швейцарии была прекращена по приказу из Санкт-Петербурга. Никаких войн вести не позволяла, хотя революция в Венгрии и была подавлена русской армией, за что австрийское правительство и “удивило мир своей неблагодарностью” — выступило в Крымской войне на стороне со­ юзников. Никакой “реакционной политики” эти цари не вели. Во Франции они отстаивали “конституцию” при реконструированных Бурбонах. В Польше и в Прибалтике они освободили крепостное крестьянство, готовили освобождение своего собственного, но с русским дворянством справиться было труднее, чем со швейцар­ 372 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ским “Бундом”, с венгерскими повстанцами, польской шляхтой или балтийскими баронами. Наш исторический опыт очень велик. Соответственно разнооб­ разен и личный опыт. Государственное планирование, я, напри­ мер, переживал два раза: первый раз — в эпоху так называемого военного коммунизма, примерно с 1919 до 1925 года, потом в эпо­ ху коллективизации деревни — с 1925 года — до сегодняшнего дня. Часть этой последней эпохи наблюдал лично — до 1934 года, ос­ тальную — по всякого рода свидетельским показаниям. План эпохи военного коммунизма был просто кретинизмом. Потом ему стали подыскивать “социологические обоснования” — к этим обоснованиям я вернусь позже. Но какие бы основания ни были — в два года страна была доведена до голода, людоедства, восстаний и черт его знает чего. Ленин дал “новую экономическую политику”, означавшую частичный возврат к старым капиталисти­ ческим отношениям. Эту политику он сам назвал “передышкой”. Страна получила возможность — не дышать, но все-таки “передох­ нуть”. Плановая ткань единого социалистического хозяйства стала разлезаться по ниткам. “Капиталистические отношения”, кое-как облегченные от груза “шпионажа и террора”, стали съедать социа­ листические отношения. Социализм автоматически стал тонуть. Двести миллионов людей, хотя и ограниченных в своем хозяйст­ венном своеволии наличием партии и ГПУ, стали все-таки что-то и как-то строил* Страна разделилась на две неравные части: одна — пахала, сеяла и ела, другая — писала, планировала и голодала. Я наблюдал обе части. Мои последние свободные советские годы — 1926—1933 — я провел в подмосковном пригороде Салтыковке, в двадцати кило­ метрах от Москвы. Будущая наука об общественных отношениях (сейчас у нас ее нет) займется, вероятно, и тем, что я бы назвал микротомией социальной ткани. То есть оставит в покое декора­ ции и декламации и начнет изучать процессы, совершающиеся в клетках социального организма. Салтыковка была небольшим сгу­ щением таких клеток: тысячи три-четыре населения, сотен пятьшесть деревянных домиков, населенных рабочими, мелкими слу­ жащими, приказчиками, пенсионерами. У каждого домика — не­ большой огород, сад и, конечно, баня, предмет искреннего изум­ ления немцев в Первую и Вторую мировую войну. Они были убеж­ дены, что русские не моются вообще. В самой Германии мыться, вообще говоря, негде. Многочисленные салтыковские бани играли и свою социальную роль. В Москве, как и во всех городах, частных бань не было. Об- Диктатура импотентов 373 шественные — были национализированы. В силу всяких плановых неувязок топлива для них не было. Баня же в России — в старой России — была чем-то средним между национальной традицией и религиозным обрядом. Когда москвичи в самом начале XVII века свергли царя Димитрия Самозванца, ему, в числе прочих наруше­ ний неписаной тогдашней конституции, ставилось в вину: после обеда не спит и в баню не ходит. Столетием позднее Петр Вели­ кий, пытаясь европеизировать Россию, обложил бани такими по­ борами, что не только беднота, но и средние москвичи оплатить этих поборов не могли. Их били кнутом на рыночных площадях, но своих бань они не предали. Так Петру и не удалось европеизи­ ровать Москву. Эту краткую историческую справку я привожу для того, чтобы сказать, какую именно степень коммерческой пред­ приимчивости и чего-то еще пришлось проявить хозяину дома, в котором я жил, Александру Руденко, чтобы пустить и свою баньку в некий коммерческий оборот. Свою мансарду в Салтыковке я нашел только после трехмесяч­ ных поисков. Все дома во всей стране были обобществлены. Пла­ ны как-то плохо предусмотрели дождливые осени, ржавеющие крыши, необходимость покраски и починки; над каждым домом возвышалось несколько бюрократически-идеологических надстро­ ек. Для починки крыши нужно было получить разрешение, на ос­ новании разрешения нужно было получить ордер, на основании ордера нужно было получить краску, получив краску, нужно было получить разрешение, ордер и прочее на рабочую силу — словом, начинала течь крыша, под крышей начинали гнить стенки и лю­ дям жить было негде. Так что на доступной исторической науке декоративно-декламационной стороне социалистической жизни были Дворцы советов и отели “Москва” — а повседневность про­ текала по всем своим швам. В Салтыковке, до новой экономической политики, каждая усадьба была подчинена крестословно взаимно перекрещивающим­ ся начальством. У каждого был свой план, своя область и свои полномочия. Так что баня товарища Руденко была подчинена од­ новременно двум администрациям — санитарно-гигиенической и строительной. Почва вокруг бани была подчинена земельному от­ делу. Деревья, которые стояли около бани и которыми эту баньку можно было бы починить, были подчинены лесному отделу. Так что когда банька стала протекать, то выяснилась полная физически-административная невозможность ее починить. Нужно было 374 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век добиться полной синхронизации деятельности около полудюжины канцелярий. И кроме того, рисковать тем, что любая из них, узнав о существовании баньки, сосен, участка и прочего, могла заявить: “Ах, у вас есть банька — ну так мы ее реквизнем. Ах, у вас там лишняя сосна — так мы ее срубим для нужд сельсовета”. И так как совершенно такие же социальные взаимоотношения возникли во­ круг огорода, козы и дюжины кур, обладателем которых был това­ рищ Руденко, то банька стала совсем протекать, огород был забро­ шен и куры нелегально съедены. Потом наступил нэп. Сначала ему как-то не поверили: опять какой-то подвох. Потом стали как-то шевелиться — что-то копать, что-то чистить, что-то чинить, что-то даже и строить. Многочис­ ленная администрация ходила угрюмо и угрожающе: ее полномо­ чия таяли с каждым днем и ее доходы таяли с тем же каждым днем. Началась та партийная безработица, которая впоследствии сыірала решающую роль в деле ликвидации нэпа. Но пока что мой товарищ Руденко стал проявлять свою частнособственническую инициативу. И в частности, после деловых расчетов и душевно-ги­ гиенической борьбы — продал свою баньку и огород около нее ка­ кому-то московскому рабочему. А так как у рабочего денег, естест­ венно, не было, то продал ее в рассрочку: рабочий будет выплачи­ вать свой долг продуктами своего огорода. На нашей усадьбе появился этот рабочий с весьма многочис­ ленной семьей и весьма скудными пожитками. Все они пока раз­ местились в дворовом сарае и свою новую жизнь начали с того, что затопили баньку и отмыли с себя все наследие революционной Москвы: грязь, вшей, клопиные яйца и все прочее. Два стула, стол, одна кровать подвергались многократному ошпариванию ки­ пятком, белье было проварено, ребятишки были выстираны. И по­ том началась истинно лихорадочная и истинно капиталистическая деятельность. Банька была превращена в жилье — потом около нее возникли какие-то сарайчики и пристроечки. Был разведен огород. Детишки стали пасти двух коз. В клетушках завелись кролики. По двору стали бегать куры. Был выработан пятилетний план покупки коровы. Ребячьи скелетики стали обрастать кое-какой плотью. Приблизительно тот же процесс переживала и вся Салтыковка: все что-то ковыряли, что-то строили и что-то разводили. Кое-ка­ кие гениальные люди открыли давно забытый способ борьбы с кризисом путем постройки деревянных домов: поехать в лес, сру­ бить несколько десятков сосен и построить избу. Она, конечно, не будет “Дворцом советов”, но жить в ней будет можно. Партийная администрация стала обнаруживать, что вся эта мелкобуржуазная Диктатура импотентов 375 сволочь может жить вовсе без ордеров, разрешений, планов и всего прочего — партийная администрация скрежетала зубами и говори­ ла: “Ну подождите, не все коту масленица”... Партийная администрация оказалась права: масленица нэпа кончилась. Так же незаметно и постепенно, как и началась. Юри­ дически, с точки зрения “государственного права”, можно устано­ вить начальную и конечную даты существования “передышки”. На практике это было не так просто: все зависело в начале от степени сопротивляемости партийной администрации и в конце — от стре­ мительности ее контрнаступления. В торговой области дела проис­ ходили приблизительно так. До нэпа каждый торговец был “спекулянтом”, поставленным так же вне закона, как, если верить историкам, был поставлен средневековый еврей: каждый феодал мог ограбить и съесть. Он был “врагом трудящихся”. Потом он стал “нэпманом” — термин, психологически приблизительно соответствующий “дому терпимо­ сти”. Потом он стал “красным купцом” — и даже “нашим крас­ ным купцом”, — это был апогей его славы и жизнедеятельности. Еще позже он стал “неплательщиком налогов”, его облагали ни с чем не сообразными поборами и в случае неплатежа высылали в Соловки. “Наш красный купец” сначала откупался взятками. По­ том перестали помогать даже взятки. “Наш красный купец” спеш­ но ликвидировал свои нехитрые предприятия и норовил перебрать­ ся куда-нибудь в Среднюю Азию. Кое-кому это удалось. Кое-кого обнаружили даже и в Средней Азии и отправили в Северную Си­ бирь: нэпманское прошлое стало таким же несмываемым пятном, как в Третьем Рейхе — неарийская бабушка. В разных местах и слоях катастрофа пришла в разных формах. В Салтыковке же про­ изошло куроводство. Где-то, значит, родился на свет Божий всесоюзный и всесапож­ ный план. Я его не изучал. Но предполагаю, что один из пунктов этого плана предусматривал снабжение сапожного пролетариата куриными яйцами. Но так как “передышка” кончилась даже и для кур, то яиц не было. Были планы куроводства. Один из них погу­ бил зыбкое салтыковское благополучие. Салтыковские туземцы продолжали кое-как питаться на своем собственном подножном корму. Импорт из сопредельных социали­ стических уделов сокращался катастрофически. И вот очередной план открыл перед нашим пригородом новые перспективы. Кооперация предложила Салтыковке заняться куроводством. Она, кооперация, дает туземцам племенные яйца, инструкцию для обращения с ними и корм по твердым ценам. Туземцы будут раз­ 376 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век водить брамапутр, в продовольственное ведомство — по сто яиц с ку­ рицы в год, тоже по твердым ценам, а остальными яйцами могут рас­ поряжаться анархически — или варить всмятку или жарить яичницу. Над голодающим населением Салтыковки взошла заря новых плановых надежд. Заря была несколько затуманена предшествую­ щими переживаниями — аперцепция, как называют это школьные учебники психологии: какой и где тут лежит подвох? Но положе­ ние было безвыходным, и терять, казалось, было нечего. Потом оказалось, что даже и моему банному рабочему есть что терять. Словом, были подписаны “индивидуальные договоры” будущих куроводов с кооперацией, с продовольственным ведомством и еще кое с кем. Были получены яйца. Несколько позже я пытался выяс­ нить их себестоимость для народного хозяйства. Каждое яйцо обошлось меньше, чем стоила бы покупка Ко-И-Нура. Но не во много раз меньше. В Англию было послано три закупочных комис­ сии. Им платили жалованье, командировочные, проездные и вся­ кое такое. Ни одна из трех комиссий в куроводстве, вероятно, ни­ чего не понимала: английские породы были выращены для мягкого климата Англии и к московским морозам оказались еще менее приспособленными, чем немецкая армия. Часть яиц по дороге пе­ ребилась. Часть оказалась гнилой. Вообще — были “неувязки”. Но часть до Салтыковки все-таки дошла: Салтыковка, по “плану”, должна была снабжать продуктами куроводства московскую бюро­ кратию. Так что южные куроводческие совхозы не получили и од­ ного процента плановых яиц, Салтыковка получила все сто. Ах, лучше было бы не получить даже и одного процента. Мой банный рабочий приходил ко мне советоваться. Я сказал: плюньте. Рабочий сказал: а что моя семья будет есть? На послед­ ний вопрос я никакого ответа дать не мог. Словом, появились яй­ ца, появились наседки, был построен курятник — стали бегать цы­ плята, и кооператив действительно давал корм; южные специаль­ ные фермы не получили ничего. Потом начались “перебои”, “неувязки” и вообще “недозавоз”. Кооперация разводила руками и говорила: “Завтра обязательно подвезут”. Куроводы говорили: “А чем же мы будем кормить кур сегодня?” — “Ну, уж вы там как-нибудь постарайтесь”. Мой бан­ ный рабочий одолжил у меня тридцать рублей и купил ячмень на черном рынке. Потом еще пятьдесят рублей. Потом речь зашла о пятистах: рубли на черном рынке падали катастрофически — вече­ ром стоили процентов на пять дешевле, чем утром. Пятисот рублей у меня не было. Рабочий повез яйца на черный рынок. На черном рынке его арестовали, — но, принимая во внимание его пролетар- Диктатура импотентов 377 скую сущность, отпустили — яиц, однако, не вернули. Потом пришла комиссия продовольственного ведомства и потребовала сдачи яиц. Я был вызван в качестве чего-то, вроде правозаступника. У меня есть кое-какое, очень скудное и давно забытое, юридиче­ ское образование. У комиссии не было и такого. Я доказывал, что так как кооперация своего обязательства по поставке корма не выполнила, то нельзя же и от моего куровода требовать сда­ чи яиц: а он — чем же должен кур кормить? К моим юридиче­ ским доводам комиссия отнеслась совершенно равнодушно: нам до кооперации никакого дела нет, мы — заготовительная орга­ низация, у нас свой план, давайте яйца. Яиц практически не было. Комиссия заявила, что она конфискует кур. Я сказал: так они же у вас все равно передохнут. Комиссия сказала, что это меня не касается. Рабочий сказал: “Черт с вами, где-нибудь достану и сдам, подавитесь вы этими яйцами”. Но если бы данная комиссия и в действительности подавилась бы этими яйцами — это никакого выхода все равно не давало бы: придет другая комиссия и потребует яиц: откуда их взять? Комис­ сия ушла, пригрозив прийти послезавтра. Вечер сегодняшнего дня ознаменовался конфискацией кур у соседних куроводов, которые от поставки несуществующих яиц отказались наотрез. Куры были помешены в канцелярии заготовительного ведомства и бюрократи­ ческой атмосферы не выдержали — то ли передохли, то ли были съедены заготовителями. Кое-кто из куроводов догадался съесть кур собственноручно. Пришла милиция и составила протокол о са­ ботаже: дело пахло судом и тюрьмой. Поздним вечером по заранее составленной пятилетке мой банный рабочий свернул шеи всей своей ферме — потихоньку, без пролития крови и оставления сле­ дов, потом был поднят крик: воры, караул, держи и прочее. На крик заблаговременно сбежались соседи — в том числе и я, была вызвана милиция, и милиция ничего поделать не могла: вот — в самом деле взломанный курятник, исчезнувшие куры и шесть штук свидетелей, которые слышали, как кто-то ломал курятник, как кто-то бежал с мешками, наполненными похищенными кура­ ми. Милиция не поверила ни одному слову и дня три подряд при­ ходила смотреть — а что именно варится в горшке моего неза­ дачливого куровода. Но и это было предусмотрено: куры были сварены в другом месте и съедены в подпольном порядке. Но Салтыковка была разорена. Кое-кто попал в тюрьму за саботаж и вредительство, кое-кто сдал своих кур на верную бюрократи­ ческую смерть, кое-кто ухитрился срежисировать кражу, прото­ кол и прочее, но, в общем, деньги, вложенные в черный яч­ 378 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век мень, и вещи, для этого проданные на том же черном рынке, — пропали бесповоротно. Боюсь, что мне скажут: Россия, Азия, неорганизованность. Немцы, говорят, хорошие организаторы. А чем история с приэльбскими садами лучше истории с салтыковским куроводством? По поводу садов мне пришлось беседовать с представителем ведомст­ ва, погубившего плодовый урожай. Должен признаться, что с само­ го начала я метологически неправильно поставил вопрос. Я спро­ сил не: “о чем же вы думали?”, а “чем же вы думали?” Ответ не носил характера дружеского излияния. Но все-таки была сделана ссылка на какие-то запросы, посланные в какое-то другое ведомст­ во. Я спросил: считает ли мой собеседник спелую грушу настолько политически сознательной, чтобы она захотела продержаться на дереве до момента окончания переписки одного ведомства с дру­ гим ведомством? Мой собеседник предложил мне не заводить здесь, в Германии, “русских порядков”. Я попытался доказать ему истинно международный характер бюрократического образа дейст­ вий. Из этого, разумеется, ничего не вышло. По моим наблюдени­ ям, а также и по самонаблюдению, никакой бюрократ не может признать бюрократом самого себя. Люди готовы признаться в чем угодно: я видал старых профессиональных воров, которые не без некоторой классовой гордости говорили: “Я — вор, вором и пом­ ру”. Но я еще ни разу в своей жизни не встречал человека, кото­ рый честно — даже и будучи пойманным с поличным — признался бы, что он есть действительно бюрократ. В каждом, даже и самом бесспорном случае каждый бюрократ обвинит в бюрократизме ка­ ждого своего соседа по бюро. Но только не самого себя. До такой степени цинизма человечество, кажется, еще не доросло. Может быть, дорастет. РОЖДЕНИЕ БЮРОКРАТА Я приблизительно согласен с английской поговоркой, которая считает, что есть лжецы, есть проклятые лжецы, но что хуже вся­ ких проклятых лжецов — статистики. Думаю, что со всякими по­ правками, оговорками и прочим — немцы поставляют статистику, которой более или менее можно верить. Самая существенная ого­ ворка будет сводиться к тому, что именно немецкая статистика склонна проворонить, прошляпить, прозевать самую существенную сторону явления. Сводке о росте бюрократии в оккупационных зонах, приведен­ ной в “Виртшафтс Цайтунг”, в общем, вероятно, можно верить. Диктатура импотентов 379 Немцы умеют поставить учет. Не их вина, что он обычно кончает­ ся просчетом. Так, в цифрах нынешней немецкой бюрократии от­ сутствует цифра, которая, собственно, могла бы быть тоже учтена. Итак, на пять или на шесть взрослых мужчин нынешней Запад­ ной Германии приходится один бюрократ. Можно было бы ска­ зать: такой-то процент мужского населения страны не производит ничего, кроме планов, бумажек и разрешений. Но если вы придете в любую канцелярию, то вы обнаружите: перед столом каждого чи­ новника стоит какой-то хвост. Иногда он короче воробьиного но­ са, иногда он тянется на сотни метров. Чиновник, который прини­ мает просителей, ничего не производит. Но и просители, стоящие в хвосте, тоже не могут производить ничего: они стоят в хвосте. Потери человеческого времени, нервов и здоровья, отстояния в хвостах, пока, кажется, не учтены никакой статистикой — хотя можно было бы учесть и их. Несколько труднее, вероятно, другое обстоятельство: рост числа чиновников автоматически означает рост всякого “регулирования”. Рост всякого регулирования также автоматичски означает рост всяких попыток его обойти, с ним справиться или, по крайней мере, к нему приравняться. Для регулирования этих попыток обойти регулирование нужен какой-то новый регулирующий аппарат. Бюрократия — как по­ сев микробов на питательном бульоне. И каждый из этих микробов полагает, что он, в общем, честно делает свое дело: вот, плодится, множится и пишет бумажки. И если ему приходится писать их слиш­ ком много — то это вовсе не потому, что ему так хочется, а только потому, что в соседнем доме помещается истинный бюрократ, кото­ рый вот и разводит всякие предписания. Решительно то же думает микроб, помещающийся в соседнем доме. Европа начала нынешнего века была переполнена приличными людьми. Они говорили спасибо, merci, danke schon или thank you, ко­ шельков не крали и горла не резали. В каждой стране, по несовершен­ ству человеческой натуры, был какой-то процент палачей — вот, вро­ де мосье де Пари во Франции. Эти люди вешали других людей. Мож­ но предположитъ, что первые шаги на путях этой профессии не были особенно приятны даже и мосье де Пари. Потом появилась привычка. Примерно такая же, какая появляется у студентов-медиков в анатоми­ ческом театре: первое вскрытие трупа — вещь очень неприятная. По­ том — привыкают. На войне, где смерть и трупы являются обстанов­ кой ежедневной жизни, человек может положить голову на живот по­ койника и спать как младенец. Сейчас Европа перенаселена палачами. Одни повешены — дру­ гие еще вешают сами. В России, Германии, Испании — даже и во 380 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Франции и Бельгии, не говоря о восточных сателлитах СССР — пытки, казни и всякое такое вошло в повседневный обиход. В со­ ответствии с этим появились и люди, которые профессионально занялись пытками и казнями. Я думаю, что если разложить на составные части психику любо­ го среднего человека — в том числе и нас с вами, то можно было бы установить, что в этой психике какой-то процент занимает склонность к убийству, шахматам, краже, футуризму, спекуляции, беспредметной живописи, подвигу или выпивке. Есть люди с ги­ пертрофированными склонностями. При нормальной обстановке склонность к подвигу или к убийству остается без реализации: подвиг не нужен, а убийство опасно. Остаются без работы и люди со склонностью палачей. Потом появляются иные социальные взаимоотношения, и мир с истинным изумлением обнаруживает профессоров медицины, научно практикующих пытки и казни. Имейте в виду: научно. На основах самой современной техники и самой современной философии. И в стране, которая вот уже сотни лет претендует — может быть, и не совсем безосновательно — на роль научно ведущей страны мира. Эта же страна претендовала — претендует даже и сейчас - на самый высокий уровень организационных способностей в мире. Об этих способностях я придерживаюсь особого мнения. Тут нем­ цы ошиблись только грамматически — они говорят: мы, немцы, умеем организовать лучше, чем кто бы то ни было. Нужно же ска­ зать: нас, немцев, легче организовать, чем кого бы то ни было. Так что, когда немцы организуют немцев, получается быстро, отчетли­ во — в конечном счете катастрофично. Когда немцы пытаются ор­ ганизовать других — вообще ничего не получается. Немец любит дисциплину. И потому немецкий профессор-врач, экспериментально пытающий концлагерников, может быть и не совсем сволочью. Русский партийный бюрократ есть совсем сво­ лочь. Ибо немец пошел, потому что ему было приказано. А рус­ ский пошел, несмотря на господствующую философию историче­ ского детерминизма — на основах более или менее полной свобо­ ды воли. Ни для какого русского человека никакой приказ сам по себе не значит ровным счетом ничего. Как почти ничего не значит и закон. Для русского закон почти не существует. И было бы странно, если бы он существовал: от 1700-х годов до 1861-го суще­ ствовали законы, превращавшие русское крестьянство в двуногий скот: почему бы крестьянство стало бы уважать эти законы? После 1920-х годов то же крестьянство превратилось в двуногие тракто­ ра — почему бы оно стало уважать эти законы? Диктатура импотентов 381 Такие же явления существовали и в других странах мира — но да­ же и Гекльберри Финн питал некоторое уважение к закону, на осно­ вании которого его чернокожий друг был все-таки личной собствен­ ностью вдовы Ватсон. Всякий русский Ванька будет проверять всякий закон на основании своих моральных убеждений — каковы бы они там ни были. Поэтому работник НКВД неизмеримо более отвратите­ лен, чем работник гестапо: он знал, на что идет, и он шел по своему собственному выбору. В такой же степени русский советский бюро­ крат отвратительнее немецкого — нацистского. РОДОСЛОВНАЯ РУССКОГО БЮРОКРАТА Родословная сегодняшнего коммунистического русского бюро­ крата автоматически будет родословной книгой русской революци­ онной интеллигенции. Все книги, написанные русской интелли­ генцией о русской революции, являются, в сущности, только авто­ биографиями. Может быть, именно поэтому ни в одной из этих книг вы не найдете констатации того довольно очевидного факта, что русская революционная интеллигенция была в то же время русской дворянской бюрократией. Она, эта интеллигенция, не имела даже двух ликов, как римский бог Янус: и революционность и бюрократизм проживали в одних и тех же физиономиях. Этот печальный факт, в сущности, совершенно очевиден. То, что рус­ ская интеллигенция была революционной — то есть социалистиче­ ской сплошь, — признается, кажется, всей мировой литературой, посвященной вопросам истории русской общественной мысли. Вся мировая литература, посвященная истории русской общественной мысли, старательно обходит молчанием тот факт, что кроме чинов­ ничества в России не было почти никакого другого образованного слоя. Русский деловой человек, разгромленный петровскими ре­ формами почти так же, как его наследники были разгромлены ле­ нинской, образованным человеком еще не был, “интеллигенцией” не считался никак и до самых последних предреволюционных лет пребывал где-то совсем на задворках общественной жизни. Русская литература рисовала его эксплуататором, кровопийцей, мироедом, паразитом и дикарем. Свободных профессий почти не было. До последней половины прошлого века — как об этом говорил П. Милюков — русский образованный класс почти полностью сов­ падал с дворянством. Потом в этот образованный класс влились так называемые разночинцы — люди “разного чина”, — образо­ 382 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ванные и полуобразованные, выходцы из духовенства, из мелкого купечества и — в самое последнее время — из крестьянства. Они попадали в уже сложившуюся дворянско-бюрократическую, куль­ турную атмосферу и достижения именно этой культуры принимали как нечто само собой разумеющееся. Не менее девяти десятых всех людей, получавших в царской России высшее образование шли на государственную службу. До освобождения крестьян на государственную службу дворян­ ство шло по традиции, после освобождения — по материальной нужде. Разночинец шел потому, что никаких других путей у не­ го не было. Торгово-промышленная жизнь страны обслужива­ лась героями Островского, пресса была чрезвычайно слаба ко­ личественно, научно-исследовательских лабораторий еще не было — словом, минимум девяносто процентов русской интел­ лигенции были государственными служащими — или, иначе, чиновниками или, еще иначе, бюрократами. Может быть, и все девяносто пять. И, будучи бюрократами, они в той или иной степени не могли не быть социалистами. ...Мой отец был мелким крестьянином, потом, в годы моего позднего детства, — мелким, я бы сказал микроскопическим, чи­ новником: делопроизводителем гродненского статистического ко­ митета. Я вырос в среде этой мелкой провинциальной бюрократии. Мои первые наблюдения над русской общественной жизнью отно­ сятся именно к этой среде. Это был мир микроскопической провинциальной бюрокра­ тии. Оценивая жизнь и деятельность покойницы с точки зрения моего сегодняшнего опыта, я должен сказать, что это была чрезвычайно добропорядочная бюрократия. Она брала взятки — так было принято. Но взятка не была вымогательством — она была чем-то средним между гонораром и подаянием. Она разу­ мелась само собой. Чиновник, который отказывался брать взят­ ки, подвергался изгнанию из своей собственной среды: он на­ рушал некую неписаную конституцию, он колебал самые устои материального существования бюрократии. Но такому же изгна­ нию подвергался и чиновник, который свое право на взятку пытался интерпретировать как право на вымогательство. Взятка, я бы сказал, была добродушной. Так же добродушен был и ее приемщик. Чиновник старого режима начинал свой рабочий день в десять утра и кончал в три дня. В течение этих пяти ча­ сов он имел возможность зайти в ресторан, выпить рюмку водки, сыграть партию в бильярд — и вообще работой обременен никак не был. И не старался себя обременять. Он не Диктатура импотентов 383 был человеком навязчивым и, будучи в той или иной степени революционно настроенным, никаких правительственных меро­ приятий особенно всерьез не принимал. Он, кроме того, считал себя нищим. Государственная служба везде оплачивается сравнительно низко. Это, вероятно, объясняется очень просто: законом спро­ са и предложения. Маленький провинциальный чиновник полу­ чал жалованье, достаточное для того, чтобы семья из пяти чело­ век была вполне сыта, имела бы квартиру комнаты в три и по меньшей мере одну прислугу. Но материальные требования это­ го чиновника определялись не его “общественным бытием”, а остатками дворянской традиции. Дворянская традиция в Рос­ сии, как и в других странах Европы, требовала “представитель­ ства”. Физический труд был унизителен. Квартира из трех ком­ нат была неприличной. Наличие только одной прислуги было неудобным. В силу этого чиновник считал себя нищим. Он, кроме того, считал себя образованным человеком. Рядом с ним жил человек, которого никто в России не считал образованным: купец. Наш крупнейший драматург Островский населил рус­ скую сцену рядом гениальных карикатур на то “темное царст­ во”, которое почти в одиночку кое-как строило русскую хозяй­ ственную жизнь. Наш величайший сатирик Салтыков населил русское читающее сознание образами Колупаевых и Разуваевых — кровавых хищников, пьющих народную кровь. Наш величай­ ший писатель Лев Толстой пишет о русском деловом человеке с нескрываемой ненавистью. Позднейшая политическая и худо­ жественно-политическая литература связала Толстого с Мар­ ксом и выработала на потребу русского общественного созна­ ния тот тип, который сейчас плавает по континенту США в ка­ честве “акулы мирового империализма”. То, что сейчас совет­ ская пропаганда говорит об “империализме доллара”, взято не только из Маркса. Это взято также и от Толстого. Мелкий провинциальный чиновник Маркса не читал. Но Тол­ стого и прочих он, конечно, читал. Он считал, что он, культурный и идейный человек (взятки никогда в мире никакой идее не меша­ ли, как никакая идея не мешала взяткам), — что он, культурный и идейный человек, “служит государству”. А его сосед по улице, ла­ вочник Иванов, служит только собственному карману, других об­ щественных функций у этого лавочника нет. Он груб. Он ходит в косоворотке, и его жена сама стирает белье. Скудное чиновничье жалованье путем таинственной “стихии свободного рынка” перехо­ дит в карманы лавочника. Если лавочник продает чиновнику на 384 Со/юневич И.Л. Наша страна. XX век рубль мяса, то на тридцать копеек он выпивает чиновничьей кро­ ви. Он, лавочник, ничего не производит — даже входящих и исхо­ дящих. Он есть представитель внепланового, государственно кон­ тролируемого хозяйственного хищничества. Он есть, кроме того, и классовый враг. Классовым врагом лавочник был уже для Толстого: это именно он скупал “дворянские гнезда” — потом он стал ску­ пать и птенцов этих гнезд и владельцев этих садов: дворянство разорялось, а буржуазия строила. Мелкий провинциальный чи­ новник литературно унаследовал эту дворянскую классовую вражду: во всякой школе преподавали русскую литературу и во всей русской литературе частный предприниматель был обрисо­ ван как хищник и паразит. Но частный предприниматель был классовым врагом и для сегодняшнего чиновничьего благополу­ чия: он подрывал существо чиновничьего быта правом на регу­ лирование. Он “заедал” каждый день чиновничьей жизни и ка­ ждый фунт чиновничьего обеда: он богател и строил дома — за счет копеек, вырученных за продажу фунта мяса и рублей, по­ лученных как квартирная плата. Традиция русской дворянской литературы, собственный бюрократический быт и философия пролетарского марксизма — все это привело к тому, что русская старорежимная бюрократия оказалась носительницей идей рево­ люционного социализма. Идеи эти не были глубоки и выветри­ лись при первом же соприкосновении с революционной дейст­ вительностью — но и они в какой-то степени определили со­ бою ход русской революции. На вершинах русской интеллигентской мысли стояли писате­ ли революционные, но стояли и писатели контрреволюцион­ ные. Сейчас, оценивая прошлое, можно сказать с абсолютной степенью уверенности: контрреволюционные были умнее. Сбы­ лись именно их предсказания, пророчества и предупреждения. Но сбыт имели только революционные. Или, что тоже случа­ лось, для обеспечения сбыта даже контрреволюционные писате­ ли кое-как подделывались под революционную идеологию. Свои контрреволюционные мысли даже и Лев Толстой выска­ зывал только в своих произведениях, для печати не предназна­ ченных. Даже и Достоевский не мог писать свободно, а когда пытался — его никто не слушал. Даже и Герцен протестовал против революционной цензуры, существовавшей в царской России. Здесь действовал закон спроса и предложения. Спрос обуславливала русская интеллигентная бюрократия, или — что то же — русская бюрократическая интеллигенция, — и ей, про­ Д и ктатура им п отен тов 385 фессиональной бюрократии, социализм был профессионально понятен. Социализм — это только расширение профессиональ­ ных функций бюрократии на всю остальную жизнь страны. Это подчинение лавочника Иванова контрольному воздействию фи­ лософически образованной, “культурной” массы профессио­ нального чиновничества. Это было и просто, и понятно, и со­ блазнительно. “Частная инициатива” была чужой, непонятной и отвратительной. Частная инициатива — взятками или обхода­ ми, нарушением инструкций и даже законов — пыталась обойти всякое государственное регулирование. Но чиновника кормило именно государственное регулирование, точно так же как дво­ рянство прокармливалось крепостным правом. Чиновник изо­ бретал инструкцию или препону — и частник пытался ее обой­ ти: в чиновничьем воображении он восставал как хронический правонарушитель, как антисоциальный элемент, как антигосу­ дарственная стихия. Я вырос в очень консервативной и религиозно настроенной семье. Но до конца двадцатых годов, до перехода от “новой экономической политики” к политике коллективизации дерев­ ни, первых пятилетних планов и прочего в этом роде, я все-таки разделял русскую традиционно-интеллигентную точку зре­ ния на русского делового человека во всех его разновидностях. Чего же вы хотите? Я читал Толстого и Салтыкова, как всякий читающий русский человек. Я впитывал в себя образы хищни­ ков и кровопийц. Я съедал в ресторане свой обед, платил за не­ го полтинник в качестве налога анархической стихии частной собственности Я платил мои двадцать рублей за мою квартиру, и из этих двадцати пятнадцать (мне казалось, минимум пятна­ дцать) отдавал за здорово живешь своему домовладельцу. Со всех четырех измерений меня охватывало железное кольцо “эксплуатации человека человеком”. За каждое съеденное мной яйцо я уплачивал и свою дань этой эксплуатации. Только в са­ мое последнее время, в Германии, в 1946 году, я вдруг вспом­ нил: будучи репортером, я в 1914 году за каждую строчку полу­ чал гонорар, равный цене двадцати пяти яиц. Кто сейчас запла­ тит мне такой гонорар? И кто снабдит меня яйцами, если бы я этот гонорар и получал? И не был ли частный предприниматель — волей или неволей — просто нянькой и мамкой, кормилицей и сестрой милосердия? Не он ли, частный предприниматель, както заботился о моем построчном гонораре — и как-то посред­ ничал между мной и людьми, которые готовы были заплатить 0,000001 копейки за удовольствие прочесть в газете мой отчет о 386 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век заседании Петербургской городской думы? Не он ли заботился о доставке из Воронежской губернии в Санкт-Петербург тех два­ дцати пяти яиц, в которые таинственным образом превращалась моя репортерская строчка? Он, частный предприниматель, был очень суров ко мне как к работополучателю: он требовал, чтобы я писал толково и грамотно. И если бы я толково и грамотно писать не умел — он бы “выгнал меня на улицу”. Но когда я приходил к нему покупать ботинки, то в моем полном распоряжении был це­ лый склад, и я мог капризничать как мне было угодно. Мне тогда никак не приходило в голову, что если я, как покупатель ботинок, имею право капризничать, то, может быть, такое же право имеет и неизвестный мне потребитель моих строчек? И что если частный предприниматель не будет особенно придирчив в отношении меня, то я никак не могу быть придирчивым по адресу ботинок: придет­ ся носить что уж мне дадут. Вообще много совершенно простых и, казалось бы, совершенно очевидных соображений никак не прихо­ дило мне в голову. Наступил военный коммунизм. Есть было вовсе нечего. О ка­ ких бы то ни было капризах по поводу свежих яиц или модных бо­ тинок даже и разговаривать было нечего. Я по тем временам зани­ мался поисками еды, а не объяснений ее отсутствия. Тем более что и объяснение, казалось, было просто: война мировая, и потом вой­ на гражданская, потом террор — я был ярым контрреволюционе­ ром, советская власть сажала и даже пыталась расстрелять меня не совсем зря. Я защищал Монархию, но до частной инициативы мне никакого дела не было. Очень мало дела было даже и до социализ­ ма: я был против социализма только потому, что социализм был против Монархии. Но если бы в 1912 году Император Всероссий­ ский издал бы манифест об освобождении русского народа от бур­ жуазной крепостной зависимости — я бы повиновался без ника­ ких. Иностранный читатель скажет, чтоввее это было очень глупо. С иностранным читателем я спорить не буду: особенно умно это действительно не было. ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ БЮРОКРАТ Итак, жил-был бюрократ, который считал себя культурным и прогрессивно мыслящим. Который взимал скромные взятки и за рюмкой водки разглагольствовал о благе народа. Который Д и ктатура и м п отен тов 387 предъявлял спрос на революционно-социалистическую лите­ ратуру и всячески презирал всякую “анархию производства и распределения”. Он был ниш, этот бюрократ. И права его были урезаны очень сильно. Напомню о том, что еще дед нашего довоенного бюрокра­ та, гоголевский городничий, товарищ Сквозняк-Дмухановский из “Ревизора”, как огня боялся “бумагомарания и щелкоперства”, ко­ торые могли в любой газете — даже и в газете тридцатых годов прошлого века — опорочить его доброе бюрократическое имя. Бю­ рократ царского времени был только обслуживающим элементом страны. Почему бы ему не желать стать и господствующим? Из этого патриархального, идиллического, можно сказать, до­ морощенного бюрократа вырос и нынешний советский. Причем вырос не только философски-генетически, а самым банальным пу­ тем, путем рождения от отца и матери: отцы только проектировали социалистическую революцию, дети ее реализовали. Русскую рево­ люцию сделал вовсе не пролетариат. Ее сделали коллежские реги­ страторы и те сыновья коллежских регистраторов, которые потом получили новый чин — народных комиссаров. Итак, акулы капитализма исчезли бесследно. На их место в миллионах хозяйственных ячеек страны стал социалистический ко­ миссар, надсмотрщик, плановик, руководитель. Всей Россией управлял самый главный комиссар — Владимир Ленин. Каждым домом стал управлять самый мелкий комиссар — “домком”. О Ле­ нине написаны и еще будут написаны тысяч томов. О его малень­ ком собрате — домовом комиссаре — никто не напишет ничего. Я заранее хочу исправить эту историческую несправедливость. То, что я здесь предлагаю читателю, есть возможно более точная фото­ графия действительности. Она может показаться маловероятной. При некотором размышлении можно, однако, прийти к выводу, что иначе, собственно говоря, и быть не могло. Осенью 1926 года я переехал из Одессы в Москву. В Одессе я был раньше преподавателем гимнастики, потом стал инструктором спорта в местном профсоюзе. В Москву я попал уже на более вы­ сокий пост: пост спортивного бюрократа в Центральном союзе служащих. Мой брат в той же Москве занимал еще больший пост — инспектора спорта в военном флоте. И в качестве челове­ ка, имеющего почти адмиральский чин, получил крохотную ком­ нату на Тверской улице, в доме 75. Потом брата сослали в Соловки и комната осталась в моем полном распоряжении. Я из нее сбежал. В квартире было семь комнат, и в семи комнатах жили восемь семейств. Одно из них жило в ванной. По утрам в коридоре шипе­ 388 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ло восемь примусов. По ночам из пяти комнат доносился крик не­ известного мне количества детей. По всем комнатам и коридорам квартиры безданно и беспошлинно бродили неисчислимые полчи­ ща клопов. Это был “жилищный кризис”, который начался с нача­ ла революции и стихийно растет и до сих пор. Он был и в Одессе. Но в Одессе он был, казалось, само собою понятным: Одессу бомбардировали, осаждали, атаковали, защища­ ли и грабили и белые, и красные, и иррегулярные туземные банди­ ты. В Москве ничего этого не было. Одесса, политически отстав­ шая лет на пять, оказалась оазисом по сравнению с нашей передо­ вой столицей: в Москве оказалось вовсе невозможно жить. По крайней мере для меня. Я могу выносить примусы, детей, споры из-за уборной и пререкания из-за кухни, но к клопам у меня ре­ шительно то же отношение, что и к социализму: я не могу. Я сбе­ жал. Но это мне удалось не сразу. В Москве весь ход событий пытался втянуть меня в “общест­ венную деятельность” — из этого тоже ничего не вышло: я оказал­ ся саботажником. Первый вариант общественной деятельности, мне предложенный, было участие в собраниях и в работе жилищ­ ного кооператива. На штуки две я — по молодости лет — все-таки пошел. Они меня все-таки кое-чему научили. Итак: дом принадлежит кооперативу людей, в нем ныне прожи­ вающих. То есть не собственникам отдельных квартир или даже комнат, а перехожему бюрократическому пролетариату, вроде ме­ ня. Мне лично на этот дом было, говоря откровенно, наплевать: у меня была целая масса других забот. И кроме того, даже в самые мрачные минуты моей жизни я все-таки не предполагал разделять свое ложе с клопами до бесконечности. Но на этих собраниях я научно и точно установил следующее. Домом управляет домком — теоретически выборный, как теоретически выборными были и советские съезды советов и рейхстаг Третьего Рейха. Домком был служащим, чиновником, бюрократом, — как вам будет угодно. Он был обязан: чинить крыши, вывозить мусор, вставлять выбитые стекла, закупать то­ пливо и совершать некое количество мне мало понятных хозяй­ ственных операций. На каждой из этих операций домком мог украсть неизвестное мне количество краски, стекла, топлива или денег. Для того чтобы он не украл или даже для того, что­ бы он не предавался “бесхозяйственности”, я, один из жильцов одной из квартир, должен ходить на собрания, выбирать прав­ ление, контрольную комиссию, комиссию по культурно-просве­ тительской работе, комиссию по “озеленению” двора и прочее Д и ктатура и м п отен тов 389 в этом роде. Я очень скоро сообразил, что ни о чем этом я, вопервых, не имею никакого понятия, а если бы и имел, то не имею никакой возможности заниматься всеми этими собрания­ ми: у меня ведь есть все-таки и мои собственные дела. Пессимисты называли Москву “городом-деревней”. Оптимисты могли бы назвать ее городом-садом. Вне рамок главных улиц с их многоэтажными домами (этажа три-четыре) раскинуты сотни ты­ сяч особняков или небольших домиков. В особенности на окраи­ нах города. Я устремился туда. Методика моих поисков, как я ус­ тановил позже, не годилась никуда. Нужно было бегать не по усадьбам, а по бюрократам. Но то, что я увидал, оказалось доста­ точно поучительным: крыши позаваливались, стены порастреска­ лись, отовсюду неслась ужасающая вонь давно нечищенных убор­ ных. От многих домов и домишек —только руины. Я понял: тут хозяйствовали домкомы. Нужно иметь в виду, что домовой комиссар никогда не рожда­ ется в полном одиночестве: рядом с ним появляются на свет и дру­ гие. Так что пока наш домком бюрократствует над домом № 75, его собратья и близнецы так же заведуют кровельным железом, краской, топливом, вывозкой мусора и всякими такими вещами. Над каждым из них возвышается какое-то собрание, комиссия, контроля и Бог знает что еще — крыша начинает ржаветь. Бюро­ крат пишет бумажку: выдать мне столько-то квадратных метров кровельного железа, столько-то краски и столько-то рабочих. Бу­ мажки, очертив положенную им Господом Богом орбиту, попадают к другим бюрократам, которые как-то на них отвечают. Один пи­ шет: жесть вам отпущена. Другой пишет: краски в данное время на складе нет. Третий сообщает: в порядке очередности рабочая сила может быть предоставлена через икс дней. Приблизительно такую же орбиту описывают бумажки о топливе, мусоре, дезинфекции, починке канализации, вселении одних жильцов, выселении других, устройстве качелей для пролетариев дошкольного возраста — ну и так далее. Словом, крыша начинает протекать, не считаясь с порядком очередности. И в то же самое время и по таким же точно сообра­ жениям начинают протекать всякие иные метафорические кры­ ши — на фабрике красок. Потом трескается стена. Потом жильцам объявляется, что в плане энной пятилетки предусмотрена построй­ ка новых домов — а из старого нужно выселиться, ибо он грозит обрушиться. Жильцам еще уцелевших домов предлагается “уплот­ ниться”, для размещения их злополучных спутников по бюрокра­ тической революции. 390 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Как видите: очень просто. И как вы, может быть, согласи­ тесь, — а как же логически может быть иначе? Я не думаю, чтобы в эти годы я отличался выдающимися аналитическими способностями. Мое отношение к большевиз­ му было типичным для подавляющей — и неорганизованной — массы населения страны. Я, как и это большинство, считал, что к власти пришла сволочь. В качестве репортера я знал — и не­ верно оценивал — и еще один факт: это была платная сволочь. По моей репортерской профессии я знал о тех громадных сум­ мах, которые большевики тратили на разложение русского фронта в Первую мировую войну, знал, что эти суммы были получены от немцев. Теория военного предательства возникала поэтому более или менее автоматически. Социальный вопрос ни для меня, ни для большинства страны никакой роли не играл. И для этого вопроса ни у кого из нас, большинства страны, не было никаких предпосылок. Я напомню: идя к захвату власти, Ленин не требовал ничего особенного. В программе стояло: национализация крупной про­ мышленности, банков и железных дорог; большую часть этой программы проводило и царское правительство. Ленин требовал раздела земли между крестьянами. Царское правительство, в те­ чение полустолетия до появления на исторической арене того же Ленина, проводило ту же политику. Правда, оно действовало экономическими методами, и крестьяне получали дворянскую землю за плату. Ленин обещал бесплатный раздел. Но мне было решительно безразлично, получит ли дворянство за остатки сво­ их латифундий еще один миллиард на пропой остатков своей души или не получит. И я, более или менее средний молодой человек России, нес свою шкуру на алтарь гражданской войны вовсе не из-за банков, железных дорог, акций или платного или бесплатного раздела земли. Не из-за этого несли свою шкуру и другие юноши России. Ни колхозов, ни концентрационных ла­ герей, ни голода, ни вообще всего того, что совершается в Рос­ сии сейчас, мне еще видно не было. Пророчества Герцена, Дос­ тоевского, Толстого, Розанова, Лермонтова, Волошина и дру­ гих, которые я знал и тогда, — тогда совершенно не приходили в голову, скользили мимо внимания. Я, в отличие от большин­ ства русской интеллигентной молодежи, действительно питал непреодолймое отвращение ко всякому социализму, но, во-пер­ вых, против большевизма подняла свои штыки и та интелли­ гентная молодежь, которая еще вчера была социалистической, и та рабочая молодежь, которая еще и в годы гражданской войны Д и ктатура и м п отен тов 3 91 считала себя социалистической. Потом я почти присутствовал при массовых расстрелах социалистической молодежи в боль­ шевистских тюрьмах Одессы. Я ненавижу социализм, но это было чересчур. Я не питаю решительно никаких симпатий к не­ лепому племени украинских сепаратистов, но, сидя в одесской тюрьме и ожидая расстрела, я в щелку тюремных ворот смотрел на целую колонну сепаратистской молодежи, которой солдаты ВЧК (позднейшее ОГПУ, потом НКВД, теперь МВД) проволо­ кой связывали за спиной руки перед отправкой этих двух-трех сотен юношей и девушек — почти мальчиков и девочек — на расстрел. Царское правительство боролось и с социалистами и с сепаратистами, но все-таки не такими методами. Однако и со­ циалисты и сепаратисты были для меня врагами. Ни дворянст­ во, ни буржуазия друзьями для меня не были. И если сейчас, тридцать лет спустя, я пытаюсь самому себе дать честный ответ на вопрос: так из-за чего же, как и миллионы других русских юношей, подставлял я свой лоб под пулеметы фронта и свой за­ тылок под наган подвала, то единственный ответ — невразуми­ тельный, но честный, будет заключаться вот в чем: мы шли во имя здоровья и мы шли потому, что оно у нас было. Все остальные объяснения не выдерживают никакой крити­ ки, и почти все они средактированы уже впоследствии. К это­ му, самому основному пункту всей моей книги я перехожу для того, чтобы не создать в читателе некоего смещения перспекти­ вы. В 1920 году я никак не предвидел того домкома, на жилпло­ щадь которого мне пришлось попасть в 1926-м. Никакой мужик в 1920 году не предвидел тех колхозов, в которые он попал в 1930-м. Никакой рабочий не предвидел тех каторжных работ, на которые его направила советская власть в 1932 году. Идя к власти, Ленин — в области внутренней политики — проектиро­ вал только ускоренное проведение всего того же, что уже и без Ленина делало царское правительство. Не против этого шла в бой молодежь белых армий. Генералитет белых армий начертал на своих знаменах “За единую и неделимую Россию!” — но сейчас совершенно ясно, что ни единству, ни неделимости Рос­ сии большевики не угрожали никак: наши либеральные течения в вопросах феодализма и прочего шли гораздо дальше, чем шел товарищ Ленин. До момента разгрома немцев союзниками очень острым вопросом был вопрос выхода из войны: как раз те слои страны, которые от войны страдали больше всего, — мо­ лодежь, армия, офицерство, готовы были на стенку лезть во имя “войны до победного конца”, но разгром Германии снял с 392 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век повестки дня и этот вопрос. Итак, во имя чего же мы — рус­ ская, в подавляющем своем большинстве истинно “рабоче-кре­ стьянская” молодежь, шли на риск, на тюрьму и на смерть? Тот советский бюрократ, к биографии которого я сейчас пе­ рехожу, в нашей борьбе никакой роли не играл. О том, что он появится на свет, никто из нас никакого представления не имел. О том, что именно он будет проделывать, появившись на свет, мы никакого представления и иметь не могли. В 1920 году я был монархистом, антисоциалистом, верующим и вообще всем тем, что принято называть реакцией. На фронтах и в тюрьмах рядом со мной воевали и вместе со мной сидели дру­ гие русские юноши, которые называли себя социалистами. И даже революционерами. Я воевал против того, что я называл революцией, они воевали против того, что они называли контр­ революцией. И когда в ожидании боя или расстрела мы, так сказать, открывали друг другу души свои — то оказывалось, что мы все воевали и сидели во имя одной и той же традиции фи­ зического и морального здоровья нации. Я был монархистом, но я был за раздел помещичьей земли и я не был против “на­ ционализации кредита”. Они были социалистами, но они “ни­ чего не имели против монархии”. Я стою за капитализм, но к рядовому русскому рабочему я питаю искреннее уважение. Они стояли за пролетариат, но в их присутствии нельзя было оскор­ бительно выражаться о русской Монархии — профессиональная революционная пропаганда до 1917 года получила официальные указания от своих руководящих органов: можно ругать помещи­ ков, дворян, банкиров и генералов — но нельзя ругать Царя. Они считали себя атеистами — я был верующим. Обе стороны были склонны очень скептически относиться к “попам”, но для обеих сторон были вещи недопустимые. Говоря короче, у всех нас действовал почти безошибочный инстинкт физической и моральной чистоплотности — то есть физического и морального здоровья страны и нации. Сейчас, еще больше, чем в 1920 году, можно сказать, что стали­ низм есть логическое продолжение царизма — и в 1920 году для этого было еще больше оснований, чем сейчас. Сейчас — еще больше, чем в 1920 году, — можно бы составить такую таблицу, в которой был бы перечислен целый пучок параллельных линий во внешних проявлениях царизма и сталинизма. Можно, конечно, со­ ставить таблицу пересекающихся линий. Но все это, как и мой нынешний домком, не имело никакого отношения к мотивам на­ ших действий в эпоху іражданской войны. От большевизма нас от­ Диктатура импотентов 393 вращал инстинкт. Совершенно такой же, какой отвращает нор­ мального юношу от девушки, у которой весь лоб в прыщах. Юно­ ша может и не знать, что поцелуй этого прыщавого лба отплатится проваленным носом. Мы не могли знать, что флирт с большевиз­ мом отплатится провалом всей страны. В 1920 году мы не понима­ ли ничего. Но мы инстинктивно шли по правильному пути. Фари­ сеи нашей философии думали и уверяли нас, что они понимают все. Как впоследствии оказалось, они понимали еще меньше нас: у них не осталось даже и инстинкта. ...Но и об этом кое-что сказано у Забытого Автора: “И отнял Бог от седых и мудрых — и отдал детям и неразумным...” ЖИЗНЬ БЕЗ ДОМКОМА Вся сумма комиссаров, начиная от народных и кончая домовы­ ми, никем и никак предусмотрена не была. Хотя уже чисто логиче­ ски ее нетрудно было бы предусмотреть. Бюрократизация всей на­ циональной жизни есть только последствие “социалистической ре­ волюции” — только одно из последствий. Как провалившийся нос есть последствие сифилиса — но только одно из последствий, есть и другие. Провалившийся нос имеет, однако, некоторые преиму­ щества: он совершенно нагляден. Мой домком на Тверской, 75, был для меня методом наглядного обучения: вот почему провали­ ваются и носы и вот почему не провалиться они не могут. В 1920 году ни социализм, ни капитализм с их экономической стороны ни меня, ни моих сверстников не интересовал никак. Мы, правда, все пережили переход от капиталистической анархии к со­ циалистическому плану. И покинув материнское лоно анархии, мы все летели прямо к чертовой матери, по дороге цепляясь за что по­ пало: за кусок хлеба, за подметку для сапог, и паче всего за воз­ можность бегства на юг, восток, север, запад — в те места, где, о чем мы тогда не подозревали, еще свирепствовала уже издыхающая анархия производства и распределения. Вторая половина двадца­ тых годов была хронологической заменой прежних географических переживаний: анархия хозяйственного произвола была кое-как до­ пущена новой экономической политикой. Или, иначе, — в какихто областях страны и отраслях ее хозяйства личная хозяйственная свобода была кое-как изъята из-под опеки философски планирую­ щих мудрецов. В порядке освобождения народного труда от бюрократической крепостной зависимости были денациолиэированы и некоторые 394 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век недвижимости, в частности жилые дома ценностью до десяти тысяч рублей. Не все и не везде. Но главным образом в насе­ ленных пунктах с населением до пятидесяти тысяч человек. Во всяком случае, московские окрестности оказались той почти за­ границей, где кое-как возрождалась бесплановая жизнь. Мои жилищные поиски в Москве к этому времени закончились пол­ ным и безнадежным провалом. Я устремил свои надежды на мо­ сковские пригороды. В течение нескольких недель я всячески сбегал со службы и об­ следовал эти пригороды. Я ходил от двора к двору, вступал в пере­ говоры с домохозяевами, со спутниками в вагонах, с возрождаю­ щимися владельцами пивных, с бабами в очередях — вообще со всеми, кто мне попадался на тяжком моем пути. Результаты были неутешительны. На меня смотрели подозрительно и отвечали нев­ разумительно: “Очень уж все теперь переполнено, жить теперь прямо негде, вот поезжайте вы туда-то и туда-то” — я ехал туда-то и туда-то и получал такие же ответы и советы. Наконец, бродя по очередному пригороду, на этот раз по Салтыковке, выдохшийся и отчаявшийся, за одним из заборов я увидел супружескую пару, мирно пившую чай на веранде. Я попросил напиться. Старушка предложила мне стакан чаю — без сахара, но все-таки чаю. Я при­ сел и пожаловался на свою судьбу: вот столько недель ищу хоть какого-нибудь жилья — и ничего не могу найти. Старичок уверен­ но посочувствовал: действительно, ничего найти нельзя. Я пожало­ вался еще раз: вот, семья торчит в Одессе и привезти ее некуда. “Так вы, значит, из Одессы?” — спросил старичок. Одесса пользуется репутацией самого вороватого города в Рос­ сии. И на вопрос: “Скажите, а вы не из Одессы?” — анекдот отве­ чает так: “Сами вы сволочь!” Поэтому я поспешил поправиться: я, собственно говоря, из Петербурга. “Ага, — сказал старичок, — а в котором году вы бежали?” Я понял, что попался. И ответил туманно: как и все. Старушка предложила мне еще стакан чаю. Потом поговорили о том о сем. Потом старушка вышла на кухню, старичок последовал за ней. Что-то шептались. У меня на душе было неуютно: вот проболтался! Но оба супруга скоро вернулись на веранду, и на меня свалилась манна небесная: “У нас, видите ли, — сказал старичок, — кое-какое помещение есть, только, может быть, дороговато для вас будет — тридцать пять рублей в месяц, две комнаты...” Я не верил своему счастью: в Москве я платил, правда, пят­ надцать рублей — но одни клопы чего стоили! И там была одна Д и ктатура и м п отен тов 395 комната — здесь две. Потом оказалось, что был еще и коридор, который тоже мог сойти за комнату. Все это помещалось в ман­ сарде, стены были из грубо отесанных сосновых бревен, в цен­ тре всего этого стояла огромная, дебелая, матерински уютная кафельная печь, которая грела души наши в течение шести су­ ровых московских зим. Во дворе была банька, в которой перед нашим въездом в пристанище капиталистической анархии мы смыли с себя наследие московской социалистической эпохи и пропарили паром наши вещи. Словом — был почти рай. Я с тех пор — до самого Берлина — ни разу не имел дел ни с какими домкомами. Меня никто не тащил на собрания жильцов. Меня никто не заставлял контролировать хозяйственные действия то­ варища Руденко, владельца частно-хозяйственной дачи в Сал­ тыковке. Когда я, усталый и голодный, возвращался домой, ни­ кто не стучал в мои двери, вызывая меня на собрания, посвя­ щенные вопросам озеленения детей или заготовки мусора. Ка­ ким-то таинственным образом крыша не текла сама по себе, мусор исчезал, как кролик в рукаве престидижитатора: таинст­ венно, бесследно и, главное, бесшумно: без всякого участия “широкой общественности” — сам по себе. В дни, предначер­ танные Господом Богом, приходил трубочист и чистил мою печку. Если у меня в это время оказывалась рюмка водки — обычно она оказывалась, — я предлагал ее трубочисту. Но этим мои связи с профессиональным союзом трубочистов и ограни­ чивались. Вообще был рай: не было ни бумажек, ни собраний, ни общественности, ни самодеятельности, было очень нише — очень просто, но по человечески организованное человеческое жилье. А не клопиное социалистическое стойло. И кроме того, рядом с товарищем Александром Руденко на моем горизонте появился гражданин Иван Яковлев — на этот раз уже не това­ рищ, а только гражданин, не “инвалид труда”, в какого ухит­ рился превратить самого себя товарищ Руденко, а откровенно хищная, хотя и микроскопическая акула капитализма. Рядом с железнодорожной станцией как-то внезапно выросло странное сооружение из латаного полотна, старых досок из кро­ вельного толя. Вокруг этого сооружения вертелся какой-то неиз­ вестный мне рваного вида человек. Потом на сооружении появи­ лась вывеска: “Съестная палатка. Иван Яковлев”. Потом в этой па­ латке появилось приблизительно все, что мне было угодно: яйца и сосиски, картофель и помидоры, селедка и хлеб. Все это без вся­ 396 С о л о н е в и ч И .Л . Н а ш а с т р а н а . X X в е к ких карточек, без всяких очередей, удостоверений, брака, гнили и плана. Все это было чуть-чуть дороже, чем в советских коопе­ ративах. Потом стало чуть-чуть дешевле. Но, покупая десяток яиц, я был твердо уверен, что ни одного пятака я не заплатил ни за одно гнилое яйцо. Потом стало намного дешевле. По­ том — кооперативы умерли. Имейте, впрочем, в виду, коопера­ тивами они не были никогда: ибо ими управляли не частные пайщики, а правительственные чиновники. Во всяком случае, государственная торговля автоматически скончалась и гражда­ нин Яковлев почти так же автоматически переехал со всеми своими сосисками в помещение бывшего ТПО — транспортного потребительского общества. Даже и на службе меня перестали тащить на кооперативные собрания, предлагать контролировать заготовки яиц и вообще проявлять какую бы то ни было само­ деятельность в области дел, которые меня не касались. Я полу­ чил наконец некоторую возможность заняться теми делами, для которых я, собственно, и был нанят: организацией спорта, а не организацией вывозки мусора, вставки стекол, заготовки яиц, общественного контроля над кооперативной сапожной мастер­ ской. Правда, кое-что еще оставалось. От собраний в стиле Ме­ ждународного общества помощи жертвам реакции (МОПР) я не мог отделаться до конца своих советских дней. Общества помо­ щи жертвам революции в Советской России по понятным при­ чинам не было. Я чувствовал себя почти как птица небесная. Или, во всяком случае, как человек, кое-как выкарабкавшийся из помойной ямы. За мои заботы о благосостоянии и о мускулах советских спортсменов мне кто-то платил подходящие деньги — очень скудные. Недостающие я добывал путем фоторепортажа, спор­ тивной хроники в газетах и прочими такими частнокапитали­ стическими способами. Я нес эти деньги товарищу Руденко, ко­ торый без всякого бюрократизма снабжал меня стенами и кры­ шей, и гражданину Яковлеву, который без собраний и очередей снабжал меня селедками и прочим. О том, как именно добываются, транспортируются, хранятся и прочее все эти жизненные блага — я никакого понятия не имел, да не имею и сейчас. Я “в общем и целом” считаю себя толковым человеком. В калейдоскопической смене моих совет­ ских профессий черная торговля несомненно занимала самое черное место: не выходило ровным счетом ничего. Однажды, еще во времена позднего военного коммунизма, мне нужно бы­ ло ехать в Москву, и у меня возникла теоретически гениальная Диктатура импотентов 397 догадка о том, что спирт в Москве стоит в пять раз дороже, чем он стоил в Одессе. В Одессе тогда свирепствовало еще одно чисто капиталистическое предприятие — Американская адми­ нистрация помощи. В числе прочих вещей она снабжала социа­ листическое население сгущенным молоком. Мои теоретиче­ ские предложения были так же безукоризненно правильны, как, скажем, теоретические построения марксизма. Я купил сто ба­ нок молока. С каждой из них я самым аккуратным образом со­ драл этикетку. Под каждой бывшей этикеткой я проковырял дырочку. Каждую банку — они накоплялись постепенно — я промыл кипятком. Потом — сквозь дырочку налил спирту. По­ том дырочки залил оловом. Потом наново наклеил этикетки. Все было совершенно правильно. Был упущен из виду только тот факт, что спирт является лучшим растворителем, чем кипя­ ток. И те остатки молока, которые застряли в углах между до­ нышком и стенками банок, не поддались кипятку, но подда­ лись спирту. И когда спирт доехал до Москвы, то оказалось, что он не годится почти никуда. С горя я высосал его сам. По­ том я вез огурцы из деревни в Одессу. Все было тоже совер­ шенно правильно спланировано — только телега по дороге сло­ малась, чинили ее три дня, и огурцы пропали. Я все-таки дол­ жен подчеркнуть тот факт, что по курсу политической эконо­ мии я в университете был далеко не из последних студентов. Иван Яковлев, вероятно, никогда не слыхал о Рикардо, о законе Грехема или о тюненовском “изолированном государстве”. Однако с селедками и прочим он как-то справлялся лучше меня. Мы оба — Яковлев и я — были друг другом вполне доволь­ ны. По крайней мере я. Хозяйственные отношения краткого пе­ риода “передышки”, прорыва анархии в стройность планов, сводились приблизительно к следующему. Я и мои соседи — сапожник, монтер, врач и прочие — зани­ мались каждый своим делом и не вмешивались ни в какие чу­ жие дела. Нужно с прискорбием констатировать тот факт, что некоторое и довольно значительное количество людей и со сво­ им собственным делом справиться не в состоянии. Гражданин Яковлев справлялся со своим вполне удовлетворительно. Но ес­ ли бы все обнаружили, что гражданин Яковлев является вреди­ телем, саботажником, лодырем, растратчиком, головотяпом и прочими синонимами советской бюрократии, то ни я, ни са­ пожник, ни врач, ни монтер никаких общих собраний устраи­ вать не стали бы, никуда с доносами не побежали бы и никому не предложили бы посадить гражданина Яковлева в тюрьму или 398 С о л о н е в и ч И .Л . Н а ш а с т р а н а . X X в е к в концентрационный лагерь. Наш вердикт был бы молчалив, индивидуалистичен и безапелляционен: мы бы пошли покупать селедку к гражданину Сидорову. Только и всего. И этого немо­ го приговора было бы достаточно, чтобы гражданин Яковлев без всякого бюрократизма и показательных процессов — так же тихо и мирно вылетел в трубу. Причем ни я, ни сапожник, ни врач даже и спрашивать не стали бы: почему у гражданина Яковлева на десяток яиц оказалось одно гнилое. Ни для кого из нас это не представляло бы ровно никакого интереса. Совер­ шенно само собой разумеется, что я буду заниматься разведени­ ем спорта, сапожник — подшиванием подметок, врач — иссле­ дованием желудочного сока, а гражданин Яковлев — заготовкой яиц и прочего. Было также само собою разумеющимся, что гдето за пределами нашего салтыковского горизонта торчат люди, которые ловят селедки, сажают томаты или разводят кур. Дан­ ное положение вещей меня устраивало почти совсем. По не­ опытности житейского моего стажа я его не анализировал: чего же анализировать само собою разумеющиеся веши? Потом — пришел и анализ. Но только потом. В моих взаимоотношениях с кровавым частником Яковлевым почти все преимущества лежали на моей стороне. Я, собственно, был бюрократом. Это было, правда, только случайностью в моей биографии — иначе я бы в этом не признался никогда. Есть в мире только две вещи, в которых никогда и никому не признается ни один мужчина в мире: а) что он дурак и б) что он бюрократ. Люди могут признаваться в том, что они воры и сифилитики, алкоголики и гомосексуалисты, но в двух вещах — в бюрократизме и в глупо­ сти — кажется, не признавался еще никто и никогда. Человеческая душа имеет еще не исследованные никакой нау­ кой глубины. Повторяю, я встречал людей, которые не без профес­ сиональной гордости говорили: “Я — вор, вором и помру”. Я ни­ когда не слыхал о людях, которые говорили бы: “Я — дурак, дура­ ком и помру” или: “Я — бюрократ и бюрократом и окончу свой век”. Так, кажется, не бывает. Следовательно, и мое признание в бюрократизме нужно принять с целым рядом оговорок. Я, в об­ щем, оказался очень плохим бюрократом. Или, несколько точнее, плохим сочленом бюрократического сообщества. Так сказать, пар­ шивой овцой в хорошо подобранном стаде. Я был спортивным бюрократом: это совершенно новая в ис­ тории человечества отрасль бюрократической деятельности. И касается она тех людей, которые могут заниматься спортом, но могут им и не заниматься. Власти над жизнью и смертью, над Диктатура импотентов 399 едой и голодом, над жилплощадью и бездомностью — у меня не было. Когда вышестоящие бюрократы предложили мне соста­ вить ряд специальных систем гимнастики и спорта для санита­ ров, бухгалтеров, металлистов, врачей, грузчиков и прочих — я тщетно возражал, что все пролетарии мира имеют одно и то же количество позвонков, бицепсов и прочего и что поэтому раз­ ные системы спорта для разных профессий являются чепухой. Мои возражения не помогли. Моя настойчивость стоила бы мне службы и кое-чего еще. Я эти системы изобразил. Они были со­ вершеннейшей чепухой, но и совершенно безвредной чепухой. Но когда мне предложили формировать футбольные команды из девушек (“социалистическое равноправие женщин”), то я про­ явил совершенно неприличную в бюрократической среде строп­ тивость нрава, из-за которой меня в конце концов и выгнали вон. Но так как кроме бюрократически-спортивной профессии, у меня в запасе была еще и дюжина других, то это меня смути­ ло мало. Скажем так: я не был типичным бюрократом. Но бюро­ кратом я все-таки был — по крайней мере, в чисто социальном отношении. Будучи бюрократом, я ни от каких потребителей не зависел никак. Я зависел — по крайней мере теоретически — только и единственно от моего начальства. Я состоял инспекто­ ром спорта при профсоюзах и являлся частичкой “плана”. План не стоил ни одной копейки, но моего личного положения это не меняло никак. Я назначен свыше, и мировой закон борьбы за существование, приближаясь ко мне, прекращает бытие свое. Мне совершенно безразлично, будут ли довольны мои спорт­ смены, которых-я призван опекать и планировать, или не будут довольны. И когда меня в конце концов все-таки выгнали вон, то выгнало начальство, а вовсе не спортсмены. Я считал, что в условиях недоедания и прочего задачей физической культуры должно явиться поддержание известного уровня здоровья пре­ словутых трудящихся масс. Плановые органы считали, что “тру­ дящиеся массы” есть термин демагогический и во внутреннем употреблении неприличен. Им можно оперировать в кругах планируемых, но, по меньшей мере, бестактно оперировать им в кругах планирующих. Говоря чисто практически, вопрос стоял так: в стране имеется тысяча кирпичей и сто фунтов хлеба. Сле­ дует ли хлеб разделить по фунту на сто спортсменов, а кирпичи по сто на десять лыжных станций — или десяток профессио­ нальных и пропагандных спортсменов “Динамо” кормить на убой — за счет остальных спортсменов, а на стадион “Динамо” ухлопать все кирпичи за счет остальных спортивных сооруже­ 400 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ний? Можно защищать обе точки зрения. За защиту моих собст­ венных из бюрократического рая я и был изгнан. Благодаря накоп­ ленному за это время запасу социалистической мудрости я отде­ лался очень дешево — в тюрьму не попал. Но мог и попасть. Все это, однако, случилось несколько позже: при переходе от анархии нэпа к первым пятилетним планам. А в тот проме­ жуток времени, о котором я сейчас говорю, я был одним из со­ членов бюрократической касты, а Иван Яковлев был одним из проявлений капиталистической анархии. Я от Яковлева не зави­ сел никак. Яковлев всячески зависел от меня. Он должен был угождать моим вкусам, проявлять по моему адресу всяческую любезность. Он был вынужден заботиться о моем здоровье — если бы я отравился гнилыми сосисками, я вынес бы ему мой молчаливый вердикт: присужден к высшей мере капиталистиче­ ского наказания: больше у Яковлева я покупать не стану. Он должен был заботиться о моем кармане: если бы он продавал сосиски дороже Сидорова — я бы перешел к Сидорову. Он, ка­ питалист, был вынужден быть милым и доверчивым, ибо сколь­ ко раз случалось, что моя наличность равнялась нулю (текущего счета у меня не было никогда) и перед ним стоял тяжелый вы­ бор: отпустить ли мне фунт сосисок в долг или не отпустить, испортив наши дружеские отношения. Он, Яковлев, рисковал не только тем, что я не захочу заплатить, но и тем, что я не смогу заплатить: вот, сорвусь на какой-нибудь футболиэации трудящихся девушек — и пошлют меня в Соловки, и пропали деньги. Яковлев вынужден был проявлять целую массу знаний людей и вещей: состояние рынка и транспорта, мои вкусы и склонности, мою кредитоспособность, политику партии и НКВД — словом, целую массу вещей, от которых зависел каж­ дый день его капиталистического существования. Не знаю, как он — но я был доволен вполне. На некоторый промежуток вре­ мени я был как-то изъят из действия социалистических зако­ нов. Я жил у частного капиталиста, питался у частного капита­ листа, я не посещал ни митингов, ни собраний, не участвовал ни в тройках, ни в пятерках, не заботился о заготовке картофе­ ля и о контроле над заготовителями картофеля — и я был сыт. Потом как-то постепенно и незаметно начались сумерки тщедушного нэповского капитализма. Странная вещь: когда в советской печати появились первые статьи, посвященные пер­ вому — тогда еще будущему — пятилетнему плану организации “веселой и зажиточной жизни” на “родине всех трудящихся”, — ни я, ни мои соседи не проявили к нему решительно никакого ин- Диктатура импотентов 401 хереса. Ну что ж? План так план, поживем — увидим. И пожить и увидеть удалось не всем. Курс политической экономии я проходил под руководством профессора Туган-Барановского, крупнейшего политика-эконома царской России, — конечно, марксиста. По тем временам — 1912 — 1916 годы — я возлагал некоторую надежду на науку поли­ тической экономии. Наука, в лице профессора Туган-Барановско­ го, возлагала некоторые надежды и на меня. Кажется, разочарова­ лись обе стороны. И обе очутились в эмиграции. Если бы это было юридически возможно, в эмиграции я предъявил бы профессору Туган-Барановскому иск за нанесение увечий моим мозгам: сейчас мне совершенно ясно, что после курса профессора Туган-Баранов­ ского я во всем, что касается народного и вообще человеческого хозяйства, вышел еще большим дураком, чем был до курса. Можно было бы предъявить и иск об изувеченной жизни: наука товарища Туган-Барановского проповедовала как раз те пятилетки, которые на нас всех и свалились. Так что если товарищ Сталин является политическим убийцей, то профессор Туган-Барановский и прочие иже с ним, были подстрекателями к политическим убийствам. Это абсолютно ясно. Несколько менее ясен вопрос о смягчающих вину обстоятельствах: теперь я так же ясно вижу, что профессор ТуганБарановский и прочие иже с ним — был просто глуп. И очень сильно содействовал также и моему собственному поглупению. Во всяком случае, все мои научные познания в области политики и политической экономии, истории вообще и истории Французской революции в частности — в той форме, как все эти познания мне втемяшивались в университете — марксистском и императорском университете, на практике оказались совершеннейшей чепухой — совершенно такой же, как и мои инструкции по физической куль­ туре для врачей и грузчиков. Я не предвидел ничего. И не понимал ничего. Первые “наметки” первого пятилетнего плана не произве­ ли на меня никакого впечатления. Хочу отдать справедливость и себе: я все-таки оказался по меньшей мере не глупее остальной московской интеллигенции. Я считал эти наметки такой же бюро­ кратической ерундой, как и мои собственные физкультурные пла­ ны. Но большинство московской интеллигенции было очень до­ вольно: вот это здорово — все-таки будет построено то-то и тамто; “наконец-то какой-то план” — Туган-Барановских они прини­ мали еще больше всерьез, чем в свое время принимал их я. Иван Яковлев, человек явственно “необразованный”, оказался все-таки умнее всех нас. И он первый как-то пронюхал и говорил мне: “Ох эти уж планы — добром это не кончится”. 402 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Это и не кончилось добром. Но конец приходил как-то неза­ метно и постепенно — как приходит к человеку старость. Чтото как-то стало исчезать. Еще так недавно Яковлев встречал ме­ ня радостно, вот вроде: “ Вот, только что получил беломорские селедки — первый сорт!” Теперь его оптимизм как-то стал вы­ дыхаться: “ Вот, опять нету селедок — уж Бог его знает, что оно там творится” . Я понимал: если уж у Яковлева селедок нет, то, значит, с селедками что-то действительно творится. Но, как это ни странно, самая простая мысль о том, что где-то стали социа­ лизировать и селедки — мне в голову не приходила. Это челове­ ка легко социализировать — ему деваться некуда. Рыбам мор­ ским и птицам небесным на социализацию, конечно, наплевать: они все живут без паспортов и границ, без планов и даже без науки. Но все-таки постепенно стали исчезать томаты и селед­ ки, сосиски и прочее. И потом — сразу нежданно, скоропо­ стижно, исчез и сам Яковлев. Так исчез, что я до сих пор не знаю, что с ним случилось. В один сумрачный вечер моей жизни, вернувшись со своей бюрократической деятельности из Москвы и привычно завора­ чивая к логовищу моего капиталистического хищника, я был поражен мрачным зрелищем. Привычная вывеска: “Съестные припасы. Иван Яковлев” была свергнута руками какого-то ре­ волюционного пролетариата и валялась на земле. Пролетариат, стоя на двух лестницах, прибивал над логовищем новую, хотя тоже старую, вывеску — старого “Транспортного потребитель­ ного общества № 606” — точного номера я сейчас не помню. Этот кооператив продолжал существовать и в яковлевскую эпо­ ху — где-то на задворках, ведя, так сказать, чисто отшельниче­ ский образ жизни, чуждаясь и товаров и людей, презираемый и людьми и товарами. Теперь, значит, он возвращается на круги своя. Еще месяц тому назад ТПО торговало багажом исчезнув­ ших железнодорожных пассажиров, случайными партиями ло­ шадиных подков, проржавевшими консервами государственных заводов. Однажды там почему-то появилось несколько десятков пар скэтингов — во всей Салтыковке и в двадцати километрах радиусом не было ни одного клочка асфальта: были песок и глина. Не знаю, что сталось с этими скэтингами. В Москве я, в общем, вел спортивный образ жизни. И целый день мотаясь по всяким делам, по дороге домой слезал за восемь километров до Салтыковки и покрывал это расстояние пешком в один час: это была моя ежедневная норма. И потому домой возвращался я голодным, как капиталистическая акула. Я Д и ктатура и м п отен тов 403 протиснулся в возрожденный к новой плановой жизни кооператив. Почти у самого порога меня встретил совершенно приличного ви­ да мужчина и спросил кратко и деловито: “ Вам тут что?” Приличного вида мужчину я очень ясно помню и до сих пор, но ни фамилии, ни имени его я не знал никогда. Гражданин Иван Яковлев ходил в довольно затрапезном обмундировании: сапоги бутылками, поддевка, грязноватый фартук. Приличного вида муж­ чина имел модернизированную и даже американизированную внешность, “догонял и перегонял Америку”. Но Иван Яковлев встречал меня с распростертыми объятиями: “Чем могу вас пора­ довать сегодня?” Или: “У меня сегодня что-нибудь особенное!” — не очень грамотный, но все-таки приятный оборот речи. Прилич­ ного вида мужчина не сказал даже: “Что вам угодно?” — а просто: “Что вам тут?” И стал надвигаться на меня таким образом, что мне оставалось или напирать на него животом, или отступать к двери. Отступая, я задал вопрос о селедках и прочем. Приличного вида мужчина сказал категорически: “Мы сегодня товар учитываем, приходите завтра!” Я сказал, что есть хочу именно сегодня — зав­ тра, впрочем, тоже буду хотеть, — так что же я буду есть сегодня? Приличного вида мужчина сказал: “Ну, этого я не могу знать” — и захлопнул дверь перед самым моим носом. Я понял. Кровавый частник, хищник и эксплуататор — ис­ чез. На его место появилось бескровное, вегетарианское и про­ летарское — но все-таки начальство. У Яковлева я был потреби­ телем. У приличного вида мужчины я буду только просителем. Яковлев приветствовал во мне клиента. Приличного вида муж­ чина будет видеть во мне попрошайку. Яковлева, значит, лик­ видировали как класс. Приличного вида мужчины сейчас делят селедки его и о сосисках его бросают жребий. Останется ли хоть что-нибудь и на мою долю? Я вспомнил о втором эксплуататоре трудящегося и бюрокра­ тического населения Салтыковки — о купце Сидорове и пошел к нему. Двери его предприятия были заколочены и опечатаны. И на дверях висела краткая информация: “Закрыто” — почему закрыто и на сколько времени, не сообщалось. Меня охватило ощущение беспризорности, осиротелости. Пока был Иван Яковлев, я уж знал, что я не пропаду и голодать не буду. Он уж там как-то все это оборудует. Сейчас — только первый вечер без Яковлева, и мне уже нечего есть. Что будет во все осталь­ ные вечера моей жизни? Нет, гражданин Яковлев, при всей его политико-экономической безграмотности, был все-таки прав, добром это не кончилось. А может быть, и это еще не конец? 404 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Я лег спать голодным. Следующий мой служебный день я посвятил официально — обследованию московских спортпло­ щадок, неофициально — беготне по московским базарам. База­ ры были почти пусты. Вечером я снова зашел в ТПО. “Учет то­ варов” был, по-видимому, закончен. Товары были, очевидно, как-то планово перераспределены. Селедок не было вовсе. “У нас их по плану не заведено”, — сказал мне приличного вида мужчина. “А как их снова включить в план?” “А вы напишите куда следует”, — приличного вида мужчина сказал, куда имен­ но следует написать. Я написал. С тех пор прошло еще штук пять пятилеток, и до сих пор нет ни ответа, ни селедок. Потом исчезли сосиски. Потом исчезло вообще все. Опять какие-то лошадиные подковы. К зиме появилась партия соломенных шляп. Приличного вида мужчина смотрел на меня как на назойливого нищего. Потом мне на службе недо­ платили десять рублей жалованья и сказали, что это мой вступлительный взнос в ТПО. Я не протестовал. Потом у себя дома я нашел повестку на собрание пайщиков ТПО — с пометкой “явка обязательна”, — я не пошел. Потом — правда, в мое от­ сутствие — приличного вида мужчина зашел ко мне и оставил предписание явиться на субботник по разгрузке картофеля из вагонов в погреб — я снова не пошел. Потом, как-то позже, приличного вида мужчина, встретив меня на улице, принялся меня распекать: я -де на собрания не хожу, в тройках и пятерках не участвую, не интересуюсь кооперативной общественностью и саботирую заготовку и разгрузку картофеля. Но к этому моменту я уже распродавал свое последнее имущество в целях побега из плана в анархию, от кооперативов — к частникам, от эксплуатируемых — к эксплуататорам, от гнилой картошки — по крайней мере к колбасе. И вообще, от приличного вида мужчин — хоть к чертовой матери. В силу всего этого прилич­ ного вида мужчину я послал в столь литературно неописуемое место, что он испугался сразу. Откуда ему, бедняге, было знать, что мой конвульсивный и яростный порыв в свободу слова и сквернословия объясняется вовсе не моими связями с партий­ ной бюрократией, а моими планами побега от нее. Приличного вида мужчина стал любезен во всю меру своей полной неопыт­ ности в этом стиле обращения с людьми. Потом мы расстались. Надеюсь — навсегда. Диктатура импотентов 405 ОТРАЖЕНИЯ ПРИЛИЧНОГО ВИДА МУЖЧИНЫ Итак, анархический гражданин Яковлев исчез. По всей вероят­ ности, в Соловки или в какое-нибудь иное соответствующее место. Его предприятие перешло к приличного вида мужчине. Гражданин Яковлев был одним из миллионов тридцати частных хозяев Рос­ сии: крестьян, лавочников, рыбаков, торговцев, ремесленников, предпринимателей и прочих. Подавляющая часть этих хозяев стала государственными рабочими — как все крестьяне и ремесленники. Часть исчезла куда-то в Соловки. Какая-то часть ухитрилась пре­ вратиться в приличного вида мужчин. Приличного вида мужчины, как общее правило и как масса, выныривала откуда-то из задворков партии, из “социалистической безработицы” (период нэпа был периодом острой безработицы служащих и партийцев), на забытых людьми и товарами трущоб всяких ТПО, во время нэпа пребывав­ ших в состоянии торгового анабиоза. И одновременно с этим — около двухсот миллионов потребителей автоматически преврати­ лись в двести миллионов просителей. В мире свободной конкуренции высшим, безапелляционным, самодержавным законодателем был я, Иван Лукьянович Солоневич, Его Величество Потребитель Всероссийский. Это от мо­ ей державной воли, вкуса или прихоти зависели и торговцы, и банкиры, и рыбаки. Вот возлюбил я, Иван Солоневич, беломор­ скую селедку — и на Поморье возникают промыслы. Вот раз­ любил я ту же селедку — и на Поморье закрываются промыслы. Я диктовал свои неписаные законы и Яковлевым и Ротшильдам и мог купить селедку у Яковлева и акции у Ротшильда — но мог и не купить. И Яковлев стал Яковлевым и Ротшильд — Ротшильдом вовсе не потому, что у обоих оказались акульи зу­ бы эксплуататоров рабочего класса, а просто, автоматически просто потому, что Яковлев так же разумно и добросовестно торговал селедкой, как Ротшильд — акциями. Если бы акции Ротшильда оказались бы какой-то гнилью, как картошка при­ личного вида мужчины, — Ротшильд вылетел бы в трубу. При­ личного вида мужчина вылететь в трубу не может никак: за его спиной стоит великое общество страхования бюрократизма — всесоюзная коммунистическая партия. Ему, приличного вида мужчине, совершенно наплевать — и на качество картошки, и на мое пищеварение, и тем более на мои вкусы. Он застрахован вполне или, по крайней мере, думает, что застрахован вполне. 406 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Приличного вида мужчина имеет два отражения: одно — в декларациях, и другое — в его повседневности. Декларация го­ ворит об идее и энтузиазме. Или — с несколько другой сторо­ ны — о догматизме и фанатизме. Нужно твердить, твердить и твердить: ничего этого нет. Ни идеи, ни энтузиазма, ни догма­ тизма, ни фанатизма. Есть профессиональные интересы слоя, касты или банды, назовите как хотите, паразитирующей на убийственном хозяйственном строе. Строй — истинно убийст­ венный. Какое дело до этого приличного вида мужчине? Крепо­ стной строй был тоже истинно убийственный: какое дело до этого было владельцам дворянских гнезд и крепостных душ? В дворянских гнездах была своя декламация — о “ величии Рос­ сии”, в коммунистических ячейках есть своя — о величии рево­ люции и СССР как носителе революции. Крепостное рабство вело к упадку великую страну — социалистическое рабство ведет к тому же. Приличного вида мужчины — типа Льва Толстого и его героев — были озабочены этим так же мало, как приличного вида мужчина из ТПО и его сотрудники. Но: ни идеи, ни энтузиазма, ни догматизма, ни фанатизма не было ни в дворянских гнездах, ни в коммунистических ячейках. И там и там был грабеж — и больше ничего. И было туманное предчувствие конца этого грабежа. Именно от этого идет общая для гнезд и для ячеек ненависть. Мо­ жет быть, поэтому именно самая аристократическая часть русской эмиграции сейчас промышляет советским патриотизмом, а самая “рабоче-крестьянская” предпочитает самоубийство возвращению в патриотические объятия советов? Революционные процессы отражаются в декламации и в фило­ софии. Повседневный быт революции проходит вне внимания и декламации и философии. Но именно он определяет все. В три­ дцати миллионах хозяйственных ячеек страны развивается прибли­ зительно одна и та же профессия: замены капиталиста, предприни­ мателя, представителя анархической частной инициативы — муж­ чинами приличного вида, а иногда и вовсе неприличного вида. Итак, капиталист Яковлев сломан и выброшен за борт жизни. В свое время он покупал селедку, перевозил селедку, хранил селедку и продавал селедку. Он богател или разорялся — но это касалось только его самого. Если он воровал — то только у себя самого. Ес­ ли он пропивал — то только свои собственные деньги. Если он не умел торговать — то он платил своими собственными убытками. Сейчас он исчез. На его место появился приличного вида мужчи­ на. И появились совершенно новые линии хозяйственного разви- Д и ктатура им п отен тов 407 В среднем следует предположить, что приличного вида муж­ чины — люди как люди, не хуже и не лучше других, — на прак­ тике они все-таки хуже. И что, управляя не своим собственным имуществом, они должны как-то контролироваться. Нужно иметь в виду: советский кооператив не есть кооператив. Нор­ мальная кооперация есть результат сложения некоей суммы ча­ стных собственников — совершенно так же, как и любая акцио­ нерная компания: где-то, в конечном счете, сидит частный соб­ ственник пая или акции. Советская кооперация есть государст­ венное предприятие, регулируемое общегосударственным пла­ ном и поэтому подчиненное общегосударственной бюрократии. Потому на другой же день после исчезновения Яковлева, а мо­ жет быть и в тот же день, на всемирно-исторической сцене по­ являются такие до сего времени не отмеченные мировой фило­ софией термины, как усушка, утруска, утечка и прочие синони­ мы воровства. Никогда в моей социалистической жизни — и в России и в Германии — мне не удавалось купить фунт сухого сахара. Он принимается магазином в сухом виде. В магазине он таинственно набухает водой, и эта вода продается покупателю по цене сахара. Разницу менее таинственным образом потребля­ ют мужчины приличного вида — конечно, за мой счет. Техника государственной торговли выработала неисчислимое количество методов планового и внепланового воровства. Если предоста­ вить этому воровству полную свободу рук, то все будет разворо­ вано в течение нескольких недель, а может быть и дней. Нужен контроль. По всему этому над тем местом, где раньше беспла­ ново и бесконтрольно хозяйничал мой Яковлев, вырастает мас­ сивная пирамида: а) бюрократия планирующая; б) бюрократия заведующая; в) бюрократия контролирующая; г) бюрократия су­ дящая и д) бюрократия расстреливающая. Появилась также не­ обходимость всю эту бюрократию как-то кормить. Техника кормления этой бюрократии — как и всякой бюрократии в ми­ ре — распадается на две части: официальную и неофициальную. Официальная выражается в “ставке”, неофициальная — во всех видах утечки, усушки, утряски, взятки, смазки, блата и прочих труднопереводимых синонимов воровства. Фактически потери национального хозяйства никак не ограничиваются теми день­ гами и товарами, которые разворованы бюрократией. Самые страшные потери — это бюрократические тормоза, навьючен­ ные на всякую человеческую деятельность в стране. Моя Салтыковка была маленьким подмосковным пригородом. Ее кооператив — ТПО — был, так сказать, микроскопом всего со­ Солоневич И.Л. Наша страна. XX век циалистического хозяйства. Это была одна из миллионов тридцати клеточек великого социалистического организма. То, что происхо­ дило в ней, происходило и в остальных тридцати миллионах. Что же происходило в ТПО и что не могло не происходить? Имейте в виду: не могло не происходить. Мне, в нашу эпоху министерств пропаганды и вранья, было бы наивно рассчитывать на доверие читателя к фактической стороне моего повествования. Но, может быть, у читателя окажется доверие к своему собственному здраво­ му смыслу, а также и к своему жизненному опыту. Салтыковка была микроскопом СССР. Каплей, в которой отра­ жалось все величие Союза Социалистических Республик. Или — несколько иначе — тем “изолированным государством”, на гипоте­ тическом примере которого немецкий гелертер Тюнер пытался анализировать законы земельной ренты. В Салтыковке была своя партийная организация — мировая революция интересовала ее ма­ ло: здесь масштабы сводились к выпивке и закуске. Был свой от­ дел НКВД. Был свой отдел Госплана. Была комсомольская ячей­ ка — словом, было все то, что полагается. Я не подсчитал того процента, который в Салтыковке занимала бюрократическая часть ее населения, но я полагаю, он никак не был меньше, чем в окку­ пационных зонах Германии. И всякая дробь этого процента хотела и выпить и закусить. Выпивка же и закуска находились под храни­ тельным попечением приличного вида мужчины. Каждая человеческая группа, раз сорганизовавшись, склонна к некоей обособленности. Если никаких социальных и прочих осно­ ваний для этой обособленности нет, изобретаются совершенно случайные — вот вроде немецких студенческих корпораций. Со­ вершенно естественно, что группа людей, проживавших в Салты­ ковке и объединенных партией, бюрократизмом, привилегирован­ ностью и прочим — рассматривала себя как некий правящий слой четырех-пяти тысяч рядовых салтыковских обывателей. В числе этой правящей группы был и приличного вида мужчина. Приличного вида мужчина оказался распорядителем предпри­ ятия, которое не он создал и в котором он или понимал мало, или не понимал вовсе ничего. Ибо если бы он понимал, скажем, столь­ ко же, сколько понимал мой покойный Иван Яковлев, то он и был бы предпринимателем, а не бюрократом. Купцом, а не чиновни­ ком. Акулой капитализма, а не сардинкой партии. Было бы слиш­ ком наивно предполагать, что в эпоху нэпа приличного вида муж­ чина продавал подковы, скэтинги и прочее — только потому, что он уже тогда предвидел судьбу Яковлева или что у него было некое идейное отвоашение к частнособственническим методам эксплуа­ Диктатура импотентов 409 тации селедки. Может быть, такие идейные мужчины где-то и бы­ ли. Но в обшей массе их в расчет принимать никак нельзя. Мой кооператор не понимал ничего. Однако если бы он и понимал, то это никак не меняло бы дела. В области спорта я могу считать себя понимающим человеком. И это не помогало никак. Таким обра­ зом, некомпетентность приличного вида мужчины является только осложняющим фактором общего развития. Для того чтобы не быть обвиненным в ненаучности, я буду ис­ ходить из лучшего случая — из предположения, что приличного вида мужчина есть мужчина компетентный и добросовестный. Я имею некоторое основание утверждать, что в моей спортивной об­ ласти я был и компетентен и добросовестен. Однако на практике оба эти качества оказываются только отрицательными. Если бы я был некомпетентен, то директиву о формировании женских фут­ больных команд я стал бы проводить в жизнь, просто не зная, ка­ кие именно последствия для женского организма будет иметь этот вид спорта. Если бы я был компетентен, но недобросовестен, я бы на эти последствия наплевал. Если бы приличного вида заведую­ щий кооперативом был бы компетентным человеком — то он не мог бы не войти в целый ряд коллизий с окружающим его миром партийно-торговой бюрократии, ибо этот мир по необходимости формировался из людей, кроме партии не знавших ровным счетом ничего — иначе они и раньше были бы профессиональными тор­ говцами, а не профессиональными революционерами. Если он, зав, был бы человеком добросовестным, то, находясь в окружении привилегированного слоя, касты или банды, он на своем месте не мог бы удержаться ни одной недели. Кроме того, сочетание компе­ тентности и добросовестности будет более или менее автоматиче­ ски вызывать в человеке некие позывы к проявлению личной ини­ циативы. Личная инициатива — также более или менее автомати­ чески, вызовет ряд коллизий с планом, с директивами партии, с ее классовой политикой, с методами действия тайной полиции, с за­ прещением, например, снабжать хлебом детей, родители которых были лишены избирательных прав (“лишенцы” — по советской терминологии). Или, иначе: сочетание профессиональной компе­ тентности с моральной добросовестностью и с полным и безогово­ рочным признанием всех директив партии если и встречается в этом мире, то только в виде исключения. На исключениях ника­ кой работающей системы строить нельзя. Я хочу еще раз отделаться от всяких обвинений в каком бы то ни было догматизме и в каких бы то ни было философских пред­ посылках. Нет никакого сомнения в том, что в целом ряде случаев 410 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век хозяйственные предприятия, основанные на коллективистских принципах, работали, по крайней мере, не хуже всяких других. Монастырские имения католических и православных монахов бы­ ли в свое время носителями и сельскохозяйственной и прочей культуры. Огромные латифундии католической Церкви в целом ряде стран и сейчас, по-видимому, работают совсем неплохо. Очень неплохо работали русские и германские государственные железные дороги — по-видимому, при каких-то, мне неизвестных, условиях общественные предприятия проявляют по меньшей мере достаточную степень жизнеспособности. С другой стороны, еще более бесспорен тот факт, что все попытки создать человеческие общежития, построенные на коллективистических началах, прова­ лились самым скандальным образом — начиная от платоновских коммун и кончая толстовскими; ниже я перечисляю эти попытки. Та отрасль современной схоластики, которую мы именуем полити­ ческой экономией и прочими производными, до сих пор не поста­ ралась установить те условия, при которых имения братьев-бенедиктинцев процветали и при которых фаланстеры товарищей фурьеристов провалились. Вероятно, условий этих очень много. Одно из них, вероятно, сводится к тому, что в монастыри шел ка­ кой-то отбор, в фаланстеры шли какие-то отбросы. Но, может быть, не следует идеализировать и братьев-бенедиктинцев: они в свое время были освобождены от всяких налогов. Может быть, не следует переоценивать и казенных дорог в России: частные все-та­ ки давали большую прибыль. Повторяю: мы этого не знаем. Нас этому не учили. Этим наука не поинтересовалась. Я склонен утверждать, что в российскую коммунистическую партию шли почти исключительно отбросы. В германскую нацио­ нал-социалистическую — шли главным образом отбросы, но уже не исключительно. Моральный состав германской партии был, не­ сомненно, выше русской. Может быть, отчасти именно поэтому внутрипартийная немецкая резня не приняла таких ужасающих размеров, как русская, и хозяйственные последствия нацизма в Германии не имели такого катастрофического характера, как в России. В России социалистическое хозяйствование оказалось сплошной катастрофой. Приличного вида мужчина мог оказаться человеком компетент­ ным и добросовестным. Однако совершенно очевидно, что если в стране происходит насильственная замена тридцати миллионов ча­ стных предпринимателей десятком миллионов приличного вида мужчин, то такого количества компетентных и добросовестных лю­ дей не может выделить никакая бюрократия мира. И с другой сто- Диктатура импотентов 411 роны, никакой бюрократический аппарат не может быть построен на доверии к компетентности и добросовестности его сочленов. Аппарат должен быть построен на контроле. Если дело идет о поч­ товых марках, которые не подвергаются ни усушке, ни утечке, ни порче, ни колебаниям в цене, ни влияниям общественной моды или личных вкусов, — этот аппарат работает. Если дело идет о се­ ледке — аппарат просто перестает работать. Селедка обрастает контролем. Одновременно с селедкой таким же контролем обрас­ тает и каждый сноп. Становится меньше и селедки и хлеба. Стано­ вится больше соблазна украсть. Приказчик каждого гастрономиче­ ского магазина считал себя вправе съесть хозяйскую селедку — и Иван Яковлев признавал за ним это право: это был быт. Прилич­ ного вида мужчина — в особенности когда селедок стало мало — тоже ими не брезговал. Но если он имел право на селедку, то по­ чему не имел такого же права и другой — уже контрольного вида мужчина? И — если селедок оказывалось мало и они становились предметом “распределения”, то совершенно естественно, что пре­ имущественное право на это распределение получал, скажем, сек­ ретарь салтыковской партийной ячейки. Но в Салтыковке, как я уже говорил, существовала целая коллекция местного начальства — “партийная головка”, по советской терминологии. Приличного ви­ да мужчина зависел не только от своего вышестоящего партийного и кооперативного начальства, но также и от местной партийной головки. И если к нему приходил или ему присылал записку на­ чальник местной милиции, жаждавший и выпивки и закуски, то приличного вида мужчина не мог отказать. Конечно, у него были все юридические основания для отказа. Но не одними юридиче­ скими основаниями жив будет человек, социалистический в осо­ бенности. План вызывает террор. Террор вызывает бесправие. Зав. коопом в сущности имел так же мало прав, как имел их и я. Лю­ бой соседствующий бюрократ мог его или съесть, или посадить, или просто подвести. Акт об антисанитарии. Донос о партийном уклоне. Жалоба на нарушение классовой линии в раздаче селедок. Арест (“до выяснения”) по обвинению в саботаже и вредительстве. Заметка в местной газете о посещении церкви или непосещении комсомольских собраний. Ну и так далее... В каждой общественной фуппе происходят некоторые деяния, которые обозначаются несколько неопределенным термином “ин­ трига”. Для советского быта этого термина оказалось недостаточ­ но. Был выбран ряд синонимов: склока, буза, гнойник, кружков­ щина — их все равно ни на какой язык перевести нельзя. Все эти варианты интриги опутывают приличного вида мужчину с головы 412 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век до ног — как они опутывали и меня. Но я, ни при каком усилии воли, не мог украсть футбольной площадки — да никакому бюро­ крату она и не была нужна. У приличного вида мужчины лежат се­ ледки, их можно украсть, и они всем нужны. Так что приличного вида мужчина — хочет ли он этого или не хочет, вынужден всту­ пать в какие-то сделки с совестью, селедкой и секретарем партий­ ной ячейки. И в обратном направлении: секретарь партийной ячейки был вынужден вступать в сделки с селедкой, приличного вида мужчиной и даже с совестью в тех редких случаях, когда она существовала. Или, проще, бюрократический контроль над бюро­ кратическим аппаратом повторял всемирно-историческую попытку барона Мюнхгаузена вытащить самого себя из болота — в данном случае бюрократического. Да еще и с лошадью — в данном случае “трудящейся массой”. Барону Мюнхгаузену, если верить его сло­ вам, это удалось. Советская власть даже и не врала об удаче. Во всяком случае, каждая национализированная и социализиро­ ванная селедка и сосиска, фунт хлеба и пара брюк стали обрастать и контролем и воровством. Но чем крупнее контрольный аппарат, тем больше воровства — контролеры тоже любят селедку. Тогда — с некоторым опозданием — советская социалистическая власть вспоминает обо мне, трудящемся, потребителе, пролетарии, массе и прочем. И власть говорит мне: “Вот видите, товарищ Солоневич, государство у нас рабоче-крестьянское, но с бюрократическим из­ вержением — это формулировка В. Ленина. Идите княжить и вла­ деть контролем. Контролируйте бюрократов, волокитчиков, загиб­ щиков, головотяпов, аллилуйщиков, очковтирателей — список этих синонимов можно бы продлить еще строчки на две-три. Иди­ те и контролируйте”. Я не иду. И никто из приличных людей не идет. Во-первых, по­ тому, что ни я, ни врач, ни сапожник, ни монтер решительно ни­ чего в этом не понимаем. Во-вторых, потому, что у нас есть и свои собственные и профессии и дела. В-третьих, потому, что, будучи среднетолковыми людьми, мы понимаем совершенно ясно: ничего путного выйти не может. Я вернусь к моей собственной бюрократической деятельности. Итак, я руководитель спорта при Центральном совете профсоюзов. Я — один из винтов бюрократической машины, которая решитель­ но никому вообще не нужна. Из всего того, что я делаю, процен­ тов девяносто пять не имеет абсолютно никакого смысла. Осталь­ ные пять процентов — при нормальном положении вещей — спортсмены организовали бы и без всякой помощи с моей сторо­ ны. А также и без того “плана”, который я призван составлять, Диктатура импотентов 413 предписывать и проверять. Моя спортивная служба ввиду всего этого была почти на все сто процентов чепухой. Она никому не была нужна. Если я все-таки кое-что сделал — то только во вне­ служебном порядке: вот писал книги о том, как нужно подымать гири или заниматься гимнастикой. Но все-таки мое бюрократиче­ ское существование не было безразличным. Я не мог помочь ниче­ му. Но я очень многое мог испортить. Мои планы никому не были нужны — как планы Госрыбтреста не были нужны никакому Яковлеву. Но уже приличного вида муж­ чина ничего не имел права сделать без плана, иначе что же остает­ ся от самого принципа планирования? Любой лыжный кружок страны мог достать лыжи и ходить на них, решительно без всяких плановых указаний с моей стороны — но он на это не имел права, ибо, опять-таки, какой же иначе план? Я был тормозящим факто­ ром в развитии русского спорта, как и Госплан — в развитии рус­ ского хозяйства. Но я, по крайней мере, старался не быть тормо­ зом. Мой спорт подвергается такому же контролю, как и коопера­ тивная селедка. Нормальный бюрократический аппарат контроля состоит из планирующих и контролирующих органов данного ведомства, из партии, рабоче-крестьянской инспекции, милиции и, как ультима рацио регс, — из ОГПУ-НКВД. Есть еще и кое-какие промежуточ­ ные звенья, Все это оказывается недостаточным. Власть обращает­ ся к трудящимся: “Спасайте, кто в Маркса верует!” — Власть орга­ низует из трудящихся дополнительный контроль — “обществен­ ный контроль”, как он называется в СССР. Само собою разумеет­ ся, что и этот “общественный контроль” подчинен и партии и плану — иначе какая же диктатура и партии и плана? Гениаль­ ность всего этого торможения заключается в идее, чтобы я контро­ лировал всех и все контролировали меня. Или, иначе, чтобы я шпионил за всеми и все шпионили за мной. Итак, я составил свои планы и “директивы”. Обливаясь потом, я протащил их через все нормальные бюрократические инстанции. Я должен “спустить их в низовку”, и низовые спортивные органи­ зации получат право планово кататься на лыжах. В это время ко мне приходят комиссии общественного контроля — “легкая кава­ лерия”, как их называют в СССР. Их много, а я один. У них есть время, у меня его нет. Их время, потраченное на контроль, естест­ венно, оплачивается как рабочее время, и комиссиям приятнее контролировать спорт, чем стоять за станком. Но еще приятнее, конечно, контролировать селедку. Они копаются в моих планах и директивах и делают разные совершенно идиотские замечания — 414 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век все не совершенно идиотские уже были сделаны в нормально бю­ рократических контрольных инстанциях. Я не могу работать, лыж­ ники не имеют права кататься на лыжах, комиссии приходят одна за другой — и ни единой из них я не имею права спустить с лест­ ницы или выбросить в окно. Но — я заведую спортом. Я ничего не могу украсть, и мне не­ чем дать самой завалящей взятки. Поэтому в моем случае все это кончается более или менее мирно. Контрольная биография селед­ ки кончается гораздо более трагически... Во всяком обществе имеется некоторый процент беспокойных людей, которые любят соваться не в свое дело — главным образом потому, что в мире нет никакого дела, которое они могли бы на­ звать своим. Художественное обобщение такого типа вы можете видеть в любом цирке. Это именно он старается помогать всем, всем мешает, всем лезет под ноги, получает по морде и удаляется за кулисы. Именно из этой общественной прослойки вербуется всякого рода общественный контроль. Обнаружив воровство в предприятии приличного вида муж­ чины, общественный контроль обращается в милицию. Мили­ ция составляет протокол. Неохотно, но все-таки составляет. Особенной охоты ей взять неоткуда. Во-первых, потому, что приличного вида мужчина, как правило, состоит членом правя­ щей партии. Во-вторых, потому, что с ним у милиции устано­ вились более или менее дружественные отношения. В-третьих, потому, что милиция, составляя часть правящего слоя в стране и правящей группы в Салтыковке, никак не лишена известной групповой или кастовой солидарности. В-четвертых, потому, что подвергшаяся злоупотреблению селедка была съедена при соучастии той же милиции. Или если и не данная селедка, то ее ближайшая родственница. Кроме того, милиция не без некото­ рого основания будет предполагать, что наш общественный контроль сегодня сунул свой непрошеный нос в кооперативные дела, а завтра, может быть, сунет и в милицейские. Но протокол все-таки составлен. Начинается следствие, и начи­ наются первые контрольные разочарования. Протокол передается в прокуратуру. Прокуратура вызывает кон­ тролера. Прокуратура передает дело в суд — контролер вызывается в суд в качестве свидетеля. Не всегда, но очень часто одновремен­ но с прокуратурой и судом делом занимается и НКВД: нет ли в кооперативе, кроме уже раскрытых злоупотреблений, еще и нерас­ крытых. Вызовы в прокуратуру и в суд, как общее правило, не вле­ кут за собою решительно никаких неприятностей. Потеря времени Диктатура импотентов 415 оплачивается органами социального страхования, и при некоторой административной ловкости таким способом можно увиливать от работы целыми неделями. Но когда вас вызывают в НКВД, то ни вы, ни ваша семья никогда не знает, в чем тут дело, чем оно пах­ нет и вернетесь ли вы домой или не вернетесь. В подавляющем большинстве случаев наш контролер возвращается домой вполне благополучно. Потом наступает суд. Подсудимый, приличного вида мужчина, и его защитник, естественно, будут стараться всячески опорочить каждого свидетеля обвинения, каким в данном случае является наш контролер. Методы опорочивания, как и во всяком суде, мо­ гут быть весьма разнообразны. В советском суде самое простое — это подрыв политической благонадежности свидетеля. Всегда мо­ жет быть поставлен вопрос: не заключается ли в деяниях контролера-свидетеля не столько желание проявить свою пролетарскую бдительность, сколько желание подорвать авторитет власти, партии и социализма вообще? ...В годы “новой экономической политики” в Москве издавался журнал “Чудак”. Это был партийный журнал. Его редактировал Михаил Кольцов, соредактор “Правды”, член партии и вообще са­ мый крупный (тогда!) журналист Советского Союза. Последняя страница одного из номеров “Чудака” была посвящена фотографи­ ческому отчету о таком происшествии. У некоего ленинградского жителя, товарища Иванова, комисса­ риат социального обеспечения незаконно отобрал всю его мебель. Товарищ Иванов обратился к товарищу Сидорову, комиссару этого комиссариата: помещена фотография товарища Сидорова. Това­ рищ Сидоров товарищу Иванову отказал наотрез. Товарищ Иванов обратился к районному партийному комиссару — товарищу Петро­ ву (помещена фотография товарища Петрова!). Товарищ Петров сказал, что все это, собственно, касается прокуратуры и ему, това­ рищу Иванову, следует обратиться к прокурору товарищу Павлову (помещена фотография товарища Павлова!). Таким способом това­ рищ Иванов обошел одиннадцать комиссаров. Предпоследний ска­ зал, что нужно обратиться к самой высшей партийной инстанции Ленинграда — к секретарю Ленинградского комитета партии. Това­ рищ Иванов направился к этому секретарю. Но пока он обходил всех указанных и фотографически отмеченных товарищей, това­ рищ Сидоров — бывший комиссар социального обеспечения, ус­ пел стать секретарем Ленинградского комитета партии. Круг был замкнут. “Чудак” был закрыт. Несколько позже его редактор Ми­ хаил Кольцов исчез неизвестно куда. 416 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век Михаил Кольцов был старым партийным пройдохой. Но спо­ ткнулся и он. Какие шансы не споткнуться имеются на вооруже­ нии среднего активиста? Защитник приличного вида мужчины будет исследовать по­ литическое прошлое свидетеля. В подавляющем большинстве случаев оно совершенно безупречно: на контролерские подвиги могут идти только заведомые идиоты. Но защита также поинте­ ресуется и настоящим свидетеля: не занимается ли и он сам операциями по покупке черного хлеба на черном рынке? И не заключается ли в его гражданском подвиге элемента склоки, бу­ зы и прочих советских синонимов понятия “интрига"? И не яв­ ляется ли выступление свидетеля “вылазкой классового врага”? При не вполне удачных ответах на все эти вопросы можно пе­ ресесть со скамьи свидетелей на скамью подсудимых. Но это, повторяю, случается сравнительно редко. Дальше, однако, происходят вещи, которые не могут не про­ изойти. Итак, наш приличного вида мужчина получил свое за­ конное возмездие за воровство, растрату, бесхозяйственность, головотяпство, саботаж, срыв плана, кумовство и прочее в этом роде. Он попадает в тюрьму. Наш контролер остается в той же Салтыковке. В ней же остаются и все остальные партийные и беспартийные друзья, товарищи и собутыльники приличного вида мужчины. Каждый из них по мере своей возможности по­ старается запомнить физиономию контролера: вчера он подвел заведующего кооперативом, сегодня он может подвести другого сочлена правящей “головки". В видах самой элементарной са­ мозащиты контролера нужно заблаговременно съесть. Методы социалистического съедения так же разнообразны, как социалистические синонимы понятия воровства и интриги. Среди них есть совершенно простые и действующие без всякого промаха. Например: в Салтыковке имеется электростанция. В эпоху капиталистической анархии она где-то там закупала дрова и снабжала нас всех током. Потом дрова были включены в план. Станция перестала работать — как и другие соответствую­ щие станции. Спрос на керосин возрос — но и керосина стало меньше, как и других соответственных спланированных жиз­ ненных благ. В Салтыковку керосин по плану не попадал. В Москве его хотя и с трудом, но можно было купить. Провоз ке­ росина по железной дороге запрещался по двум соображениям: борьба с черной торговлей и пожарная опасность. Но, разумеет­ ся, вся Салтыковка покупала керосин в Москве: не сидеть же в потемках? Покупал его и наш контролер. Так что милиции бы- Диктатура импотентов 417 ло совершенно достаточно порыться в портфеле нашего контро­ лера — и отправить его туда же, куда его усилиями был только что отправлен приличного вида мужчина. Для того чтобы взва­ лить себе на плечи все эти бремена и опасности, нужна или святость души, или несколько эмбриональное состояние мозгов. В первые годы существования Союза Социалистических Рес­ публик Дон-Кихоты еще водились. Потом они вымерли. И ес­ тественной и, еще больше, неестественной смертью. Остался беспокойный и совершенно бестолковый элемент, одержимый неким общественным зудом и кое-какими надеждами на начало кое-какой административной карьеры. Этот элемент гибнет, как мухи на липкой бумаге, но это не останавливает других му­ шиных полчищ: вот ведь видят же, что их ближайшие подруги и родственницы увязли насмерть, и все-таки жужжат и липнут к любому бюрократу или ворующему — или, что случается реже, не ворующему. На партийно-активистском кладбище липкой бумаги уже погибли такие экземпляры, как Троцкий и Кольцов, Бухарин и Ягода — а десятки и сотни тысяч и миллионы новых аспирантов на тот свет так и льнут к соблазнительной поверх­ ности революционно-административной деятельности. Муравь­ иное общество, говорят, устроено лучше человеческого. Не знаю, я там не жил. Но умственные способности некоторых групп человечества никак не выше мушиных. В этом, как и во всякой революции, есть своя самоубийствен­ ная сторона: люди гибнут сами. Но еще живя и еще жужжа, они не дают жить никому другому. Они придают всему общественному строю характер какого-то мелкого, назойливого, повседневного беспокойства. В данном строе есть и свои трагические стороны. Но есть и свои надоедливые. Общественный контроль относится именно к ним. Но он не помогает, и он не может помочь. Нельзя поднять за косу самого себя. Нельзя бороться с бюрократией путем ее дальнейшего раз­ множения. Нельзя рассчитывать на то, что подонок, пришедший править и жрать, даст другому подонку возможность вырвать из своего рта и власть и жратву. ГИБЕЛЬ СЕЛЕДКИ Так были подавлены и потребитель, и посредник. Научный со­ циализм последнего столетия, начиная примерно с Маркса, воз­ двиг свои алтари богу Производства. Производство стало самоце­ лью, в особенности военное производство. Его терминология теря­ 418 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век ет хозяйственный характер и приобретает воинственно-геро­ ический, и на русском и на немецком языках. Штурмы перемежа­ ются с прорывами, и компании ведут к победам. Появляются “ге­ рои труда” и "дезертиры трудового фронта”. Ударники награжда­ ются боевыми орденами и ударные отряды — боевыми знаменами. Соответственно подвергаются расстрелу шпионы, диверсанты и вредители трудовых тылов. Производство — это героизм. Потреб­ ление — это мещанство. Потребление — это только неизбежная уступка человеческой слабости, только, к сожалению, необходи­ мый расход на “воспроизводство рабочей силы”. Обе законченные социалистические системы пытаются создать психологию бойца, которому безразлично, что он ест, во что он закутан, где он спит, бойца, который давно забыл, что у него есть дом, семья, жена, де­ ти и который одержим только одним порывом: сложить свою ге­ роическую ударную голову на штурме твердыни тяжелого машино­ строения. Это — психология войны. Войны за мировую револю­ цию в СССР и за мировую власть — в Германии. Во всяком случае, и потребление и потребитель рассматрива­ ются так, как средневековый аскетизм рассматривал брак: не­ приятное вмешательство природы в божественный план самооскопления. Теоретики геройствующего социализма упустили из виду то обстоятельство, что если в мире существует потребле­ ние без производства, то производство без потребления есть ло­ гический абсурд. Евангельские птицы небесные потребляют, но не производят. Канарейки социалистического рая производят, но потребляют только в меру “воспроизводства рабочей силы”, иногда даже и ниже этой меры. Производство, лишенное сти­ мула личного потребления и накопления, личного интереса и личной инициативы, постепенно создает чрезвычайно странный хозяйственный быт, очень путано и капризно разделенный на две части: легальную и нелегальную. Трудящийся легально тру­ дится на заводе и легально получает паек, на который явствен­ но жить нельзя. Но так как он все-таки хочет жить, то настоя­ щая хозяйственная жизнь, искалеченная и нищая, влачит свое существование где-то в нелегальном подполье. Именно там, в мире хронической хозяйственной преступности, создаются потребительские хозяйственные блага, почти незримые для полиции и совершенно незримые для статистики. Есть легаль­ ное хозяйство власти — для ее дальнейшей борьбы за власть, и есть преступное хозяйство, кое-как покрывающее питекантропский жизненный уровень подневольных строителей невыразимо прекрасного будущего. Диктатура импотентов 419 Я боюсь, что хозяйственный Унтервельт нынешних социали­ стических режимов не найдет решительно никакого отражения в трудах будущих социологов: он не оставит после себя ни ста­ тистики, ни цитат. Только в полицейских протоколах, в судеб­ ных приговорах, в мелкой уголовной хронике сегодняшних дней останутся кое-какие следы тех хозяйственных процессов, благодаря которым люди все-таки не окончательно помирали с голоду, и если и помирали, то все-таки не все. Сейчас в запад­ ных оккупационных зонах Германии легальный паек временами падал до шестисот калорий в день. Шестьсот калорий — это го­ лодная смерть. Но люди все-таки с голоду не умирали. Комис­ сия английских парламентариев, обследовавшая летом 1947 года британскую оккупационную зону, сообщила, что, по ее дан­ ным, только от пяти до десяти процентов населения питается только легальными калориями. Я склонен предполагать, что на легальных калориях не сидит даже и одного процента. Но я не буду спорить и против десяти. И не стану задавать вопроса: ка­ кой смысл сковывать бюрократическими кандалами все сель­ ское хозяйство страны для того, чтобы кое-как выжать из него шестьдесят или восемьдесят калорий, которые все равно нико­ му не нужны? И был ли хоть какой-то человеческий смысл в декрете, датированном летом 1945 года: вырубить все плодовые сады, чтобы дать место для будущей картошки? Или топить гер­ манский рыбачий флот? Или взрывать фабрики искусственного удобрения? Или запрещать полутора миллионам “ди-пи” разво­ дить огороды и свиней? Или прерывать доступ рабочей силы к сбору урожая? Все эти вопросы кощунственны с точки зрения любого плана. Все это вопросы, на которые, я знаю, никакого ответа не будет. Ибо — кто мог бы дать ответ? Для автора всех этих декретов, планов, запретов, лицензий и прочего ответ оз­ начал бы прямое или косвенное признание в том, что они, ав­ торы, или бюрократы или дураки. Но как мы уже установили — нет в мире мужчины, который признался бы или в бюрократиз­ ме, или в глупости. Всякий из них будет ссылаться на “план”, преподанный ему свыше и разработанный на низах во всю меру бюрократизма или идиотизма данной страны и эпохи. В силу всех этих обстоятельств нормальный производитель и нормальный потребитель — или, точнее, тенденция к нормальному производству и нормальному потреблению — становится достояни­ ем уголовно-хозяйственного дна. Вся страна становится преступ­ ной — ибо никто не живет на шестьсот калорий, и никто не хочет умирать на шестистах калориях. Перед всяким туземцем социали­ 420 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век стической Огненной Земли встает дилемма: преступление или смерть. Немногим счастливцам удается эмигрировать куда-нибудь, хотя бы на Землю Чертовой Матери. Но остальные остаются и со­ вершают преступления. Перед окружавшим меня немецким населением я имел то пре­ имущество, что я являюсь рецидивистом с 1917 года. До 1917-го я жил по библейскому завету: в поте лица своего ел хлеб свой. С 1917 года я ел его в кабаке чужих планов: советского, нацистскою и оккупационного. Я не мог ничего другого. И другие люди тоже ничего другого не могут. Недавно на стенках Гамбурга появился первый разумный плакат: “План — это наша смерть”. Плакат при­ надлежит какой-то новой немецкой партии. Это, кажется, первый проблеск человеческого разума на европейских территориях. И он, конечно, будет задушен бюрократией. Ибо если для меня план — это смерть, то для бюрократии план — это жизнь. Так и стоим мы оба — я и бюрократ. И между нами никакого примирения быть не может. Кто-то из нас должен исчезнуть с лица земли. Но если исчезнет бюрократ, то у него есть шансы возродиться к новой, обычной, библейской человеческой жизни и есть хлеб свой в поте лица своего, а не в чернилах планов своих. Но если побе­ дит план — то у меня нет никаких шансов. Мне придется или помереть, или и дальше влачить преступное свое существова­ ние, питаясь объедками от плановых пиршеств или воруя у себя самого мой собственный хлеб. В юридической практике Советской России 1920 года и сле­ дующих лет появился новый термин: “парикмахер”. Это термин не имел никакого отношения к стрижке волос: это была стриж­ ка колосьев. План коллективизации сельского хозяйства казался теоретически неоспоримо разумным. В самом деле: если заме­ ним тридцать миллионов разрозненных мелких отсталых кре­ стьянских хозяйств тремястами тысяч крупных, организован­ ных, специализированных, научно руководимых — то вот, про­ изойдет то-то и то-то. Я не буду пытаться пересказывать содер­ жание десятков тысяч томов, посвященных преимуществам крупного социалистического хозяйства. Потом наступили “па­ рикмахеры” — коллективизированные крестьяне пробирались по ночам на свои собственные поля и там ножницами или но­ жом срезывали свои собственные колосья. Был введен закон об охране “священной социалистической собственности” . “ Парик­ махеры” получали свои стандартные десять лет заключения в концентрационном лагере. Количество хлеба в России от этого не увеличилось ни на один фунт. Диктатура импотентов 421 В киевской советской газете “Радянська Украина” от 19 липня 1947 (сорок седьмого) года мне попался целый столбец судебных отчетов: “За кражу колосьев на колхозном поле колхозница Алек­ сандра Никулъ приговорена к восьми годам концлагеря; за кражу колосьев в колхозе «Путь к социализму» колхозник Полтавец при­ говорен к тем же восьми годам. Колхозница Олишевская за кражу двух центнеров колосьев приговорена к десяти годам, колхозник Перепечный за кражу тридцати пяти килограмов колосьев — к восьми годам”, и так далее. Это есть документ. Итак, русские крестьяне, и, главным обра­ зом, русские крестьяне, снабженные социалистической властью та­ кими усовершенствованиями, как тракторы и комбайны, реали­ зующие “невиданный в истории страны подъем сельского хозяйст­ ва”, ходят по ночам на поля — на свои собственные поля — и там крадут колосья. Юридически они совершают преступление. Техни­ чески они возвращаются к истине “мотыжного хозяйства”. Следо­ вательно, легальный комбайн дает меньше, чем нелегальные нож­ ницы. И преступный образ действия — больше, чем легальный. Совершенно ясно: на кражу колосьев люди могут идти только в случае крайней нужды. Сейчас эта крайняя нужда может быть коекак объяснена войной. Но закон об охране “священной социали­ стической собственности” был издан за семнадцать лет до начала войны: 7 августа 1934 года. Значит, уже за семнадцать лет до вой­ ны в русской деревне создались такие правовые и хозяйствен­ ные отношения, при которых русский крестьянин, технически перепрыгнув через эпоху комбайна, жатки и даже серпа, стал собирать свой урожай ножницами или ножом. И такие право­ вые отношения, когда перед ним стал выбор: или голод или преступление. В Германии и в СССР 1947 года это все могло бы быть объяснено результатами войны, если бы то же самое не происходило и до войны. Следовательно: будет ли социализм декретирован советом на­ родных комиссаров СССР на основании марксистской философии, или будет постепенно вводиться немецким фюрером на основании гегелевско-фихтеевской, или возникнет в результате автоматиче­ ской бюрократизации страны — он неизменно и неизбежно приво­ дит к одному и тому же: часть хозяйственной деятельности, без ко­ торой человеку физически невозможно прожить, уходит в подпо­ лье, в преступление, в риск свободой и жизнью. Но человеческую жизнь поддерживает только она: шестьсот калорий оккупационных зон или фунт хлеба на “трудодень” советских колхозов или те же карточки, которых я даже и не трудился получать в Москве, или 422 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век тот фунт керосину, который в Одессе я добывал с риском собст­ венной, но также и не собственной жизнью, или то зерно, которое немецкий крестьянин начал прятать в 1936 — 1938 годах, — все это есть неизбежные последствия социализма, из какого бы источника этот социализм ни родился. После тридцати лет “небывалых в ис­ тории мира” производственных рекордов советский суд, сам того не подозревая, выносит приговор хозяйственной системе: после тридцати лет национализации, электрификации, тракторизации и всего прочего — люди, чтобы не умереть с голоду, жнут хлеб свой таким же способом, как жали его тысяч пять лет тому назад, но с риском попасть в концлагерь, которого пять тысяч лет тому назад все-таки не было. Я писал: мы вернулись в Питекантропию. Вот вам еще один пример. Вспоминая эти времена, отделенные от нас целыми морями крови и голода, я должен отметить: русская интеллигенция, контр­ революционная русская интеллигенция, находящаяся на советской государственной службе, приняла план коллективизации сельского хозяйства как некий выход. Новая экономическая политика была очевидным тупиком. Долго она держаться не могла. Кто-то должен был победить окончательно: или лавочник Яковлев, или прилично­ го вида мужчина. Яковлев снабжал интеллигенцию селедками. Но не снабжал никакой “идеей”. В самом деле: сегодня селедки, зав­ тра селедки, послезавтра селедки. Ну — а дальше что? “План”, ко­ торый впоследствии воплотился в приличного вида мужчину, о се­ ледках не говорил ничего. Но он давал перспективы. Какие это были перспективы? Русская старорежимная бюрократия была носительницей какойто новой революционной идеи — только она еще и до сих пор не знает, какой именно. Идейно “бытие” не соответствовало селедоч­ ному “сознанию” ни раньше, ни теперь. Но и раньше и теперь профессиональные интересы, и что еще больше, навыки, тянули и тянули старую и новую интеллигентную бюрократию — или бюро­ кратическую интеллигенцию - хоть к какому-нибудь, но все-таки плану. Мои личные знакомые, люди в общем добропорядочные и контрреволюционные, советские служащие и антисоветские мечта­ тели, — в общем приняли план как надежду. Потом, как и во всех аналогичных случаях, они говорили: план, собственно, был хорош, и если бы его проводили мы, а не коммунисты, то было бы то-то и то-то (здесь нужно бы снова пересказать содержание сотни тысяч томов). Сейчас в оккупационной зоне немцы говорят: план, в сущ­ ности, необходим, но если бы его проводили мы, а не оккупацион­ ные власти... Оккупационные власти говорят: план, конечно, необ­ Диктатура импотентов 423 ходим, но если бы вели его не немецкие чиновники... Однако со­ вершенно очевидно, что немецкий чиновник предпочитает сидеть в бюро и писать приказы, а не ковыряться в земле и копать кар­ тошку хотя Германии нужна именно картошка, а не приказы. Так же очевидно, что оккупационный чиновник предпочитает жить в вилле в усадебном пригороде (резиденц куогтер) Гамбурга, а не возвращаться на пост третьестепенного клерка в Сити. И что русский интеллигент, при всех его вывесках, декорациях и декламациях, есть наследственный бюрократ, и больше ничего. Он стремится планировать, регулировать, предписывать и писать хотя бы уже по одному тому, что решительно ничего другого он не умеет. И все другое пугает его неистовостью, тайнами и заработка­ ми капиталистической анархии. Он, этот русский интеллигент, ко­ нечно, против социализма, против коммунизма, против советской власти. Но — он все-таки хочет планировать. Он, попав за грани­ цу, выдумывает сотни новых программ. Он не сидит сложа руки. Он снова пишет. И снова строит планы. Теперь он допускает даже и частное хозяйство. Но только с тем условием, чтобы он, интел­ лигент, научно мыслящий и научно образованный, сменивший Маркса на неизвестно что — иногда даже и на Христа, — он до­ пускает существование частного хозяйства, но только с тем, что он будет планировать его. Это глупо. Но, кажется, неистребимо. Или, по крайней мере, до сих пор еще не истреблено. Он, интеллигент, прошедший Санкт-Петербургский Импера­ торский университет, или Всеобщую плановую академию в Моск­ ве, или Виртшафте академи в Берлине — или другие соответствую­ щие заведения в других соответствующих местах, — уверен твердо и научно: конечно, в обращении с конкретной, хотя бы уже и мертвой селедкой достаточно опыта у него нет. Но зато у него есть горизонты, каких нет и не было у Яковлева. Он понимает связь миро­ вого хозяйства, он знает законы спроса и предложения, организацию американских трестов и циркуляцию валют — не зря же он учился. Доказать ему, что он учился совершенно зря, по-видимому, невозмож­ но никак. Этого не может доказать не только публицист вроде меня, но и селедка вроде той, которая исчезла при одном приближении пла­ на. В России она исчезла приблизительно в 1929 году — под влиянием первой пятилетки. И не появлялась с тех пор. История ее исчезновения, вот та, к которой я сейчас перехожу, лишена каких бы то ни было украшений. Это — голая и по мере возможности точная фотография. Это — почти моментальный сни­ мок очень мелкого события. Но если это мелкое событие вы по­ множите на пять, или пятнадцать, или пятьдесят миллионов, то у 424 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век нас создастся хотя бы некоторое представление о том, как ведут себя люди и селедки под влиянием плана и — что важнее — поче­ му они не могут вести себя иначе. Мой младший единокровный брат Евгений был профессио­ нальным рыбаком. Не предпринимателем, не владельцем рыб­ ных промыслов, а простым рыбаком. Его техника и его органи­ зация довольно точно повторяла технику и организацию рыбно­ го промысла на Галилейском озере почти две тысячи лет тому назад. Лодка, парус, сети. Группа рыбаков объединена в “ар­ тель” — это просто не сформулированная ни в каком уставе взаимная поддержка одинаково равноправных ремесленников. Вероятно, на тех же юридических основаниях была построена и галилейская артель. Люди вели довольно тяжелую жизнь. Они жили на берегу Черного моря в Ялте, которая с тех пор дала че­ ловечеству некие новые скрижали, подписанные Черчиллем, Рузвельтом и Сталиным. Они ловили свою рыбу, то у кавказ­ ских берегов, то в Азовском море, то в Керченском проливе. У Ялты рыбы нет, как нет ее на берегах Бретани, Шотландии или Гамбурга. Черное море — одно из самых негостеприимных в мире: бурное, непостоянное и без единого острова. Люди ловили рыбу и привозили ее в Ялту. В Ялте их встречали: владельцы двух консервных заводов, владельцы нескольких десят­ ков ресторанов и несколько сот домашних хозяек. Рыба продава­ лась из рук в руки без всяких посредников, накладных расходов и прочего. Рыбаки были сыты. Сыта была и Ялта. Я приехал в самый разгар плана. Брат был исполнен неясными, но мрачными предчувствиями. Мои предчувствия, принимая во внимание мой московский опыт, были несколько яснее. С ялтин­ ского мола мне удалось выудить фунтов пять рыбы. На улице меня остановила милиция. Осмотрев мой скудный улов и ознакомив­ шись с моими московскими документами, милиция отпустила ме­ ня с миром. С рыбаками дело получилось сложнее. В порядке общего планирования всего народного хозяйства бы­ ло подвергнуто плану и рыболовство. Ялтинских рыбаков объеди­ нили в кооператив. Им дали моторы. Их кое-как снабдили и сетя­ ми — новыми, с иголочки. Над ними поставили ближайшего идей­ ного родственника того приличного вида мужчины, о котором я уже рассказывал. И — почти сразу — рыба исчезла вся. Ялтинский рыболовный кооператив был только микроскопической частью всесоюзного хозяйственного плана. По этому плану весь свой улов рыбаки обязаны были сдавать в кооператив — и от кооператива получать всяческий продовольственный и товарный эквивалент. Диктатура импотентов 425 Как я впоследствии выяснил в плановых организациях Москвы, черноморский улов должен был идти для снабжения среднеазиат­ ских хлопководов. Хлопководы должны были снабжать хлопком текстильные фабрики подмосковного района. Ситец должен был идти в колхозы. Колхозы должны были сдавать свой хлеб государ­ ству. Государство должно было снабжать этим хлебом ялтинский кооператив. В общем, ничего особенного: в сущности то же самое, что автоматически делается при частном хозяйстве. Однако с од­ ной оговоркой: при частном хозяйстве на каждой точке этих тыся­ чеверстных товарных путей сидит и частный интерес. Миллионы людей, соприкасавшихся с селедкой в море, в бочке, в вагоне и на столе, рассматривали эту селедку с, так сказать, узкоэгоистической точки зрения: чтобы она была поймана, чтобы она не протухла, чтобы она была подана под сметаной. Потом — этот частный ин­ терес исчез по всем пунктам этого тысячеверстного плана. В част­ ности, хлопководам было запрещено сеять пшеницу — и это было разумно. Или казалось разумным: в самом деле — хлопок рента­ бельнее. За свой хлопок хлопководы должны были получить селед­ ку из Черного моря и хлеб из других мест. Потом — как-то не ока­ залось ни селедки, ни хлеба: хлопководы сидели на своих сдаточ­ ных квитанциях. Но они не хотели умирать от голода. Мой брат был человеком совершенно необразованным теорети­ чески и очень малограмотным во всех остальных отношениях. И хлеб ему и его семье нужен был сегодня — а не завтра. Сдаточные квитанции его не устраивали никак. И поэтому, как только нача­ лись первые “перебои”, и “недовозы”, и “неполадки”, в Ялте со­ вершенно автоматически возникло такое положение вещей. Обычно, когда у черноморских берегов начинался ход скумбрии или в Азовском море ход камсы — в Ялту летели телеграммы и об­ радованные рыбаки бросали свои дела и на всех парусах (моторов не было) летели к Новороссийску или Керчи. Теперь те же теле­ граммы о той же скумбрии вызывали совершенно иной эффект: портились моторы, рвались сети, заболевали рыбаки. Власть искала саботажников и вредителей, техники ощупывали моторы и врачи ставили термометры больным рыбакам — но не помогало ничего. Не помогли даже и расстрелы. Как только скумбрия, камса и се­ ледка уходили за пределы всякой плановой досягаемости начи­ нали приходить в порядок моторы и рыбаки. Снова начинался лов — но только у самой Ялты, совершенно нищий лов. Заводы, рестораны и хозяйки оставались без рыбы, но рыбаки были сыты. Свой собственный улов они упаковывали в бочки, бочки спускали под воду на якорь в некотором расстоянии от берега и главным об­ 426 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век разом ночью — потом приезжали на берег, демонстрировали мили­ ции свой скудный улов. Это только один из способов самосохранения от плана. Были десятки других: импровизированные “черные рыбки” на более или менее пустынных берегах, рыбные “склады” там же, продажа рыбы турецким рыбакам где-нибудь посередине Черного моря — за треть нормальной цены, но за золото или мануфактуру. Обе стороны проявляли изобретательность, которая при иных условиях могла бы, вероятно, прокормить весь мир, но которая в данных условиях пожирала друг друга, — но пожирала и все народное хозяйство. Между каждым из десятков миллионов колесиков этого хозяйства насыпаются бюрократические песчинки. В каждом обороте каждо­ го колесика трение становится все больше и больше. Каждый ме­ ханик понимает, что если в машине что-то заело, нужно разобрать и разобраться. И каждый из бюрократов в большей или в меньшей степени, но все-таки полагает, что работа его мозговых извилин может заменить работу, инициативу, разум и инстинкты десятков миллионов других людей. Какую роль тут играют просто инстинкты? Русский мужик лю­ бит свою землю — и он точно так же хочет иметь свою землю, как иметь свою жену и своих детей. Когда русский мужик переселялся откуда-нибудь из Тульской губернии куда-нибудь на Алтай, он за­ ворачивал в тряпочку горсть “своей землицы” — и вез ее с собой, как римляне везли своих лавров. Мой добрый знакомый, полков­ ник Белой Армии и эмигрант с 1921 года, был большим патриотом и таким же любителем выпить. Он добровольно наложил на себя зарок: не выпить не рюмки, пока он не будет снова стоять на род­ ной земле. Но годы шли — а выпить хотелось. Полковник поехал в Бессарабию — Бессарабию он рассматривал как часть Российской империи, временно оккупированную румынами. Он набрал пол­ ный мешочек родной земли. И с тех пор он пил только стоя. Мужик не захотел работать батраком в колхозе. Писатель не за­ хотел писать для Главлита. Мой брат не захотел ловить для коопа. Десятки миллионов других людей не захотели работать для мил­ лионов других разновидностей бюрократизма. Реальное народное хозяйство ушло в подполье, в уголовщину, в обыски, облавы, ра­ ции, на черный рынок и на серое производство — Германии, а на воровское — в России. Нынешняя советская хозяйственная систе­ ма может быть определена такой формулировкой: разбой сверху и воровство снизу. Разбоем кормится бюрократия, и воровством кор­ мятся все остальные. В Германии прогресс так далеко не зашел. В 1947 году я купил полдюжины огромных и нелепых алюминиевых Диктатура импотентов 427 пепельниц вместо тарелок. Оказалось: цена алюминиевых тарелок нормирована “планом”. Пепельницы “планом” не предусмотрены, и цена на них не нормирована. Люди фабрикуют пепельницы, вместо того чтобы фабриковать тарелки или кастрюли. ...В 1946 году, находясь в культурной Германии и состоя под попечением культурных оккупационных властей, мы все-таки развели огород. Земли для этого “по плану” не было. Нам, “дипи” по существующим законоположениям огородов разводить не полагалось. Мы нашли полянку в лесу, выкорчевали десятка три пней и посадили огурцы — семена были, конечно, куплены на черном рынке. Огурцы предполагалось засолить на зиму и обеспечить себя витаминами. Бочек для засола не было. В мест­ ном магазине — недоразвитом ТПО № 606 — продавались ка­ кие-то полубочонки, неудобные и нелепые. Но можно было при­ норовить и их. Это, оказалось, были параши. Я купил одну. В ма­ газине господина Кюка в городе Холленштедте, округ Харбург, я дал официальную подписку в том, что эту парашу буду употреб­ лять только по ее официальному назначению. Она все-таки пошла под огурцы. Так нарушил закон не один я. Но бюрократия стояла на страже закона: очередная партия параш была изнутри вымазана какой-то дрянью. Мы купили парашу с дрянью. Мы развели кос­ тер. Над этим костром мы обжигали изнутри эту парашу — пока клепки не обуглились. Получилась, хотя и дрянная, но все-таки бочка. Так, нелегально, противозаконно и преступно — неприлич­ ный анекдот из плановой нашей жизни превратился в нечто коекак пригодное для засола огурцов. Может быть, всего этого проще было достигнуть и вовсе без плана? ...В своей жизни я пережил живой опыт четырех планов: 1) план “эпохи военного коммунизма” в России; 2) план коллекти­ визации и пятилеток — там же; 3) четырехлетки национал-социа­ лизма в Германии и 4) никем не декретированную плановость бри­ танской оккупационной зоны. Во всех четырех случаях меня пла­ нировали и как производителя и как потребителя. Как производи­ тель, я был подвержен плану распределения рабочей силы, как по­ требитель — планам использования параш во всех их разновидно­ стях. В первом случае меня пытались “мобилизовать” на “уборку урожая", во втором — на погрузку картофеля, в третьем — на во­ енные заводы, в четвертом — на добычу угля в Руре. Из всех этих попыток не вышло ничего — мне удалось отвертеться. Но во всех четырех случаях я голодал. Голодали и те, кому отвертеться не удалось. Во всех четырех случаях, и в начале и под конец всех четырех, меня снабжали лошадиными порциями обещаний: ах, 428 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век как все будет хорошо! Результаты во всех четырех случаях ока­ зались почти одинаковыми. Во всех четырех случаях общий ход событий был почти совер­ шенно одинаков: анархия частного рынка была заменена предпи­ саниями плановой бюрократии. Самая худшая из всех этих бюро­ кратий — в СССР в годы военного коммунизма. Самая лучшая — в годы немецких четырехлеток. Но во всех четырех случаях к пла­ новой власти пришли люди чуть-чуть разные люди. В первом — это были главным образом дезертиры Первой мировой войны. Во втором — низы коммунистической партии, включившие в свои ря­ ды, в частности, тех же дезертиров. В третьем это был деклассиро­ ванный элемент версальской Германии. В четвертом это были или англичане, которым у себя дома терять было нечего, и были нем­ цы, которые у себя дома потеряли все. В последнем — преобладали взяточники. В первом это была почти неграмотная орда, в послед­ нем — попадались даже и доктора философии. Однако и результа­ ты орды и результаты докторов философии оказались почти совер­ шенно одинаковыми: голод, бесправие, бессилие, бесперспектив­ ность. Или, точнее, только одна перспектива, обещающая хоть что-нибудь: планы побега. Планы спасения себя от планов. Я очень боюсь, что даже и планы спасения окажутся утопическими. ...В дохристианском Риме совершенно мирно уживались друг с другом десятки религий, культов и сект. Потом — в результате ты­ сячелетнего “прогресса” — возник “план”, и святейшая инквизи­ ция декларировала плановый образ жизни и верований. Но в дни Великого Инквизитора мир еще был просторен: можно было сбе­ жать в Америку, что и сделали предки современных янки. Но со­ временные янки не блещут своим гостеприимством, и современ­ ные пуритане, жаждущие сбежать от методов современной — на этот раз хозяйственной — инквизиции, натыкаются на укреплен­ ный пояс виз и прочего. Впрочем, если бы не этот пояс, то евро­ пейские плановики могли бы лишиться всей своей “человеческой базы” — она бы сбежала от плана вся. И кроме того, идея плани­ рования хозяйства приобретает такую же популярность, как неко­ гда идея планирования религии. Я не верю, чтобы в основе инквизиции лежал бы религиозный фанатизм. Инквизиция была чисто испанским явлением. И грабеж был чисто испанской политикой “экспансии”. Очень большим на­ пряжением философского мышления можно утверждать, что гер­ цог Альба разорял Нидерланды во имя религиозного фанатизма, но то же самое делал и Фердинанд Кортец в Мексике, и, насколько знаю, никто его в религиозном фанатизме не обвинял. Я не верю Диктатура импотентов 429 ни в энтузиазм якобинцев, ни в догматизм коммунизмов, ни в фа­ натизм нацистов, ни в патриотизм русского дворянства. Последние три категории я знаю лично. Я не предполагаю, чтобы инквизито­ ры, якобинцы, коммунисты, нацисты, дворяне были лишены вся­ ких уж человеческих чувств, слабостей, страстей и даже симпатий: совершенно черных красок в мире нет. Испанские, французские, русские, немецкие патриоты были во всех этих разновидностях вооруженного и организованного меньшинства наций. Патрио­ тизм, кроме того, приобретает тем большую убедительность, когда вместе с “защитой родины” люди защищают и свой собственный карман. Или — власть над чужими карманами. Так, та часть рус­ ского дворянства, которая попала под власть Польши (XVI — XVII века), занималась точно такой же декламацией о патриотизме и ре­ лигии, как и та, которая осталась под властью Москвы. Только с одной разницей: этот патриотизм стал польским и эта религия ста­ ла католической — и “фанатизм” и “патриотизм” были проданы за наличный счет. Вера превращается в фанатизм и любовь к родине — в зако­ нодательство Третьего Рейха примерно по такой же схеме, как хозяйственное предвидение превращается в план. “Зерно исти­ ны” разрастается в идиотизм, и идиотизм перерастает в уголов­ щину. Внешние опасности для Московской Руси (до Петра Ве­ ликого) создали необходимость закрепощения всего населения страны в интересах военной дисциплины в стране. Но когда с внешней опасностью было в основном покончено, этот корпус превратил себя в рабовладельцев и нацию — в рабов. Русское дворянство середины прошлого века было очень культурным и религиозным* Но лет полтораста “права на жизнь и на смерть” — jus necisque — превратили “ведущее сословие” в класс рабовла­ дельцев. Совершенно такими же путями шли инквизиторы, якобинцы, коммунисты и нацисты. Какими путями пойдут “фа­ натики плана”? Энтузиасты обобществления? Аспиранты нового правящего слоя? Какие конюшни, костры, Соловки и Бельзены ждут наших внуков, детей, может быть и нас самих? Кто — на рубеже XIX и XX веков - мог поверить в арийское законода­ тельство страны Гегеля и Гете, в столицу трудящихся всего ми­ ра — в Москве и в фактическое закрепощение всего населения Европы по меньшей мере к востоку от Рейна? Кто сейчас мо­ жет предвидеть плановые неистовства ближайших лет? “Мир во зле лежит” — весь мир. Личный, групповой и прочий эгоизм человечества висит над всеми нами постоянной угрозой. Никакая “культура”, “демократия” и прочее — не дают никакой 430 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век гарантии против рождения новых рабовладельческих формаций. Английские лорды в Ирландии, американские плантаторы в Теха­ се, гегелевские потомки в Германии и толстовские Ростовы в Рос­ сии — все они действовали по одному и тому же шаблону. Лон­ донский парламент не помешал рабству Ирландии, русская монар­ хия — ни дворянскому, ни советскому крепостному праву, Веймар­ ская демократия — нацистским убийствам, вся культура Франции — ни якобинцам, ни коммунарам. В XX веке были счастливо воскре­ шены к жизни методы Чингисхана и Кортеца. Разумеется, что ме­ тоды декламации у Чингисхана и у советских плановиков несколь­ ко различны. Но результаты совпадают почти полностью. ...А все мы забываем об одном: все наши свободы, в конечном счете, сводятся к свободе конкуренции. И против свободы конку­ ренции будет восставать всякая группа, которая не рассчитывает выдержать свободную конкуренцию. Свобода религии есть свобода для конкурирующих вероисповеданий. Свобода мысли есть свобо­ да конкурирующих идей. Всякий более или менее принудительный хозяйственный план есть устранение свободы хозяйственной кон­ куренции, ибо результатов этой конкуренции никакой план пред­ видеть не может. Можно планировать тренировку боксера, как можно планировать работу фабрики. Но нельзя планировать бок­ серского матча, как нельзя планировать всего хозяйства: в конеч­ ном счете должен победить сильнейший. Но если сильнейший за­ ранее неизвестен и не может быть известен, то для гарантии преду­ смотренной планом победы одна из сторон вооружается ножом. Инквизиция устраивала конкуренцию ересей, русское дворянст­ во — конкуренцию других сословий России, политбюро компартии — других идей и планов, Гитлер — конкуренцию других народов и рас, энтузиасты плана — вообще всю хозяйственную конкуренцию человечества. Все это прикрывается “идеей” — от “высшей расы” до Евангелия включительно. За всем этим никакой идеи нет. И ес­ ли даже Благая Весть любви была использована для застенков, то что же говорить о нацизме, марксизме, социализме, пролетариате и прочем в этом роде. Под любой из этих идей прячется слой не­ удачников, который хочет стать классом паразитов. Становясь па­ разитом, он не может удержаться иначе как террором. Начиная террор, он отрезывает себе все пути отступления. И он неизбежно оформляется в диктатуру: монахов, дворян, якобинцев, коммуни­ стов, нацистов и прочих, вырабатывает методы вооруженного по­ давления всякой конкуренции и организует бюрократическую по­ лицейскую машину, приблизительно одинаковую для всех случаев всякой диктатуры всякого слоя. Диктатура импотентов 431 Если бы я был глубоким исследователем социальных судеб че­ ловечества, я постарался бы дать хоть приближенный ответ на ис­ тинно страшный вопрос о том, каким именно образом один про­ цент нации может подчинить и поработить себе остальные девяно­ сто девять процентов. В самом деле: патриции и плебеи Рима вре­ мен его расцвета составляли около одного процента остального на­ селения Империи. Едва ли больший процент составляло дворянст­ во феодальной Европы. Русское дворянство насчитывало в своем составе около миллиона человек — то есть меньше одного процен­ та. Террористы Французской революции не достигали даже и од­ ного. Коммунистическая партия СССР — тоже около одного про­ цента. Нацистская партия Германии составляла значительно боль­ ше, но здесь партийное членство носило принудительный харак­ тер: актив партии едва ли достигал и одного процента. Мы все, все люди, которым сейчас около или больше шестиде­ сяти, пережили эпоху великого взлета наших надежд и наших чая­ ний. Мы лично присутствовали при празднике наступления два­ дцатого века. Я еще помню юбилейные сборники, в которых под­ водились гордые итоги завоеваниям XIX столетия и выражалась еще большая уверенность в еше больших завоеваниях двадцатого. Вот, теперь мы европейцы — и завоеваны. Кто мог все это предпо­ лагать в юбилейных сборищах 1900 года? И кто может сказать, ка­ кие именно “завоевания” принесет уже не нам, но детям нашим двадцать первый век? Рецепт мистера Г. Уэлльса остается, кажется, единственным рецептом: “Цена свободы — это вечная бдительность”. П Р И М ЕЧ А Н И Я ЦАРЕУБИЙЦЫ 1942 году. — из сборника статей, изданного в Шанхае в ЗА ТЕНЬЮ РАСПУТИНА — из сборника статей, изданного в Шанхае в 1942 году. 1. Тхоржевский Иван Иванович (1878—1951) — русский политиче­ ский деятель эмиграции, публицист, поэт-переводчик, действительный статский советник. Служил в канцелярии Совета министров. Камергер с 1912. С 1913 по 1916 — управляющий канцелярией ведомства земле­ устройства и земледелия. Управляющий делами правительства барона Врангеля в 1920 году. Сотрудничал в газете “Возрождение”. Автор книги “Русская литература” (т. 1—2, 1946). 2. Миллер Евгений Карлович (1867—1937?) — один из военных лидеров Белого движения, генерал-лейтенант. Генерал-губернатор и главнокоман­ дующий Северной областью (1919—1920). В 1920 эмигрировал. С 1930 — председатель РОВСа. Похищен большевиками из Парижа. 3. Унгер фон Штернберг Роман Федорович (1886—1921) — один из военных лидеров Белого движения в Сибири, генерал-лейтенант. В 1917—1919 — в составе отрядов атамана Семенова. В 1920—1921 — диктатор Монголии. В 1921 его отряды сделали попытку вторгнуться на советскую территорию, были разгромлены. Расстрелян. 4. Булак-Булахович Станислав Николаевич (1883—1940) — активный участник Белого движения. В 1919—1920 командовал различными частями в Северо-Западной армии генерала Н.Н. Юденича. В 1920 при попытке вторгнуться на советскую территорию был разгромлен. Ушел в Польшу. 5. Архангельский Алексей Петрович (1872—1959) — русский военный деятель, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Был начальником РОВСа в 1938—1955. 6. Франко Баамонде Франсиско (1892—1975) — испанский государст­ венный деятель, каудильо. Победил республиканцев в Гражданской войне. Глава испанского правительства в 1939—1975. РАБОТА ШТАБС-КАПИТАНОВ — из сборника статей, изданного в Шанхае в 1942 году. Примечания 433 1. Ларусс П. (1817—1875) — французский педагог и лексико­ граф. Издал “Большой универсальный словарь XIX в.” в 15 томах (1865-1876). МОЛЧАНИЕ И ИСТИНА — напечатана в газете “Наша страна” в № 9 за 1949 год. 1. Терещенко Михаил Иванович (1886—1956) — русский промышленник, сахарозаводчик, политический деятель. В 1917 — министр финансов, а затем министр иностранных дел во Временном правительстве. Эмигрант. 2. Львов Георгий Евгеньевич (1861 —1925) — князь, политический деятель. Председатель Всероссийского земского союза. В марте—июле 1917 — глава Временного правительства. Эмигрант. 3. Новгородцев Павел Иванович (1866—1924) — русский юрист, фи­ лософ. Профессор Императорского Московского университета в 1904—1911. С 1906 — директор и профессор Московского высшего коммерческого института. Кадет. После 1917 года эмигрировал. Автор книг “Историческая школа юристов, ее происхождение и судьба” (1896), “Кант и Гегель в их учении о праве и государстве” (1901), “Кризис современного правосознания” (1911). 4. Устрялов Николай Васильевич (1890—1938) — русский политиче­ ский деятель, публицист. С 1917 — член кадетской партии. С 1920 — в эмиграции. Профессор в Харбине. Один из идеологов сменовехов­ ства. В 1935 вернулся в СССР и был репрессирован. Автор книг “Революция и война” (1917), “В борьбе за Россию” (1920), “Под знаком революции” (1925), “Политическая доктрина славянофиль­ ства (Идея самодержавия в славянофильской постановке)" (1925), “Россия: у окна вагона” (1926), “Этика Шопенгауэра” (1927), “Итальянский фашизм” (1928), “Германский национал-социализм” (1933), “Наше время” (1934). 5. Туган-Барановский Михаил Иванович (1865—1919) — русский эко­ номист, историк, “легальный марксист”. В 1895—1899 — приваГг-до­ цент по кафедре политэкономии Императорского С.-Петербургского университета. С 1913 — профессор Петербургского политехнического института. Кадет. В конце 1917—январе 1918 — министр финансов Центральной Рады Украины. Автор книг “Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь” (1894), “Русская фабрика в прошлом и настоящем” (т. 1, 1898), “Тео­ ретические основы марксизма” (1905), “Основы политической эконо­ мии” (1909), “Социальные основы кооперации” (1916). 6. Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — русский полити­ ческий деятель, идеолог “экономизма”, публицист. Деятель Союза ос­ 434 Солоневич И.Л. Наша страна. XX век вобождения. В 1922 была выслана советским правительством за анти­ советскую деятельность. ЦАРЬ И ПОМЕЩИКИ — напечатана в газете “Наша страна” в № 14 за 1949 год. 1. Имеется в виду Фондаминский (псевд. Бунаков) Илья Исидорович (1881 —1942) — политический деятель, эсер. В 1906—1917 — в эмигра­ ции. С 1919 — снова в эмиграции. Один из основателей и редакторов журнала “Современные записки”. 2. Шмурло Евгений Францевич (1853—1934) — русский историк, академик. С 1888 — приват-доцент Императорского С.-Петербург­ ского университета. В 1891 —1903 — профессор по кафедре русской истории Императорского Юрьевского (Дерптского) университета. До 1924 работал в Риме. Затем жил в Париже. Автор книг “Митро­ полит Евгений как ученый. Ранние годы жизни. 1767—1804” (1888), “ П.В. Постников. Несколько данных для его биографии” (1894), “Очерк жизни и деятельности К.Н. Бестужева-Рюмина” (1899), “ История России. 862—1917” (1922), “Введение в русскую исто­ рию” (1924), “Римская курия на русском православном Востоке в 1609—1654” (1928), “Вольтер и его книга о Петре Великом” (1929) “Курс русской истории” (т. 1—3, 1931 —1933). МИФ О НИКОЛАЕ II — напечатана в газете “Наша страна” в № 14-21 за 1949 год. 1. Клемансо Жорж (1841—1929) — французский государственный деятель. Сторонник военного реванша в борьбе Франции с Германией. В марте—октябре 1906 — министр внутренних дел. В октябре 1906июле 1909 — председатель Совета министров. С ноября 1917 по 1920 вновь был председателем Совета министров. Один из авторов Версаль­ ского мирного договора 1919. 2. Вильсон Томас Вудро (1856—1924) — американский государственный деятель, президент США в 1913—1921, от демократической партии. Один из главных творцов Версальской системы после Первой мировой войны. 3. Ллойд Джордж Давид (1863—1945) — английский государствен­ ный деятель, дипломат, либерал. В 1905—1908 — министр торговли, в 1908—1915 — министр финансов. В 1916—1922 — премьер-министр. Один из авторов Версальского мирного договора 1919. 4. Алданов (настоящая фамилия — Ландау) Марк Алексеевич (1886— 1957) — эмигрантский писатель. В 1919 эмигрировал. Автор многочис­ ленных исторических романов. Примечания 435 5. Щербатов Михаил Михайлович (1733-1790) - князь, русский ис­ торик, публицист. С 1778 — президент Камер-коллегии. Автор книг “История Российская от древнейших времен” (1770—1791), “О путе­ шествии в землю Офирскую” (1783). 6. Жоффр Жозеф Жак (1852—1931) — французский военный дея­ тель, маршал Франции. В 1911-1914 - начальник Генштаба. В 19141916 — главнокомандующий французской армией. 7. Самсонов Александр Васильевич (1859—1914) — русский военный деятель, генерал от кавалерии. В 1914 - командующий 2-й армии, по­ терпевшей поражение в Восточно-Прусской операции. Покончил жизнь самоубийством. 8. Фош Фердинанд (1851 —1929) — французский военный деятель, военный теоретик, маршал Франции. В Первую мировую войну ко­ мандовал армией, группой армий. В 1917—1918 — нач