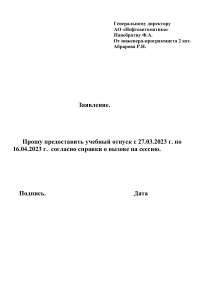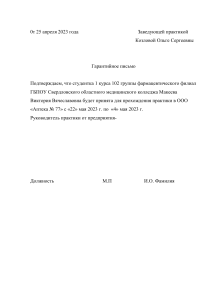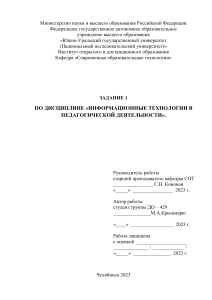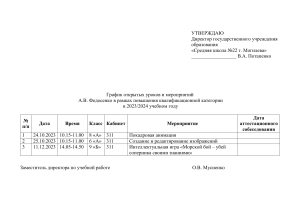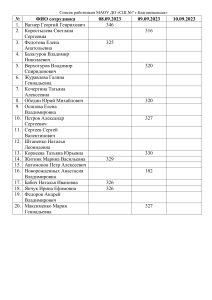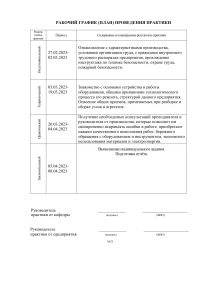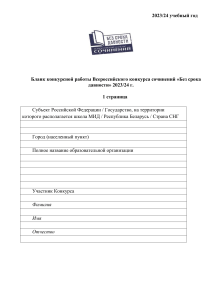ISSN 2712-9454 ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОИСК Том 4 № 2 2023 Научный журнал Основан в марте 2020 г. Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Главный редактор Е.К. Минеева, доктор исторических наук, профессор (Россия, Чебоксары) Заместитель главного редактора Т.Н. Иванова, доктор исторических наук, доцент (Россия, Чебоксары) Члены редакционной коллегии Н.М. Арсентьев, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Россия, Саранск) И.И. Бойко, доктор исторических наук, профессор (Россия, Чебоксары) П. Верт, доктор наук (PhD), профессор (США, Лас-Вегас) И.К. Загидуллин, доктор исторических наук, профессор (Россия, Казань) А.Г. Иванов, доктор исторических наук, профессор (Россия, Йошкар-Ола) А. Каппелер, доктор истории, университетский профессор (Австрия, Вена) Л.А. Королева, доктор исторических наук, профессор (Россия, Пенза) Г.А. Куршева, доктор исторических наук, профессор (Россия, Саранск) Л.П. Репина, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Россия, Москва) Ю.Н. Смирнов, доктор исторических наук, профессор (Россия, Самара) В.И. Соколова, доктор исторических наук, доцент (Россия, Чебоксары) С.В. Стариков, доктор исторических наук, профессор (Россия, Йошкар-Ола) О.А. Сухова, доктор исторических наук, профессор (Россия, Пенза) А.А. Халин, доктор исторических наук, профессор (Россия, Нижний Новгород) А.А. Чернобаев, доктор исторических наук, профессор (Россия, Москва) Л.А. Шайпак, доктор исторических наук, профессор (Россия, Ульяновск) А.А. Шевцова, доктор исторических наук, профессор (Россия, Москва) Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в базу данных Научной электронной библиотеки (elibrary.ru), индексируется в базе данных «Российский индекс научного цитирования». Адрес редакции: 428015, Чебоксары, Московский пр., 15, тел. (8352) 45-20-96, 58-33-63 (доб. 2030) e-mail: vestnik210@mail.ru http://www.chuvsu.ru/ist_poisk.htm ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 2023 ISSN 2712-9454 HISTORICAL SEARCH Vol. 4 № 2 2023 Scientific Journal Since March, 2020 Founder: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «I.N. Ulianov Chuvash State University» Editor-in-Chief E.K. Mineyeva, Doctor of Historical Sciences, Professor (Cheboksary, Russia) Deputy Editor-in-Chief T.N. Ivanova, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor (Cheboksary, Russia) Editorial Board N.M. Arsentiev, RAS corresponding member, Doctor of Historical Sciences, Professor (Saransk, Russia) I.I. Boyko, Doctor of Historical Sciences, Professor (Cheboksary, Russia) P. Werth, PhD, Professor (Las Vegas, USA) I.K. Zagidullin, Doctor of Historical Sciences, Professor (Kazan, Russia) A.G. Ivanov, Doctor of Historical Sciences, Professor (Yoshkar-Ola, Russia) A. Kappeler, Doctor of History, Professor (Vienna, Austria) L.A. Koroleva, Doctor of Historical Sciences, Professor (Penza, Russia) G.A. Kursheva, Doctor of Historical Sciences, Professor (Saransk, Russia) L.P. Repina, RAS corresponding member, Doctor of Historical Sciences, Professor (Moscow, Russia) Yu.N. Смирнов, Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara, Russia) V.I. Sokolova, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor (Cheboksary, Russia) S.V. Starikov, Doctor of Historical Sciences, Professor (Yoshkar-Ola, Russia) O.A. Sukhova, Doctor of Historical Sciences, Professor (Penza, Russia) A.A. Khalin, Doctor of Historical Sciences, Professor (Nizhny Novgorod, Russia) A.A. Chernobaev, Doctor of Historical Sciences, Professor (Moscow, Russia) L.A. Shaypak, Doctor of Historical Sciences, Professor (Ulyanovsk, Russia) A.A. Shevtsova, Doctor of Historical Sciences, Professor (Moscow, Russia) The journal is included in the list of journals which are regarded as academic publications by the State Commission for Academic Degrees and Titles (VAK). The journal is included in the Scientific Electronic Library database (elibrary.ru). The journal is indexed in Russian Science Citation Index. Address: 15, Moskovskiy pr., Cheboksary, Chuvash Republic, 428015, Russia Tel. +7(8352)45-20-96, 58-33-63 (2030) E-mail: vestnik210@mail.ru http://www.chuvsu.ru/ist_poisk.htm FSBEI of H.E. «I.N. Ulianov Chuvash State University», 2023 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-5-12 УДК 930(01) ББК 63 Ф.Н. АХМАДИЕВ, И.В. ВОСТРИКОВ, Г.Р. ШАРАФУТДИНОВ К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА Ключевые слова: образование, учебник, профессор, руководство, пособие, гимназия, школа, университет, политика, либерализм в России. Цель исследования. «Пореформенный» период в истории России в тех временных рамках, которые предложены в названии статьи, удивительным образом напоминает то, что происходит в истории нашей страны сегодня. «Пореформенные» десятилетия в XIX в. были временем бурных преобразований во всех сферах общественной и культурной жизни страны. Зачастую последствия всех этих нововведений в гуманитарной сфере трудно было заранее предугадать. И в этом смысле «пореформенное» время и «сегодняшние» инновации, в том числе в сфере образования, а также ожидания, которые были «тогда» и «сейчас», разительно похожи. О «буквальном» повторении исторического опыта второй половины XIX века и дня сегодняшнего, естественно, нет речи. Но поневоле обращаешь внимание на то, как осмысливался современниками их XIX век, прозванный уже в нашем столетии веком «историческим», и насколько в наши дни остро существует необходимость еще раз обратиться к опыту наших предшественников. Материалы и методы исследования. В качестве источниковой базы мы использовали учебники и «Руководства…» по обучению предмету всеобщей истории в гимназическом образовании. Методами исследования стали классические для исторической науки методы: описательный, сравнительно-сопоставительный и биографический, поскольку в статье излагается обширный историографический материал. Научная новизна. Это обращение к прошлому мы будем выстраивать на примере развития школьного исторического образования, конкретнее, на примере развития или совершенствования школьных «Руководств…». Результаты исследования. Для авторов было важно проследить поступательный ход процесса развития школьного исторического образования, что потребовало обращения к истории формирования профессиональной учительской среды (съезды учителей, циркуляры Министерства народного образования и пр.), и, что особенно важно, выяснения того, в силу каких обстоятельств появилась потребность в так называемых «профессорских учебниках». Это потребовало привлечения архивных материалов. Выводы. В общественном сознании XIX века господствовала мысль, что поступательное движение («прогресс») определяется в первую очередь накопленным «народным» историческим опытом. Поэтому изучение этого опыта и распространение знания об этом опыте дает возможность выработать точные ориентиры для поступательного развития общества. По этой причине XIX столетие получило название «исторического». По этой же причине сфера «народного просвещения» стала местом острого столкновения различных, зачастую противоположных учебно-методических принципов, в основе которых, как правило, лежали различия в общественно-политических воззрениях авторов «Руководств…». Цель исследования. Поскольку в центре нашего внимания персонифицированная эволюция школьного исторического образования, которую мы определяем как объект нашего исследования, имея в виду, что речь будет идти 6 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 о школьных «Руководствах…» по историческому образованию и их авторах, целью исследования станет изучение процесса развития школьного исторического образования во второй половине XIX в. Методы и материалы. В ходе работы над статьей использовались классические для историографического исследования методы: описательный метод, дающий возможность «погружения» в исследовательскую среду; метод сравнительно-исторический, который демонстрирует, что историография как таковая – это динамичный поток развития исторического знания, а не застывшее явление. И, безусловно, биографический метод, который дает авторам возможность, с одной стороны, «максимальную возможность для самовыражения (хотя бы в выборе героя)» [15. С. 287], а с другой – «понять своего героя… в контексте той эпохи, в которой данный исторический персонаж жил» [15. С. 288]. Таким образом, мы имеем возможность еще раз обратить внимание на цель нашей статьи, поскольку, если продолжить эту цитату, с одной стороны, «герой биографии, вписанный в своё время и неразрывно связанный с ним, а с другой – автор, биограф, испытывающий столь же глубокую и разностороннюю зависимость от своей эпохи», неразрывно связаны [8. С. 86]. Результаты исследования. Начало преобразования школьного изучения всеобщей истории замысливалось еще в начале 50-х гг. XIX в., когда Тимофею Николаевичу Грановскому, вскоре после его избрания деканом историко-филологического факультета Московского университета, было поручено Министерством народного просвещения составить учебник по всеобщей истории. Однако он успел написать только две первые главы, «в которых дал яркие характеристики народов и эпох всеобщей истории и очертил главные направления исторического развития» [14. С. 11]. Следующим примером активного участия в создании нового учебника и подготовки учительских кадров стала деятельность профессора Харьковского университета Михаила Назаровича Петрова (1826–1887 гг.). В 60-е – 70-е гг. XIX в. он активно изучает вопросы школьного образования и в первую очередь – преподавания истории. Причина обращения к этой теме вполне понятна, если исходить из представлений историка об общественнополитической значимости исторической науки и образования. В начале 1860-х гг. М.Н. Петров в составе так называемых «профессорских комиссий» [7. С. 173] участвовал в гимназических экзаменах и накопил, по собственному признанию, «изрядный опыт экзаменаторской деятельности» [18. С. 6]. На его основе он приходит к важному для себя выводу об «огромном преимуществе гимназического образования над частным» [8. С. 5–6]. Далее последовала работа над «Очерками по всеобщей истории», которая была в значительной степени обусловлена интересом к гимназическому образованию. В пользу такого объяснения говорит следующее. Сам автор оговаривает, что книга задумана как «некоторое пособие об учебных занятиях» [10. С. 1]. Другие факты позволяют заключить, что издание биографических очерков не было неожиданным событием для современников. Так, еще в 1864 г. на съезде учителей уездных училищ Курской губернии говорилось о необходимости преподавать всеобщую историю, используя «биографический принцип», т.е. группируя учебный материал «возле биографий Магомета, Колумба, Лютера и других лиц» [19. С. 174]. Двумя годами ранее на подобном же «учительском собрании» [17. С. 141] говорилось о необходимости составления «Хрестоматии» с биографиями выдающихся деятелей средневековья. Отечественная история: люди, события, факты 7 В январе 1868 г. Петров произнес актовую речь на ежегодном торжественном собрании университета. Он назвал ее «Об историческом значении классического образования» [11]. Профессор оговаривает, что речь пойдет о «предмете величайшего современного интереса…, направлении развития образования», которое «в значительной степени решает и будущность нашего общества» [11. С. 1]. Петров пытается представить «в самых крупных чертах» влияние наследия классического мира на эпоху Возрождения. Оно рассматривается им с трех сторон: в «нравственном», или «моральном», отношении; в аспекте «влияния» на политическую жизнь эпохи и с точки зрения «влияния на общественную жизнь», главное содержание которой составляют наука, литература и искусство. Он полагает, что классическое наследие крайне отрицательно сказывалось на итальянском Возрождении, поскольку внесло в его жизнь «много чувственной грезы Рима последних времен [11. С. 5]. Он оценивает влияние классического мира на политическую жизнь эпохи как негативное, поскольку оно внесло в нее «какую-то неуверенность и обман» [11. С. 7]. И только в науке, литературе и искусстве это влияние сказалось благотворно, поскольку привело к открытию «смелого и свободного метода», позволившего гуманизму вести успешную борьбу против средневековой схоластики с «ее исключительно церковным содержанием» [11. С. 11]. Профессор приходит к выводу, что «образование это как нечто чуждое в сущности не изменило естественного течения итальянской жизни и... влияние его только тогда оказывалось могучим и прочным, когда его стремления и характер совпадали с действительными понятиями и интересами общества» [11. С. 12]. Далее Петров размышляет о месте «классического образования» в русской гимназии конца 1860-х гг. Признавая его «укрепляющую и облагораживающую роль для своебытного хода народной и государственной жизни», он вместе с тем подчеркивает, что «содержания, то есть сущности воспитания, оно не дает и дать не может, так как сущность эта дается только историческими и местными условиями» [11. С. 12]. Таким образом, М.Н. Петров настойчиво стремится доказать с точки зрения исторического опыта «ненужность» и даже «вредность» практики классического образования в гимназиях. Вопрос о «месте и роли классического образования» постоянно привлекает Петрова. Интересна в этом отношении запись, сделанная им в 1877 г., т.е. девять лет спустя после его актовой речи в университете. Она носит дневниковый характер и позволяет судить об истинном отношении профессора к образовательным реформам. Он пишет, что благодаря им «вокруг отечественной истории устраивается нечто вроде чумного кордона. С одной стороны, на стражу ставятся греки и римляне – это главный оплот; с другой – их преемники... византийцы, с третьей – славяне...» «А запад? – вопрошает профессор и себе же с иронией отвечает: «Что нам с ним связываться…» [20]. Он негодует по поводу учебного плана, согласно которому преимущество в гимназии отдается классической истории и языкам, в то время как новая история излагается «в каких-то беглых очерках» [20]. М.Н. Петрова очень интересовал вопрос о школьном учебнике [2], и «он было даже сам принялся за составление такого руководства, но успел обработать только начало» [22]. Предположительно в январе 1881 г. профессор написал статью «Историческая подготовка». Она была напечатана в одном из номеров газеты 8 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 «Южный край», которая наряду с «Харьковскими губернскими ведомостями» может служить «довольно верным отражением главных университетских течений» с конца 1860-х гг. [2]. Статья была направлена против школьных «Руководств по всеобщей истории» Д.И. Иловайского, по которым велось обучение с начала 1860-х гг. вплоть до начала следующего века. В ответ в октябре того же года Иловайский опубликовал резкую статью в «Санкт-Петербургских ведомостях». По сути, в основе этого столкновения между историками были заложены различия между либеральным и официально-охранительным пониманием роли и задач преподавания истории. В своей «Истории России» Д.И. Иловайский пишет: «Жизнь и движение народ проявляет в своих представителях. Вот почему история имеет дело с людьми, стоящими во главе народа, и вообще с деятелями, посредством которых он проявляет себя в разных сферах общественного развития [5. С. 4]. Как видим, он дает четкую установку описывать деяния коронованных особ и отвергает историю народных масс. Этот подход автора определил и содержание его гимназических руководств, которые представляют собой длинный перечень имен, дат и политических событии [3, 4]. Как автор учебников Д.И. Иловайский в определенной мере оправдывает данную ему характеристику как «типичного историка-охранителя с устарелыми и реакционными взглядами» [8. С. 84]. Но такой подход к историческому образованию не устраивал его либерального противника. Петров требует «приспособить» преподавание истории к изменившимся условиям. Он отводит ей одно из решающих мест в идейнополитической жизни общества, считает, что только она есть «достоверное изложение прошедшей судьбы человеческого рода, … она должна показать, каким образом вышли люди из первобытного или грубого состояния…» [18]. Главный упрек Д.И. Иловайскому состоит в том, что в его «Руководствах...» дана упрощенная, сделанная невинной по форме и содержанию история» [18]. Именно недостоверная наука, по мысли Петрова, приводит в конечном счете к нежелательным политическим последствиям: «Грубые насилия над мыслью во времена Магницкого привели к обширному заговору декабристов; более тонкая классическая система графа Толстого увенчалась рядом бессмысленных злодейств» [18]. М.Н. Петров предлагает другой путь: прежде всего, не бояться преподавать «новую всеобщую историю» [19]. Преподавание истории «либеральным профессором должно открыто показывать общность судеб Европы и России и на примерах европейской истории – пагубность и никчемность революционных движений [19. С. 20–21]. «Самое… опасное – это молчать... или говорить вскользь, – пишет он о революционных событиях в Европе, – о социализме, например, следовало бы просто читать у нас публичные курсы с критическим характером…» [19. С. 23]. Есть еще одно качественное различие между концепциями охранителя и либерального историка. В отличие от Д.И. Иловайского, в учебниках которого «войны, ...правители и их дела – самые важные явления в истории народов» [19. С. 17], Петров намеревался показать, что все события и люди «не что иное, как обнаружение сил народных». Он призывает: «Покажите уж... рост этих сил... в жизни общественной, экономической, умственной. Тогда и войны и деяния правителей получат надлежащее место и свой правильный смысл» [19. С. 17]. Архивные материалы дают представление о важнейших чертах мировоззрения М.Н. Петрова в 1870-е и начале 1880-х гг. Отечественная история: люди, события, факты 9 В черновых набросках к «Лекциям по всемирной истории» он определял «историю человечества» как «картину беспрерывного движения, то есть усовершенствования всемирного образования, причем главным двигателем был труд» [21]. Носителем прогресса, иначе «господствующего культурного порядка», являлся определенный народ, который он называет «историческим» [12. С. 46]. Он выстраивает последовательный ряд таких народов: египтяне, семиты, греки, македоняне, римляне, германцы, славяне [13]. «Славянское образование» историк определяет как «самое юное во всемирной истории» [21]. Среди причин, обуславливающих смену одного «исторического» народа другим, он называет как решающую – влияние «географического положения, почвы, климата» [20] и т.д. В принципе эти философско-исторические идеи были очень популярны в российской либеральной историографии второй половины XIX в. Это эклектическое смешение так называемой «философии истории Гегеля» и тех позитивистских идей, которые высказывал Спенсер и в своих исторических сочинениях воплощал Бокль [1]. Завершая, считаем необходимым кратко остановиться и на теме «профессорских учебников» по всеобщей истории, начало которым было положено «Учебной книгой древней истории» Н.И. Кареева [6]. Главным отличием новых «Руководств» от прежних учебников Д.И. Иловайского стало то, что они имели «углубленное научное содержание» [6. С. 7]. В обширном предисловии Е.С. Скворцова упоминает [6. С. 7], что новые учебники, автором которых стал признанный специалист по всеобщей истории Н.И. Кареев, должны были, тем не менее, пройти сито «особой комиссии» Министерства просвещения и только потом получили «прописку» в средних учебных заведениях [6. С. 7]. Его «Учебная книга древней истории» выдержала 9 изданий, «Учебная книга истории средних веков» – 10 изданий, а «Учебная книга новой истории» – 16 изданий. «Они были переведены на болгарский и польский языки» [6. С. 7]. Кроме этих изданий им были написаны для школьников «Главные обобщения всемирной истории» и «Общий ход всемирной истории» [6. С. 3]. Ученый был убежден, что «основа знаний формируется в годы обучения в средних учебных заведениях, где каждый должен получить прочный фундамент исторического образования» [6. С. 3]. Выводы. Одним из результатов нашего исследования является вывод, что школьным историческим образованием «специально» занимались «канонические» [14] фигуры в истории нашей науки. Кроме того, практические результаты в этой области во многом определялись наработанным опытом в сфере университетского образования. Напомним, что М.Н. Петров был автором первых «Лекций по всемирной истории», изданных на рубеже веков [11, 12]. А «университетские курсы» Кареева Е.В. Тарле относил к немногим «капитальным» работам в российской науке и образовании [16. С. 84]. Правомерен вывод, что активное участие «первых лиц» отечественной исторической науки объясняется не в последнюю очередь трактовкой XIX века как «исторического века», которая опиралась на «укрепившееся в общественном сознании представление о преемственности исторического развития человеческой цивилизации и, соответственно, об уникальных возможностях использования опыта прошлого как средства решения проблем настоящего и построения “светлого будущего”» [14. С. 17]. Фундаментальными чертами «профессорских Руководств…» по всеобщей истории является то, что они имеют обширные приложения, в которых излагаются «очерки» географии и этнографии по соответствующим разделам всеобщей 10 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 истории, обширные обзоры «культурного» развития народов, «краткие очерки» истории отдельных стран. Несомненной заслугой «Учебных книг…» Н.И. Кареева является приложение карт с пояснительным текстом к ним. Следует добавить и то, что Николай Иванович придавал особое значение профессиональной подготовке учителей [6. С. 3-4]. О необходимости методического обоснования подготовки учительских кадров говорилось и в ходе работы учительских съездов [19. С. 168]. Михаил Назарович Петров в своих подготовительных рукописях «Очерков по всеобщей истории» явно стремился «осовременить» учебный материал, насыщая его биографиями людей, явно «выходящими» за рамки коронованных особ: Жанны д’Арк, Томаса Мюнцера и др. [9]. Практическая значимость сделанного заключения состоит в первую очередь в уточнении общей картины развития исторического образования и науки в «историческом веке» и понимании сложности и неоднозначности этого процесса. В качестве перспективы наиболее интересной темой может стать дальнейшее изучение российской университетской среды как общественного и научного феномена. Литература 1. Бокль Г. История цивилизации в Англии. М.: Мысль, 2002. Т. 2. 509 с. 2. Бузескул В.П. М.Н. Петров. Некролог // Харьковские ведомости. 1887. № 25. 3. Иловайский Д.И. Руководство по всеобщей истории для младшего возраста. М., 1863. 189 с. 4. Иловайский Д.И. Руководство по всеобщей истории для среднего возраста. М., 1869. 256 с. 5. Иловайский Д.И. История России. М., 1876. Ч. 1. 114 с. 6. Кареев Н.И. Учебная книга Древней истории / сост., авт. предисловия и прим. Е.С. Скворцова. М.: Просвещение. Учебная литература, 1997. 320 с. 7. Очерки истории исторической науки в СССР: в 5 т. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 2. 325 с. 8. Павлова Т.А. Психологическое и социальное в исторической биографии // Политическая история на пороге XXI века: традиции и позиции: сб. ст. М., 1995. 212 с. 9. Петров М.Н. Очерки из всеобщей истории. Харьков, 1868. 312 с. 10. Петров М.Н. Об историческом значении классического образования. Харьков, 1868. Отд. оттиск. 12 л. 11. Петров М.Н. Историческая подготовка // Южный край. 1881. № 21. Отд. оттиск. 4 л. 12. Петров М.Н. Лекции по всемирной истории. Т. 2. История средних веков. СПб., 1906. 150 с. 13. Петров М.Н. Лекции по всемирной истории. Т. 1. История древнего мира. СПб., 1907. 397 с. 14. Репина Л.П. Тимофей Николаевич Грановский: идея всеобщей истории. Статьи и тексты / под ред. Л.Р. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2006. 282 с. 15. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ – XXI вв. Социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с. 16. Тарле Е.В. Из литературного наследия академика Е.В. Тарле. М.: Наука, 1981. 391 с. 17. Циркуляры по Харьковскому учебному округу. Харьков, 1863. № 18. 18. Циркуляры по Харьковскому учебному округу. Харьков, 1865. № 18. 19. Центральный государственный исторический архив Украины (далее – ЦГИА Украины). Ф. 2048. Оп. 1. Ед. хр. 66. 20. ЦГИА Украины. Ф. 2048. Оп. 1. Ед. хр. 71. 21. ЦГИА Украины. Ф. 2048. Оп. 1. Ед. хр. 73. 22. ЦГИА Украины. Ф. 2048. Оп. 1. Ед. хр. 99. АХМАДИЕВ ФАРИТ НАФИСОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и всеобщей истории, Институт международных отношений, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань (ahmadiev101@mail.ru). ВОСТРИКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и всеобщей истории, Институт международных отношений, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань (igor-vostrikov@bk.ru). ШАРАФУТДИНОВ ГЕННАДИЙ РАИСОВИЧ – преподаватель кафедры иностранных языков в сфере международных отношений, Институт международных отношений, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань (genesharafut@mail.ru). Отечественная история: люди, события, факты 11 Farit N. AHMADIEV, Igor V. VOSTRIKOV, Gennadiy R. SHARAFUTDINOV ON THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL EDUCATION IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY Key words: education, textbook, professor, administration, manual, gymnasium, school, university, politics, liberalism in Russia. The purpose of the study. The "post-reform" period in the history of Russia in the time frame proposed in the title of the article is surprisingly reminiscent of what is happening in the history of our country today. The "post-reform" decades in the XIX century were a time of rapid transformations in all spheres of social and cultural life of the country. Not infrequently, the consequences of all these innovations in the humanitarian sphere were difficult to predict in advance. And in this sense, the "post-reform" time and "today's" innovations, including those in the field of education, as well as expectations that existed "then" and "now", are strikingly similar. Of course, there is no question of a "literal" repetition of the historical experience of the second half of the XIX century and today. But one cannot help but pay attention to how people living at that time comprehended their XIX century, which was already called the "historical" century in our century, and how acute is the need to turn to the experience of our predecessors once again. Materials and methods. As a source base, we used textbooks and "Manuals..." on teaching the subject of universal history in gymnasium education. The methods of research were classical methods for historical science: descriptive, comparative and biographical ones, since the article presents extensive historiographical material. Scientific novelty. We will build this appeal to the past on the example of school historical education development, more specifically, on the example of the development or improvement of school "Manuals ...". Study results. It was important for the authors to trace the progressive course in the development of school historical education, which required an appeal to the history of the professional teaching environment formation (congresses of teachers, circulars of the Ministry of Public Education, etc.), and, most importantly, to find out what circumstances caused the need for the so-called "professorial textbooks". This required involving archival materials. Conclusions. The public consciousness of the XIX century was dominated by the idea that progressive movement ("progress") is determined primarily by accumulated "popular" historical experience. That is why, the study of this experience and dissemination of knowledge about this experience give the opportunity to develop precise guidelines for the progressive development of the society. For this reason, the XIX century was called "historical". For the same reason, the sphere of "public education" has become a place of acute collision of various, often opposing educational and methodological principles, which, as a rule, were based on differences in the socio-political views of the authors of the "Manuals ...". References 1. Buckle H.T. History of Civilization in England Vol. III. Published by Oxford University Press, 1920 (Russ. ed.: Istoriya czivilizaczii v Anglii. Мoscow, Mysl Publ., 2002, vol. 2, 509 p.). 2. Buzeskul V.P. M.N. Petrov. Nekrolog [M.N. Petrov. Obituary]. Khar'kovskie vedomost, 1887, no. 25. 3. Ilovaiskii D.I. Rukovodstvo po vseobshchei istorii dlya mladshego vozrasta [Primary school guide to World History]. Moscow, 1863, 189 p. 4. Ilovaiskii D.I. Rukovodstvo po vseobshchei istorii dlya srednego vozrasta [The Middle School Guide to World History]. Moscow, 1869, 256 p. 5. Ilovaiskii D.I. Istoriya Rossii [The History of Russia]. Moscow, 1876, part 1, 114 p. 6. Kareev N.I. Uchebnaya kniga Drevnei istorii [The Educational book of Ancient History]. Moscow, 1997, 320 p. 7. Ocherki istorii istoricheskoi nauki v SSSR [Essays on the history of historical science in the USSR]. Moscow, 1963, vol. 2, 325 p. 8. Pavlova T.A. Psihologicheskoe i social'noe v istoricheskoj biografii [Psychological and social issues in historical biography]. In: Politicheskaya istoriya na poroge XXI veka: tradicii i pozicii [Political history on the threshold of the 21st century: traditions and positions]. Moscow, 1995, 212 p. 9. Petrov M.N. Ocherki iz vseobshchei istorii [Essays from the World History]. Kharkov, 1868, 312 p. 10. Petrov M.N. Ob istoricheskom znachenii klassicheskogo obrazovaniya [On the historical significance of classical education]. Kharkov, 1868, 12 p. 12 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 11. Petrov M.N. Istoricheskaya podgotovka [Training in History]. Yuzhnyi krai, 1881, no. 21, 4 p. 12. Petrov M.N. Lektsii po vsemirnoi istorii. T. 2. Istoriya srednikh vekov [Lectures on World History. Vol. 2. History of the Middle Ages]. St. Petersburg, 1906, 150 p. 13. Petrov M.N. Lektsii po vsemirnoi istorii. T. 1. Istoriya drevnego mira [Lectures on World History. Vol. 1. History of the ancient world]. SPb., 1907, 397 p. 14. Repina L.P. Timofei Nikolaevich Granovskii: ideya vseobshchei istorii. Stat'i i teksty [Timofei Nikolaevich Granovsky: the concept of World History. Articles and texts]. Moscow, 2006, 282 p. 15. Repina L.P. Istoricheskaya nauka na rubezhe 20–21 vv. Social'nye teorii i istoriograficheskaya praktika [Historical science at the turn of the 20th and 21st centuries. Social theories and historiographical practice]. Moscow, 2011, 560 p. 16. Tarle E.V. Iz literaturnogo naslediya akademika E.V. Tarle [From the literary heritage of the Academician E.V. Tarle]. Moscow, Nauka Publ., 1981, 391 p. 17. Tsirkulyary po Khar'kovskomu uchebnomu okrugu [Circulars for the Kharkov educational district]. Kharkov, 1863, no. 18. 18. Tsirkulyary po Khar'kovskomu uchebnomu okrugu [Circulars for the Kharkov educational district]. Kharkov, 1865, no. 18. 19. Tsentral'nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Ukrainy. F. 2048. Op. 1. Ed. khr. 66 [The Central State Historical Archives of Ukraine. Fund 2048. Inventory 1. Item 66]. 20. Tsentral'nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Ukrainy. F. 2048. Op. 1. Ed. khr. 71 [The Central State Historical Archives of Ukraine. Fund 2048. Inventory 1. Ridge block 71]. 21. Tsentral'nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Ukrainy. F. 2048. Op. 1. Ed. khr. 73 [The Central State Historical Archives of Ukraine. Fund 2048. Inventory 1. Unit of the ridge 73]. 22. Tsentral'nyi gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Ukrainy. F. 2048. Op. 1. Ed. khr. 99 [The Central State Historical Archives of Ukraine. Fund 2048. Inventory 1. Unit 99]. FARIT N. AHMADIEV – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Archaeology and World History, Institute of International Relations, Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan (ahmadiev101@mail.ru). IGOR V. VOSTRIKOV – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Archaeology and World History, Institute of International Relations, Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan (igor-vostrikov@bk.ru). SHARAFUTDINOV GENNADIY – Lecturer, Department of Foreign Languages in the Sphere of International Relations, Institute of International Relations, Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan (genesharafut@mail.ru). Формат цитирования: Ахмадиев Ф.Н., Востриков И.В., Шарафутдинов Г.Р. К вопросу о развитии исторического образования в России второй половины XIX – начала ХХ века // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 5–12. DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-5-12. Отечественная история: люди, события, факты 13 DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-13-23 УДК 930.1 ББК 63.3(2)6 А.В. МАНЬКОВ СИМБИРСКАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ О ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ КРАСНОЙ АРМИИ: К ВОПРОСУ О РАННЕЙ ИСТОРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА Ключевые слова: Советская Россия, Красная армия, 23 февраля, Революция 1917 г., Гражданская война, День рождения Красной армии, г. Симбирск, «Экономический путь». В современной России ежегодно 23 февраля отмечается государственный праздник – День защитника Отечества, который имеет непосредственную связь как с историей армии Российского государства, так и с действующими военнослужащими страны. Актуальность текущего обращения автора к данной теме обусловлена в первую очередь проводимой на Украине специальной военной операцией. Военная история государства, вне всякого сомнения, представляет интерес для тех, кого в наши дни волнует текущая военно-политическая обстановка как в мире, так и вокруг нашей страны. Как отмечали этот праздник в прошлом? Каковы были праздничные мероприятия в российских регионах? Цель данной статьи – продолжить изучение ранней истории современного Дня защитника Отечества на материалах Симбирской губернии. Материалы и методы. Автором используется проблемно-аналитический и хронологический методы исследования, источниковой базой работы служат симбирские газеты 1923 г, а также воспоминания участников событий. Результаты исследования. Автор указывает на то, что День Красной армии именно в 1923 г. впервые стал поистине праздником общегосударственного значения. По всей стране прошли организованные государственными органами и общественными организациями торжественные собрания, митинги, концерты и другие праздничные мероприятия. Наиболее организованное и массовое празднование прошло в крупных городах страны, к таковым, несомненно, относились столицы союзных республик. Широко отмечалось исследуемое событие и в региональных центрах страны. Не остался в стороне от общегосударственной линии и губернский средневолжский Симбирск. Так, даже в симбирском исправительном доме для заключенных был запланирован доклад о Красной армии. Выводы. В 1923 г. обязательным атрибутом праздника Дня рождения Красной армии в России стало проведение торжественных собраний и заседаний руководящих органов и трудящихся на предприятиях. При этом в городах продолжалась практика проведения митингов-спектаклей. Новыми стали, пожалуй, лишь вечера воспоминаний, что было связано с окончанием Гражданской войны. Тематика военной истории, связанная, в частности, с самым известным и популярным отечественным праздником военнослужащих, не является новой для автора. Ранее мы уже обращались к некоторым историческим аспектам празднования Дня защитника Отечества [4]. Научный интерес к данной теме проявляет и ряд других современных авторов. Так, среди общедоступных работ можно выделить статью череповецкого педагога И.И. Сидоровой, которая исследует празднование Дня Красной армии 23 февраля 1919 г. [6]. В ней автор отмечает, что в ходе празднования первого всероссийского Дня Красной армии 23 февраля 1919 г. обязательным атрибутом праздника стал просмотр театральных представлений или кинематографических сеансов [6. С. 690]. Об истории праздника Красной армии в контексте воспитания детей и подростков лапидарно упоминает в своей работе коллектив петербургских авторов в составе А.В. Тихомировой, О.Ю. Войтёнок и Т.В. Морозовой [7]. В своей статье 14 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 они использовали источники 1930-х гг., в одном из которых указывалось, что «к защите СССР должны готовиться не только красноармейцы, но и все трудящиеся, а в день Красной армии красноармейцы и все трудящиеся проверяют свои силы и готовность страны к защите» [7. С. 732]. Актуальность нашего нового обращения к теме истории главного праздника Вооруженных Сил Российского государства в первую очередь обусловлена продолжающейся специальной военной операцией на Украине. Несомненно, что современная Российская армия является историческим преемником как Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), созданной в 1918 г. после победы большевиков в Великой русской революции 1917 г., так и других видов военной организации Российского государства, существовавших на разных этапах его развития. Проблема государственно-патриотического воспитания военнослужащих в сложных текущих военно-политических условиях стоит не менее остро, чем в первые годы существования Красной армии и ее борьбы с многочисленными идейными противниками. В этой связи весьма актуально выглядят слова знаменитого красного командира Г.Д. Гая, освобождавшего Среднее Поволжье от белочехов, о том, что «молодые бойцы красноармейцы должны воспитываться на примерах старших, а рабоче-крестьянская молодежь должна учиться на примерах прошлого, чтобы подковать себя на будущие революционные бои» [2. С. 9]. День создания Красной армии имеет не самую долгую историю. Впервые его начали отмечать лишь в 1919 г., но при этом история этого праздника со временем стала достаточно содержательной и, на наш взгляд, вполне поучительной для современного российского общества и, в частности, не столько для его вооруженных защитников, сколько для чиновников, руководителей политических и общественных организаций. Как отмечали этот праздник в прошлом? Какими были праздничные мероприятия в российских регионах? Какова при этом была роль государственных и общественных организаций? Цель данной работы состоит в продолжение изучения нами ранней истории современного Дня защитника Отечества на материалах празднования дня образования Красной армии в Симбирской губернии 100 лет тому назад. При этом 1923 год выбран нами не случайно. Это был первый мирный, послевоенный период в жизни Советской Республики. Закончившаяся кровопролитная братоубийственная Гражданская война, активная часть которой завершилась в европейской части страны осенью 1920 г., а на Дальнем Востоке и некоторых других регионах – в 1922 г., позволила подвести некоторые важные итоги военного строительства в молодой республике. В то же время образование СССР в декабре 1922 г., по нашему мнению, позволяло говорить о наличии формирования общефедерального подхода к празднованию Дня Красной армии. В ходе исследования автором используется, как правило, проблемно-аналитический и хронологический методы исследования, источниковой базой работы служат в первую очередь симбирские газеты 1923 г, а также воспоминания участников событий. Следует отметить, что борьба за армию всегда была в центре политики партии большевиков. Военная работа этой партии имеет свою богатую историю. Подобная деятельность постоянно происходила и в Симбирске. Так, один из лидеров большевистской организации города в период революции 1917 г. М.Д. Крымов писал: «Гарнизон в то время был еще в эсеровских руках (точнее, Отечественная история: люди, события, факты 15 не гарнизон, а гарнизонные комитеты, где сидело офицерье). Эти комитеты не подпускали нас, большевиков, к солдатам. Дается боевое задание – проникнуть в солдатскую массу. Задание выполняют военные большевики: солдат Гаевский и поручик И.Г. Новиков. Они распропагандировали солдат через личные беседы, через доставку “Симбирской правды”». Газета сыграла огромную роль в деле завоевания гарнизона» [3. С. 18]. К слову, в годы Гражданской войны Симбирск занимал важное место в военном противостоянии Советской власти со своими многочисленными противниками. Так, в крае была создана 1-я армия Восточного фронта, воевала знаменитая Симбирская железная дивизия [5. С. 400–404]. После победы в Гражданской войне большевики уже практически полностью доминировали в военной политики государства и, несмотря на наличие определенного эсеровского элемента в управлениях и частях РККА, именно коммунисты определяли направление, цели и задачи этой политики. Так, народный комиссар по военным и морским делам М.В. Фрунзе после Гражданской войны указывал в своем докладе «Красная Армия и оборона Советского Союза», что «Красная Армия в целом, но и командный состав Красной Армии представляет плоть от плоти рабочего класса и крестьянства. Мы добились того, что вся головка, руководящая Красной Армией, является пролетарской и крестьянской» [20. С. 205]. В ходе Гражданской войны в Красной армии появились политические органы, которые преступили к проведению партийно-политической работы в войсках. К 1923 г. эта работа выглядела уже организованной и системной деятельностью, направленной в первую очередь на идеологическое обеспечение военной практики большевиков. В этой работе принимало самое непосредственное участие и высшее военное руководство страны, объединенное в коллегиальный орган управления и политического руководства Вооруженными Силами РСФСР – Революционный Военный Совет Республики (РВСР). Как уже отмечалось нами ранее в работе, посвященной истории Дня защитника Отечества, вышедшей в Петербурге пару лет назад, в 1923 г. в честь «Дня Красной Армии и Флота» впервые был издан соответствующий приказ Реввоенсовета Республики [4]. Тем самым, как мы считаем, оказался значительно повышен общественно-политический статус нового праздника. Авторитет Революционного Военного Совета Советской Республики после успешного окончания Гражданской войны оказался очень большим. В обществе к этому времени прочно были убеждены в том, что «Красная армия укрепляет силу государства оружием» [9. С. 1]. В 1923 г. празднование дня рождения РККА началось с заседаний государственных органов. Так, 20 февраля 1923 г. в столице молодого Советского Союза г. Москве прошло заседание пленума Моссовета, на котором была принята резолюция по докладу командующего войсками Московского военного округа тов. Муралова, «отмечающая большое значение Красной армии в победоносной пролетарской революции». При этом столичные депутаты послали «горячий привет всем бойцам Красной армии во главе с ее вождем т. Троцким» [14. С. 2]. 23 февраля одна их симбирских газет информировала читателя: «Москва, 22 февраля 1923 г. Вчера начались празднества пятилетия Красной Армии. В Колонном зале Дома Союзов состоялся первый вечер воспоминаний, на котором выступили главком Каменев, Муралов и Антонов-Овсеенко. Член Президиума Коминтерна Гериле выразил сожаление, что германским рабочим 16 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 в 1918 г. не удалось создать Красную армию. В будущем ошибка не повторится» [15. С. 3]. Та же газета писала: «В связи с пятилетием Красной армии Исполком Профинтерна выпустил воззвание, в котором говорится, что шестая часть земного шара, благодаря мужеству и героизму Красной армии может заниматься мирными делами. Остальные пять частей находятся под железной пятой капитала» [15. С. 3]. В газете также сообщалось: «В Москве торжественно открылась юбилейная выставка Красной армии и флота. Представлены экспонаты всех военных управлений и учреждений. Целая комната посвящена поезду Троцкого и его работам на боевых и трудовых фронтах. На выставке в походной типографии издается специальная газета «Победа», которая в первом номере приветствует РОСТА, как шефа красноармейской печати» [15. С. 3]. Нам удалось выяснить, что в 1923 г. День рождения Красной армии отмечали и за границей. Так, «Экономический путь» указал: «В день пятилетнего юбилея Красной армии состоялась внушительная демонстрация берлинского пролетариата. Вечером в одном из самых внушительных залов Берлина состоялся доклад Мюнценберга (Вильгельм Мюнценберг – немецкий коммунист, издатель и деятель Коминтерна, основатель Международной рабочей помощи. – А.М.), посвященный годовщине Красной армии. После доклада демонстрировался фильм «Четвертый Конгресс Коминтерна», где показан парад Красной армии. При бурных аплодисментах собрание приняло предложение отправить приветственную телеграмму Троцкому» [18. С. 2]. Празднование в 1923 г. приняло массовый характер. В газете подчеркивалось: «Из разных городов СССР сообщают, что празднование пятилетия Красной армии прошло с большим подъемом. 22 февраля прошли вечера воспоминаний, спектакли и доклады. На торжественном заседании пленума горсоветов, партийных и государственных организаций чествовали красноармейцев. 23 февраля состоялись торжественные парады, манифестации и вручение знамен, принятие присяги и награждение героев» [18. С. 2]. Конечно же, наиболее организованное и массовое празднование прошло в крупных городах страны, к таковым, несомненно, относились столицы союзных республик. Так, газета сообщала, что в столице Советской Белоруссии г. Минске «все рабочие организации усиленно готовятся к юбилею Красной армии. Шефы ассигновали крупные суммы на материальную помощь красноармейцам и устройство праздника в подшефных частях» [15. С. 2]. В столице Советской Украины г. Харькове «в связи с пятилетием Красной армии ВУЦИК (Всеукраинский центральный исполнительный комитет. – А.М.) вручит отличившимся лицам комсостава грамоты и ценные подарки» [16. С. 1]. Широко праздновалось исследуемое событие и в региональных центрах страны. Крупнейший город Среднего Поволжья Самара, например, отметился особой заботой о материальном обеспечении частей РККА. «Экономический путь» писал: «Губисполком отпустил к юбилею Красной армии на ремонт и проводку электричества в артиллерийских казармах 30 000 рублей. Губпоследгол (губернская комиссия по борьбе с последствиями голода. – А.М.) выделил на улучшение питания красноармейцев 1000 пудов хлеба. Губнаробраз отпускает воинским школам парты и школьные доски» [16. С. 1]. В центре Северо-Кавказского региона г. Ростове-на-Дону, где находился штаб большого военного округа, сообщалось, в частности, о борьбе с неграмотностью. Газета указывала, что «из всех частей Северо-Кавказского военного округа Отечественная история: люди, события, факты 17 получаются донесения о полной ликвидации неграмотности. Шефами проделана большая работа по восстановлению казарм. Открывается выставка-музей Красной армии» [16. С. 1]. Некоторые постановления февраля 1923 г. в наши дни подкупают своей политической наивностью. Например, в Симферополе на красноармейской конференции войск Крыма было принято решение «отчислить во всех красноармейских частях однодневный паек в пользу французских и немецких коммунистов, томящихся в тюрьмах» [15. С. 3]. Как показало проведенное исследование, не остался в стороне от общегосударственной линии и губернский, но небольшой средневолжский Симбирск (число жителей города по переписи 1920 г. составляло 76 982 человека. – А.М.) [1. С. 22]. Так, на пятницу 9 февраля 1923 г. в Симбирском отделе Управления было назначено заседание комиссии по празднованию 5-летия Красной армии. На собрание приглашались шефы всех воинских частей» [10. С. 1]. В городе был создан план празднования 5-й годовщины Красной армии по г. Симбирску 22 и 23 февраля 1923 г., разработанный председателем комиссии по проведению праздника Нестеровым. Обширный документ, к слову, состоял из 13 мероприятий [13. С. 1]. В конце января – начале февраля в Симбирске прошла неделя укрепления связи печати с массами. Возможно, что по этой причине в симбирских газетах стали больше писать о Красной армии, был остро поставлен вопрос об освещении жизни воинских частей и подразделений и участия в этом процессе самих красноармейцев [9. С. 1]. При этом симбирская газета «Экономический путь» отмечала, что «сегодня наша Красная армия празднует пятую годовщину своего существования. Прошедшие 5 лет – это героическая страница нашей Революции, которая врежется во все времена человечества. Прошедшие пять лет армия, созданная восставшим пролетариатом и крестьянством, отстаивала идеи восставших, и за эти пять лет она смогла создать непоколебимую стену, о которую разбились все усилия врагов рабочего класса. Эти пять лет героической борьбы уже в прошлом, и на них можно бросить беглый взгляд» [15. С. 1]. Автор передовой статьи в этом номере газеты рассуждает и о причинах успеха Красной армии. Он писал «Чем побеждала Красная армия? Если мы припомним, что в наследие от царского правительства нам досталось расползающееся по всем швам народное хозяйство, если мы припомним, что империалистическая война до крайности изнурила нашу промышленность, и если мы припомним, что к тому времени, когда пролетариат был вынужден взяться за оружие, чтобы защищать свои завоевания, в распоряжении рабоче-крестьянской власти были самые незначительные запасы технических средств, то мы должны будем решительно ответить, что наша рабоче-крестьянская Красная армия побеждала только безграничным энтузиазмом, только революционным порывом, только беззаветной преданностью идеям, воздвигнутым Октябрьским переворотом» [15. С. 1]. Чуть менее чем за пару недель до праздника в симбирской газете «Экономический путь» 10 февраля 1923 г. были опубликованы тезисы Политуправления, которые так и назывались, «К 5-летию Красной армии». В них, в частности, говорилось: 1. 23 февраля 1923 года Красная армия празднует 5-ю годовщину своего существования. Этот день является праздником всей трудовой Советской России, 18 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 так как наша Рабоче-Крестьянская армия – детище Октябрьской революции, плоть от плоти рабочих и крестьян. 2. 5-я годовщина Красной армии является праздником всего мирового пролетариата. 3. Красная армия, первая в истории человечества рабоче-крестьянская армия, защищающая интересы трудящихся и угнетенных, направляя свои удары против эксплуататоров и поработителей. 4. Без Красной армии рабочие и крестьяне не могли бы выйти победителями из борьбы. 5. Классовая борьба в революции принимает форму гражданской войны, вооруженного столкновения. Борющиеся классы готовят свою классовую вооруженную силу. Красная армия – вооруженная сила рабочего класса в пролетарской революции [11. С. 2]. Особо отметим, что данные тезисы были одобрены Агитпропом ЦК РКП, что подчеркивало их значимость и придавало им характер официальной идеологической концепции. Все это, несомненно, помогало рядовым коммунистам и простым гражданам понять непростые теоретические вопросы организации военного строительства в новой республике. Каждая воинская часть в Симбирском гарнизоне имела свой план подготовки к празднику и реализовывала его на практике. Так, характеризуя повседневную жизнь во 2-м полку, «Экономический путь» указывал, что «в полку идет подготовка к празднованию 5-й годовщины Красной армии. Ведутся переговоры с шефом об оказании помощи. Ко дню празднования будет подготовлен специальный номер стенной газеты, посвященный жизни Красной армии. Накануне дня 5-й годовщины состоится “вечер воспоминаний”» [12. С. 3]. В самом Симбирске к 5-й годовщине Красной армии было запланировано большое количество праздничных мероприятий. Газета сообщала: «Празднование пятилетия годовщины Красной армии началось еще с 22 февраля. В клубах Дзержинского, 2-го полка, Пищевиков, Красного милиционера, Горсвета и др. были проведены митинги, вечера воспоминаний и спектакли, прошедшие с большим подъемом. 23-го состоялось торжественное заседание в Большом театре, на котором принимали участие красноармейские части, партийные и профсоюзные организации. Торжественное заседание открыл предгубисполкома т. Рейн (Рихард Петрович Рейн с августа 1921 по июль 1923 г. – председатель Симбирского губернского исполнительного комитета. – А.М.), с приветствием выступали от Губкома РКП т. Попов, Губкома РКСМ т. Кузнецов, Губпрофсовета т. Григорьев. С ответным словом от имени частей гарнизона выступал т. Шиганов. После приветствий т. Яковенко сделал доклад на тему: «Красная армия в прошлом и настоящем». По окончании докладов т. Горячев от имени Горрайкома РКП вручил командиру 21 роты знамя в знак признания шефства над указанной ротой. Особенной торжественностью отмечалось чествование инвалидов и героев гражданской войны. Перед переполненным залом театра прошла целая галерея сказочных подвигов героев пролетариата в его борьбе со своим классовым врагом. Взрывом оглушительных рукоплесканий встречались и провожались герои, не щадившие свою жизнь за дело трудящихся. Отечественная история: люди, события, факты 19 Вручая подарки героям, т. Рейн отметил, что только последствия нападений западной и отечественной контрреволюции, приведшие страну к нищете и разорению, заставляют награждать власть такими скромными подарками» [16. С. 2]. Необходимо признать, что торжественные мероприятия в городе организовывались в очень интересных учреждениях. Парадоксально, но праздничные мероприятия прошли даже в тюремных условиях Симбирского исправдома. Газета указывала: «В день празднования 5-летней годовщины Красной армии 23 февраля 1923 г. состоялось торжественное заседание администрации совместно с заключенными, открывшееся пением «Интернационала». Докладчик пом. прокурора тов. Никитин в обстоятельной речи ярко обрисовал все этапы развития и борьбы героической Красной армии за пять лет ее существования. По окончании доклада со стороны заключенных была предложена резолюция, – принятая единогласно с приветствием Красной армии» [18. С. 2]. Не менее удивительно, что торжества также были организованы и в Карамзинской колонии душевнобольных. 22 февраля в ней был устроен вечер, в ходе которого «политком в обстоятельном докладе развернул пятилетнюю историю Красной армии, выросшей из красногвардейских отрядов в могучую армию – угрозу мировым хищникам. Присутствующим красноармейцам было предложено угощение» [18. С. 2]. С другой стороны, так же как и в других городах, собрания и митинги прошли в советских учреждениях Симбирска. Например, годовщина Красной армии не осталась незамеченной в Симбирском губпродкоме. Газета подчеркивала, что «23 февраля в день 5-й годовщины Красной армии в зале Губпродкома состоялся митинг-спектакль. Присутствовали рабочие, служащие и красноармейцы. Перед концертом заслушали доклад представителя ячейки РКП об истории Красной армии. После доклада была принята резолюция, в которой говорилось: «В день пятилетия Красной армии общее собрание рабочих и служащих Губпродкома с восторгом и гордостью вспоминает доблестный и трудный путь борьбы с врагами рабочего класса, победно пройденный Красной армией. Общее собрание склоняет головы перед памятью героев, павших на славном и почетном красноармейском посту. В настоящее время общее собрание считает Красную армию единственной в мире армией, защищающей интересы трудовых масс, готовой в любой момент выступить на защиту рабочих и крестьян и дорого проучить каждого, кто попытается посягнуть на завоевания великой революции. После доклада шла пьеса “Мы и Она”, которая была живо сыграна силами РКСМ» [19. С. 1]. Пятилетие Красной армии было отмечено на Симбирских центрокурсах. Городская пресса отметила: «Отпраздновали и центрокурсы пятилетие Красной армии. Отпраздновали просто, скромно, по-товарищески. Коротенький, но содержательный и популярный доклад о Красной армии и ее юбилее, значении для Республики сделал председатель студенческого комитета Сунцов. Слушали со вниманием. После доклада собрание слушателей вынесло резолюцию с приветствием вождям русского пролетариата и Красной армии тт. Ленину и Троцкому» [17. С. 2]. Общее собрание, посвященное юбилею Красной армии, 22 февраля состоялось в обществе симбирских пищевиков. Газета писала: «Аккуратно собираются рабочие, человек 80. Первый доклад о 5-летии Красной армии. Выступает тов. Кадышев, который в получасовой речи обрисовывает историю Красной армии, рассказывает, как она создавалась и какие были ее задачи. Далее 20 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 тов. Медведев обрисовал положение Красной армии за 5 лет. Была вынесена резолюция, в которой рабочие пищевики говорят, «если кто посмеет нарушить мир рабочего класса, Красная армия с помощью рабочих и крестьян, сможет быстро ликвидировать любое нападение на Советскую Россию» [19. С. 3]. 20 февраля вопрос «к 5-й годовщине Красной армии» обсуждался даже на собрании женщин – студенток рабфака [15. С. 4]. В 1923 г. в Советской России широко развернулась работа по взятию шефства над Красной армией. Эта работа активизировалась к 23 февраля. Так, в Вологде «к юбилею Красной армии губисполком и шефы выделили местному гарнизону 17 500 р. и большое количество разных вещей и подарков» [14. С. 2]. Многие воинские части РККА по всей стране получили своих персональных шефов, которые представляли самые разные организации страны. На Ставрополье Александровский уездный исполком «отпустил подшефной бригаде 2000 пуд. пшеницы и 1500 рублей. Пищевики отчислили однодневный заработок» [15. С. 2]. В Симбирске накануне праздника «администрация Симбирского военного госпиталя (Симвоенгоспиталя) обратилась своевременно к своему шефу Губпродкому (Губернский продовольственный комиссар. – А.М.) с просьбой выдать средства для устройства праздника по случаю 5-й годовщины Красной армии. Шеф пошел навстречу и отпустил госпиталю: муки ржаной 100 пудов, муки пшеничной 2 пуда, масла 15 фунтов, мяса 2 пуда 20 фунтов и др. Служащие и красноармейцы госпиталя весьма благодарны шефу за его помощь» [17. С. 2]. Шефами самого известного полка, дислоцированного в Симбирске, 2-го Симбирского стрелкового стали патронный завод и Губпросвет. Как писал в начале февраля «Экономический путь» полк получил от шефов 620 900 руб. выпуска 1922 г. [8. С. 2]. Некоторые городские организации перед праздником произвели отчисление денежных средств для Красной армии из фонда заработной платы. Так, «ко дню 5-летия Красной армии на собрании служащих правления «Симбирсклес» постановлено отчислять 1/4 дневного заработка каждого служащего в пользу 2 симбирского полка, шефом которого состоит ГСПС» [16. С. 3]. В этой связи отметим, что в праздничные дни не обошлось и без подарков: Союз связи г. Симбирска выделил из своих средств 100 руб. на помощь Красной армии, предложив сделать то же самое и другим хозяйственным органам связи [14. С. 2]. Интересен и тот факт, что в предпраздничные и праздничные дни все воинские части местного гарнизона 21, 22 и 23 февраля были освобождены от строевых занятий, а питание красноармейцев было улучшено «выдачей белого хлеба и усиленным приварком». В военном госпитале организовывалось приведение к военной присяге красноармейцев и вольнослужащих, а также раздача подарков [14. С. 1]. Выводы. Таким образом, в 1923 г. в Советской России день рождения Красной армии перестал быть только ведомственным событием и постепенно переходил в разряд праздников общегосударственного значения. В 1923 г. обязательным атрибутом Дня рождения РККА стало проведение торжественных собраний и заседаний руководящих органов, а также трудящихся на предприятиях. Подобная практика имела место быть как в столице страны, так и в провинции. День рождения Красной армии оказался отмечен и за границей, в частности, в Берлине. Организаторами основных мероприятий по всей стране были городские органы власти. При этом в городах продолжалась практика проведения митингов- Отечественная история: люди, события, факты 21 спектаклей. Новыми явились, пожалуй, лишь вечера воспоминаний, что было связано с недавним окончанием Гражданской войны. На протяжении февраля 1923 г. воинским частям оказывалась большая шефская помощь, заключавшаяся в предоставлении материальных ценностей, денежных пожертвований и подарков. Основными из них, пожалуй, стали продукты питания. День рождения Красной армии был торжественно отмечен и в Симбирске. Активную роль при этом играла симбирская периодическая печать, постоянно информировавшая читателей о подготовке к проведению юбилея и освещавшая основные события, проходившие в городе. Причем позиция симбирских газет была подчеркнуто уважительной к военнослужащим и соответствовала официальной линии государства. В завершение отметим, что мероприятия, посвященные 5-летию рождения Красной армии, на наш взгляд, способствовали не только упрочению в обществе любви к армии и защитникам Отечества, но и формированию нового советского государственного патриотизма. Как нам представляется, опыт, накопленный Советской Россией в этом направлении, а затем закрепленный в Советском Союзе, может и должен использоваться в современном российском обществе, его Вооруженных Силах, в частности, при проведении возрожденной не так давно в войсках и силах флота военно-политической работы. Литература 1. Весь Ульяновск и Сызрань на 1925 г. Самара, 1925. 200 с. 2. Гай Г.Д. Борьба с чехо-словаками на Средней Волге. М.: Госвоениздат, 1931. 76 с. 3. Крымов М.Д. Большевики в борьбе за власть Советов // За власть Советов. Воспоминания участников Октябрьской революции в Симбирской губернии. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1967. С. 16–20. 4. Маньков А.В. Воспитывает ли популярный праздник или что мы отмечаем 23 февраля (по материалам советских газет 1920-х гг.) // Развитие военной педагогики в XXI в.: материалы IX межвуз. науч.-практ. конф. СПб.: ВАС, 2022. С. 410–423. 5. Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1964. Ч. 1. 512 с. 6. Сидорова И.И. Репертуар театров и кинематографа в День Красной армии 23 февраля 1919 года // Развитие военной педагогики в XXI в.: материалы VI межвуз. науч.-практ. конф. СПб.: ВАС, 2019. С. 689–696. 7. Тихомирова А.В., Войтёнок О.Ю., Морозова Т.В. Особенности обучения детей по теме «День защитника Отечества» // Развитие военной педагогики в XXI в.: материалы VI межвуз. науч.практ. конф. СПб.: ВАС, 2019. С. 731–738. 8. Экономический путь. 1923. № 22(372), 1 февр. 9. Экономический путь. 1923. № 23(373), 2 февр. 10. Экономический путь. 1923. № 28(378), 8 февр. 11. Экономический путь. 1923. № 30(380), 10 февр. 12. Экономический путь. 1923. № 31(381), 11 февр. 13. Экономический путь. 1923. № 39(389), 21 февр. 14. Экономический путь. 1923. № 40(390), 22 февр. 15. Экономический путь. 1923. № 41(391), 23 февр. 16. Экономический путь. 1923. № 42(392), 24 февр. 17. Экономический путь. 1923. № 43(393), 25 февр. 18. Экономический путь. 1923. № 44(394), 27 февр. 19. Экономический путь. 1923. № 45(395), 28 февр. 20. Фрунзе М.В. Военная доктрина Красной Армии. М.: Родина, 2018. 240 с. МАНЬКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного, Россия, Санкт-Петербург (63donetsk@mail.ru). 22 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Andrei V. MANKOV SIMBIRSK PERIODICAL PRESS ABOUT THE CELEBRATION OF THE RED ARMY DAY: REVISITING THE EARLY HISTORY OF DEFENDER OF THE HOMELAND DAY Key words: Soviet Russia, the Red Army, February 23, Revolution of 1917, Civil War, Birthday of the Red Army, Simbirsk, "Economic path". In modern Russia, a state holiday is celebrated annually on February 23 – Defender of the Homeland Day, which has a direct connection with both the history of the Russian state's army and the country's active military personnel. The relevance of the author's current appeal to this topic is primarily due to the special military operation conducted in the Ukraine. The military history of the state, without any doubt, is of interest to those who are concerned about both the current military-political situation in the world and around our country these days. How was this holiday celebrated in the past? What were the festive events in the Russian regions? The purpose of this article is to continue studying the early history of the modern Defender of the Homeland Day on the materials of Simbirsk governorate. Materials and methods. The author uses problem-analytical and chronological research methods, the source base of the work is Simbirsk newspapers dated 1923, as well as memories of the events participants. Study results. The author points out that the Red Army Day in 1923 for the first time became a truly national holiday. Solemn meetings, concerts and other festive events organized by state bodies and public organizations took place throughout the country. The most organized and mass celebration took place in the major cities of the country, which undoubtedly included the capitals of the Union republics. The event under study was widely celebrated in the regional centers of the country. The provincial Middle Volga Simbirsk did not stay away from the national line either. So, a report on the Red Army was planned even in Simbirsk correctional house for prisoners. Conclusions. In 1923, a mandatory attribute of the Red Army Birthday holiday in Russia was holding solemn meetings and meetings of governing bodies and workers at enterprises. At the same time, the practice of holding meetings- performances continued in the cities. Perhaps only the evenings of memories that were associated with the end of the Civil War became new. References 1. Ves' Ul'yanovsk i Syzran' na 1925 g. [All of Ulyanovsk and Syzran in 1925]. Samara, 1925, 200 p. 2. Gaj G.D. Bor'ba s cheho-slovakami na Srednei Volge [The struggle against the Czechoslovaks on the Middle Volga]. Moscow, Gosvoenizdat Publ., 1931, 76 p. 3. Krymov M.D. Bol'sheviki v bor'be za vlast' Sovetov [The Bolsheviks in the Struggle for Soviet Power]. In: Za vlast' Sovetov. Vospominaniya uchastnikov Oktyabr'skoi revolyucii v Simbirskoi gubernii. [For the power of the Soviets. Memoirs of participants in the October Revolution in the Simbirsk province]. Saratov, Volga Book Publ. House, 1967, 316 p. 4. Man'kov A.V. Vospityvaet li populyarnyi prazdnik ili chto my otmechaem 23 fevralya (po materialam sovetskih gazet 1920-h gg.) [Educates whether a popular holiday or what we celebrate on February 23 (based on the materials of Soviet newspapers of the 1920s]. In: Razvitie voennoi pedagogiki v XXI v.: materialy IX mezhvuz. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Sci. Conf. «Development of military edagogy in the XXI century»]. St. Petersburg, VAS Publ., 2022, pp. 410–423. 5. Ocherki istorii Ul'yanovskoi organizacii KPSS [Essays on the history of the Ulyanovsk organization of the CPSU]. Saratov, Volga Book Publ. House, 1964, part 1, 512 p. 6. Sidorova I.I. Repertuar teatrov i kinematografa v Den' Krasnoi armii 23 fevralya 1919 goda [Repertoire of theaters and cinema on the Day of the Red Army on February 23, 1919]. In: Razvitie voennoi pedagogiki v XXI v.: materialy VI mezhvuz. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Sci. Conf. «Development of military edagogy in the XXI century»]. St. Petersburg, VAS Publ., 2019, pp. 689 – 696. 7. Tihomirova A.V., Vojtenok O.Yu., Morozova G.V. Osobennosti obucheniya detej po teme «Den' zashchitnika Otechestva» [Features of teaching children on the theme "Defender of the Fatherland Day"]. In: Razvitie voennoi pedagogiki v XXI v.: materialy VI mezhvuz. nauch.-prakt. konf. [Proc. of Sci. Conf. «Development of military edagogy in the XXI century»]. St. Petersburg, VAS Publ., 2019, pp. 731–738. 8. Ekonomicheskii put', 1923, no. 22(372), Feb. 1. 9. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 23(373), Feb. 2. 10. Ekonomicheskii put'. 1923, no, 28(378), Feb. 8. 11. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 30(380), Feb. 10. Отечественная история: люди, события, факты 23 12. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 31(381), Feb. 11. 13. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 39(389), Feb. 21. 14. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 40(390), Feb. 22. 15. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 41(391), Feb. 23. 16. Ekonomicheskii put'. 1923. no. 42(392), Feb. 24. 17. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 43(393), Feb. 25. 18. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 44(394), Feb. 27. 19. Ekonomicheskii put'. 1923, no. 45(395), Feb. 28. 20. Frunze M.V. Voennaya doktrina Krasnoi Armii [Military Doctrine of the Red Army]. Moscow, Rodina Publ., 2018. 240 p. ANDREI V. MANKOV – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Humanities and Socio-Economic Disciplines of the Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budenny, Russia, St. Petersburg (63donetsk@mail.ru). Формат цитирования: Маньков А.В. Симбирская периодическая печать о праздновании Дня Красной армии: к вопросу о ранней истории Дня защитника Отечества // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 13–23. DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-13-23. 24 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-24-33 УДК 930.25 ББК 6.3(2)45-3 В.Г. ТКАЧЕНКО РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И АРХИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИКАЗНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЯМИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (на примере Чувашского края1) Ключевые слова: архив, делопроизводство, дьяк, контроль, наказ, наказная память, подьячий, поручительство, переписная книга, приказная изба, росписной список, указная грамота, челобитная. Целью исследования является выявление основных форм и методов контроля центральной и местной власти в сфере делопроизводства и архивного дела на региональном уровне государственного управления. Методы и материалы. Источниковой базой исследования послужили недавно опубликованные документы Ядринской приказной избы из фонда № 157 Ядринская воеводская изба (1645–1775), хранящегося в Научно-историческом архиве СанктПетербургского института истории РАН. В основе исследования лежат базовые принципы исторического познания – объективность и историзм, предполагающие всесторонний критический анализ исторических процессов и явлений в их формировании, становлении и развитии. На основе историко-типологического метода предпринята попытка выявить общие тенденции реализации контроля в конкретных проявлениях делопроизводственной и архивной деятельности местных государственных учреждений. Новизна исследования заключается не только в использовании новых источников, ранее не привлекавшихся для исследования заявленной темы, но и в восполнении существующего пробела в разработке истории Чувашии, связанного с делопроизводственной и архивной деятельностью местных органов власти на территории края в досоветский период. Научно-практическая значимость предлагаемой публикации отвечает проблемам современного отечественного архивоведения. Результаты исследования. Субъектами контроля в рассматриваемый период выступали царь, Боярская дума, приказы, а также воеводы, назначавшиеся верховной властью для управления отдельными территориями. В качестве методов контроля использовалось: направление Боярской Думой ревизоров – «сыщиков» – для проверки действий воевод; представление ежегодных отчетов – «сметных книг» и составление росписных списков при смене воевод для отчета Приказу Казанского дворца; практика хранения присылаемых из центральных органов власти документов у их непосредственного получателя, а также в виде копии – в приказной (съезжей) избе; система подачи челобитных для реализации обратной связи с населением; институт поручительства. Документы, в том числе архивные, не только являлись объектом контроля, но и играли значимую роль в реализации самой контрольной деятельности. Выводы. С точки зрения своей организации сложившаяся в XVII в. система контроля в сфере делопроизводства и архивов представляла собой важный элемент государственного управления и в целом справлялась с поставленными задачами. Долгое время в отечественной историографии доминировало мнение о том, что одной из слабых сторон и недостатком приказной системы было отсутствие особого органа контроля в сфере управленческой деятельности. Однако, как справедливо полагает О.В. Новохатко, контрольные функции были 1 Условное обобщенное название территории, включавшей три уезда Казанской губернии: Цивильский, Чебоксарский и Ядринский, а также части территорий Алатырского, Буинского и Курмышского уездов Симбирской губернии, где, согласно Всероссийской переписи 1897 г., компактно проживало более 478 тыс. чувашей. Отечественная история: люди, события, факты 25 заложены в самом устройстве системы управления XVII в. [7. С. 126]. По ее мнению, «контроль обеспечивался тесной спаянностью звеньев государственного управления по вертикали, которая достигалась не путем канцелярской переписки или эпизодическими разовыми проверками, а непосредственным участием администраторов вышестоящих органов в делах подчиненных им учреждений» [7. С. 126]. То есть отсутствие специально учрежденной контролирующей структуры не означало отсутствия самого контроля. Посвятивший отдельное исследование архивам и царскому контролю приказной службы в XVII в. Д.Я. Самоквасов утверждал, что и контроль деятельности дьяков и подьячих по организации хранения архивных документов в целости и порядке и их использование были основаны в Московском государстве «на разумных началах» [8. С. 7]. Целью исследования является выявление основных форм и методов контроля центральной и местной власти в сфере делопроизводства и архивного дела на региональном уровне государственного управления. Методы и материалы. Источниковой базой исследования послужили недавно опубликованные документы Ядринской приказной избы из фонда № 157 Ядринская воеводская изба (1645–1775), хранящегося в Научно-историческом архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. В основе исследования лежат базовые принципы исторического познания – объективность и историзм, предполагающие всесторонний критический анализ исторических процессов и явлений в их формировании, становлении и развитии. На основе историко-типологического метода предпринята попытка выявить общие тенденции реализации контроля в конкретных проявлениях делопроизводственной и архивной деятельности местных государственных учреждений. Новизна исследования заключается не только в использовании новых источников, ранее не привлекавшихся для исследования заявленной темы, но и в восполнении существующего пробела в разработке истории Чувашии, связанного с делопроизводственной и архивной деятельностью местных органов власти на территории края в досоветский период. Научно-практическая значимость предлагаемой публикации отвечает проблемам современного отечественного архивоведения. Результаты исследования. Субъектами контроля в рассматриваемый период выступали царь, Боярская дума, приказы и воеводы, назначавшиеся верховной властью для управления административно-территориальными единицами Московского государства. Высший контроль осуществлялся непосредственно царем, к которому через приказы стекалась вся информация о состоянии дел в государстве. При Алексее Михайловиче он реализовывался через Приказ тайных дел, а также Тайную или Комнатную царскую думу, выступавшую в качестве личной канцелярии царя. Не будучи органами, созданными какими бы то ни было царскими указами, они, по мнению Д.Я. Самоквасова, представляли собой семейные учреждения, традиция существования которых в Московии уходила корнями во времена князя Даниила Александровича и была обусловлена необходимостью ведения обширного и сложного домохозяйства. Семейный характер этих органов, как утверждал ученый, не предполагал издания соответствующих законов [8. С. 11–13, 20]. 26 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Важнейшей частью системы контроля являлась Боярская дума, которую В.О. Ключевский называл учреждением, наблюдавшим и руководившим управлением [4. С. 501]. В вопросах порядка управления и правомочности действий местной администрации она играла решающую роль. «По Судебнику 1550 г. – указывал историк – только государь или все бояре, «приговоря вместе», могли через приказ вызвать областного управителя к отчету в приказных делах раньше срока, на какой дана ему должность» [4. С. 501]. При этом дума, пользуясь остатками земского самоуправления, обладала полномочия устанавливать прямой и постоянный надзор за деятельностью власти на местах, а в XVII в. в экстренных случаях еще и посылать назначенных ею ревизоров – «сыщиков» – для проверки действий воевод [4. С. 501]. Еще одним звеном правительственного контроля выступали территориальные приказы (в нашем случае – приказ Казанского дворца), куда воеводы обязаны были представлять росписные списки, сметные и описные книги [8. С. 9]. Через приказы воеводы (вновь назначенные и сменяемые) получали, соответственно, наказы и указные грамоты. В них перечислялись подлежавшие приему-передаче документы приказных изб. Эти перечни выступали в роли своеобразных индикаторов, по которым можно было отследить, все ли документы на месте, т.е. обеспечила ли местная администрация их сохранность в соответствии с требованиями законодательства. При этом основной акцент делался на финансово-учетную документацию. Факт сохранности документов подтверждался росписным списком. Лишь после отправки «подлинной росписи» в приказ Казанского дворца сменяемый воевода мог покинуть место своей службы и отправиться с отчетной документацией в Москву, а новый воевода считался вступившим в должность. «Перекрестный» характер такого контроля, когда вновь назначаемые воеводы получали наказы, а сменяемые – указные грамоты из территориальных приказов, как представляется, существенно повышал его эффективность. Кроме того, приказы следили за обеспечением воеводами сохранности и описания документов. Им должны были доставляться росписи и ежегодные отчеты – «сметные книги», содержавшие сведения о делах приказных и съезжих изб, причем только за отчетный период времени – за последние 2–3 года. Описи дел прежних лет уже находились в приказах по высылкам воевод предыдущих лет [8. С. 9]. Из приказов же присылались указные грамоты с предписаниями о составлении «описных» или «переписных» книг, в которых все документы архива описывались «на перечень, имянно» [8. С. 10]. В определенный срок и под угрозой царской опалы за неисполнение данного требования «описные книги» представлялись царю, что, по утверждению Д.Я. Самоквасова, было обычной формой ежегодной отчетности [8. С. 12]. Важным субъектом контроля выступал и сам воевода, следивший за сохранностью архивов провинциальных приказных учреждений. «Как главный правитель и судья, ведавший все местные дела, – подчеркивал Д.Я. Самоквасов, – воевода должен был направлять и контролировать подчиненных ему дьяков и подьячих, а в частности, и их деятельность по описанию и хранению в целости и порядке всех дел, составлявших содержание воеводских архивов» [8. С. 8]. При отсутствии воеводы контрольные функции переходили к лицам, временно исполнявшим обязанности воевод [8. С. 8], что можно проследить Отечественная история: люди, события, факты 27 и на территории Чувашского края. Например, вместо отсутствовавшего при смене чебоксарского воеводы А.П. Вельяминова свою подпись на росписи поставил его племянник Федор Вельяминов [1. С. 288], после смерти ядринского воеводы Я.Ф. Селиверстова его полномочия перешли сыну Ф.Я. Селиверстову [9. С. 308], а вместо находившегося под следствием ядринского воеводы Л.Г. Ефимьева его обязанности исполнял приказной человек Ю.И. Левашов [9. С. 240–241]. Составной частью воеводского контроля, имевшей непосредственное отношение к делопроизводству и архивам, была практика хранения присылаемых из центральных органов власти документов у их непосредственного получателя, а также в виде копии – в приказной (съезжей) избе. «А прочесть сю нашу грамоту, – говорится в указной с прочётом грамоте из Приказа Казанского дворца алатырскому воеводе Ф.И. Нащокину об отдаче Киево-Николаевскому новодевичьему монастырю заводи Старица от 19 февраля 1640 г., – и списав с нее список слово в слово [да тот] список за своею рукою, оставил в нашей казне в съезжей избе. А сю нашу подлинную грамоту отдал бы еси игумену Мефодию з братею и игуменье Елисавеф с сестрами» [2. С. 8]. Данная мера обеспечивала контроль за целостностью письменной информации и ее защиту от подлога. Как свидетельствуют источники, основной акцент в контрольной деятельности делался на причиненный ущерб казне и «обидах населению». Поэтому в первую очередь контроль в делопроизводственной и архивной сферах в рассматриваемый период был неотделим от контроля финансового. Примером может служить указная грамота ядринскому воеводе Л.Г. Ефимьеву от 29 марта 1681 г., присланная из приказа Казанского дворца, – о высылке для отчета к приказным судьям денежной казны, верных голов и целовальников. В ней он обвинялся в нерадении о государевых делах: «<...> Наш, великого государя, указ поставил себе в оплошку, а кружечного двора верному голове и целовальником в той высылке учинил поноровку (по В.И. Далю – попустительство, потакание) для своей бездельной корысти. И то ты учинил не гораздо. <…> А будет ты своею оплошкою и нерадением тое нашей, великого государя, денежной казны и голову и целовальников с книгами к нам, великому государю, к Москве для отчету вскоре не вышлешь, и в том им какую поноровку учинишь для своих взятков, и тебе за то от нас, великого государя, быти в великой опале, да ты же посажен будешь на неделю в тюрьму» [9. С. 221–222, 534]. Как видим, в качестве доказательства «оплошки» фигурируют документы – приходно-расходные книги. Кроме того, особое значение в контрольной деятельности приобретала система подачи челобитных, служившая, по мнению О.В. Новохатко, «источником постоянной, прочной и короткой обратной связи между руководством государства и населением». «При всех минусах государственного устройства, – подчеркивает исследовательница, – она обеспечивала известную степень эффективности в управлении» [7. С. 126–127]. С этой целью, например, практиковалось доведение копий наказов воеводам до земских изб. Это открывало возможность старостам и «земским всяких чинов жителям» направлять в Москву собственноручно подписанные челобитные с подробным указанием, «против которых статей какия неправости в доходах государевой казне или в их обидах учинит» воевода [4. С. 502]. «Такой 28 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 порядок надзора, – подчеркивал В.О. Ключевский, – должен был иметь значительную степень энергии благодаря тому, что государю и боярам докладывался вообще всякий необычайный случай в центральном и областном управлении, неповиновение воевод предписаниям приказов, как и пропажа ста рублей казенных денег из лубяной коробки в приказной казенке или присылка в Москву таможенных книг, не закрепленных по листам рукою таможенного головы, за что бояре приговорили его “бить батоги”» [4. С. 502]. В связи с этим можно упомянуть Приказ сыскных дел (известный также как Приказ «что на сильных людей челом бьют», или Приказ приказных дел), созданный «по челобитью розных городов дворян и детей боярских, и мурз, и татар» в самом начале царствования Михаила Федоровича Романова – не позднее 22 августа 1618 г. [5. С. 150]. Целью его учреждения было «во всяких обидных делех на <…> бояр и на окольничих, и на дворян, и на приказных людей управу давать и сыскивать без суда бояром нашим князю Ивану Борисовичю Черкаскому, да князь Данилу Ивановичю Мезетцкому, да дияком нашим Ивану Болотникову, да Добрыне Семенову безо всякие волокиты тотчас» [5. С. 149]. Начав свою деятельность при чрезвычайных обстоятельствах – в один из самых критических моментов в борьбе с польским королевичем Владиславом – он не смог прочно утвердиться в приказной практике. Однако для провинциальных служилых людей идея такого органа власти еще долго оставалась весьма привлекательной. Действовавшие же в других сферах сыскные приказы оставались в 1620–1630-е гг. важной частью государственного управления. Их роль в реализации контрольной деятельности власти несомненна. Использование челобитных в качестве инструмента контроля хорошо видно на примере документов Ядринской приказной избы. Так, в памяти приказного человека Ю.И. Левашова ядринскому воеводе Л.Г. Ефимьеву о передаче последним управления городом и ключей в связи с выездом для следствия в г. Курмыш говорится о причинах отстранения от должности воеводы: «В нынешнем во 191-м году (1682 г. – В.Т.) по указу великих государей и по грамоте и по наказу боярина и воеводы, князя Юрья Семеновича Урусова, с товарищи велено Юрью Левашову, приехав в Ядрин и приняв у тебя город и городовые ключи тебя и подьячего Кузьму Иванова да стрельца Ивашка Федорова с товарищи против челобитья чюваши Казанского уезду Арские дороги деревни Шигалеевы Сормы Савмурски Семенова с товарищи в разоренье и во взятках роспросить и выслать из Ядрина на Курмыш, а против их чювашского челобитья про все сыскать всякими сыски накрепко» [9. С. 240–241]. Еще один интересный эпизод связан с принуждением к государевой службе М.С. Ляцкова. В начале июня 1662 г. служилые люди И.А. Омачкин, М.Ф. Омачкин и Ж.П. Новокрещенов подали челобитную в Ядринскую приказную избу, в которой жаловались на него за неявку на службу в Ядрин: «По твоему, великого государя, указу велено нам, холопям твоим, быть в Ядрин для твоей государевы службы четырмя человеком: мне, Ивашку, да Жданку, да Матюшке. Да с нами же велено выслать Михаила Семенова сына Ляцкова. И мы, холопи твои, для твоей государевы службы в Ядрин приехали, а Михайло Ляцкой в Ядрин для твоей государевы службы не будет, чинится силен. Милосердый государь [титул и имя], пожалуй нас, холопей твоих, вели, государь, по него, Михаила Ляцкова, послать, и вели, государь, его, Михаила, поставить Отечественная история: люди, события, факты 29 в Ядрине для своей государевы службы. А буде он, Михайло, станет укрываться от твоей государевы службы, и вели, государь, взять людей ево или крестьян» [9. С. 53]. Реакцию центральной власти на челобитье местного населения можно проследить на примере указной грамоты приказа Казанского дворца ядринскому воеводе И.С. Овцыну от 23 августа 1687 г. об отстранении от дел подьячего денежного стола приказной избы К. Кирякова, обвинявшегося не только в вымогательстве взяток, но и угрозах челобитчикам. «А ему, Костянтину, – говорится в документе, – в подьячих быть не велел для того, что на него, Костянтина, от чюваши и от черемисы в обидах и налогах челобитье многое» [9. С. 363]. При этом в грамоте имелось предписание выслать провинившегося подьячего «за поруками» в приказ Казанского дворца. Важным элементом контроля, непосредственно влиявшим, в том числе, и на процессы документирования, выступал институт поручительства, который активно применялся в системе управления Русского государства. «Князья Московские, – подчеркивал известный отечественный правовед С.П. Никонов, – отличались замечательной последовательностью в применении на все подходящие случаи тех мер и приемов, которые в каком-либо конкретном случае внутреннего управления давали хорошие результаты. С такою последовательностью, между прочим, был проведен ими способ обеспечения верности служилых людей государству путем установления за них ручательства со стороны третьих лиц» [6. С. 36]. Если в отношении «поруки по боярам» речь в буквальном смысле шла о верности в службе князю или царю, то в части ручательства за точное исполнение будущих обязанностей выборными лицами судебно-административного управления (приставами, пятидесятскими, десятскими, губными старостами, тюремщиками и другими) этим обеспечивалось исправное несение ими службы. И дело было не только и не столько в угрозе уголовной ответственности в виде взыскания «иска вдвое» и торговой казни в случае нарушения ими закона после получения соответствующей должности. Суть такого метода контроля заключалась в материальной ответственности поручителей. С их имущества «как правительство, так и потерпевшие от проступков чиновника лица могли взыскать понесенные ими убытки». Кроме того, правительство взымало с них еще и «особый штраф в наказание за избрание и ручательство по дурному человеку, – как бы возмездие за злоупотребление доверием правительства, возложившего, благодаря такой рекомендации, на недостойное лицо отправление службы государственной» [6. С. 35–36]. Не желая платить за «чужие грехи», поручители поневоле вынуждены были осуществлять какие-то действия контролирующего характера, содействуя в этом деле органам управления. Таким образом, центральная власть получала многократную выгоду: во-первых, она дистанцировалась от провинившегося лица (не ее назначенец); во-вторых, обеспечивала контроль за исправной службой выборных лиц путем привлечения к этому делу поручителей; в-третьих, компенсировала за счет поручителей материальный ущерб казне и пострадавшим лицам; в-четвертых, получала еще один источник дохода в государственную казну. Несколько интересных свидетельств, связанных и с поручительством, и с процессами документирования, сохранилось в делопроизводстве Ядринской приказной избы. Так, в поручной записи за местного площадного подьячего 30 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 И. Иванова от 3 сентября 1683 г. зафиксировано: «Се я[з], Ядринской приказной избы подьячие Костянтин Федоров сын Киряков, да яз, Федор Данилов сын Попов, да яз, Гаврила Лукьянов сын Скрыпов, да яз, ядринские посацкие люди Иван Григорьев сын Коротков, да яз, Емельян Ондреев сын Зябликов, все есми порутчики поручились есми в Ядрине-городе в казну великих государей по ядринском по безмесном дьячке по Иване Иванове в том, что писать ему, Ивану, за нашею порукою в Ядрине на площеди всякие крепости и челобитные и памяти. А воровских крепостей и составных челобитен не писать, и заочно никого в записи и ни в какие крепости не писать, и заочно рук не прикладывать. А буде он, Иван, за нашею порукою, будучи на площеди, какие составные крепости и челобитные и памяти учнет писать или заочно кого в какие крепости учнет писать же, и на нас, на порутчиках, великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, пеня, а пени что великие государи укажут» [9. С. 292–293]. Еще один документ – наказная память ядринского воеводы Д.И. Алфимова приставу Ф. Лаптеву о взятии поручных записей по трем старцам Казанско-Богородицкого монастыря в их явке в Монастырский приказ от 18 июня 1662 г., которой предписывалось: «Дать ему на поруку з записью Ядрина города пустыни пречистые Богородицы Казанские и человека божия Алексея, что на старом городище старцов Ерофея да казначея Льва, да черного попа Боголепа, что им ис Ядрина до указу великого государя никуда не сойти. Да им же старцом казначею Льву да Ерофею за порукою велеть стать на Москве тотчас с приходными и с росходными книгами и с роспросными речами в Монастырском приказе и явитца окольничему Ивану Большому, Федоровичю Стрешневу, да дьяком Ивану Зиновьеву, да Ондреяну Ерохину, да Филину Артемьеву» [9. С. 55]. Особо отметим в данном случае требование явиться в Москву с приходными и с расходными книгами, имевшими, очевидно, ключевое значение для рассмотрения дела. Наиболее ярким примером контрольной деятельности, оказывавшей влияние на делопроизводство и архивы на территории края, может служить указная послушная грамота приказа Казанского дворца, посланная в июне 1701 г. ядринскому воеводе П.Л. Касаткину-Ростовскому. В ней он извещался о том, что стольнику и казанскому воеводе Н. Кудрявцову «с товарыщи» велено «в Казани и в городех и в селех переписать денежную казну, и всякую (мяхкую) рухледь, и пушки, и всякое ружье со всякими полковыми припасы, и в приказной полате и в приказных избах всякие наши, великого государя, и челобитчиковы дела и грамоты о всяких делах, и приходные и росходные книги, и сметные и пометные спи(ски), и писцовые, и межевые, и переписные, и строельные книги, и отказные, и отдельные, и роздельные, и ясашные, и оброчные, и записные судным делам и допросом и челобитчиковым и всякие записные кн[иги], и всякие на земли, и на людей, и на крестьян, и на бобылей крепости, тако ж у кого в городех есть у помещиков, и у вотчинников, и у грацких, и у дворцовых, и у ясашных людей на земли ж и на поместья, и на вотчины со всякими угодьми, и на людей, и на крестьян всякие крепости прошлых всех лет, что есть, и нынешнего 1701-го, запечатав в Казани в приказной полате (ему, Никите), а в достальных во всех низовых городех москвичам, Отечественная история: люди, события, факты 31 которые в Казани испомещены, и казанцом дворяном знатным людем» [9. С. 488]. В связи с этим ядринскому воеводе предписывалось полностью обеспечить проведение предстоящей ревизии: «И как к тебе ся наша, великого государя, грамота придет, а ис Казани для переписи всяких дел из дворян хто прислан будет, и т[ы б] ему в том деле был послушен и велел дать съезжей и стоялой двор, и для письма приказной избы и площадных подьячих всех, и к тому делу чернил, и бумаги, и свеч из неокладных доходов» [9. С. 488]. К сожалению, свидетельств подобного рода, связанных с территорией края за более ранний период, пока выявить не удалось. Однако, учитывая тот факт, что с 1621 г. в системе государственного управления функционировал приказ счетных дел, который «считал государственные доходы и расходы по книгам всех других центральных приказов и областных учреждений и стягивал к себе остатки от текущих расходов, где таковые оказывались, обращался в другие приказы с запросами по исполнению ассигновок, данных должностным лицам, послам, полковым воеводам, вызывал к отчету из городов земских целовальников с их приходо-расходными книгами» [3. С. 145], надо полагать такая контрольная деятельность осуществлялась и на территории местного края и при этом не носила лишь эпизодический характер. Выводы. Таким образом, сложившаяся в XVII в. система контроля в сфере делопроизводства и архивов была важным элементом государственного управления и с точки зрения своей организации в целом справлялась с поставленными задачами. При этом документы, в том числе архивные, не только являлись объектом контроля, но и играли значимую роль в реализации самой контрольной деятельности. Литература 1. Димитриев В.Д. Документы по истории города Чебоксар XVII–XVIII веков // Ученые записки ЧНИИЯЛИЭ. Вып. XXI. Чебоксары, 1962. С. 282–318. 2. Киево-Николаевский новодевичий монастырь в г. Алатырь (Сборник документов XVII – начала XVIII веков). Чебоксары: [Б.и.], 2004. 76 с. 3. Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. Т. 3. Курс русской истории. Ч. 3 / под ред. В.Л. Янина; послесл. и коммент. сост. В.А. Александров, В.Г. Зимина. М.: Мысль, 1988. 414 с. 4. Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси / [Соч.] В. Ключевского. 3-е изд., [пересм.]. М.: Синодальная типография, 1902. VI, 3-547 с. 5. Козляков В.Н. О времени создания Приказа сыскных дел // Историк во времени: Третьи Зиминские чтения: доклады и сообщения научной конференции / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ист.-арх. ин-т [и др. ; сост.: Е.А. Антонова и др. ; вступ. ст. Ю.Н. Афанасьева]. М.: РГГУ, 2000. С. 149–150. 6. Никонов С.П. Поручительство в его историческом развитии по русскому праву: Исследование Сергея Никонова. СПб.: Товарищество Эконом. типо-лит. Панфилова и Палибина, 1895. 216 с. 7. Новохатко О. В. Эффективность государственного управления во второй половине XVII в. // Российская государственность: опыт 1150-летней истории: материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 4-5 декабря 2012 г.) / Ин-т российской истории РАН, РАНХиГС при Президенте РФ. М.: Ин-т российской истории РАН, 2013. 589 с. 8. Самоквасов Д.Я. Русские архивы и царский контроль приказной службы в XVII веке. М.: Товарищество тип. А.И. Мамонтова, 1902. 47 с. 9. Свод памятников истории Чувашии и чувашского народа. Т. 1. Документы Ядринской приказной избы второй половины XVII – начала XVIII века / сост. А.А. Чибис; ЧГИГН. Чебоксары, 2017. 640 с. ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР ГЛЕБОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (vlagletka@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4111-404X). 32 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Vladimir G. TKACHENKO IMPLEMENTING CONTROL OF CLERICAL AND ARCHIVAL ACTIVITIES IN THE DEPARTMENTAL SYSTEM UNDER MANAGEMENT OF THE RUSSIAN STATE TERRITORIES (on the example of the Chuvash Region) Key words: archive, office work, clerk, control, mandate, ordained memory, cosignatory, suretiship, census book, government office, sign-up list, edict, petition. The purpose of the study is to identify the main forms and methods of controlling central and local authorities in the field of record keeping and archival affairs at the regional level of public administration. Methods and materials. The source base of the research was made by recently published documents of Yadrin government office from the fund № 157 Yadrin Voivodeship office (1645–1775), stored in the Scientific and Historical Archive of St. Petersburg Institute of History under the Russian Academy of Sciences. The research is based on the basic principles of historical cognition – objectivity and historicism, which presuppose a comprehensive critical analysis of historical processes and phenomena in their formation, evolvement and development. Based on the historical and typological method, an attempt is made to identify general trends in implementing control in specific manifestations of the clerical and archival activities carried out by local state institutions. The novelty of the research lies not only in the use of new sources that were not previously involved in the study of the stated topic, but also in filling the existing gap in the development of Chuvashia's history associated with the clerical and archival activities of local authorities in the territory of the region in the pre-Soviet period. The scientific and practical significance of the proposed publication meets the problems of modern Russian archival science. Study results. The subjects of control during the period under review were the tsar, the Boyar Duma, the prikazes, as well as the voivodes appointed by the supreme power to manage individual territories. As methods of control, the following were used: sending auditors – "detectives" – by the Boyar Duma to check the actions of the voivodes; submission of annual reports – "estimate books" and making up sign-up lists when changing voivodes to report to the Prikaz of the Kazan Palace; the practice of storing documents sent from the central authorities at their direct recipient, as well as in the form of a copy – in the government office (assembly house); the system of submitting petitions to implement feedback with the population; the institution of suretiship. Documents, including archival ones, were not only the object of control, but played a significant role in implementing the control activity itself as well. Conclusions. From the point of view of its organization, the control system established in the XVII century in the field of records management and archives was an important element of public administration and generally coped with the tasks set. References 1. Dimitriev V.D. Dokumenty po istorii goroda Cheboksar XVII–XVIII vekov [Documents on the history of the city of Cheboksary of the XVII–XVIII centuries]. In: Uchenye zapiski ChNIIYaLIE. Vypusk XXI [Scientific notes of Chuvash Research Institute of Language, Literature, History and Economics, issue XXI]. Cheboksary, 1962, pp. 282–318. 2. Kievo-Nikolaevskii novodevichii monastyr' v g. Alatyr' (Sbornik dokumentov XVII – nachala XVIII vekov) [Kiev-Nikolaevsky Novodevichy Monastery in Alatyr (Collection of documents of the XVII – early XVIII centuries)]. Cheboksary, 2004, 76 р. 3. Yanin V.L., ed., Klyuchevskii V.O. Sochineniya: v 9 t. T. 3. Kurs russkoi istorii. Ch. 3 [Essays: 9 vols. Vol. 3: Course of Russian history. Part 3]. Moscow, Mysl' Publ, 1988, 414 p. 4. Klyuchevskii V.O. Boyarskaya duma drevnei Rusi [Boyar Duma of ancient Russia]. In: Sochineniya V. Klyuchevskogo. 3-e izd. [Works by V. Klyuchevsky. 3rd ed.]. Moscow, 1902, VI, рp. 3–547. 5. Kozlyakov V.N. O vremeni sozdaniya Prikaza sysknykh del [About the time of creation of the Order of detective cases]. In: Afanas'ev Yu.N. et al., comps. Istorik vo vremeni: Tret'i Zimin. chteniya: Doklady i soobshcheniya nauchnoi konferentsii [The historian in time: The Third Winter Readings: reports and messages of the Sci. Conf.]. Moscow, 2000, pp. 149–150. 6. Nikonov S.P. Poruchitel'stvo v ego istoricheskom razvitii po russkomu pravu: Issledovanie Sergeya Nikonova [Surety in its Historical Development in Russian Law: A Study by Sergei Nikonov]. St. Petersburg, 1895, 216 p. Отечественная история: люди, события, факты 33 7. Novokhatko O.V. Effektivnost' gosudarstvennogo upravleniya vo vtoroi polovine XVII v. [The effectiveness of public administration in the second half of the XVII century]. Rossiiskaya gosudarstvennost': opyt 1150-letnei istorii: materialy Mezhdunar. nauch. konf. [Proc. of Int. Sci. Conf. «Russian Statehood: the experience of 1150-year History»]. Moscow, 2013, 589 р. 8. Samokvasov, D. Ya. Russkie arkhivy i tsarskii kontrol' prikaznoi sluzhby v XVII veke [Russian archives and tsarist control of the command service in the XVII century]. Moscow, 1902, 47 р. 9. Chibis A.A., comp. Svod pamyatnikov istorii Chuvashii i chuvashskogo naroda. T. 1. Dokumenty Yadrinskoi prikaznoi izby vtoroi poloviny XVII – nachala XVIII veka. Sost., Chuvashskii gosudarstvennyi institut gumanitarnykh nauk [A set of monuments of the history of Chuvashia and the Chuvash people. Vol. 1. Documents of the Yadrin command hut of the second half of the XVII – beginning of the XVIII century]. Cheboksary, 2017, 640 р. VLADIMIR G. TKACHENKO – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Documentation, Information Resources and Auxiliary Historical Disciplines, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (vlagletka@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/00000003-4111-404X). Формат цитирования: Ткаченко В.Г. Реализация контроля делопроизводственной и архивной деятельности в приказной системе управления территориями Российского государства (на примере Чувашского края) // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 24–33. DOI: 10.47026/27129454-2023-4-2-24-33. 34 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-34-39 УДК 947(470.41)“19”:82 ББК 63.3(2РОС=ТАТ)6:83 А.Н. ЮЗЕЕВ, И.Г. МУХАМЕТЗЯНОВА ИЗ ИСТОРИИ «ТАТАРСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ» (20–30-е годы ХХ века) Ключевые слова: литературная организация, Татарская АССР, Татарская ассоциация пролетарских писателей, пролетарская литература. Данная статья посвящена процессу формирования и деятельности литературной организации «Татарская ассоциация пролетарских писателей» в 20–30-е гг. ХХ в. Целью статьи является изучение истории формирования и деятельности литературной организации «Татарская ассоциация пролетарских писателей». Материалы и методы. Систематизировать материал и показать предмет изучения в динамике и в органической связи с другими историческими явлениями позволили принцип историзма и метод культурно-исторической реконструкции, а также описательно-повествовательный метод. На основе архивных документов и опубликованных источников в статье отражены история создания и некоторые аспекты деятельности литературной организации «Татарская ассоциация пролетарских писателей» в контексте социокультурной политики в 20–30-х гг. ХХ в. Материалы исследования позволили дополнить имеющуюся источниковую базу и могут быть использованы при написании научных трудов и сохранении историко-культурного наследия края. Результаты исследования. Анализ деятельности Татарской ассоциации пролетарских писателей показал, что эта литературная организация проявляла большую активную деятельность в своем стремлении утвердить пролетарскую культуру. Выводы. В связи с выходом постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» Татарская ассоциация пролетарских писателей прекратила свою деятельность. В начале 30-х гг. ХХ в. наметилось и усилилось движение, направленное на создание единой литературной организации. Актуальность статьи заключается в освещении ранее не изученного процесса рассмотрения становления и деятельности литературной организации «Татарская ассоциация пролетарских писателей». Целью данной статьи является изучение истории создания и деятельности литературной организации «Татарская ассоциация пролетарских писателей» в 20–30-е гг. ХХ в. Материалы и методы. Методологию исследования составили принцип историзма, метод культурно-исторической реконструкции и описательно-повествовательный метод, позволивший систематизировать материал и рассмотреть исторические явления в органической взаимосвязи с породившими их условиями. Научная новизна статьи заключается в комплексном изучении деятельности Татарской ассоциации пролетарских писателей на основе архивных материалов, извлеченных из фондов Центрального государственного архива историко-политической документации и Национального архива Республики Татарстан, которые вводятся в научный оборот впервые. Привлечены как архивные документы, так и материалы периодической печати. К их числу относятся газеты «Красная Татария» и «Правда». На основе архивных материалов и периодической печати тех лет в статье отражены процесс создания и основные направления деятельности Татарской ассоциации пролетарских писателей. Отечественная история: люди, события, факты 35 Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с продолжением изучения отдельных направлений деятельности Татарской ассоциации пролетарских писателей и выявлением новых материалов. Практическая значимость статьи состоит в том, что достигнутые в ходе исследования результаты могут применяться при подготовке обобщающих трудов и учебных пособий по истории и культуре Татарстана. Результаты исследования. В 1920 г. с образованием ТАССР и подъемом общего культурного уровня населения возникли условия для более активного освоения писателями культурного пространства республики. Начался процесс консолидации писателей и формирования литературных организаций. В 1925 г. на Первой Всесоюзной конференции пролетарских писателей было принято решение о создании Российской ассоциации пролетарских писателей. В связи с этим был взят курс на создание такой же литературной организации в ТАССР [2]. В октябре 1928 г. руководящие органы Всесоюзного объединения пролетарских писателей утвердили решение о создании Татарской ассоциации пролетарских писателей (далее – ТАПП) [3]. Перед ней стояла задача «идейно руководить всеми пролетарскими местными силами, объединенными в многочисленные литкружки, организовать пролетарского читателя, продвигать через новую книгу, через любовь к книге культуру в массы всех национальностей» [18. Д. 589. Л. 1]. В том же году вышло предложение о начале объединения писателей города Казани [18. Д. 589. Л. 23]. Татарской ассоциацией пролетарских писателей был взят курс на создание пролетарской литературы [1]. В структурном отношении Татарская ассоциация пролетарских писателей состояло из трех национальных секций. Русская секция. 15 октября 1928 г. в редакции газеты «Красная Татария» обсуждался вопрос об создании русской секции Татарской ассоциации пролетарских писателей. На этом совещании было принято решение о создании русской секции. В состав русской секции в числе первых вошли такие писатели, как Х. Николаев, А. Борский, С. Голланд [15. Д. 36. Л. 120]. Руководителем русской секции был избран А. Борский [7]. В своем стремлении разбудить у трудящихся созидательное вдохновение ТАПП превращало некоторых писателей в пропагандистов. Татарская ассоциация пролетарских писателей организовывала выезды писателей в районы республики с целью распространения социалистических идей. Так, например, осенью 1928 г. русской секцией были организованы выступления писателей на Государственном мыловаренном, свечном и химическом заводе № 1 имени Мулла-Нур Вахитова и на Казанском пороховом заводе имени В.И. Ленина. Такого рода выступления на заводах и фабриках сказались положительно в деятельности секции и привели к увеличению числа молодых писателей из числа трудящихся в составе секции. Так, например, к декабрю 1928 г. в состав русской секции входило уже 30 человек [15. Д. 36. Л. 118]. Благодаря стараниям руководства Татарской ассоциации пролетарских писателей в конце 20-х гг. ХХ в. были организованы выезды писателей на фабрики и заводы с целью отображения в литературе труда и быта рабочих и вовлечения талантливой молодежи в литературные кружки. В рамках поиска новых организационных форм привлечения представителей трудящихся к литературному творчеству члены русской секции также занимались организацией литературных кружков на фабриках и заводах. Такие кружки были созданы 36 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 на Казанском пороховом заводе имени В.И. Ленина, Государственном мыловаренном, свечном и химическом заводе № 1 имени Мулла-Нур Вахитова, Текстильной фабрике имени В.И. Ленина [11]. Существовала тесная связь литературного кружка на Текстильной фабрике имени В.И. Ленина с Театром рабочей молодежи, в котором пьесы ставились по материалам этого кружка [14]. Чувашская секция. В 1928 г. было создано бюро чувашской секции, в состав которого вошли Ю. Петров, С. Данилов, Т. Комиссаров, Палоруссов и Меценатов. Руководителем секции был избран С. Данилов [15. Д. 36. Л. 120]. Татарская секция. В 1928 г. была создана татарская секция. В числе первых писателей, вошедших в состав татарской секции, были такие известные татарские писатели, как Ш. Усманов, Г. Галеев, З. Галеев, К Наджми, А. Кутуй и Г. Кашшаф. Руководителем секции был избран Г. Галеев [17]. Периодически проводились общие собрания Татарской ассоциации пролетарских писателей. Так, например, в декабре 1928 г. состоялось общее собрание членов Татарской ассоциации пролетарских писателей. На нем рассматривались следующие вопросы: выборы руководящих органов ТАПП, разбор и анализ рукописей произведений, вопрос о задачах ТАПП. По третьему вопросу выступил известный татарский писатель Ш. Усманов. Он обозначил следующие задачи ТАПП: 1) стремление к признанию татарской литературы в разных национальностях; 2) оказание материальной помощи писателям, состоящим в ТАПП; 3) ознакомление «русского читателя с произведениями татарской литературы» [15. Д. 36. Л. 121]. На таких совещаниях занимались разбором художественных произведений с последующей рекомендацией к печати [9]. В состав правления ТАПП вошли такие писатели, как К. Наджми, Ш. Усманов, Г. Галеев, З. Галеев, А. Борский, С. Данилов, Т. Алакшин, А. Кутуй, С. Голланд и Ф. Кашшаф [15. Д. 36. Л. 118]. ТАПП проводила общие заседания трех секций. Например, 28 февраля 1929 г. руководители секций выступили с отчетами о проделанной работе. Так, руководитель татарской секции Ш. Усманов, сообщил о том, что татарские писатели выезжали в Нурлатский район и выступили на Государственном мыловаренном, свечном и химическом заводе № 1 имени Мулла-Нур Вахитова. Руководитель русской секции А. Борский рассказал о том, что «уже организуется второй литкружок для рабкоров при редакции». Член чувашской секции А. Федотов сообщил о начале издания альманаха «Утом» [15. Д. 36. Л. 31]. 20 мая 1929 г. на заседании коллегии Агитпрома ОК ВКП(б) были утверждены тезисы под названием «Современное состояние татарской художественной литературы и ближайшие задачи в этой области» [8]. Согласно взятому курсу ТАПП должна была вести свою работу по линии «пролетарского воспитания и поднятия квалификации молодых татарских художников слова...» [8]. В 1929–1930-х гг. произошли значительные изменения в структуре ТАПП, было ликвидировано бюро по отдельным национальным секциям; из состава правления было выделено бюро литературной консультации [15. Д. 36. Л. 31]. В конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. на страницах газеты «Правда» [16] утверждалась мысль о необходимости объединения писателей, стоящих на платформе советской власти, «на основе борьбы за генеральную линию пролетарской литературы...» [10]. Отечественная история: люди, события, факты 37 Литературный процесс в 1920 – начале 1930-х гг. отличался сложностью и противоречивостью. Литература должна стать «частью общепролетарского дела», и в связи с этим прослеживалось стремление к гегемонии пролетарской литературы. В начале 30-х гг. ХХ в. прозвучал призыв «рабочих-ударников – в пролетарскую литературу» [5]. Центральной фигурой в произведениях должен был стать образ рабочего-ударника. Наиболее талантливые из числа трудящихся вовлекались в сферу литературного творчества. Так, например, ТАПП организовала на предприятиях в ТАССР 13 литературных кружков, и их число стремительно росло [12]. 23 апреля 1932 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) от «О перестройке литературно-художественных организаций», положившее начало процессу самороспуска всех литературных организаций, в том числе ТАПП [4]. 21 мая 1932 г. в редакции газеты «Кзыл Татарстан» состоялось последнее заседание ТАПП, на котором рассматривался вопрос о самороспуске ТАПП [13]. В начале 30-х гг. ХХ в. наметилось и усилилось движение, направленное на создание единой литературной организации. Выводы. Таким образом, ТАПП была одной из самых крупных и значимых литературных организаций 20–30-х гг. ХХ в. Данная литературная организация проявляла большую активность в своем стремлении утвердить пролетарскую культуру и создать советскую художественную литературу. За время существования ТАПП проделала значительную работу по пробуждению у рабочих, крестьян, красноармейцев интереса к литературному творчеству и вовлечению наиболее способных из них в литературные кружки. Однако в деятельности ТАПП были и определенные трудности, выражавшиеся в постоянном поиске новых организационных форм для привлечения трудящихся к литературному творчеству. ТАПП просуществовала недолго, и многое, что было запланировано, осуществить в полной мере не удалось. В конце 20-х гг. ХХ в. стало ускоряться движение, направленное на создание единой литературной организации [6]. ТАПП заложила остов для будущего единого Союза советских писателей и стала его предшественницей. Литература и источники 1. Арбатов С. Борьба за пролетарскую культуру в Татарстане. Казань, 1930. 234 с. 2. История советской многонациональной литературы: в 6 т. / Академия наук СССР. Институт мировой литературы им. А.М. Горького; гл. ред. Л.И. Тимофеев; отв. ред. Г.И. Ломидзе. М.: Наука, 1971. Т. 2. 511 с. 3. История татарской советской литературы. М.: Наука, 1965. 578 с. 4. Культурное строительство в Татарии. 1917–1941. Сборник документов и материалов. Казань, 1971. 450 с. 5. К истории партийной политики в области литературы // Вопросы литературы. 1989. № 2. С. 143–166. 6. Куницын Г.И. Политика и литература. М.: Сов. писатель, 1973. 350 с. 7. Красная Татария. 1928. 19 окт. 8. Красная Татария. 1929. 22 мая. 9. Красная Татария. 1930. 27 марта. 10. Красная Татария. 1931. 31 янв.. 11. Красная Татария. 1931. 3 июля. 12. Красная Татария. 1931. 10 июля. 13. Красная Татария. 1932. 21 мая. 14. Малышева О.Л. Подготовка татарской интеллигенции в Татарстане в 20-е годы // Аргамак. 1999. № 9-10. С. 158–160. 15. Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 439. Оп. 1. 16. Правда. 1931. 31 янв. 38 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 17. Хайри Х. Поиски и свершения. Очерки о татарской литературе. Казань: Таткнигоиздат. 1970. 99 с. 18. Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан. Ф. 15. Оп. 2. ЮЗЕЕВ АЙДАР НИЛОВИЧ – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, Россия, Казань (Youzeev@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/00000001-5891-5447). МУХАМЕТЗЯНОВА ИЛЮЗА ГАЛИМЯНОВНА – кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, Россия, Казань (ilyuzam80@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/00090009-9050-3026). Aidar N. YUZEEV, Ilyuza G. MUKHAMETZYANOVA FROM THE HISTORY OF THE "TATAR ASSOCIATION OF PROLETARIAN WRITERS" (20–30s of the century) Key words: literary organization, the Tatar ASSR, the Tatar Association of Proletarian Writers, proletarian literature. This article is devoted to the process of formation and activity of the literary organization "the Tatar Association of Proletarian Writers" in the 20–30s of the XX century. The purpose of the article is to study the history of the formation and activity of the literary organization "The Tatar Association of Proletarian Writers". Materials and methods. The principle of historicism and the method of cultural and historical reconstruction, as well as the descriptive and narrative method, made it possible to systematize the material and show the subject of the study in dynamics and in organic connection with other historical phenomena. Based on archival documents and published sources, the article reflects: the history of the creation and some aspects in the activities of the literary organization "The Tatar Association of Proletarian Writers" in the context of socio-cultural policy in the 20–30s of the XX century. The research materials made it possible to supplement the existing source base and can be used when writing scientific papers and preserving the historical and cultural heritage of the region. Study results. The analysis of the activities carried out by the Tatar Association of Proletarian Writers showed that this literary organization was very active in its desire to establish proletarian culture. Conclusions. In connection with the release of the resolution of the Central Committee of the CPSU(b) dated April 23, 1932 "On Restructuring Literary and Artistic Organizations" the Tatar Association of Proletarian Writers ceased its activities. In the early 30's of the XX century, a movement aimed at creating a unified literary organization was set out and intensified. References 1. Arbatov S. Bor'ba za proletarskuyu kul'turu v Tatarstane [The struggle for proletarian culture in Tatarstan]. Kazan, 1930, 234 p. 2. Timofeev L.I. et al., eds. Istoriya sovetskoi mnogonatsional'noi literatury: v 9 t. [History of Soviet multinational literature: in 6 vol.]. Moscow, Nauka Publ., 1971, vol. 2, 511 p. 3. Istoriya tatarskoi sovetskoi literatury [History of Tatar Soviet Literature]. Moscow, Nauka Publ., 1965, 578 p. 4. Kul'turnoe stroitel'stvo v Tatarii. 1917–1941. Sbornik dokumentov i materialov [Cultural construction in Tataria. 1917–1941. Collection of documents and materials]. Kazan, 1971, 450 p. 5. K istorii partiinoi politiki v oblasti literatury [On the history of party policy in the field of literature]. Voprosy literatury, 1989, no. 2, pp. 143–166. 6. Kunitsyn G.I. Politika i literatura [Politics and literature]. Moscow, Sovetskiy pisatel' Publ., 1973, 350 p. 7. Krasnaya Tatariya, 1928, Oct. 19. 8. Krasnaya Tatariya, 1929, May 22. Отечественная история: люди, события, факты 39 9. Krasnaya Tatariya, 1930, March 27. 10. Krasnaya Tatariya, 1931, Jan. 31. 11. Krasnaya Tatariya, 1931, July 3. 12. Krasnaya Tatariya, 1931, July 10. 13. Krasnaya Tatariya, 1932, May 21. 14. Malysheva O.L. Podgotovka tatarskoi intelligentsii v Tatarstane v 20-e gody [Training of the Tatar intelligentsia in Tatarstan in the 20s]. Argamak, 1999, no. 9-10, pp. 158–160. 15. Natsional'nyi arkhiv Respubliki Tatarstan. Fond – 439. Opis'1. [National archive of the Republic of Tatarstan. Archive 439. Anagraph 1]. 16. Pravda, 1931, Jan. 31. 17. Khairi Kh. Poiski i sversheniya. Ocherki o tatarskoi literature [Searches and accomplishments. Essays on Tatar literature]. Kazan, Tatknigoizdat Publ., 1970, 99 p. 18. Tsentral'nyi gosudarstvennyi arkhiv istoriko-politicheskoi dokumentatsii Respubliki Tatarstan. Fond – 15. Opis'1. [Central State Archive of Historical and Political Documentation of the Republic of Tatarstan. Archive 439. Anagraph 1]. AIDAR N. YUZEEV – Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, Kazan Branch of the Russian State University of Justice, Russia, Kazan (Youzeev@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5891-5447). ILYUZA G. MUKHAMETZIANOVA – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Disciplines, Kazan Branch of the Russian State University of Justice, Russia, Kazan (ilyuzam80@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0009-0009-90503026). Формат цитирования: Юзеев А.Н., Мухаметзянова И.Г. Из истории «Татарской ассоциации пролетарских писателей» (20–30-е годы ХХ века) // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 34–39. DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-34-39. 40 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-40-50 УДК 94(470.344)«1928/1932»:323.12 ББК Т3(2Рос.Чув)614-454 Т.В. ЮСТУС БОРЬБА С НЕГАТИВНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ СРЕДИ ТРУДЯЩИХСЯ В 1928–1932 ГОДАХ (на материалах Чувашской АССР) Ключевые слова: Чувашская АССР, национальная политика, социализм, рабочий класс, межнациональные отношения, школы ФЗУ, воспитательная работа, коренные народы. Обращение к опыту советской национальной политики как к предмету исследования весьма актуально. Научная новизна работы заключается в попытке современного осмысления актуальных и важных вопросов межнациональных отношений (в частности, негативных проявлений в трудовых коллективах на межнациональной почве) в конкретные исторические периоды строительства советского общества. Цель исследования – изучение проблемы негативных проявлений среди рабочих, проживавших на территории Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики (Чувашской АССР) в период строительства раннего социализма и опыта преодоления таких проблем в конкретно-исторический период 1928– 1932 гг. на основе национальной политики Советского государства. Материалы и методы. Были использованы материалы из Государственного архива современной истории Чувашской Республики и публикации республиканской периодической печати, которые послужили источниковой базой для анализа вопросов взаимодействия и координации реализации решений центра, региональных органов власти и общественных организаций, связанных с возникавшими проблемами в межнациональных контактах среди трудящегося населения. Результаты исследования. Политика, проводимая государством в области национальных отношений, затронула все сферы развития общества, особым образом – производственный сектор, игравший системообразующую роль для построения общества нового типа. В национальных автономиях был слабый уровень вовлеченности населения в промышленное производство из-за отсутствия на этих территориях крупных заводов. Для решения данной проблемы активно разрабатывались и действовали программы дополнительное обучение рабочим специальностям. В значительной степени новые подходы к вовлечению национальных анклавов в строительство нового общества во многом были связаны с большей консервативностью, а все новое воспринималось как чуждое. С 1929 по 1936 г. Чувашская АССР входила в состав Нижегородского края (после 1932 г. – Горьковского края), изначально в регионе проживали коренные народы – русские, чуваши, марийцы, мордва, татары и другие этносы. И поэтому повышенное внимание уделялось вопросам национальной политики, особенно в рамках политики коренизации, проводившейся во всем государстве. Изменения, происходившие на многонациональных территориях, вызвали дополнительный интерес со стороны центральной власти, что напрямую способствовало выделению дополнительных ресурсов и возможностей для решения многих социально-экономических вопросов. В статье представлены некоторые проблемы межнациональных коммуникаций, вопросы поведения отклоняющихся от нормы действий в трудовых коллективах различных промышленных центров ЧАССР, которые в изучаемые годы оценивались как «шовинистические». Выводы. В вопросах развития промышленности в исследуемые годы партией и государством проводилась большая политико-воспитательная работа, которая была направлена на распространение идеологии пролетарского интернационализма, обеспечившего активное вовлечение трудящихся всех национальностей в социалистическое строительство на основе социально-экономических и культурных преобразований. Обязательное проведение регулятивных мероприятий по стабилизации национальных отношений среди трудящихся масс, а также осуждение и пресечение дискриминационных проявлений на предприятиях республики положительно сказались на решении этой проблемы. Отечественная история: люди, события, факты 41 Государственная и партийная политика в ходе социалистического строительства в 1920–1930-е гг. в СССР определялась идеями интернационализма, курсом на ликвидацию социально-экономического и культурного неравенства наций на основе установления братства и дружбы между народами страны. При решении национального вопроса в СССР в переходный период к социализму имели место проявления уклона к «великодержавному шовинизму», это выражалось в игнорировании национальных особенностей, непризнании на практике принципа национального равноправия. Проблема приобретает все большую актуальность в современных обществах, как отмечает Президент В.В. Путин, выступая 18 июня 2004 г. в Астане на международной конференции «Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации»: «Великодержавный шовинизм, это национализм, это личные амбиции тех, от кого зависят политические решения, и наконец, это просто глупость – обыкновенная пещерная глупость». В этих условиях становится важным обращение к прошлым практикам успешного построения многонационального советского государства. Цель исследования – изучение проблем негативных проявлений среди трудящихся масс Чувашии в период строительства раннего социализма. Основная задача работы – провести анализ процесса взаимодействия и сотрудничества со стороны местных, национальных кадров, прежде всего чувашей, и органов всех уровней в борьбе с проявлениями деструктивного характера в трудовых коллективах. Материалы и методы. Исследование опирается в основном на источниковую базу, преимущественно на фактический материал из периодической печати изучаемого периода: газеты «Красная Чувашия» органа Обкома ВКП(б) и ЦИК Чувашской АССР, а также на архивные документы фонда № 1 Государственного архива современной истории Чувашской Республики. Анализ неопубликованных архивных материалов и публикаций официальных изданий позволил выявить, насколько актуальны были проблемы межнационального диалога в новом советском государстве в исследуемый период (1928–1932 гг.). Также концептуальными основами работы при изучении вопроса являются общие положения официальной советской идеологии по национальному вопросу и выступления руководителей государства на партийных съездах – с X по XVI. В своих выступлениях Джугашвили (Сталин) заявлял, что «решительная борьба с пережитками “великодержавного шовинизма”» является первой очередной задачей нашей партии»; а впоследствии необходима «эффективная и долгосрочная», безвозмездная помощь русских другим национальностям [2. С. 109]. В резолюции X съезда РКП(б) (1921 г.) «Об очередных задачах партии в национальном вопросе» прямо говорилось о необходимой помощи «невеликорусским» этносам в том, чтобы они могли догнать ушедшую вперёд центральную Россию. Для этого необходимо создать сеть школ по подготовке «туземных кадров рабочих», так как около 30 млн человек преимущественно тюркского населения почти не имели промышленного пролетариата [9. С. 603]. В качестве методов исследования в ходе работы автор опирался на принцип историзма, объективности, метод сравнительного анализа, статистический метод. На примере одной из национальных республик РСФСР рассматриваются методы и механизмы пресечения негативных проявлений (трактуемых в источниках как «местный национализм» и «шовинизм») партийным руководством как среди тех, кто проявлял их в отношении к представителям местных народов, так и среди этносов, проживающих на данной территории. 42 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Результаты исследования. Богатейший опыт национально-государственного строительства в СССР с учетом конкретной исторической ситуации был использован за последние сто лет многими государствами мира, стремившимися к государственной независимости и вставшими на путь прогрессивных демократических преобразований. С первого десятилетия строительства Советского государства одной из важных задач партии являлись развитие промышленных центров в национальных республиках и областях, создание в них местного пролетариата. Главным принципом стало превращение отсталых аграрных национальных районов в промышленные, с крупными заводами и фабриками, машинным производством. Все попытки первоначального вовлечения этносов в промышленное освоение осуществлялись не совсем естественным путем; проблематичным стало внедрение элементов капитализма через НЭП в национальные районы страны. Центральное место в ликвидации реального неравенства национальных регионов занимало ускоренное формирование местных кадров рабочего класса, что связано как со строительством на территории Чувашии крупных предприятий (Козловский домостроительный комбинат, Шумерлинский cтолярный завод и дубильно-экстрактовый завод «Большевик» и др.), так и с привлечением чувашей на стройки за пределами республики. Например, в строительстве Нижегородского автозавода в составе многонациональных рабочих бригад принимали участие более 4700 человек из Чувашии. Например, 3-я рота 3-го полка комсомольского стройотряда, в состав которого входили удмурты, марийцы, чуваши и русские [18], до сентября 1931 г. насчитывала 500 чувашей. В сентябре 1931 г. вышел приказ крайкома ВЛКСМ № 1, обязывавший ВЛКСМ Чувашии мобилизовать на строительство автогиганта еще 395 человек. Некоторые молодые люди не справились с трудностями работы на новом месте, и 90 человек бежали, по требованию комсомола завода они были исключены из рядов ВЛКСМ. Многие из чувашских комсомольцев были передовиками социалистического строительства, неоднократно выполнявшими все производственные планы на 150, 350, 450% [1]. Трудности непосредственного вовлечения в работу огромной массы людей (преимущественно крестьян, в большинстве неграмотных, не знавших русского языка и не приспособленных к городской среде) нередко порождали непонимание важности задачи. Так, недооценка проблем приводила к нетерпимым проявлениям и расценивалась как попытка «представить чувашских рабочих худшими и неквалифицированными на отдельных предприятиях и стройках», встречались случаи неприязни к коренному населению, разжигания антагонизма между чувашским народом и другими национальностями, непринятия чувашского языка [11] – всем этим проявлениям была объявлена решительная борьба со стороны советского аппарата, главным образом в рабочих коллективах. Летом 1930 г. внимание общественности привлекли демонстрации на Козловском домостроительном комбинат, вызванные такими факторами, как игнорирование чувашей при отправке на учебу, при прохождении повышения квалификации, демонстративное покидание собраний, где говорили на чувашском языке, случаи прямых оскорблений, самоуничижение. Иначе нельзя объяснить такие факты, как мизерность чувашских рабочих (туземного пролетариата) в общем составе рабочих в июле 1930 г. (из 800 рабочих на предприятии всего 128 человек, т.е. 16%). Администрация заводского комитета проводила лекции интернационального просвещения в рабочей среде и др. [11]. Отечественная история: люди, события, факты 43 Подобные случаи в 1928–1930 гг. наблюдались и в других районах республики. Рабочие также подвергались дискриминации с точки зрения заработной платы. В Тюрлеме русским рабочим за ту же работу платили 1 руб. 50 коп., чувашам – 70-80 коп. [22]. Эти факты были резко осуждены в печати, в «Красной Чувашии», после того как были изложены в «Спецлистке РКИ» 15 июля 1930 г. [17]. Аналогичным вопросам была посвящена целая страница газеты от 25 августа 1930 г. Президиум Чувашской ОКК решением от 1 августа 1930 г. объявил выговор составу бюро Козловского ВКП(б) и бюро заводской партячейки за слабую организацию труда в разъяснении рабочим национальной политики. Виновных предлагалось уволить, увеличить кадры и усилить массовую воспитательную работу по национальному вопросу. 20 августа на общем собрании городских и заводских коммунистов обсуждались решения XVI съезда ВКП(б) о борьбе с уклонами в национальном вопросе. В прениях выступило 20 человек. В принятом решении были намечены конкретные меры по усилению интернационального воспитания в трудовых коллективах [19]. В 1931–1932 гг. подобные факты повторились на Алатырском паровозоремонтном заводе, Железнодорожном учебном заводе и школе ФЗУ, что и стали предметом серьезного обсуждения. Причиной тому послужило избиение чуваша – учащегося школы ФЗУ. Информация об этом была заслушана 8 января 1931 г. на бюро Алатырского райкома ВКП(б), предложившем прокуратуре «организовать показательный процесс над хулиганами, оценив данный факт как живое проявление “великодержавного шовинизма”, организовать митинги в школах, проверить воспитательную работу партийных и комсомольских ячеек во всех школах» [7. Д. 59. Л. 14]. В марте бюро Алатырского райкома ВКП(б), рассмотрев результаты обследования транспортного учебного комбината и школы ФЗУ, подвергло критике «недооценку интернационального воспитания молодежи», недостаточно решительную борьбу с проявлениями «шовинизма» «в виде пренебрежительно-насмешливого отношения к учащимся-чувашам» [7. Д. 59. Л. 164–165]. В печати осуждались многие факты игнорирования задач национальной политики в этих учебных заведениях. Школа ФЗУ при Алатырском транспортно-учебном заводе являлась одной из старейших и крупнейших учебных школ Чувашской Республики с момента присоединения Алатырского уезда к Чувашской АССР в 1925 г. К сожалению, из года в год состав студентов не доукомплектовывали за счет чувашского населения. Например, осенний набор 1931 г. студентов из чувашей планировался на уровне 60–70%, а набрано было всего 13% чувашских студентов. Администрация ФЗУ представила отчет об этой работе: «проблема нехватки заключалась в том, что студенты из чувашей в 1914–1915 гг. года рождения физически слабые, так как родились в годы войны, поэтому для транспортного ФЗУ не подходят», но на студентов других национальностей это положение почему-то не распространялось. Имеются примеры неравного соотношения трудоустройства выпускников учебных комбинатов г. Алатырь на производство, в 1932 г. на Алатырском паровозоремонтном заводе было всего 8 чувашей рабочих из 968, в депо из 617 – 1 чуваш, в административном аппарате – ни одного [5]. Нередки были протесты против использования чувашского языка. Например, член партии завпроизводством Алатырского учебного комбината Базов развивал «теорию» о «государственности русского языка в СССР», критиковал 44 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 политику крайкома и чувашобкома, «создал теорию» о противоречиях в национальной политике между «Москвой и Чебоксарами». Эти взгляды были поддержаны членами бюро, которые «поправили», что «введение чувашского языка на комбинате повредит дальнейшему обучению в вузах» [6]. В августе 1931 г. Алатырский райком ВКП(б) дважды заслушивал вопрос о состоянии разбирательства по делу «о возбуждении межнациональной розни», отмечая, что судебные и следственные органы недооценивают его политическое значение. Было предложено провести показательные процессы над рабочими в клубах или непосредственно на производстве, один из них по фактам «антисемитизма» [7. Д. 60. Л. 144–145, 174]. Секретариат Нижегородского обкома ВКП(б) 27 января 1932 г., рассмотрев вопрос о работе на Алатырском паровозоремонтном заводе, указал на необходимость усиления подготовки чувашских рабочих для завода. В октябре 1932 г. на совместном заседании бюро Алатырского райкома и Президиума РКК ВКП(б) было принято решение по вопросу о «внедрении мер по обслуживанию коренного населения на Алатырском паровозоремонтном заводе», в котором предусматривались конкретные меры по улучшению материального положения чувашских рабочих, повышению их политического уровня [8. Д. 82. Л. 181]. Анализируя данную проблему, следует дать объективную оценку вопросам, часто возникавшим в межнациональных отношениях в трудовых коллективах. В ходе административно-территориального преобразования 1925 г. в состав Чувашской АССР вошли районы, в которых проживали преимущественно русские, например Алатырский район, поэтому на предприятиях этого промышленного центра было слабое представительство чувашей. Также следует учитывать, что в большинстве случаев население района не проявляло особой симпатии к вопросу о присоединении к национальной автономии. Не менее важным был факт более низкой общей социально-экономической и образовательной культуры среди чувашей (преимущественно сельских жителей), что нередко мешало им поступать в те или иные профессиональные учебные заведения. Кроме того, русские этого района отрицательно относились к изучению языка титульного этноса республики. Эти особенности нередко создавали проблемы в межнациональном общении. Государственная практика в борьбе за проведение четкой ленинской политики в национальном вопросе проявилась в работе местных партийных, комсомольских, профсоюзных и советских организаций, а также всей советской общественности в борьбе за генеральную линию партии. В условиях Чувашии проявление уклонов в национальном вопросе выражалось в самых различных видах и формах. Негативные проявления в трудовых коллективах получили соответствующую оценку и решительное неприятие на ряде предприятий Чувашии: Буинском лесопильном заводе, Шумерлинском деревообрабатывающем комбинате и других [8. Д. 278. Л. 12]. На лесозаводе «Крестьянин» имели место разжигание национальной и иной розни между русскими рабочими и чувашами, а также другими этническими группами, проявление «великодержавства» не только в производственной, но и в профсоюзной среде. Например, теория о том, что чуваши слабы и не должны привлекаться к работе, привела к тому, что на Шумерлинском комбинате чуваши-рабочие составляли всего 21%, на заводе «Большевик» чуваши составляли 42 %, а в государственных учреждениях (например, в Госбанке при приеме на работу русским отдавалось большее Отечественная история: люди, события, факты 45 предпочтение, чем чувашам). Эти проявления прослеживались в разных районах республики (Ибресинский район). В целях предотвращения конфликтных ситуаций, негативных отношений на национальной почве проводилась массовая политическая, просветительская и интернациональная работа среди широких трудящихся масс и учебных заведений [3]. В этот период значительно увеличилась сеть школ ФЗУ Чувашии, в которых велась подготовка чувашских рабочих: с 3 школ в 1928 г. до 10 школ в 1932 г.; удельный вес чувашей среди учащихся также вырос – с 64,9% до 73,6%. С 1930 по 1932 г. 2640 подростков (из них 70–85% чувашей) отправились на учебу за пределы республики [7. Д. 192. Л. 68–70]. В 1932 г. в школах ФЗУ Нижегородского края обучалось 2000 чувашских учащихся. Впоследствии этот национальный профессиональный состав рабочих пополнил промышленные кадры Чувашии [23]. Численность фабрично-заводских рабочих в Чувашии за годы первой пятилетки с 1928 по 1932 г. увеличилась почти втрое, чувашских рабочих – на 328,8%. Их доля составляла около 50% [16. С. 112–113]. Повысился трудовой потенциал коренного населения. В 1932 г. в социалистическом соревновании приняло участие более 40% рабочих республики, число представителей титульной нации среди них тоже возросло. Несколько тысяч чувашских рабочих работали на крупнейших промышленных предприятиях Нижегородского края. На Шумерлинском комбинате в одной из лучших бригад под руководством А. Федоровой из 19 ударников было 16 чувашей [16. С. 122]. В трудовых коллективах активизировались различные формы интернационального образования и политико-воспитательной работы. Число рабочих, в том числе и батраков, посещавших политшколы, выросло с 4,1% в 1926/27 учебном году до 15–16% в 1929/30 учебном году [20]. Увеличилось число активных членов добровольных обществ (МОПР, Осоавиахим и др.). 26 января 1931 г. состоялась IV Чебоксарская районная конференция Осоавиахима, показавшая большие успехи в деле военизации трудящихся Чувашии, рост сельских и городских ячеек увеличился по сравнению с аналогичным показателем в предыдущем году на 48%, а количество членов увеличилось на 23,3% вместо 14% в 1929 г. Социальный состав улучшился за счет привлечения колхозников, середняков и городской молодежи. Активно проводилась популяризация военных знаний среди трудящихся Чувашии [12]. В периодической печати часто публиковали заметки, статьи осуждающие вопросы так называемых «шовинистических проявлений» в трудовых коллективах, приводились примеры непрекращающейся борьбы с этим негативным явлением. В январе 1931 г. вышло около 1200 стенгазет, более 3000 заметок, в которых говорилось о конкретных случаях нарушений трудовой этики, например, банальном оскорблении и унижении по национальному признаку. Так, «некий член партии от Наркомздрава ВКП(б) Комаров, который почему-то с презрением относится к чувашам. Всякий раз, когда ему приходится иметь дело с чувашами, он всегда использует прозвище: “чувашский дух” или “морда” и т.д.», «В Чебоксарском леспромхозе Михайлов М., бывший арендатор мельницы и торговец, старший над обозом, делит рабочих на русских и чувашей. Не говоря уже о том предпочтении, которое Михайлов во всех деталях работы отдает русским, спецодежду он выдает только русским. По его примеру действует табельщик Петров, который во время утренней переклички записывает чуваш в последнюю очередь, а то и вовсе пропускает. Таким образом, весь рабочий день остается неоплаченным. Мы должны 46 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 беспощадно и радикально искоренить проявления “великодержавного шовинизма” в лесной промышленности, приняв жесткие меры» [13]. Многие факты свидетельствовали о том, что некоторые тяжелые условия труда в городах и в сельской местности использовались как возможность вызвать недоверие к политике, проводимой партией на местах. В условиях Чувашской АССР, особенно города Чебоксары, трудности со снабжением рабочих переплетались с острым жилищным кризисом, в результате которого многие рабочие, в частности учащиеся, оказались в крайне плохих жилищных условиях. Воспользовавшись этими причинами, некоторые активисты-оппортунисты (Ионов и Малинин) из ячеек рабфака своими действиями противостояли генеральной линии партии, а также стремились завоевать «авторитет» среди «отсталых» настроений студенчества и работающей молодежи. Вместо активизации работы по колхозному строительству они делали заявления: «Мы приехали учиться, а не помогать колхозам (Малинин); Я подхожу к этому вопросу с точки зрения голодного человека; мы перегружены, кроме учебы, мы не можем работать в другой отрасли, долой чрезмерную нагрузку (Ионов)» [10]. С учетом архаичности социальных связей и консерватизма межличностных отношений в трудовых коллективах в 1930-е гг. наблюдался явный уклон в сторону «инакомыслия» со стороны групп граждан, подвергавшихся критике со стороны правительства. Руководители различных уровней власти и партии выдвинули тезис о несоответствии деятельности оппозиции решениям XVI съезда партии: «Взгляды этих оппортунистов несовместимы с пребыванием в рядах ВКП(б). Вся партийная организация должна вести ожесточенную борьбу со всеми проявлениями правого уклона, как главной опасности партийной организации, в работе партийных ячеек и отдельных членов партии. Задача организации – искоренить оппозиционные взгляды и избавиться от существующих болезней. В работе партийной организации не должно быть места разгильдяйству, соглашательству, хвостизму, расхлябанности. Всем правым практикам необходимо дать отпор путем перестройки всей работы партийных ячеек, а также перестройки работы всех районных советских, кооперативных и массовых органов» [10]. Все это должно было способствовать преодолению негативных явлений и в сфере межнациональных отношений в производственной среде. На втором этапе реализации национальной политики с 1925 г. по начало 1930-х гг. ленинские принципы продолжали действовать. Была провозглашена борьба за ленинскую национальную политику, которая проводилась на местах партийными организациями, национальный состав состоял преимущественно из титульных национальностей. Так, большое внимание уделялось нерусским народам, процессам коренизации органов местного самоуправления, развитию автономий и в целом национальной культуры. Шел процесс ликвидации безграмотности, формирования национальных кадров. В РСФСР январь 1928 года ознаменовался началом политики репрессий советского правительства против зажиточной части крестьянства, а также ростом национальной вражды в населенных пунктах со смешанным населением. Государство возложило контроль за решением этих вопросов на партийную комиссию, созданную при обкоме ВКП(б). Хорошо организованная структура управления под руководством ЦК крайкома и обкома ВКП(б) направила все силы на борьбу с проявлениями дискриминационного характера как главной опасностью в национальном вопросе [15]. Отечественная история: люди, события, факты 47 Однако в этой работе допускались большие перекосы, особенно в борьбе с так называемым «местным национализмом», когда под флагом борьбы с «идеализацией прошлого» сохранение национальных традиций, национальная принадлежность часто клеймились под лозунгом национализма (нападки на национальную одежду чувашских женщин – сурбан, объявление войны ряду обычаев и национальных праздников и т.п.) [14]. Контрольные комиссии изучали личные дела коммунистов, обвиняемых в «великодержавном шовинизме». На основании заключений комиссий выносились выговоры с последующим исключением из рядов партии и увольнением с занимаемой должности. В 1928–1936 гг. в республике рассматривалось наибольшее количество дел. Имеющиеся недостатки на местах фиксировались и не замалчивались, а пути решения проблем обсуждались не только в муниципалитетах, но и на региональном уровне. Выводы. Подводя итог, можно отметить, что национальную политику в годы первой пятилетки в Советском Союзе можно охарактеризовать как кульминационный этап коренизации различных сфер жизни советского общества. В целом все социально-экономические и культурные преобразования, массово-политическая работа партии, направленная на борьбу, с точки зрения советской власти, с «буржуазным национализмом», распространение идеологии пролетарского интернационализма обеспечили активное вовлечение трудящихся всех этносов в социалистическое строительство. Здесь можно привести слова М. Горького: «В России совершается то, чего никогда и нигде не было, русский рабочий народ действительно объединяет всех иноплеменных людей в одном великом деле – в создании новых форм жизни. Идет процесс взаимного обмена свойствами и качествами, создается тип нового человека. Россия дает миру великий урок, показывая, как соединить разнородное и единое по духу, по цели» [21. С. 274]. Однако, несмотря на неоднозначный и зачастую нигилистический современный подход к оценке этого периода, в частности деятельности ВКП(б), нельзя отрицать, что борьба с проявлениями дискриминации по национальному признаку была первостепенной задачей. Это способствовало укреплению и развитию связей между рабочими всех народов Чувашской АССР [4. С. 388]. Литература и источники 1. Автогигант вступает в строй // Красная Чувашия. 1931. № 244, 1 нояб. С. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931244.pdf (дата обращения: 17.06.2022). 2. Вдовин А.И., Зорин В.Ю., Никонов А.В. Русский народ в национальной политике. XX век. М.: Русский мир, 1998. 443 с. 3. В корне вытравить проявления великодержавничества на лесозаводе «Крестьянин» // Красная Чувашия. 1931. № 176,7 авг. С. 2. [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931176.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 4. ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. 1898–1939. 6-е изд. М.: Госполитиздат, 1941. Ч. 1. 714 с. 5. Глаз. Крепко ударить по рукам срывающих подготовку национальных кадров пролетариата // Красная Чувашия. 1931. № 243, 31 окт. С. 3. [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931243.pdf (дата обращения: 17.06.2022). 6. Глаз. Перевыборы в Алатырском учебном комбинате // Красная Чувашия. 1931. № 285, 24 дек. С. 2 [Электронный ресурс]. URL:http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931285.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 7. Государственный архив современной истории Чувашской Республики (далее – ГАСИ ЧР). Ф. 1. Оп. 12. 8. ГАСИ ЧР. Ф. 1. Оп. 13. 9. X съезд РКП(б). Март 1921. Стенографический отчёт. М.: Госполитиздат, 1963. 915 с. 48 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 10. Еще об уроках правооппортунистических выступлений в ячейке Чувашрабфака // Красная Чувашия. 1930. № 238, 13 окт. С. 2 [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930238.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 11. За четкую пролетарскую линию в национальном вопросе // Красная Чувашия. 1930. № 186, 14 авг. С. 2 [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930186.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 12. Итоги IV Чебоксарской районной конференции Осоавиахима // Красная Чувашия. 1931. № 253, 1 янв. С. 4. [Электронный ресурс]. URL:http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931025.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 13. Крючек. Великодержавному нахальству положить конец // Красная Чувашия. 1930. № 272, 24 нояб. С. 3 [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930272.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 14. О культурном строительстве и подготовке кадров: Постановление IV Всечувашского съезда Советов // Красная Чувашия. 1931. № 43, 21 февр. С. 2 [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931043.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 15. О подходе и проведении месячника коллективизации и урожая по ЧАССР с 1-го октября по 1-е ноября 1931 года. Постановление бюро Чувашобкома ВКП(б) от 11-го сентября 1931 г. // Красная Чувашия. 1931. № 207,16 сент. С. 1. [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931207.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 16. Промышленность и рабочий класс Чувашии: 1920–1950 годы: сб. док. Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 1985. Ч. 1. 364 с. 17. Родионов М. Без остатка выкорчевать великодержавный шовинизм // Красная Чувашия. 1930. № 161, 15 июля. С. 2. [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930161.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 18. Соколов. Комсомол Чувашии в борьбе за автозавод // Красная Чувашия. 1931. № 244, 1 нояб. С. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931244.pdf (дата обращения: 17.06.2022). 19. Усилить большевистскую бдительность в национальной политике на борьбу против великодержавного шовинизма- главной опасности местного национализма // Красная Чувашия. 1930. № 196, 25 авг. С. 2 [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930196.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 20. Усилить борьбу за ленинскую национальную политику // Красная Чувашия. 1929. № 61, 29 дек. С. 2 [Электронный ресурс]. URL:http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1929061.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 21. Уяр Ф.Е. Из истории Чувашской периодической печати // Ученые записки. Вып. XI / НИИЯЛИ при совете министров Чувашской АССР. Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 1955. C. 269–274. 22. Цикунов В. Тюрлеминские шовинисты // Красная Чувашия. 1929. № 15, 2 нояб. С. 4 [Электронный ресурс]. URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1929015.pdf (дата обращения: 31.01.2023). 23. VI Чувашская областная партконференция // Красная Чувашия. 1932. № 16, 18 янв. С. 1 [Электронный ресурс]. URL:http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1932016.pdf (дата обращения: 31.01.2023). ЮСТУС ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (tosj9@rambler.ru; ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4660-0486). Tatiana V. YUSTUS FIGHT AGAINST NEGATIVE MANIFESTATIONS IN INTERETHNIC RELATIONS AMONG WORKERS IN 1928–1932 (based on the materials of the Chuvash ASSR) Key words: the Chuvash ASSR, national politics, socialism, working class, interethnic relations, factory apprenticeship schools, educational work, indigenous peoples. Turning to the experience of Soviet national politics as a subject of research is very relevant. The scientific novelty of the work consists in an attempt to conceptualize topical and important issues of interethnic relations (in particular, negative manifestations on interethnic grounds in labor collectives) in specific historical periods of establishing the Soviet society. The purpose of the study is to study the problem of negative manifestations among workers living in the territory of the Chuvash Autonomous Soviet Socialist Republic (Chuvash ASSR) during establishment of early socialism and the experience of overcoming such Отечественная история: люди, события, факты 49 problems in the specified historical period of 1928–1932 on the basis of the national policy of the Soviet state. Materials and methods. Materials from the State Archive of Modern History of the Chuvash Republic and publications of the republican periodical press were used, which served as a source base for analyzing the issues of interaction and coordination in implementing the decisions of the center, regional authorities and public organizations related to emerging problems in interethnic contacts among the working population. Study results. The policy pursued by the state in the field of national relations affected all spheres of social development, it was in a special way in the manufacturing sector, which plays a system-forming role for establishing a new type of society. In the national autonomies, there was a weak level of the population's involvement in industrial production due to the absence of large factories in these territories. To solve this problem, additional training programs for working specialties were actively developed and used. To a large extent, new approaches to involving national enclaves in establishing a new society were largely associated with greater conservatism, and everything new was perceived as alien. From 1929 to 1936 the Chuvash ASSR was part of Nizhny Novgorod Region (after 1932 – Gorky Region), initially indigenous peoples lived in the region – the Russians, the Chuvash, the Mari, the Mordovians, the Tatars and other ethnic groups. And that is why increased attention was paid to issues of national policy, especially within the framework of korenization policy carried out throughout the state. The changes taking place in multinational territories aroused additional interest on the part of the central government, which directly contributed to allocating additional resources and opportunities for solving many socio-economic issues. The article presents some problems of interethnic communications, issues of behavior in deviant actions in the labor collectives of various industrial centers of the ChASSR, which in the studied years were assessed as "chauvinistic". Conclusions. In the issues of industrial development in the years under study, the party and the state carried out a wide political and educational work, which was aimed at spreading the ideology of proletarian internationalism, which ensured active involvement of workers of all nationalities in socialist work on the basis of socio-economic and cultural transformations. Mandatory implementation of regulatory measures to stabilize national relations among the working masses, as well as condemnation and suppression of discriminatory manifestations at the enterprises of the republic had a positive impact on solving this problem. References 1. Avtogigant vstupaet v stroi [The auto giant comes into operation]. Krasnaya Chuvashiya, 1931, no. 244, Nov. 1, p. 1. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931244.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 2. Vdovin A.I., Zorin V.Yu., Nikonov A.V. Russkii narod v natsional'noi politike. XX vek [Russian people in national politics. 20thcentury]. Moscow, Russkiy mir Publ., 1998, 443 p. 3. V korne vytravit' proyavleniya velikoderzhavnichestva na lesozavode «Krest'yanin» [Root out the manifestations of great power at the sawmill "Peasant"]. Krasnaya Chuvashiya, 1931, no. 176, Aug. 7, p. 2. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931176.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 4. VKP(b) v rezolyutsiyakh i resheniyakh s"ezdov, konferentsii, plenumov TsK. 1898–1939. 6-e. izd.[VKP(b) in resolutions and decisions of congresses, conferences, plenums of the Central Committee. 1898–1939. 6th ed.]. Moscow, Gospolitizdat Publ., 1941, Part 1, 714 p. 5. Glaz. Krepko udarit' po rukam sryvayushchikh podgotovku natsional'nykh kadrov proletariata [To hit hard on the hands of those disrupting the training of national cadres of the proletariat]. Krasnaya Chuvashiya, 1931, no. 243. Oct. 31, p. 3. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931243.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 6. Glaz. Perevybory v Alatyrskom uchebnom kombinate [Re-elections in the Alatyrsky training center]. Krasnaya Chuvashiya, 1931, no. 285, Dec. 24, p. 2. Available at: http://elbib.nbchr.ru/-lib_files/0/krch_0_1931285.pdf (Access Date 2023, January 31). 7. Gosudarstvennyi arkhiv sovremennoi istorii Chuvashskoi Respubliki.Fond 1. Opis 12 [State Archives of Modern History of the Chuvash Republic. Archive 1. Anagraph 12]. 8. Gosudarstvennyi arkhiv sovremennoi istorii Chuvashskoi Respubliki. Fond 1. Opis 13[State Archives of Modern History of the Chuvash Republic. Archive 1. Anagraph 13]. 9. X s"ezd RKP(b). Mart 1921. Stenograficheskii otchet [X Congress of the RCP(b). March 1921. Verbatim record]. Moscow, Gospolitizdat Publ., 1963, 915 p. 10. Eshche ob urokakh pravo-opportunistineskikh vystuplenii v yacheike Chuvashrabfaka [More about the lessons of right-opportunist speeches in the cell of the Chuvashrabfak]. Krasnaya Chuvashiya, 1930, no. 238, Oct. 13, p. 2. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930238.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 50 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 11. Za chetkuyu proletarskuyu liniyu v natsional'nom voprose [For a clear proletarian line on the national question]. Krasnaya Chuvashiya, 1930, no. 186,Aug. 14, p. 2. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930186.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 12. Itogi IV Cheboksarskoi raionnoi konferentsii Osoaviakhima [Results of the IV Cheboksary regional conference of Osoaviakhim]. Krasnaya Chuvashiya, 1931, no. 253, Jan. 1, p. 4. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931025.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 13. Kryuchek. Velikoderzhavnomu nakhal'stvu polozhit' konets [Put an end to great power insolence]. Krasnaya Chuvashiya, 1930, no. 272, Nov. 24, p. 3. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930272.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 14. O kul'turnom stroitel'stve i podgotovke kadrov. Postanovlenie IV Vsechuvashskogo s"ezda Sovetov [On cultural construction and training of personnel. Decree of the IV All-Chuvash Congress of Soviets]. Krasnaya Chuvashiya, 1931, no. 43, Feb. 21, p. 2. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931043.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 15. O podkhode i provedenii mesyachnika kollektivizatsii i urozhaya po ChASSR s 1-go oktyabrya po 1-e noyabrya 1931 goda. Postanovlenie byuro Chuvashobkoma VKP (b) ot 11-go sentyabrya 1931 g. [On the approach and conduct of the month of collectivization and harvest in the ChASSR from October 1 to November 1, 1931. Decree of the bureau of the Chuvashobkom of the CPSU(b) of September 11, 1931]. Krasnaya Chuvashiya, 1931, no. 207, Sept. 16, p. 1. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931207.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 16. Promyshlennost' i rabochii klass Chuvashii; 1920–1950 gody: sb. dok. [Industry and the working class of Chuvashia; 1920–1950]. Cheboksary, Chuvash book publishing house Publ., 1985, Part 1, 364 p. 17. Rodionov M. Bez ostatka vykorchevat' velikoderzhavnym shovinizm [Root out great-power chauvinism without a trace]. Krasnaya Chuvashiya, 1930, no. 161, July 15, p. 2. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930161.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 18. Sokolov. Komsomol Chuvashii v bor'be za avtozavod [Komsomol of Chuvashia in the struggle for a car factory]. Krasnaya Chuvashiya, 1931, no. 244, Nov. 1, p. 1. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1931244.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 19. Usilit' bol'shevistskuyu bditel'nost' v natsional'noi politike na bor'bu protiv velikoderzhavnogo shovinizma-glavnoi opasnosti mestnogo natsionalizma [Strengthen Bolshevik vigilance in national policyagainst great-power chauvinism, the main danger of local nationalism]. Krasnaya Chuvashiya, 1930, no. 196, Aug. 25, p. 2. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1930196.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 20. Usilit' bor'bu za leninskuyu natsional'nuyu politiku [Strengthen the struggle for the Leninist nationality policy]. Krasnaya Chuvashiya, 1929, no. 61, Dec. 29, p. 2. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1929061.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 21. Uyar F.E. Iz istorii Chuvashskoi periodicheskoi pechati [From the history of the Chuvash periodical press].Uchenye zapiski. Vyp. XI [Scientific notes. Iss.XI]. Cheboksary, Chuvash Publ. House, 1955, pp. 269–274. 22. Cikunov V. Tyurleminskie shovinisty [Tyurlemin chauvinists].Krasnaya Chuvashiya, 1929, no. 15, Nov. 2, p. 4. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1929015.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). 23. VI Chuvashskaya oblastnaya partkonferentsiya[VI Chuvash Regional Party Conference].Krasnaya Chuvashiya, 1932, no. 16, Jan. 18, p. 1. Available at: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/krch_0_1932016.pdf (Access Date: 2023, Jan. 31). TATIANA V. YUSTUS – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Russian History, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (tosj9@rambler.ru; ORCID: https://orcid.org/0009-0009-4660-0486 ). Формат цитирования: Юстус Т.В. Борьба с негативными проявлениями в межнациональных отношениях среди трудящихся в 1928–1932 годах (на материалах Чувашской АССР) // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 40–50. DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-40-50. ВЗГЛЯД ИСТОРИКА: ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-51-61 УДК 930.2 ББК 63.2 Л.М. АРХИПОВА КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ИСТОРИИ В ОБЪЕКТИВЕ ИСТОРИКА Ключевые слова: кинематографический дискурс, мифологизация, исторический нарратив, конкретно-исторический подход, семиотические образы. Статья посвящена междисциплинарной проблеме использования кинематографических интерпретаций исторического прошлого в профессиональной деятельности историка, включая ее научно-исследовательские и образовательно-просветительские задачи. Цель исследования – создать возможности для научно обоснованного определения профессиональной «ниши» историка при его обращении к кинематографическому дискурсу исторического прошлого. Материалы и методы. При определении методологических оснований выделенных когнитивных моделей использовались принципы неопозитивизма, нарративной философии, методы дискурсивного анализа текстов, включающие такую особенность языка кинематографа, как образность и ярко выраженный символизм, а также положения феноменологической эпистемологии. В своем единстве эти познавательные теории культуры позволили автору статьи представить верифицированную версию результатов анализа встречающихся в научной литературе интерпретаций творческого замысла кинорежиссеров. Результаты исследования. В первой части статьи рассмотрены основные дискуссионные аспекты проблемы в русле современных научных направлений, убеждающие в актуальности предпринятого исследования. Во второй ее части представлен анализ существующих исследовательских практик в данной области знаний, выявлены и раскрыты алгоритмы считывания исторической информации художественных фильмов, характерные для каждого варианта. Выводы. Заключительная часть статьи содержит в качестве результатов определение каждой из выявленных исследовательских моделей, условно названных «описательно-информационной», «имагологической», «источниковедческой» и «мемориальной». В основу классификации положены критерий целеполагания и связанный с ним научный аппарат – методологический подход, методы, объект и предмет исследования. Автор статьи дает свою оценку их значимости в междисциплинарной парадигме научного исторического творчества, тем самым определяя возможные перспективы развития исследовательской практики историков в области познания прошлого на основе произведений кинематографа. Представляется очевидной практическая значимость предложенных автором статьи наблюдений о возможностях решения поставленной проблемы не только активного, но и критически осмысленного включения кинематографического дискурса истории в сферу исследовательской практики и в конструирование образовательного пространства. Цель исследования заключается в создании возможностей для научно обоснованного определения профессиональной «ниши» историка при его обращении к кинематографическому дискурсу исторического прошлого. 52 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Научная новизна исследования состоит в том, что, несмотря на давно назревшую потребность в методологическом осмыслении сложившейся практики использования произведений кинематографа в качестве материала для исторического познания, впервые в отечественной науке предпринята попытка систематизировать соответствующий опыт и выявить на этой основе возможные исследовательские модели. Материалы и методы исследования. В соответствии с междисциплинарной спецификой изучаемой проблемы и поставленными задачами материалами исследования послужили статьи российских авторов, обращавшихся к игровым художественным фильмам с разными познавательными целями, но с общей установкой на выявление в них исторической реальности. Этот опыт был подвергнут систематизации и анализу, что позволило выявить определенные алгоритмы познавательной деятельности и, применив к ним метод моделирования, раскрыть возможные перспективы дальнейшего участия историков в продвижении кинематографического дискурса прошлого в публичное пространство. При определении методологических основ выделенных познавательных моделей использовались принципы неопозитивизма [9], нарративной философии [1. С. 69–82], приемы дискурсивного анализа текстов, включая такую особенность языка кинематографии, как образность и ярко выраженный символизм [2. С. 5–37; 20. С. 410–411], а также положения феноменологической эпистемологии [8. C. 150–173]. В своем единстве эти познавательные теории культуры позволили автору статьи представить верифицированную версию результатов анализа встречающихся в научной литературе интерпретаций творческого замысла кинорежиссеров. Результаты исследования. Кинематографический дискурс истории как предмет изучения обратил на себя внимание российских исследователей двадцать лет назад под влиянием все более глубокого проникновения в отечественную культуру идей постмодернизма и первых опытов привлечения произведений художественного игрового кино в качестве исторического источника [5]. Как ни парадоксально на первый взгляд, но острая критика этого опыта прозвучала от сторонников модернизации исторического знания и касалась она неподготовленности ученых «старой волны» к решению актуальной задачи историзации общественного сознания путем использования широких возможностей игрового и документального кино. Отталкиваясь от социальной задачи популяризации истории, критика направляла исследователей по пути овладения новой методологией и методами. Она призывала к постановке современных проблем и обнаружения источниковедческих возможностей в кинематографическом дискурсе истории [13]. В десятках последующих публикаций по теме рассматривались вопросы значения кино как фактора формирования исторического сознания, выявлялись специфические жанровые черты исторического кино и актуальность медиатизации исторической памяти, вопросы соотношения кинематографической реальности и исторической правды. Были предложены методы изучения игрового кино при изучении исторической ментальности и состоялась критика этих методов. На уже довольно широкой базе появившихся за это время работ по истории советского кинематографа были созданы учебно-методические пособия для студентов и магистрантов исторических специальностей. В результате проблема кинематографического дискурса истории утратила свой первоначальный эксклюзивный характер, но при этом не перестала Взгляд историка: источниковедение и историография 53 служить почвой для профессиональных дискуссий: скептики и противники «новой волны» аргументируют свою позицию ссылкой на разность объекта и предмета науки и искусства, на то, что кино формирует мифологическое историческое сознание, а история – рациональное, научное; утверждают, что в образовательных целях кино может быть использовано фрагментарно и только как иллюстрация к рассказу профессионального историка о прошлом; в качестве исторического источника кинематографические произведения имеют очень ограниченное применение и т.п. Несмотря на высокую активность историков в освоении относительно нового исследовательского пространства и достигнутые позитивные результаты, по-прежнему неразрешенным остается вопрос о соотношении документированной истории и художественного вымысла, критериях оценки достоверности в историческом игровом кино, о достижимости исторической правды кинематографическими средствами [8, 17]. Следовательно, историографическая ситуация привела к необходимости систематизировать, проанализировать и обобщить сложившиеся варианты использования кино в научных целях и в широком горизонте гуманитарного познания, выделить устойчивые исследовательские модели междисциплинарного научного творчества в области изучения кинематографической реальности сквозь призму исторического. По своей представительности первое место в отмеченном ряду исследований занимают те, что выполнены в русле конкретно-исторического подхода и подчинены целям либо воссоздания истории кино, развития кинематографии как искусства и индустрии, либо репрезентации отдельных киноисторий. Историки кино продолжают традиции, заложенные такими известными исследователями, как Н.М. Зоркая, В. П. Фомин, И.Г. Беленький, К.Э. Разлогов. В этом случае объектом изучения служат собственно исторические факты в их хронологической последовательности и причинно-следственной взаимосвязи, предметом выступают характеристика этапов или направлений в кинематографе, доминирующих жанров и идеологических установок, система управления киноиндустрией, проблема взаимоотношений кинематографической интеллигенции и власти, биографии творческих личностей, проявивших свой талант в режиссуре и актерском мастерстве. Большое количество публикаций, посвященных анализу киноисторий, объясняется, по-видимому, тем, что этот вид исторического исследования не сопровождается принципиальными изменениями в методологии изучения игрового кино, он наиболее близок специфике традиционного исторического анализа. Его модель можно условно назвать описательно-информативной, или информативно-аналитической, поскольку в ней первостепенное значение приобретают содержание и тема исторической достоверности действующих лиц и обстоятельств, критика заключается в оценке документальной основы киноповествования, в связи с чем привлекаются сведения об истории создания фильма – биографии авторов, официальной идеологии, условиях съемки, последующей судьбе киноленты. Комментируя подобный жанр исторических исследований, С.С. Секиринский признавал: «Внимание авторов …привлекают в первую очередь приметы времени, запечатленные на экране непосредственно или образно-символически, в синхронном преломлении или в злободневной ретроспективе (в исторических фильмах или в литературных экранизациях), либо увиденные с точки зрения истории кинозала, зрителя» [14. С. 6]. 54 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Характерно, что в рамках описательно-информативной модели ход исследовательской мысли направлен от констатации духовного состояния общества, культурной политики государства к оценке творческого замысла создателей фильма, а не наоборот. В этой связи одним из сюжетов анализа становятся рецензии, зрительский рейтинг фильма, его успешная экранная жизнь, фестивальные награды, окупаемость фильма и т.п. Не менее примечательным является определение объекта исследования как отражение в художественном кинематографе тех или иных событий прошлого. Можно признать, что методологической основой работ этой группы является неопозитивизм с заложенной в его алгоритме большой долей предпосылочного, внеисточникового знания и объяснительных мыслительных процедур [9]. При изучении «киноисторий» важное значение приобретает понятие «историческое кино» как киноповествование о событиях и людях исторического прошлого, а также определение жанра анализируемого фильма – драма, мелодрама, комедия и т.п. У исторического кино выделены собственные жанры: фильм – эпопея, историко-биографический, историко-революционный, историко-политический, военная драма, исторический детектив [3]. Знание признаков жанровых отличий вносит дополнительную информацию в описание сюжета, кроме того, их определения – своего рода часть источниковедческих приемов историка и его обязательный шаг в конкретно-историческом анализе любых видов источников, подобный их обязательной классификации. Исследователю надлежит выделить в фильме объективные начала, атрибутику времени воссозданной кинематографистами исторической реальности, что требует от него хорошего знания исторического материала, в определенной мере знания истории кинематографа и уверенного владения профессиональными навыками историка. В статьях о киноисториях нередко встречаются слова «образ», «символ», «реконструкция» и т.п., но без тех смыслов, с какими они вошли в понятийный аппарат исторической имагологии. Исследования кинематографического дискурса истории, осуществленные с использованием научного аппарата имагологии как междисциплинарной отрасли гуманитарного знания, отличаются, прежде всего, проблематикой. Из нескольких значений имагологии в работе с кинопроизведением максимально используется ее определение как науки о конструировании имиджей в медиакультуре [12]. В этом случае профессиональный историк выявляет и анализирует значение кинообразов как инструмента культурной политики. Предметом изучения служит процесс формирования исторических стереотипов в массовом общественном сознании. Как правило, в формулировке объекта исследования не обозначены исторические источники, а называются «стереотипы» и «образы», несмотря на то, что их еще только предстоит выделить в потоке аудиовизуальной информации. Анализ работ, выполненных в этой исследовательской парадигме, позволяет заметить, что в них обозначены проблематика и понятийный аппарат имагологии – «образ», «свой», «другой», «чужой», «стереотип», «идентичность», но непосредственная техника деконструкции кинообразов не используется, авторы ограничиваются в основном описанием кинообразов и встраиванием их в уже известные характеристики исторической политики того или иного периода в развитии нашей страны. Другими словами, заявленная через апелляцию к исторической имагологии деконструкция образов остается декларацией, реального изменения Взгляд историка: источниковедение и историография 55 в методологии и технике анализа исторической информации художественных фильмов, как правило, не происходит. Между тем имагологическая модель, нацеленная на деконструкцию кинематографических образов, должна находиться в общей парадигме источниковедения культуры. Согласно ее принципам, объектами изучения признаются источники, в данном случае это кинематографические произведения, важнейшим предварительным шагом в их анализе является редукция как отказ от предпосылочного знания, что не исключает предварительных гипотез, сам процесс деконструкции осуществляется с помощью инструментария феноменологии. «Не отрицая психического (в том числе бессознательного), историк – феноменолог исследует то, что дано в источниках в качестве опыта прямых высказываний… Исследователь стремится понять содержание опыта прямых высказываний через реконструкцию их объяснительных процедур» [6. С. 167]. Поскольку в этом случае «Его “добыча” – чужое сознание в собственных семантических границах» [6. С. 163], постольку предложенный алгоритм действий потребует от историка знания киноязыка, включая не только культурносемантические нюансы, но и некоторые технологические особенности представления на экране художественных образов [16]. Если деконструкция образов строится на исследовании дихотомии свой – чужой для лучшего понимания механизма манипулирования индивидуальным и массовым историческим сознанием посредством художественных образов, то следует иметь в виду ряд социально-психологических аспектов имагологии. В частности, установку на то, что «другое» может рассматриваться как проекция коллективных и индивидуальных страхов, вытеснение собственных нежелательных качеств и свойств. Главная функция этой дихотомической проекции – это сохранение за счет «другого» стабильности собственного существования. Конкретная методика обработки информации игровых фильмов реализуется через ответы источника на те же вопросы деконструкции образов «своего»/«другого»/«чужого», что применяются к текстам: В каких коммуникативных ситуациях актуализируется «свое»/«другое»/«чужое»? Как построены образы «своего»/«другого»/«чужого»? С помощью каких риторических текстуальных приемов они конструируются? С помощью каких знаков и символов представляются эти образы, в каком контексте происходят их толкование и перекодирование? Диапазон каких значений и смыслов приписывается «своему»/«другому»/«чужому»? Как выражается противостояние «своего и чужого»? К каким социальным, общественным и политическим изменениям ведут образы «своего»/«другого»/«чужого»? Поскольку в рамках имагологической модели исследования кинематографического дискурса истории заслуживает внимания не только проблема «что и как говорит», но и представления об авторе художественных образов, то необходимо привлечение достаточно широкого круга дополнительных документов, не киноисточников, для выяснения вопросов «кто говорит», а также «кому говорит». Среди них особое значение приобретает знание о том, кто определяет категорию «другого» и какими экономическими, социальными, культурными ресурсами он обладает. Только в единстве с первой частью исследования эта вторая, 56 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 конкретно-историческая, часть позволит более полно и верифицировано раскрыть исследовательский сюжет об интересах и мотивах создания определенной кинематографической версии исторического события, явления, личности. Источниковедческая модель исследования кинематографического дискурса истории проявляет себя в тех случаях, когда игровые фильмы становятся предметом изучения как произведения культуры [4]. Уже исходя из этого очевидно, что в рамках очередной парадигмы исследования любой фильм признается историческим, поскольку заключает в себе большой объем информации о времени создания фильма – от бытовых черт и элементов повседневности, попавших в кадр, до ментальных явлений. Здесь отдельными этапами работы историка с киноматериалом служат все традиционные приемы источниковедческого метода – характеристика исторического времени (эпохи) создания кинопроизведения, коллективное авторство съемочной киногруппы, непосредственные обстоятельства производства кинокартины от ее замысла до проката, интерпретация творческого замысла режиссера, анализ всей выявленной социальной информации, синтез – определение значения исследуемого фильма в культуре. Реализованный на феноменологической теоретической основе источниковедческий метод предполагает сосредоточенность исследователя на выявлении скрытой информации об исторической реальности, в которой был создан фильм, посредством анализа как прямых высказываний авторов кинопроизведения, так и ненамеренных, попавших в кадр в виде случайных маркеров исторического времени. Это позволяет репрезентовать художественный фильм как исторический источник – документальное свидетельство эпохи, проникнуть в свойственные ее современникам мировоззренческие установки, нравственные проблемы, некоторые структуры образа жизни. Наиболее успешно источниковедческая модель работает применительно к игровым фильмам о современниках, поскольку история в них – это запечатленное время, осмысленное авторами в художественно кинематографической форме. В этой связи у исследователя возникает необходимость использовать ту «технику считывания» информации, которая применяется в текстологическом анализе литературных произведений. Ее установки совпадают с принципами источниковедческого подхода. К ним относится признание источника результатом деятельности чужого сознания, реальностью прошлого, внешней стороной выражения человеческого духа [6. С. 158]. Соответственно работу с источником сопровождают обязательный учет степени опосредованности информации, исходящей от автора, определение временной и пространственной дистанции, отделяющей его от события. Не менее важно знание исследователем социокультурной среды, к которой принадлежал автор произведения, а также на которую были рассчитаны его смысловые посылы. Интерпретация смыслов осуществляется посредством интенционального метода, полностью отвечающего именно антропоцентричной установке источниковедения культуры и позволяющего описать кинематографический дискурс как феномен коммуникативной диалоговой деятельности. Обладая определенными знаниями в области психолингвистики, историк переходит от анализа отдельных речеактовых интенций к интенциональности всего текста, понимаемую как способность произведения культуры выражать авторское коммуникативное намерение. «Интенция и связанная с ней интенциональность – основной критерий любой человеческой коммуникации (не только вербальной – Взгляд историка: источниковедение и историография 57 аудио-визуальной, жестовой, мимической и т.п.), поэтому ее необходимо обязательно учитывать в научном анализе» [7]. Интенции текста – это маркеры дискурса, соответственно проблема кинематографического дискурса истории в рамках источниковедческой модели исследования приобретает максимально выраженный междисциплинарный характер и требует от историка кроме высокопрофессиональных умений в своей области владения некоторыми лингвистическими компетенциями, а также знания законов киноискусства [19]. Вполне естественно, что примеров такого творчества среди историков пока не встречается, исследования игрового кино как исторического источника пока ограничиваются традиционным использованием источниковедческого метода, не перенося его фактически на почву феноменологического подхода и лингвистических приемов анализа фильма как текста. Моделью, не менее удаленной от задач конкретно-исторического исследования игрового кино, является та, которую по ее взаимодействию с историей памяти можно условно назвать «мемориальной». В рамках этой модели кинематографические произведения, посвященные историческому прошлому, изучаются как факты мифологизации истории. «Миф – это «смыслопорождающая машина».…Миф структурирует время культуры через создание образа истории, генезиса элементов жизненного мира личности и общества» [10. С. 108, 111]. Миф представляет в символической системе смыслы человеческой жизнедеятельности, адекватные изменяющейся социально-исторической реальности. Это открывает возможность исследователю не только описать духовноценностные ориентиры создателей кинематографической мифологии того или иного исторического события, но и получить представление о состоянии общественного сознания, для которого миф предназначен. Определяя кинематографический дискурс истории как определенный способ кодирования мифологии современного ему общества, т.е. того взгляда на историю, который данный социум предпочитает всем остальным, исследователь освобождает себя от необходимости решать вопрос о фактологической достоверности фильма, документально-исторической основе его нарратива [15]. Методологическим основанием для такого подхода служат понятия о том, что история и память не тождественны (А. Про), что коллективная память имеет двойственную природу – ядро ее составляют архетипы, оболочку – стереотипы (П. Нора), она имеет нарративное измерение (Ф. Анкерсмит). Исследовательские методы и приемы в «мемориальной» модели не отличаются новизной и сложностью, могут ограничиться традиционным кругом, в центре которого сущностно-описательный анализ. Он нацелен на сравнение разных кинематографических интерпретаций прошлого для «выяснения заложенного в нарративах предложения о том, как стоит смотреть на прошлое» [15. С. 17]. При этом возможно расширение проблемного поля за счет работы историка над такими вопросами коммеморации прошлого, как выявление культурно-политической стратегии мнемонических акторов, сравнение конкурирующих исторических нарративов по линии сюжета, идеи, «уроков» и т.п. [11]. Практическая значимость. Выявленные алгоритмы познавательной деятельности исследователей в междисциплинарной области изучения исторического прошлого, представленного в специфике его кинематографического дискурса, убеждают в необходимости овладения историком теми компетенциями, которые выходят за рамки его специальной подготовки. Представленные 58 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 модели научного творчества способствуют научной рефлексии исследователей на предмет определения собственной профессиональной ниши при обращении к произведениям киноискусства с познавательными и культурно-образовательными целями. Наконец, результаты проведенного исследования могут быть использованы в культурно-образовательной деятельности, включая реализацию бакалаврских и магистерских учебных программ по направлению подготовки «публичная история». Перспективы исследования. Выявленные тенденции исследовательской активности историка в сфере кинематографических реконструкций прошлого следует признать весьма перспективными, принимая во внимание особенности современного развития науки. В условиях междисциплинарности гуманитарного знания и актуализации антропоцентричной истории с ее интересом к любым проявлениям общественного и индивидуального сознания, к сложившимся в практике предшествующих поколений способам формирования идентичностей, с ее стремлением проникнуть в процесс художественного творчества, в котором переплетаются факт и вымысел, интерес к кинематографическому дискурсу истории будет возрастать. Выводы. М. Ферро, отвечая на вопрос о возможностях взаимодействия исторического научного творчества и киноискусства, отметил следующее: «Если задумываться над проблематикой “кино и история”, то следует принять во внимание две оси, которыми являются историческое прочтение фильма и кинематографическое прочтение истории» [18. C. 49]. Сложившийся за два последние десятилетия в отечественной научной практике опыт обращения гуманитариев разных специальностей – историков, культурологов, социологов, филологов – к профессиональному прочтению произведений игрового художественного кинематографа позволяет выделить всего четыре основных исследовательских модели, названные условно по их подходам и целям как «описательно-информационная», «имагологическая», «источниковедческая» и «мемориальная». Следуя мысли М. Ферро, на ось исторического прочтения фильма можно уверенно расположить первую из них, полностью соответствующую назначению истории как науки, а на вторую – «мемориальную» модель как не заключающую в себе цель документального установления исторической подлинности приведенных в фильме событий, а предназначенную исключительно для анализа кинематографических интерпретаций истории. Выявление «имагологической» и «источниковедческой» модели приводит к необходимости прочертить наряду с вертикальными осями горизонтальную, отделяющую декларируемые исследователями теоретические подходы от реально воплощенных в научном творчестве. Только следование феноменологическому пониманию смысла исторического источника в единстве с владением интенциональным методом и техникой деконструкции художественно-кинематографических образов позволяет снять проблему исторической правды в кино, поскольку фокус внимания исследователя переносится в этом случае не на факты истории, а на способы их представления, т.е. на изучение именно кинематографического дискурса истории. Литература 1. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Кашаев. М.: «Канон+» РОИИ «Реаблитация», 2009. 400 с. 2. Аронсон О.В. Кино и философия: от текста к образу. М.: ИФ РАН, 2018. 109 с. Взгляд историка: источниковедение и историография 59 3. Волков Е.В., Пономарева Е.В. Игровое кино как исторический источник для изучения культурной памяти // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Социально-гуманитарные науки. 2012. № 10(269). С. 22-26. 4. Горбачев О.В. Советский художественный кинематограф как исторический документ: особенности анализа и интерпретации // Документ. Архив. История. Современность. 2015. № 15. С. 126–136. 5. История страны/История кино / под ред. С.С. Секиринского. М.: Знак, 2004. 496 с. 6. Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Регион Докса. Источниковедение культуры. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. 210 с. 7. Клушина Н.И. Интенциональный метод в современной лингвистической парадигме [Электронный ресурс] // Медиаскоп. 2012. № 4. URL: http://www.mediascope.ru/node/1242. 8. Лапина-Кратасюк Е.Г. Аффекты истории: рассказы о прошлом в кино и на телевидении // Артикульт. 2014. № 4(16). С. 6–13. 9. Лубский А.В. Неопозитивизм в историческом познании // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: Аквилон, 2014. С. 332–334. 10. Макаров А.И. Символическая интерпретация мифа как методологический прием//Выбор метода: Изучение культуры в России 1990-х годов: сб. науч. ст. / сост. и отв. ред. Г.И. Зверева. М.: РГГУ, 2001. С. 107–112. 11. Малинова О.Ю. Политика памяти как область символической политики // Методологические вопросы изучения политики памяти: сб. науч. трудов / отв. ред. А.И. Миллер, Д.В. Ефременко. М.; СПб.: Нестор История, 2018. С. 27–53. 12. Поляков О.Ю. Имагология. Киров: ВятГУ, 2015. 184 с. 13. Самутина Н.В. Рецензия на книгу «История страны/история кино / под ред. д-ра ист. наук С.С. Секиринского. М.: Знак, 2004. 496 с.» [Электронный ресурс] // Критическая масса. 2004. № 1. URL: https://www.hse.ru/data/2015/12/14/1134454668/Самутина%20об%20Истории%20страны%20истории%20кино%20КМ.pdf. 14. Секиринский С.С. Кинематографичность истории. Историчность кинематографа // Отечественная история 2003. № 6. С. 3–7. 15. Талавер А. Память о Великой Отечественной войне в постсоветском кинематографе. Этапы осмысления прошлого (от 1990-х к 2000-м): препринт WP20/2013/06 / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: ИД ВШЭ, 2013. 56 с. 16. Усенко О.Г. Методология изучения менталитета по игровому кино и ее апробация на примере российского кинематографа 1908–1919 гг. // Вестник Тверского государственного университета. Сер. История. 2009. Вып. 3, № 40. С. 36–71; Вып. 4. № 43. С. 50–97. 17. Устюгова В.В. Взгляд киноведа vs. взгляд историка на советские исторические фильмы // Вестник Пермского университета. История. 2021. № 4(55). С. 39–45. 18. Ферро М. Кино и история // Вопросы истории. 1993. №2. С. 47–57. 19. Яковлева Л.И. Дискурс-анализ как один из срезов социально-философского, культурологического и лингвистического исследования // Философские опыты. 2011. № 4. С. 22–66. 20. Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М. РИК «Культура», 1993. 464 с. АРХИПОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА – доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории, Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского, Россия, Ярославль (Lubov.a2011@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/00000001-8285-5720). Lyubov M. ARKHIPOVA CINEMATIC DISCOURSE OF HISTORY IN THE CAMERA GLASS OF A HISTORIAN Key words: cinematic discourse, mythologization, historical narrative, concrete historical approach, semiotic images. The article is devoted to the interdisciplinary problem of using cinematic interpretations of the historical past in the professional activity of a historian, including its research and educational tasks. The purpose of the study is to create opportunities for a scientifically based definition of a historian's professional "niche" when he turns to the cinematic discourse of the historical past. 60 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Materials and methods. To determine the methodological foundations of selected cognitive models, the principles of neo-positivism, narrative philosophy, methods of discursive analysis of texts, including such features of the language of cinema as imagery and pronounced symbolism, as well as the provisions of phenomenological epistemology, were used. In their unity, these cognitive theories of culture allowed the author of the article to present a verified version of the results obtained by analyzing interpretations of the creative intent of film directors found in the scientific literature. Study results. In the first part of the article, the main debatable aspects of the problem are considered in line with modern scientific trends, convincing of the relevance of the research undertaken. In its second part, the analysis of existing research practices in this field of knowledge is presented, the algorithms for reading historical information in feature films characteristic of each variant are identified and disclosed. Conclusions. The final part of the article contains as results the definition for each of the identified research models, conventionally called "descriptive-informational", "imagological", "source studies" and "memorial". The classification is based on the criterion of goalsetting and the scientific apparatus associated with it – the methodological approach, methods, the object and the subject of research. The author of the article gives assessment of their importance in the interdisciplinary paradigm of scientific historical creativity, thereby determining possible prospects for the development of historians' research practice in the field of cognition of the past based on cinematography works. It seems obvious that the practical significance of observations proposed by the article's author about the possibilities of solving the problem posed by not only active, but also critically meaningful inclusion of the cinematic discourse of history in the sphere of research practice and in the construction of educational space. References 1. Ankersmit F.R. History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor Berkeley [etc.]: University of California Press, [1994] (Russ. ed.: Istoriya i tropologiya: vzlet i padenie metafory. Moscow, «Kanon+» ROII «Reablitatsiya» Publ., 2009, 400 p.). 2. Aronson O.V. Kino i filosofiya: ot teksta k obrazu [Cinema and Philosophy: From Text to Image]. Moscow, 2018, 109 p. 3. Volkov E.V., Ponomareva E.V. Igrovoe kino kak istoricheskii istochnik dlya izucheniya kul'turnoi pamyati [Feature Films as a Historical Source for the Study of Cultural Memory]. Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Sotsial'no-gumanitarnye nauki, 2012, no. 10(269), pp. 22–26. 4. Gorbachev O.V. Sovetskii khudozhestvennyi kinematograf kak istoricheskii dokument: osobennosti analiza i interpretatsii [Soviet Art Cinema as a Historical Document: Features of Analysis and Interpretation]. Dokument. Arkhiv. Istoriya. Sovremennost, 2015, no. 15, pp. 126–136. 5. Sekirinskiy S.S., ed. Istoriya strany/Istoriya kino [History of the country/History of cinema]. Moscow, Znak Publ., 2004, 496 p. 6. Karavashkin A.V., Yurganov A.L. Region Doksa. Istochnikovedenie kul'tury [Doxa Region. Source Studies of Culture]. Moscow, 2005, 210 p. 7. Klushina N.I. Intentsional'nyi metod v sovremennoi lingvisticheskoi paradigme [Intentional Method in the Modern Linguistic Paradigm]. Mediaskop, 2012, no. 4. Available at: http://www.mediascope.ru/node/1242. 8. Lapina-Kratasyuk E.G. Affekty istorii: rasskazy o proshlom v kino i na televidenii [The Affects of History: Tales of the Past in Film and Television]. Artikul't, 2014, no. 4(16), pp. 6–13. 9. Lubskii A.V. Neopozitivizm v istoricheskom poznanii [Neopositivism in Historical Cognition]. In: Chubar'yan O.A. Teoriya i metodologiya istoricheskoi nauki. Terminologicheskii slovar' [Theory and methodology of historical science. Terminological dictionary]. Moscow, Akvilon Publ., 2014, pp. 332–334. 10. Makarov A.I. Simvolicheskaya interpretatsiya mifa kak metodologicheskii priem [Symbolic interpretation of myth as a methodological device]. In: Zvereva G.I., comp., ed. Vybor metoda: Izuchenie kul'tury v Rossii 1990-kh godov. Sbornik nauchnykh statei [Choice of method: The study of culture in Russia in the 1990s. Collection of scientific articles]. Moscow, 2001, pp. 107–112. 11. Malinova O.Yu. Politika pamyati kak oblast' simvolicheskoi politiki [The Politics of Memory as an Area of Symbolic Politics]. In: Miller A.I., Efremenko D.V., eds. Metodologicheskie voprosy izucheniya politiki pamyati: sb. nauch. trudov [ Methodological issues of studying the politics of memory]. Moscow, St. Petersburg, Nestor Istoriya Publ., 2018, pp. 27–53. 12. Polyakov O.Yu. Imagologiya [Imagology]. Kirov, 2015, 184 p. 13. Samutina N.V. Retsenziya na knigu «Istoriya strany/istoriya kino. M.: Znak, 2004. 496 s.» [Review of the book «History of the Country / History of Cinema. Edited by Doctor of Historical Sciences Взгляд историка: источниковедение и историография 61 S.S. Sekirinsky. Moscow: Znak, 2004. 496 p.»]. Kriticheskaya massa, 2004, no. 1. Available at: https://www.hse.ru/data/2015/12/14/1134454668/Самутина%20об%20Истории%20страны%20истории%20кино%20КМ.pdf. 14. Sekirinskii S.S. Kinematografichnost' istorii. Istorichnost' kinematografa [The cinematic nature of the story. The historicity of cinema]. Otechestvennaya istoriya, 2003, no. 6, pp. 3–7. 15. Talaver A. Pamyat' o Velikoi Otechestvennoi voine v postsovetskom kinematografe. Etapy osmysleniya proshlogo (ot 1990-kh k 2000-m): preprint WP20/2013/06 [The memory of the Great Patriotic War in post-Soviet cinema. Stages of comprehension of the past (from the 1990 to the 2000): preprint WP20/2013/06]. Moscow, 2013, 56 p. 16. Usenko O.G. Metodologiya izucheniya mentaliteta po igrovomu kino i ee aprobatsiya na primere rossiiskogo kinematografa 1908–1919 gg. [The methodology of studying the mentality of feature films and its approbation on the example of Russian cinema of 1908–1919].Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Istoriya, 2009, Iss. 3, no. 40, pp. 36–71; Iss. 4, no. 43, pp. 50–97. 17. Ustyugova V.V. Vzglyad kinoveda vs. vzglyad istorika na sovetskie istoricheskie fil'my[The view of a film critic vs. the view of a historian on Soviet historical films]. Vestnik Permskogo universiteta. Istoriya, 2021, no. 4(55), pp. 39–45. 18. Ferro M. Kino i istoriya [Cinema and history]. Voprosy istorii, 1993, no. 2, pp. 47–57. 19. Yakovleva L.I. Diskurs-analiz kak odin iz srezov sotsial'no-filosofskogo, kul'turologicheskogo i lingvisticheskogo issledovaniya [Discourse analysis as one of the slices of socio-philosophical, cultural and linguistic research]. Filosofskie opyty, 2011, no. 4, pp. 22–66. 20. Yampol'skii M.B. Pamyat' Tiresiya. Intertekstual'nost' i kinematograf [Memory of Tiresias. Intertextuality and cinematography]. Moscow, Kul'tura Publ., 1993, 464 p. LYUBOV M. ARKHIPOVA – Doctor of Historical Sciences, Professor, Department of Russian History, Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, Russia, Yaroslavl (Lubov.a2011@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8285-5720). Формат цитирования: Архипова Л.М. Кинематографический дискурс истории в объективе историка // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 51–61. DOI: 10.47026/2712-9454-20234-2-51-61. 62 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-62-72 УДК 930(01) ББК 63 Ф.Н. АХМАДИЕВ, И.В. ВОСТРИКОВ, Г.Р. ШАРАФУТДИНОВ МУХАММЕД КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЖ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ НАЧАЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (на примере «Очерков…» М.Н. Петрова) Ключевые слова: история, историография, очерк, ислам, пророк, Мухаммед, европейская ориенталистика, Карлейль, герой, политика, халиф. Цель. Рассмотреть опыт первого в российской науке всеобщей истории обращения к теме формирования исламского мира в Аравии в начале VII в. В статье предложены результаты исследования классической для исторической науки проблемы – роли личности в истории. В нашем случае в качестве такого персонажа выступает пророк Мухаммед в контексте «пророка – героя», каким он рассматривается некоторыми европейскими историками в середине XIX в. (Т. Карлейль, В. Ирвинг). В противоположность этому в европейской ориенталистике формируется и другое мнение об исторической роли пророка Мухаммеда. Суть его заключается в полном отрицании признания за этим персонажем какой-либо значимой роли во всемирной истории. В лучшем случае за ним признают заслугу создания арабского государства, построенного на новых исламских основах (А. Шпренгер). Целью нашего исследования является определить меру научной самостоятельности оценки отечественным исследователем М.Н. Петровым, данной им пророку Мухаммеду. Эта оценка сделана автором в книге «Очерки из всеобщей истории», изданной в 1868 г., т.е. гораздо позднее упоминаемых исследований европейских авторов. Для нас очевидно, что М.Н. Петрову, опиравшемуся, естественно, на европейскую ориенталистику, удалось сделать ряд совершенно самостоятельных умозаключений, главное, впервые включить персонаж Мухаммеда в ряд исторических персоналий в российской науке всеобщей истории. Это, пожалуй, очевидный результат нашего исследования. Материалы и методы. Особенностью темы истории ислама для российской науки всеобщей истории в начале второй половины XIX в. является практически полное отсутствие отечественных наработок. Этим объясняется активное изучение российскими авторами опыта европейской ориенталистики первой половины – середины XIX в., имевшей уже ряд первоклассных работ. Соответственно в статье в качестве «привлеченного» материала активно используются работы Бокля, Шпренгера, Карлейля и др. Методами исследования являются описательный, сравнительно-историографический и биографический. В содержании своего «Очерка…» М.Н. Петров обращается к опыту европейской ориенталистики, главным образом – труду немецкого историка Шпренгера «Жизнь и учение Мухаммеда». Но в «Очерке…» упоминаются и работы других европейских историков: Ренана, Сент-Иллера, Вейля и других. В то же время «Очерк…» М.Н. Петрова вовсе не историографический обзор европейской ориенталистики по теме истории ислама. Научная новизна. Первый пример обращения к началу исламоведения в российской исторической науке с привлечением обширного историографического материала. Это самостоятельная исследовательская работа, которая во многом дополняет и уточняет мнение европейских историков. Путем «синтеза методов истории, психологии и естествознания» отечественный историк приводит своего читателя к пониманию решающей роли природно-климатических условий Аравии в формировании особого внутреннего мира арабов, главной чертой которого является природная склонность к монотеизму и фатализму. Результаты исследования. Результаты исследования заключаются, на наш взгляд, в том, что «Очерк…» М.Н. Петрова, являясь одним из первых исследований биографического жанра в российской медиевистике начала второй половины XIX в., положил начало весьма популярному впоследствии методу, в основе которого Взгляд историка: источниковедение и историография 63 лежит изучение «биографической» темы в российской науке истории. Это создает возможность выстраивать более полную картину истории отечественной историографии за счет вовлечения в её оборот «забытых» и «полузабытых» сочинений российских исследователей XIX в. В центре нашего внимания оказался один из исторических «Очерков» профессора Харьковского университета Михаила Назаровича Петрова (1826–1887 гг.). В нем он рассказывает о начале становления исламского мира в Аравии, формировании исламской общины, превращении Мухаммеда, «обычного курейшитского купца», в пророка новой веры. Автор подчеркивает, что веками эта фигура рассматривалась как некое «сверхъестественное существо» и только с середины XIX в. усилиями европейской ориенталистики Мухаммед превращается в реальное историческое лицо. Обращаясь к истории раннего ислама и биографии пророка харьковский историк, по сути, становится первооткрывателем этой темы для российского читателя. Российскому историку М.Н. Петрову удалось сделать в своем биографическом «Очерке…» о личности Мухаммеда ряд самостоятельных обобщений и «включить» персонаж пророка Мухаммеда и историю ислама в исследовательское поле российской науки всеобщей истории. Выводы. Особый интерес представляет попытка автора трактовать, как удалось «обычному курейшитскому купцу» пройти путь от обычного человека до признанного всеми арабами пророка. В этом случае автор касается актуальной для европейской исторической науки середины XIX в. темы «героя» и «героического в истории», поставленной английским историком Карлейлем, который относил Мухаммеда к «пророкам-героям». Петров, вслед за Шпренгером, не соглашается с этим мнением и последовательно проводит идею превращения Мухаммеда из пророка в пору утверждения ислама в политика и правителя, утратившего «пророческую искренность» и ставшего «кровожадным деспотом» и «властолюбцем», т.е. идею эволюции Мухаммеда в «антигероя». В прошлом календарном году исполнилось 1390 лет со дня смерти Мухаммеда, еще при жизни признанного современниками пророком, человека, положившего начало такому грандиозному по масштабу явлению, которое мы сегодня называем «исламским миром». Цель нашего исследования рассмотреть опыт первого в российской историографии всеобщей истории обращения к истории «раннего» ислама, личности пророка Мухаммеда и формирования мусульманского мира в Аравии в VII в. Естественно о жизни этого человека создано огромное количество самой разнообразной литературы, наверное, на всех языках мира. Мы же хотим обратиться к такому сюжету в историописании о нем, когда он становится одной из главных фигур в европейской ориенталистике середины – второй половины XIX в., поскольку в европейской науке возникает необходимость осмыслить поновому жизнь и деятельность Мухаммеда как деятеля, создавшего в первой трети седьмого века совершенно новый мир – ислам, который усилиями одного человека, ставшего его пророком, превратился со временем в угрозу всему христианскому миру, и, по эмоциональному возгласу отечественного исследователя, «девять веков спустя после Мухаммеда, их (мусульман. – Авт.) бранный клич – нет бога кроме Аллаха! – раздастся у ворот самой Вены» [6. С. 206]. Материалы и методы. Особенностью темы истории ислама для российской науки всеобщей истории в начале второй половины XIX в. является практически полное отсутствие отечественных наработок. Этим объясняется активное изучение российскими авторами опыта европейской ориенталистики первой половины – середины XIX в., имевшей уже ряд первоклассных работ. Соответственно в статье в качестве «привлеченного» материала активно используются работы Бокля, Шпренгера, Карлейля и др. Методами исследования являются описательный, сравнительно-историографический и биографический. 64 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Томас Карлейль, английский историк, публицист и философ, создатель оригинального «биографического метода», в одной из своих работ «Герои, почитание героев и героическое в истории», опубликованной впервые в 1841 г. [4], выдвинул точку зрения, согласно которой, историю можно рассматривать в контексте деятельности «великих людей», которых он определял как «героев». Они и являются, по его мнению, творцами истории. Именно «герой» является «лицом» и выразителем исторического периода, а не масса его современников. Он пишет: «В истории всякой великой эпохи самый важный факт представляет то, каким образом люди относятся к появлению среди них великого человека» [4. С. 18]. По мнению историка, по степени «героизма» в конкретное историческое время, т.е. по числу выявленных «героев», можно сделать верный вывод о мировоззрении людей этого времени. «Герой» является для того, «чтобы сделать истину более понятной для нас» [4. С. 18]. Изучая, таким образом, «героическое» прошлое, мы открываем для себя общечеловеческое прошлое. Особо интересными являются размышления историка о «герое-пророке». По его мнению, «герой-пророк», раскрывает «божественную тайну», «которой проникнуто всё, все существа» [4. С. 53]. «Геройпророк» охватывает эту тайну с «моральной» точки зрения и объясняет людям «то, что мы должны делать» [4. С. 52]. Но помимо «героя-пророка», по мысли Карлейля, в истории были еще и «герои-поэты». Их задача объяснять людям, то, что они «должны любить» [4. С. 49]. Главной темой в отношениях людей и «героев» является почитание первыми вторых. И именно это почитание является выражением меры духовности людей. К тому же чувство почитания, которое, по мнению Карлейля, носит религиозный характер, является той силой, которая обеспечивает существование общества. На почитании основываются все экономические, политические, социальные и духовные ценности общества. «“Человеческое единение”, – пишет Карлейль, – представляет собой то, что мы могли бы назвать правлением героев или иерархией, так как эта иерархия заключает в себе также и “святого”» [4. С. 48]. Все религии, по Карлейлю, – держатся на почитании «героев» [4. С. 18]. «В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, кто выше его» [4. С. 18]. Следуя данной логике, благополучие любой эпохи зависит от того, найдут ли современники «героя», т.е. великого человека, проникнутого божественной идеей, которую он несет людям. И естественно, что одним из главных «героев-пророков» книги Карлейля стал пророк Мухаммед [4]. Научная новизна. «Очерк…» М.Н. Петрова – первый пример обращения к началу исламоведения в российской исторической науке с привлечением обширного историографического материала. Мы не намерены подробно останавливаться именно на мнении Карлейля, поскольку, на наш взгляд, гораздо интереснее проследить реакцию на «героическую» конструкцию Карлейля в других европейских историографиях и, прежде всего, в отечественной историографии второй половины XIX в. В этом смысле интерес представляют «Очерки из всеобщей истории» профессора Харьковского Императорского университета Михаила Назаровича Петрова, выдержавшие четыре издания: в 1868, 1882, 1896 и 1904 гг. Первые два издания – прижизненные, следующие два – появились в свет уже после кончины их автора. Один из десяти «Очерков…» посвящен личности пророка Мухаммеда [6]. Сохранились в его архиве и лекционные записи, которые, по замыслу автора, легли в основу его «Очерков…», в том числе и лекция о Мухаммеде, Взгляд историка: источниковедение и историография 65 в которой Петров ставил задачей «с помощью синтеза методов истории, психологии и естествознания» [5] показать эту личность в полной мере. Отметим, что много позже после смерти М.Н. Петрова (1887 г.), в 1906 г., профессором Харьковского университета А.С. Вязигиным были опубликованы в 2 частях «Лекции по всемирной истории» М.Н. Петрова [7], в которых в том числе содержится сюжет о начальной истории ислама в Аравии и личности Мухаммеда. И хотя составитель оговаривает, что убрал из книги все вставки, сделанные профессором В.К. Надлером в предыдущее издание «Лекций…», трудно судить, насколько изменили составители первоначальный текст. Что же касается истории ислама, то в «Лекциях…» содержится материал и об истории Омяйядского Халифата, хотя «Очерк» 1868 г. о Мухаммеде ограничивается 632 годом и краткой историей правления первых двух халифов (Абу Бекра и Омара). Кроме того, издание «Лекций…» насыщено большим количеством изданий, главным образом, немецких, которые были опубликованы гораздо позже 1868 г. и, таким образом, были недоступны Петрову при составлении первого по времени текста «Очерков…». Поэтому мы ограничимся только текстом очерка профессора о Мухаммеде по прижизненному изданию 1868 г. Ценность этого издания еще и в том, что это первое исследование об истории ислама и жизни Мухаммеда, написанное отечественным исследователем [1]. До этого российскому читателю был доступен только перевод П. Киреевским книги В. Ирвинга «Жизнь Магомета» [3]. Мы уже задавались вопросом, можно ли считать М.Н. Петрова историком-ориенталистом, исследователем средневекового Востока [1]. Думается, что нет, поскольку в основе очерка лежат материалы, почерпнутые историком из зарубежных изданий, в первую очередь из книги «Жизнь и учение Мухаммеда» немецкого историка А. Шпренгера [9], и, в меньшей мере, исследования французского историка Э. Ренана «Этюды из истории религии» [8]. Выбор книг этих европейских авторов в качестве пособия для составления «Очерка…» о Мухаммеде сам Петров объясняет двумя причинами. Первая. Недавним «началом (только с 40-х гг. XIX в.) научной разработки истории Мухаммеда» [6. С. 111]. Вторая. Исследования этих двух европейских авторов истории раннего ислама, по мнению автора «Очерка», являются «лучшими» в своем роде [6. С. 113]. Немаловажно и то обстоятельство, что подходы европейских авторов к истории ислама и оценки личности пророка принципиально несхожи, что давало самому автору «Очерка…» возможность выбора «собственной» точки зрения. Сравнивая эти подходы и оценки, Петров отмечает, что для Ренана Мухаммед был только «даровитым человеком», ставшим пророком благодаря «плоду совокупного действия времени, местных условий и обстоятельств» [6. С. 114]. Для Шпренгера ислам «как новая религия возник из духа и потребностей времени» [6. С. 114], и личность Мухаммеда не была исключительной. Объясняется это тем, что Шпренгер понимал эту историческую личность как «прикладную» фигуру, поскольку уже существовали объективные обстоятельства для возникновения ислама: «дух» и «потребности времени». Харьковский историк очень высоко оценивает исследование своего немецкого коллеги, определяя «Жизнь и учение Мухаммеда» как первую «классическую работу по начальной истории ислама, классической в том смысле, что доныне никто еще не овладел так мастерски материалом и не подчинил его такой смелой и твердой критике, как Шпренгер» [6. C. 118]. По мнению Петрова, Шпренгеру удалось «подорвать авторитет догматической биографии 66 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 пророка» [6. C. 118] и создать «критическую биографию Мохаммеда» [6. C. 119]. Особое значение для автора очерка имеет то, что немецкий исследователь активно использовал текст Корана, включив в свой труд, «около двух третей» его содержания, «назначая каждому отрывку, принадлежащее ему место в истории и объясняя его происхождение» [6. C. 118]. В то же время Петров находит и серьезный недостаток в исследовании Шпренгера. Он заключается в том, что тот «недостаточно ярко выявил и оценил влияние местной природы на развитие монотеизма, составляющего, как известно, основу и сущность этой религии» [6. C. 120]. Единственно, что в этом смысле было сделано Шпренгером, по мнению автора «Очерка», это указание на «целебное значение пустынного воздуха, вливающего в грудь человека необыкновенную энергию» [6. C. 118]. Результаты исследования. Несмотря на «компилятивность» российским исследователем выводов немецкого и британских историков, ему удалось в ряде случаев сделать совершенно самостоятельные обобщения, особенно о тесной зависимости общественной и политической сферы от природно-климатических характеристик Аравии. Сам же Петров довольно пространно рассуждает о природных факторах, определивших монотеизм ислама. «Грубому человеку, поставленному даже в самые благоприятные условия, нет возможности избежать суеверия. Его младенческую душу смущает и тревожит всё для него непонятное… Мираж, самум, зной или гроза – “это всё” злые, враждебные силы, духи – властители разных явлений природы» [6. C. 134]. Решающее значение среди природных факторов сам автор «Очерка» придает «ландшафту природы», который, по его мысли, «имеет могущественное значение» [6. C. 120]. Именно ландшафт пустыни порождает в душе человека «особое чувство», которое Петров определяет «как ту нежную и тайную струну, которую мы называем религиозным инстинктом, религиозным чутьем» [6. C. 121]. Единство «горизонта» и «небесного купола с миллионами звезд» – вот то единство природы, которое создает, по мнению Петрова, «поражающее» человека чувство, и «развернувшееся перед ним громадное “всё” и врожденная нам потребность поклонения порождают в душе араба “хоть смутно” ощущение “единого Бога”» [6. C. 121]. И как бы подводя итог, российский историк заключает «пустыня с ее необозримым впечатлением единства и ценности мироздания, с незапамятных времен научила семита призывать и поклоняться единому Богу» [6. C. 122]. Этот ярко выраженный «географический детерминизм» Петрова, который является его собственным вкладом в понимание истории раннего ислама, позволяет ему «выйти» за пределы той «схемы», которая была обозначена в работе Шпренгера. Такого рода акцент на географических обстоятельствах был свойствен взглядам и других российских историков. Зачастую это явление («географический детерминизм») рассматривалось в контексте гегелевской философии истории, которая, пожалуй, была ведущей в системе исторического мировоззрения российских историков в начальный («героический период») истории российской науки. Но в текстах работ того же Петрова в 60-е гг. XIX в. неоднократно упоминается и «История цивилизаций» Генри Томаса Бокля, который также высоко оценивал влияние местных природных факторов на «суеверные чувства» народов. Например, во втором томе «Истории цивилизации в Англии», он определяет Испанию «вообще нездоровой страной» (с точки зрения климата. – Авт.) [2. C. 4]. И, далее, «если прибавить к этому, что на всем полуострове, Взгляд историка: источниковедение и историография 67 не исключая и Португалии, бывали чрезвычайно бедственные землетрясения и что они возбуждали все эти суеверные чувства, какие обыкновенно вызываются подобными явлениями, то можно составить себе некоторое понятие о небезопасности жизни в этой стране и том, как легко было ловкому и честолюбивому духовенству сделать из этого орудие для расширения своей власти» [2. C. 6]. Мне кажется очевидным полное (или почти) смысловое сходство этого фрагмента из работы Бокля с тем, что о «природных факторах» применительно к Аравии писал Петров. Обратим внимание в приведенном фрагменте из «Истории цивилизации Англии» на два момента: 1) «О чрезвычайной бедственности землетрясений», делающих жизнь человека в Испании «небезопасной»; 2) о «ловкости честолюбивого духовенства» Испании, использующего «небезопасность» жизни в своих интересах. Вот такая же логическая связь между «злыми (природными) враждебными силами» и властителями «разных явлений природы» обнаруживается в логических построениях автора «Очерка». Прямым следствием такой связи является формирование такого явления, как «фатализм» (предначертанность, предопределенность. – Авт.], который делается коренным догматом огромного большинства мусульман [6. C. 125]. Но этот «фатализм», обусловленный суровостью жизни арабов, был как явление «причиной более глубокой, чем личное убеждение пророка» [6. C. 125]. И здесь мы вправе считать, согласно логике Петрова, что этот самый «фатализм» арабов был использован Мухаммедом как инструмент для утверждения в Аравии исламского мировоззрения. И, задавшись вопросом, как же «простому, малообразованному купцу» [6. C. 152] удалось стать пророком, он заключает, что «природа порождает там (в Аравии. – Авт.) мало потребностей и требует немного физического труда. Каждый бедняк, поэтому может сделаться мыслителем и поэтом» [6. C. 152]. Интересно в этом смысле обращение Петрова к книге французского историка Э. Ренана «Этюды из истории религии» [8], в которой одним из главных персонажей является Мухаммед, точнее его «превращение» из «малограмотного купца» в пророка. Автор «Очерка…» приводит размышления Ренана о «вековой неподвижности патриархальной древнеарабской жизни», причиной которой является «бедность духовной организации арабов, да и вообще всех семитов» [6. C. 129]. Тот «недостаток воображения и изобретательности», который, по мнению Ренана, свойствен арабам не был, по мнению Петрова, преодолен даже после «усвоения образованности покоренных народов» [6. C. 129]. И опять-таки вслед за французским историком Петров повторяет, что арабскому миру «совершенно чужда и незнакома идея прогресса» [6. C. 129], которая, наоборот, для «европейской жизни» составляет вечный стимул движения к переменам [6. C. 129]. Аравия, – по мнению Ренана, а затем и Петрова, «по преимуществу, страна идеализма и поэзии» [6. C. 152]. Бокль в своей книге ввел понятие «национальный характер» [2. C. 12]. Для араба же «национальными» являются идея единобожия и фатализм [6. C. 124]. А поскольку ислам как религиозная система «выстраивался», по мнению Петрова, на этих национальных принципах, он был целиком воспринят соплеменниками Мухаммеда. Автор «Очерка» соглашается и с замечанием Шпренгера, что Мухаммеду удалось создать «долговечную религию, удовлетворяющую коренным религиозным инстинктам» арабов только потому, что он опирался на «незыблемую природную почву» [6. C. 125–126]. 68 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Очень интересно проследить за попыткой Шпренгера, а вслед за ним и автора «Очерка», «разоблачить» Мухаммеда как пророка, показать его несостоятельность в этом качестве, низвести его до положения политика, сумевшего лишь создать собственное «царство» [6. C. 115]. Поэтому, как пишет Петров, Шпренгер «беспощадно налег» на личные слабости Мухаммеда, «обнаруживая лицемерие, обман, коварство, хитрую расчетливость, грубую чувственность и порою даже холодную жестокость» [6. C. 115]. И, возможно, эта явная агрессия немецкого историка к личности Мухаммеда заставила российского исследователя обратиться к помощи «синтеза методов истории, психологии и естествознания» [5. C. 10] с тем, чтобы создать максимально полную и объективную картину удивительного превращения «полуграмотного курейшитского купца» в пророка. Мнению Шпренгера Петров противопоставляет точку зрения Ренана, полагавшего, что нельзя судить о Мухаммеде «как шарлатане, опираясь на нынешние XIX в. нравственные понятия» [6. C. 157]. Петров начинает излагать историю Аравии с середины V в., когда курейшитам удалось захватить Хиджаз и контроль над общеарабской святыней – храмом Каабы. Тем самым были положены «первые основы… будущего объединения Аравии под религиозной, торговой, а потом и политической гегемонией» этого племени [6. C. 141]. Принадлежность Мухаммеда к курейшитам, ставшим «вождями нации» [6. C. 142], давала ему возможность превратиться в «общенационального пророка» и «общественного преобразователя». Важную роль в размышлениях историков о «превращении» Мухаммеда в пророка играет версия о его «душевной болезни». Ни у Шпренгера, ни у Петрова она не вызывает сомнений. Автор «Очерка» описывает «эпилептический припадок», охвативший Мухаммеда во время первого уединения на горе Хира («глаза дико вращались», «холодный пот», «телесные судороги» и «физическое изнеможение») [6. C. 153]. Но здесь же Петров упоминает и о полемике ученых на тему болезни Мухаммеда. Шёнлен, Вейль и Шпренгер, по его мнению, – сторонники версии о болезни. А вот Бартелеми-Сент-Илер, упоминает автор «Очерка», считал, что все выводы Шпренгера строятся на версии о болезни Мухаммеда, которая заставила его принимать «каталептические припадки» за божественные откровения [6. C. 158]. Бартелеми-Сент-Илер остроумно заметил, что в этом случае «все каталептики считали бы себя пророками» [6. C. 158]. В конечном счете Петров принимает сторону Шпренгера, заявляя, что тот, будучи «разумным историком, увидел в болезни Мухаммеда не более как случайное обстоятельство, давшее повод к появлению ислама» [6. C. 158]. Еще два обстоятельства, по мнению историка, способствовали «осознанию» Мухаммедом себя пророком. Это его «знакомство с пустыней» и «многочисленные торговые путешествия, особенно посещения пограничных сирийских оазисов» [6. C. 148], где он получил познания об иудаизме и христианстве. Российский историк называет их «посторонними источниками» [6. C. 140] и не соглашается с мнением Шпренгера, который кладет их в основу религиозной системы Мухаммеда [6. C. 140]. По мнению Петрова, «самую же идею» ислама «Мухаммед должен был искать в глубоких недрах народного (арабского. – Авт.) духа» [6. C. 140], что обеспечило «естественное рождение религии» [6. C. 141]. Последним этапом этого поиска при жизни Мухаммеда стало «заимствование новой верой древних религиозных обычаев страны» [6. C. 197] (милостыня, пилигримство в Мекку, омовение и др.). Толчком к этому заимствованию стало безуспешное обращение Мухаммеда Взгляд историка: источниковедение и историография 69 к правителям соседних стран в 628 г. Тогда, по мнению Петрова, Мухаммед «понял, что ислам может и должен быть только национальной арабской религией» [6. C. 197]. Еще раз напомним, что, приступая к работе над «Очерком» по истории ислама и жизни пророка, историк стремился создать «синтез» трех методов: «истории, психологии и естествознания» [5. C. 10]. «Метод истории» «помог» ему уяснить процесс превращения обычного человека в ключевую фигуру в истории VII в. «Метод естествознания» «помог» определить ключевую роль внешних факторов, в первую очередь природных, в общественной и религиозной жизни Аравии этого времени. Какую же роль сыграл «метод психологии» в исследовании Петрова? Нам кажется, что его роль заключалась в выяснении того, что, по мнению Карлейля, определяет содержание понятия «герой-пророк». Российский историк неоднократно говорит, что для самих арабов обладавших «прозаическим» [6. C. 143] характером, Мухаммед так и остался обычным человеком «со всеми слабостями, интересами и страстями обыкновенных смертных» [6. C. 143]. И только в воображении персов, добавим, по Боклю, обладавших другим «национальным характером» [2. C. 19], «одаренных блестящей и изобретательной фантазией, вырос он впоследствии до размеров какого-то сверхъестественного существа» [6. C. 143]. Главный «упрек» Петрова к Мухаммеду заключается в утрате им ключевого смысла в понятии «герой-пророк». Карлейль называет это словом «искренность» [4. C. 25], т.е. внутренняя убежденность самого «героя» в своей исключительности. Петров, вслед за Шпренгером, допускает вариант личной психологической драмы Мухаммеда, прошедшего путь «от беззаветной веры в свое посланничество», которая «в позднейшем мединском периоде его жизни заметно и значительно слабеет, хотя по властолюбию и политическому расчету он всё-таки продолжал разыгрывать вдохновляемого Богом пророка» [6. C. 157]. И далее: «добившись роли всеарабского пророка, он начал приспосабливать прежние откровения, составленные в ханифитском духе, приспосабливая к своему новому положению “кровожадного деспота и властолюбца”» [6. C. 156]. Превращению Мухаммеда из пророка в политика способствовала и огромная военная добыча мусульман, которая дала Мухаммеду «возможность привлекать к себе всё большее и большее количество приверженцев» [6. C. 199]. О внутренней драме вождя исламской уммы свидетельствует, по мнению Петрова, и то, что он, будучи уже правителем, довольствовался «номинальным принятием ислама, …наружным признанием его авторитета и силы его религии» [6. C. 199] прежде враждебными ему арабскими племенами. И все же европейские историки не оставляют мир ислама без «героя». Любимым персонажем Шпренгера становится Умар, обладавший «мощным духом, чуждым личной корысти, непреклонным в своих решениях, имевшим чистые и безукоризненно благородные намерения» [9. C. 370]. Петров дополняет эту оценку Шпренгера, заявляя, что не Мухаммеду, «а сильным мужам, подобным Умару, обязан ислам своим победоносным полетом [6. C. 203]. Выводы. Биографический очерк М.Н. Петрова о пророке Мухаммеде, который неизбежно должен бы быть написан с «опорой» на европейские сочинения и, таким образом, имел бы в себе значительную долю компилятивности, содержит явное стремление российского автора по-своему переосмыслить 70 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 значение Мухаммеда в мировой истории. Исследователь впервые включил свой исторический персонаж и тему ислама в исследовательское поле российской науки всеобщей истории. Литература 1. Ахмадиев Ф.Н. У истоков презентации проблемы возникновения ислама в России: опыт профессора М.Н. Петрова // Всеобщая история и историческая наука в ХХ – начале XIX века: материалы Междунар. науч.-образ. конф.: в 2 т. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. Т. 2. С. 258–262. 2. Бокль Г. История цивилизаций. Т. 2. История цивилизации в Англии. М.: Мысль, 2008. 510 с. 3. Ирвинг В. Жизнь Магомета / пер. с англ. П. Киреевского. М., 1857. 291 с. 4. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. М.: Астраль, 2012. 271 с. 5. Кеда М.К. Михайло Назарович Петров (1826–1887) та його внесок в историчну науку: автореф. дис. … канд. ист. наук. Киiв, 2006. С. 10. 6. Петров М.Н. Очерки из всеобщей истории. Мохаммед. Харьков: Унив. тип., 1868. 536 с. 7. Петров М.Н. Лекции по всемирной истории. Т. 2. История средних веков. Ч. 1, 2. 2-е изд., обработ. и доп. проф. Вязигиным А.С. СПб., 1906. 312 с. 8. Ренан Э. Этюды из истории религии. М.: Мысль, 1994. 312 с. 9. Sprenger A. Das leben und die Lehre des Mohammed. М.: Нобель Пресс, 2012. 375 s. АХМАДИЕВ ФАРИТ НАФИСОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и всеобщей истории, Институт международных отношений, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань (ahmadiev101@mail.ru). ВОСТРИКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и всеобщей истории, Институт международных отношений, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань (igor-vostrikov@bk.ru). ШАРАФУТДИНОВ ГЕННАДИЙ РАИСОВИЧ – преподаватель кафедры иностранных языков в сфере международных отношений, Институт международных отношений, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Россия, Казань (genesharafut@mail.ru). Farit N. AHMADIEV, Igor V. VOSTRIKOV, Gennadiy R. SHARAFUTDINOV MUHAMMAD AS A HISTORICAL FIGURE IN THE RUSSIAN SCIENCE OF UNIVERSAL HISTORY AT THE BEGINNING OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY (on the example of "Essays ..." by M.N. Petrov) Key words: history, historiography, essay, Islam, prophet, Muhammad, European orientalism, Carlyle, hero, politics, Caliph. Purpose. To consider the experience of the first in the Russian science of universal history invoking the topic of the Islamic world formation in Arabia at the beginning of the VII century. The article presents the results of studying the classic problem for historical science – the role of personality in history. In our case, the Prophet Muhammad acts as such a character in the context of the "prophet – hero", as he is considered by some European historians in the middle of the XIX century (T. Carlyle, V. Irving). In contrast, in European orientalism, another opinion is formed about the historical role of the Prophet Muhammad. Its essence lies in complete denial of recognizing for this character any significant role in world history. At best, he is recognized for the merit of creating the Arab state built on new Islamic foundations (A. Sprenger). The purpose of our study is to determine the extent of scientific independence in assessment carried out by the domestic researcher M.N. Petrov, given by him to the Prophet Muhammad. This assessment was made by the author in the book "Essays from Universal History", published in 1868, i.e. much later than the mentioned studies of European authors. It is obvious to us that M.N. Petrov, relying, of course, on European orientalism, managed to make a number of completely independent conclusions, most importantly, for the first time to include the character of Muhammad in a number of historical personalities in the Russian science of universal history. This is perhaps the obvious result of our research. Взгляд историка: источниковедение и историография 71 Materials and methods. The peculiarity in the topic of Islam history for the Russian science of universal history at the beginning of the second half of the XIX century is almost complete absence of domestic developments. This explains why the Russian authors studied actively the experience of European orientalism in the first half – middle of the XIX century, which already had a number of first-class works. In compliance with this, the article actively uses the works of Bokle, Sprenger, Carlyle, etc. as "attracted" material. The research methods are descriptive, comparative-historiographical and biographical ones. In his "Essay ..." M.N. Petrov refers to the experience of European orientalism, mainly to the work of the German historian Sprenger "The Life and Teachings of Muhammad". But in the "Essay ..." the works of other European historians are also mentioned: Renan, SaintHilaire, Weyl and others. At the same time, M.N. Petrov's "Essay..." is not at all a historiographical review of European orientalism on the topic of Islam history. Scientific novelty. This is the first example of invoking the beginning of Islamic studies in the Russian historical science with the involvement of extensive historiographical material. This is an independent research work, which largely complements and clarifies the opinion of European historians. By "synthesizing the methods of history, psychology and natural science," the Russian historian leads his reader to understand the decisive role of the natural and climatic conditions of Arabia in the formation of a special inner world of the Arabs, the main feature of which is a natural tendency to monotheism and fatalism. Study results. The results of the study are, in our opinion, that the "Essay ..." by M.N. Petrov, being one of the first studies of the biographical genre in Russian medieval studies of the beginning of the second half of the XIX century, laid the foundation for a very popular method later, which is based on the study of the "biographical" topic in the Russian science of history. This gives the opportunity to create a more complete picture of the Russian historiography history by involving in its circulation "forgotten" and "half-forgotten" works of Russian researchers of the XIX century. In the center of our attention was one of the historical "Essays" of Kharkov University Professor, Mikhail Nazarovich Petrov (1826-1887). In it, he tells about the beginning of the Islamic world formation in Arabia, the formation of an Islamic community, transformation of Muhammad, an "ordinary Quraysh merchant," into a prophet of the new faith. The author emphasizes that for centuries this figure was regarded as a kind of "supernatural being" and only since the middle of the XIX century through the efforts of European orientalism, Muhammad turns into a real historical person. Turning to the history of the early Islam and the biography of the prophet, the Kharkov historian, in fact, becomes the discoverer of this topic for the Russian reader. The Russian historian M.N. Petrov managed to make a number of independent generalizations in his biographical "Essay ..." about the personality of Muhammad and "include" the character of the Prophet Muhammad and the history of Islam in the research field of the Russian science of universal history. Conclusions. Of particular interest is the author's attempt to interpret how an "ordinary Quraysh merchant" managed to go from an ordinary person to a prophet recognized by all the Arabs. In this case, the author touches upon the topic of "hero" and "the heroic in history", which is relevant for European historical science in the middle of the XIX century, posed by the English historian Carlyle, who referred Muhammad to the "prophets-heroes". Petrov, following Sprenger, does not agree with this opinion and consistently pursues the idea of Muhammad's turning from a prophet at the time of Islam establishment into a politician and a ruler who lost his "prophetic sincerity" and became a "bloodthirsty despot" and "power lover", i.e. the idea of Muhammad's evolution into an "antihero". References 1. Ahmadiev F.N. U istokov prezentatszii vozniknoveniya Islama v Rossii: opyt professora M.N. Petrova [On the origins of the presentation of the issue of the emergence of Islam in Russia: Professor M.N. Petrov's experience]. In: Vseobtschaya istoriya i istoricheskaya nauka v ХIX – nachale XX veka: materialy Mezhdunar. nauch.-obraz. konf. [Proc. of. Int. Sci. Conf. «World History and Historical Science in the 19th century – early 20th century»]. Kazan, 2020, vol. 2, pp. 258–262. 2. Bokl G. Istoriya czivilizacziy. Istoriya czivilizacziy v Angliyi [The history of civilizations. The History of civilization in England]. Мoscow, Mysl Punl., 2008, vol. 2, 510 p. 3. Irving W. The Life of Mohammed. London, 1848. 248 p. (Russ. ed.: Zhizn' Magometa. Moscow, 1857, 291 p.). 4. Carlyle Thomas. On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History. London, 1841. 308 p. (Russ. ed.: Geroi, pochitanie geroev i geroicheskoe v istorii. Moscow, Astral' Publ., 2012, 271 p.). 72 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 5. Keda M.K. Mikhailo Nazarovich Petrov (1826–1887) ta iogo vnesok v istorichnu nauku [Mikhailo Nazarovich Petrov (1826–1887) and his contribution to historical science]. Кiev, 2006, p. 10. 6. Petrov M.N. Ocherki iz vseobtschei istorii. Mohammed [Essays on World History. Mohammed]. Kharkov, 1868, 536 p. 7. Petrov M.N. Lekczii po vsemirnoi istorii. Т. 2. Istoriya srednikh vekov [Lectures on World History. Vol. 2: The history of the Middle Ages]. Parts 1 and 2. St. Petersburg, 1906, 312 p. 8. Renan E. Etjudy iz istorii religiyi [Studies from the History of Religion]. Мoscow: Mysl, 1994. 312 p. 9. Sprenger A. Das leben und die Lehre des Mohammed. Nobel Press, 2012, 375 p. FARIT N. AHMADIEV – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Archaeology and World History, Institute of International Relations, Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan (ahmadiev101@mail.ru). IGOR V. VOSTRIKOV – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of Archaeology and World History, Institute of International Relations, Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan (igor-vostrikov@bk.ru). SHARAFUTDINOV GENNADIY – Lecturer, Department of Foreign Languages in the Sphere of International Relations, Institute of International Relations, Kazan (Volga Region) Federal University, Russia, Kazan (genesharafut@mail.ru). Формат цитирования: Ахмадиев Ф.Н., Востриков И.В., Шарафутдинов Г.Р. Мухаммед как исторический персонаж в российской науке всеобщей истории начала второй половины XIX века (на примере «Очерков…» М.Н. Петрова) // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 62–72. DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-62-72. Взгляд историка: источниковедение и историография 73 DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-73-81 УДК 930:394.46 ББК Ю625г(3) О.О. ДМИТРИЕВА, М.М. ТУМАНОВА, О.Н. ШИРОКОВ «МЕСТО ПАМЯТИ/LIEUX DE MEMOIRE» КАК МЕХАНИЗМ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБЩЕСТВА Ключевые слова: историческая память, «место памяти/lieux de memoire», коммеморативные практики, зарубежная историческая наука. В статье анализируется концепт «место памяти». Актуальность исследования обусловлена несколькими аспектами: 1) использован новаторский постмодернистский подход к анализу традиционных проблем исторической науки; 2) общая память является центральным звеном в складывании идентичности национальных обществ и основой для консолидации народа, что подразумевает необходимость изучения механизмов, необходимых для ее актуализации. Цель исследования – методологический анализ одного из центральных в мемориальном направлении современной исторической науки понятия «место памяти / lieux de memoire» как особого механизма формирования исторической памяти общества. Материалы и методы. Материалы исследования базируются на опыте научного анализа мест памяти как особого механизма увековечивания истории в общественном сознании потомков. Методологической основой исследования является совокупность общенаучных и специально-исторических методов, а также принципов объективности, историзма и системности. Результаты исследования. Места памяти представляют собой уникальный социокультурный феномен, изучением которого в рамках междисциплинарного подхода занимаются ученые из разных областей гуманитарной науки. Родоначальником исследований в данном направлении является П. Нора, который впервые ввел в научный оборот понятие «lieux de memoire» в начале 80-х гг. XX в. На сегодняшний день не выработана общепринятая терминология в понимании природы и сущности концепта «место памяти». В данной статье они трактуются как важнейший механизм сохранения исторической памяти общества, используемый как на государственном, так и на общественном уровнях. Выводы. Обобщение зарубежного опыта в анализе феномена «lieux de memoire», а также изучение их форм и классификации позволит в будущем использовать полученный материал применимо к важнейшей задаче сохранения и актуализации мест памяти общероссийского и регионального значения. Анализ научных концепций о природе и сущности «мест памяти» позволяет сделать вывод о том, что ими могут стать любые объекты общеисторического и культурного наследия, хранящие память о важных исторических событиях при обязательном условии целенаправленного придания им элементов сакрализации и особого ритуала почитания. Актуальность исследования. На рубеже XX–XXI вв. в методологии социогуманитарных наук произошли заметные перемены в области поиска новых аспектов изучения традиционных явлений общественной жизни, современная историческая наука развивается в русле междисциплинарного подхода. Так, одним из самых популярных и дискуссионных направлений стало изучение проблем коллективной и исторической памяти национальных обществ. Объектом и предметом подобных исследований становится прошлое, но не с точки зрения конкретных фактов истории, а в русле междисциплинарного анализа памяти, оставшейся в обществе об этих фактах. Общепризнанным родоначальником исследования феномена коллективной памяти по праву считается французский ученый М. Хальбвакс, который еще в 1920-х гг. предложил трактовать память как социально обусловленный элемент общественного сознания и коллективной идентичности [5. C. 8]. Согласимся с его мнением 74 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 о том, что коллективная память – это фактор, объединяющий группу, поддерживающий ее идентичность. Актуальность проблемы сохранения исторической памяти не вызывает сомнений, поскольку, как емко выразился немецкий ученый Ф. Шенк: «Идея общего героического прошлого принципиально важна, например, для самосознания этнических меньшинств, религиозных групп, городов, регионов и даже классов. Она также играет важную роль в складывании национальной идеологии» [6]. Таким образом, общая память становится основой для становления национальной идентичности. Темпы глобализации и изменений в общественно-политической среде, скорость перемен в динамично развивающемся мире – все эти тенденции оказали глубинное влияние на национальные сообщества. По мнению исследователей-постмодернистов, современное общество в условиях постоянно меняющихся парадигм начало испытывать кризис утраты «связующих нитей» со своим прошлым, в связи с чем проблема сохранения памяти стала как никогда актуальной. Большинство ученых сходятся во мнении о том, что интерес к исследованию памяти неслучайно возник в конкретный исторический момент, когда в ряде стран была отрефлексирована глубокая проблема разрыва с далеким прошлым. Научная новизна. В XXI в. изучение проблем исторической памяти сформировалось в самостоятельное междисциплинарное направление социогуманитарного знания, затрагивающее аспекты истории, психологии, социологии и культурологии. В настоящее время зарубежными и отечественными учеными активно ведутся исследования в данной области, что позволяет выделить так называемую «мемориальную тему» в отдельное русло гуманитарной науки с собственной специфической понятийной базой. Материалы и методы. Материалы исследования базируются на научном анализе мест памяти как особого механизма увековечивания истории в общественном сознании потомков. Методологической основой исследования является совокупность общенаучных и специально-исторических методов, а также принципов объективности, историзма и системности. Важной проблемой является определение методологии исследований в области мемориальной проблематики. В связи с междисциплинарностью вопроса, учеными из разных областей знания выдвигаются свои авторские методики, концепции и классификации. Однако, к сожалению, вынуждены признать, что единого и общепризнанного методологического аппарата в науке на сегодняшний момент нет. Так, на первый план выходят аспекты необходимости сохранения исторической памяти. В данном контексте ведутся разноплановые исследования, касающиеся механизмов, с помощью которых становится возможным акцентирование общественного внимания на особо важных страницах отечественной истории. В качестве методов формирования исторической памяти можно отметить использование коммеморативных практик, создание мест памяти, проведение исторических юбилеев и т.д. Важно подчеркнуть, что мероприятия по празднованию памятных годовщин зачастую аккумулируют все средства и методы сохранения и актуализации памяти в обществе, которые используются, чаще всего, государственными органами власти, которые в данном ключе выступают как главные инициаторы и устроители процесса целенаправленного «запоминания» ключевых дат отечественной истории. Взгляд историка: источниковедение и историография 75 Цель исследования – методологический анализ одного из центральных в мемориальном направлении современной исторической науки понятий «место памяти/lieux de memoire» как особого механизма формирования исторической памяти общества. Результаты исследования. Общепризнанным и бесспорным авторитетом в разработке данной темы является известный французский ученый Пьер Нора, которого, ко всему прочему, считают родоначальником самой концепции «lieux de memoire» [8]. П. Нора одним из первых обратил внимание на специфику исторической памяти общества как социокультурного явления. Так, по его мнению, для сохранения и увековечивания исторического события в памяти потомков недостаточно лишь осознания его роли и значения в истории, поскольку память, в отличие от исторической науки, имеет свойство терять свою актуальность и растворяться в общем потоке исторических событий. В связи с этим нужно понимать, что необходимо создавать такие условия, при которых сознательно и целенаправленно можно актуализировать исторические события/личности в рамках текущей общественной повестки. Так, П. Нора, впервые обратившись к этой тематике, справедливо отмечает, что в «lieux de memoire» память кристаллизируется и находит свое убежище» [3. С. 17]. Таким образом, можно констатировать, что по своей сути они несут в себе функцию материального воплощения исторической памяти. П. Нора стал первым исследователем, который сформировал определение того, что можно назвать местом памяти: «Это останки…Музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, храмы, ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели другой эпохи, иллюзии вечности. Места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит – нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять акты, потому что такие операции не являются естественными» [3. С. 17]. Так, исследователь пришел к важнейшему выводу о том, что сам факт существования памяти общества не является спонтанным самопроизвольным явлением, а представляет собой продукт целенаправленного и осознанного процесса материального оформления исторических событий в объектах общеисторического и культурного наследия. При этом сам П. Нора не ограничивает рамки «lieux de memoire», представляя самый широкий спектр форм: от традиционных, таких как объекты архитектуры и памятники, до символических, вроде архивов, хранящих письменное закрепление фактов истории, до исторических юбилеев и годовщин, концентрирующих в себе всю память. П. Нора не ограничивает места памяти географическими границами, поскольку они не являются местами в узком понимании этого слова. В томах его фундаментального исследовательского проекта «Les Lieux de memoire» можно найти статьи про французский национальный флаг (Триколор), про Марсельезу, про Жанну д'Арк, французское вино, французскую национальную библиотеку и т.д. [8]. Исходя из этого принципа, можно сделать вывод о том, что местом памяти, по сути, может быть что угодно. К примеру, французский историк-германист Ж. Ле Ридер в качестве символического «места памяти» определяет целый регион – Центральную Европу (Mitteleuropa as a lieu de mémoire) [9]. Единственным условием для создания места памяти является наличие самого факта символической репрезентации исторического события в сознании поколений. 76 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 П. Нора акцентирует пристальное внимание на различных толкованиях и смыслах концепта: «Места памяти являются местами в трех смыслах слова – материальном, символическом и функциональном, но в очень разной степени… Всегда существуют три аспекта» [3. С. 40]. Представляется крайне оригинальным тезис о «lieux de memoire», формирующихся в результате «игры» коллективной общественной памяти и исторической науки. Справедливо подчеркивается, что далеко «не каждое место, внешне совершенно материальное… является местом памяти, если воображение не наделит его символической аурой» [3. С. 40]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимым условием для воплощения какого-либо материального проявления истории в место памяти является целенаправленное придание ему элементов сакрализации, а также наличие особого ритуала его почитания со стороны общества. В представлениях П. Нора «lieux de memoire» можно классифицировать по самым разным признакам, в зависимости от их функционального и символического значения. Им выделяются два типа: места доминирующие и места доминируемые. К первому типу можно отнести «Места поразительные и триумфальные, значительные и обычно подавляющие…но всегда стоящие на возвышении. Вторые – это места убежища, святилища спонтанности и безмолвных паломничеств. Это живое сердце памяти» [3. С. 48]. Для первого типа характерны монументальность, тожественность и церемониальность. На наш взгляд, это места, напрямую связанные с органами государственной власти, которые их используют в процессе празднования важных исторических годовщин. Ими могут быть памятники, монументы, места сражений, они непосредственно связаны с официальной трактовкой конкретных исторических событий. Сам П. Нора по этому поводу отмечал, что они «обычно обдают холодом и торжественностью официальных церемоний, туда приходят против воли» [3. С. 48], что подтверждает нашу гипотезу. Иная смысловая наполненность относится ко второму типу мест памяти. Предполагаем, что это места, почитание которых было инициировано на общественном уровне. Скорее всего, они были созданы спонтанно, они не имеют широкой известности, но тем не менее играют важное значение в конкретном срезе общества. Этими местами, можно предположить, могут быть захоронения какой-либо исторической личности (не обязательно широко известной, но важной для конкретного региона), личные коллекции, семейные архивы, родовые кладбища – все то, что, возможно, не имеет общегосударственного значения, но тем не менее имеет большое значение для конкретной социальной общности или региона. Исходя из этого, сам П. Нора признается в том, что можно создавать самые различные классификации мест памяти: «места публичные и частные, места памяти в чистом виде…и те, чье измерение памяти – лишь одно из многих в разрезе их символических значений (национальный флаг, праздник, паломничество)» [3. С. 48]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что понимание сути концепта «lieux de memoire», а также классификация данного явления представляет собой объект для самого разностороннего толкования. Важной методологической проблемой является взаимосвязь коммеморативных практик и мест памяти, которые используются обществом и государством в качестве механизмов сохранения исторической памяти общества. Взгляд историка: источниковедение и историография 77 Если исходить из принципа того, что коммеморации аккумулируют все имеющиеся ресурсы, включая места памяти, в процессе целенаправленной актуализации конкретных исторических событий, то можно согласиться с мнением П. Нора, о том, что «коммеморации захватили их, выражение мест памяти было превращено в инструмент коммеморации» [4. С. 96]. Согласимся также с его точкой зрения о том, что сформировался определенный парадокс во взаимовлиянии этих двух явлений: «современные коммеморации сами превратились в места памяти, а места памяти переполнены коммеморациями» [4. С. 96]. П. Нора стал основоположником исследований в области анализа проблематики мест памяти, которой в настоящее время в рамках междисциплинарного подхода занимаются как зарубежные, так и отечественные ученые. Так, немецкий исследователь Ф.Б. Шенк продолжил исследования в данном направлении и отметил, что «местами памяти могут стать люди, события, предметы, здания, книги, песни или географические точки. Их главная роль – символическая. Они призваны создавать представления общества о самом себе и своей истории» [6]. Так, он во многом соглашается с тезисом о том, что местом памяти может выступать любой объект, первостепенной функцией которого является сохранение памяти группы людей. Ф.Б. Шенк выявил важную особенность изучаемого концепта: смысловое содержание и символическое значение мест памяти может меняться в течение времени под воздействием различных факторов. Здесь можно отметить политические мотивы манипулирования общественным сознанием в целях выстраивания конкретной модели исторической памяти. В этой ситуации, соответственно, будет меняться смысловая и идеологическая наполненность конкретных «lieux de memoire» и, вполне вероятно, возможен процесс целенаправленного их забвения в угоду текущей политической конъюнктуре. Немецкий ученый выдвигает важную методологическую проблему определения источников изучения мест памяти, в качестве которых может выступить все, что дает информацию об определенном событии, человеке или идее: «Источниками могут стать памятники исторической мысли, газетные статьи об открытии памятников, политические доклады, прочитанные на исторических юбилеях, живопись на исторические сюжеты, предметы повседневной жизни» [6]. Экзистенциальный страх национальных сообществ перед забвением порождает потребность сохранять общую историю и память о ней всеми имеющимися средствами. Так, британско-американский историк, специалист по новейшей истории Европы Т. Джадт отмечает, что «все мы живем в эпоху постоянных юбилеев и годовщин. По всей Европе и Америке воздвигнуты мемориалы, памятные доски, открыты музеи и исторические центры – все это создано для того, чтобы напомнить нам о нашем наследии» [2]. Ученый также обращается к актуальности обращения к концепции «lieux de memoire» и отмечает, что само смысловое наполнение традиционных форм увековечивания истории в настоящее время изменилось: «До самого последнего времени (по крайней мере в Европе) весь смысл музея, мемориальной доски или памятника состоял в том, чтобы напомнить людям о том, что они и без того знают сами (или думают, что знают). Сегодня, однако, все эти вещи служат другим целям. Музеи и памятники теперь создаются для того, чтобы рассказать людям о вещах, о которых они могут ничего не знать, совершенно забыли или вовсе никогда не слыхали» [2]. В связи с этим можно выдвинуть гипотезу о том, что любой артефакт истории может предстать в качестве «lieux de memoire», которые 78 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 можно использовать в качестве механизма сохранения коллективной памяти об известных фактах истории, а также о малоизвестных локальных событиях. Т. Джадт выдвигает важнейшую проблему двойственности процесса увековечивания, когда реальные исторические факты заменяются образами, транслируемыми исторической памятью: «Воздвигая памятники или создавая копии предметов старины, мы рискуем еще больше забыть о прошлом: созданный нами символ или законсервированные руины подменяют собой прошлое. Мы тешим себя иллюзией, что сохраняем прошлое, в то время как его подлинный смысл ускользает от нас, оставляя нам лишь сувенир на память» [2]. Рассматривая вопрос о соотношении исторической науки и исторической памяти, французский историк Ф. Артог отметил, что «возникла некая претензия памяти на доминирование при разговоре о прошлом. В поединке между памятью и историей преимущество было отдано первой. Воздвигали мемориалы, обновляли и умножали количество музеев, больших и малых» [1]. Таким образом, на сегодняшний день повсеместное создание «lieux de memoire» является следствием возрастающей роли коллективной памяти. Согласимся с мнением ученых и обращаем внимание на проблему соотношения памяти общества и реальной исторической основы. На политические мотивы создания «lieux de memoire» в процессе формирования конкретной модели исторической памяти обратил внимание Дж.Э. Янг – заслуженный профессор, специалист по английскому языку, иудаике и ближневосточным исследованиям Массачусетского университета. Им был создан фундаментальный труд, посвященный памятникам и музеям Холокоста в Европе, Израиле и Америке [10]. Он подчёркивает, что местами памяти в данном аспекте выступают мемориалы, воздвигнутые в честь памяти жертв Холокоста. Они имеют различное символическое наполнение, меняющееся в каждой стране в соответствии с ее традициями, идеалами и опытом. В контексте нашего исследования представляет интерес тезис Дж. Янга о политических аспектах увековечивания: «Официальные органы могут формировать память так, как они считают нужным, память, которая наилучшим образом служит национальным интересам» [10]. Так, общая национальная память может стать объектом для сознательного манипулирования общественным мнением со стороны различных акторов политики. Однако ученый также отмечает, что далеко не всегда общественная мысль оказывается столь восприимчивой к подобного рода манипуляциям со стороны государственных институтов: «Однажды созданные мемориалы живут собственной жизнью, часто упорно сопротивляясь первоначальным намерениям государства. В некоторых случаях мемориалы, созданные по образу идеалов государства, на самом деле оборачиваются, чтобы переделать эти идеалы по собственному образу» [10]. Выводы. Таким образом, можно констатировать, что концепции зарубежных исследователей представляют значительный интерес при анализе мест памяти общероссийского и регионального значения. Пьер Нора был одним из первопроходцев в области становления мемориального направления гуманитарной науки, однако его идеи нашли последователей в разных странах Европы и Америки. В начале XXI концепция «мест памяти» получила достойное развитие в трудах как зарубежных, так и российских исследователей. Однако, несмотря на солидный исследовательский опыт в области изучения феномена «lieux de memoire», стоит признать, что на сегодняшний день Взгляд историка: источниковедение и историография 79 в социогуманитарной науке нет единого подхода в понимании природы и сущности данного явления. Зарубежный исследователь А. Эрлл справедливо отмечает по этому поводу: «Повсеместное распространение этого термина не может противоречить тому факту, что место памяти до сих пор остается одним из самых зачаточных и недостаточно теоретизированных… С одной стороны, он особенно хорошо подходит для изучения широкого круга явлений (от «мест» в буквальном смысле до медийных представлений, ритуалов), но именно из-за своей безграничной протяженности этот термин остался концептуально аморфным» [7]. Таким образом, основываясь на научных разработках зарубежных исследователей, можно сделать вывод о том, что в качестве «lieux de memoire» может выступить любой объект, но для его символического наполнения необходим процесс сакрализации, почитания и поклонения со стороны новых поколений общества, которые будут посещать места памяти в новых обстоятельствах, наделяя их новыми смыслами. Литература 1. Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности / пер. с фр. А. Беляк // Неприкосновенный запас. 2008. № 3(59) [Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/ar3.html (дата обращения: 10.04.2023). 2. Джадт Т. «Места Памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память? / пер. М. Лоскутовой // Ab Imperio. 2004. № 1. С. 44–71 [Электронный ресурс]. URL: https://muse.jhu.edu/article/559965/pdf (дата обращения: 09.03.2023). 3. Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция – память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 17–50. 4. Нора П. Эра коммемораций // Франция – память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок; пер. с фр. Д. Хапаевой. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 95–150. 5. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3. С. 8–27. 6. Шенк Ф.Б. Концепция «lieux de memoire» [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-11.htm (дата обращения 10.03.2023). 7. Erll A. Genealogies and Branches of Cultural Memory Studies: The Design of This Handbook. Available at: https://www.let.leidenuniv.nl/pdf/geschiedenis/cultural%20memory.pdf (Access Date: 2023, Apr. 10). 8. Nora P., ed. Les Lieux de memoire. Paris, 1984–1992. 9. Rider le J. Mitteleuropa as a lieu de mémoire. Available at: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/113/o/astrid_erll___ansgar_nünning_(eds.)_-_cultural_memory_studies._an_international_and_interdisciplinary_handbook.pdf?1337708248 (Access Date: 2023, Apr. 10). 10. Young J. The Texture of Memory: Holocaust Memorials in History. Cornell: Yale University Press, 1994, 415 p. Available at: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110207262.6.357/html (Access Date: 2023, March 19). ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культуры зарубежных стран, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (dmitrieva21region@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4628-0672). ТУМАНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА – аспирантка кафедры истории и культуры зарубежных стран, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (tumanova.mariya@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4658-1539). ШИРОКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ – доктор исторических наук, профессор, декан историко-географического факультета, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары (425954@rambler.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6218-8948). 80 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Olga O. DMITRIEVA, Maria M. TUMANOVA, Oleg N. SHIROKOV "MEMORY SPACES/LIEUX DE MEMOIRE" AS A MECHANISM FOR PRESERVING THE HISTORICAL MEMORY OF A SOCIETY Key words: historical memory, "memory spaces/lieux de memoire", commemorative practices, foreign historical science. The article analyzes the concept of a "memory space". The relevance of the study is due to several aspects: 1) an innovative postmodern approach to the analysis of traditional problems in historical science is used; 2) shared memory is the central link in an identity formation in national societies and the basis for consolidation of the people, which implies the need to study the mechanisms necessary for its actualization. The purpose of the study is a methodological analysis of one of the central concepts in the memorial direction in modern historical science, "memory spaces / lieux de memoire" as a special mechanism to form the historical memory of a society. Materials and methods. The research materials are based on the experience of scientific analysis of memory spaces as a special mechanism for perpetuating the history in the descendants' public consciousness. The methodological basis of the research is a set of general scientific and special historical methods, as well as the principles of objectivity, historicism and consistency. Study results. Memory spaces represent a unique socio-cultural phenomenon, which is studied by scientists from various fields of humanities within the framework of an interdisciplinary approach. The founder of research in this direction is P. Nora, who first introduced the concept of "lieux de memoire" into scientific circulation in the early 80s of the XX century. To date, no generally accepted terminology has been developed in understanding the nature and essence of the concept "memory spaces". In this article, they are interpreted as the most important mechanism for preserving the historical memory of a society, used both at the state and public levels. Conclusions. Generalization of foreign experience in the analysis of the phenomenon of "lieux de memoire", as well as the study of their forms and classification will make it possible in the future to use the obtained material applicable to the most important task of preserving and updating memory spaces of national and regional significance. The analysis of scientific concepts about the nature and the essence of "memory spaces" gives us the opportunity to conclude that they can be any objects of general historical and cultural heritage that preserve the memory about important historical events, provided that they are purposefully given elements of sacralization and a special ritual of veneration. References 1. Hartog Fr. Régimes d’historicite. Presentisme et Experiences du temps. Paris, Seuil, 2003, pp. 479–483 (Russ. ed.: Poryadok vremeni, rezhimy istorichnosti. Neprikosnovennyi zapas, 2008, no. 3(59). Available at: http://magazines.russ.ru/nz/2008/3/ar3.html (Accessed Date: 2023, Apr. 10). 2. Judt T. A la Recherche du Temps Perdu. The New York Review of Books, 1998, vol. 45, no. 19 (Russ. ed.: «Mesta Pamyati» P'era Nora: Ch'i mesta? Ch'ya pamyat'? Ab Imperio, 2004, no. 1, pp. 44– 71). Available at: https://muse.jhu.edu/article/559965/pdf (Accessed Date: 2023, March 9). 3. Nora P. Entre Mémoire et Histoire La problématique des lieux. In: Les Lieux de mémoire. Paris, Gallimard, 1984, vol. I. La République, pp. XVII–XLII. 4. Nora P. l'ère de la commémorations. In: Les Lieux de mémoire. Paris, Gallimard, 1992, vol. III, Les France, pp. 977–1012. 5. Halbwachs M. La mémoire collective. France, Presses universitaires de France, 1950, 170 p. (Russ. ed.: Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat'. Neprikosnovennyi zapas, 2005, no. 2–3, pp. 8–27). 6. Shenk F.B. Kontseptsiya «lieux de memoire» [The concept of "lieux de memoire"]. Available at: http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/02-11.htm (Accessed Date: 2023, March 10). 7. Erll A. Genealogies and Branches of Cultural Memory Studies: The Design of This Handbook. Available at: https://www.let.leidenuniv.nl/pdf/geschiedenis/cultural%20memory.pdf (Accessed Date: 2023, Apr. 10). 8. Nora P.,éd. Les Lieux de memoire. Paris, 1984 –1992 (Russ. ed.: Frantsiya – pamyat'. St Petersburg, 1999, 328 p.). 9. Rider le J. Mitteleuropa as a lieu de mémoire. Available at: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/113/o/astrid_erll___ansgar_nünning_(eds.)_-_cultural_memory_studies._an_international_and_interdisciplinary_handbook.pdf?1337708248 (Accessed Date: 2023, Apr. 10). Взгляд историка: источниковедение и историография 81 10. Young J. The Texture of Memory: Holocaust Memorials in History. Cornell: Yale University Press, 1994, 415 p. Available at: https://www.degruyter.com/document/doi /10.1515/9783110207262.6.357/html (Accessed Date: 2023, March 19). OLGA O. DMITRIEVA – Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Department of History and Culture of Foreign Countries, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (dmitrieva21region@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4628-0672). MARIA M. TUMANOVA – Post-Graduate Student, Department of History and Culture of Foreign Countries, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (tumanova.mariya@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4658-1539). OLEG N. SHIROKOV – Doctor of Historical Sciences, Professor, Dean of the Faculty of History and Geography, Chuvash State University, Russia, Cheboksary (425954@rambler.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6218-8948). Формат цитирования: Дмитриева О.О., Туманова М.М., Широков О.Н. «Место памяти/lieux de memoire» как механизм сохранения исторической памяти общества // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 73–81. DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-73-81. 82 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-82-90 УДК 9.93/94.930.85 ББК 63.3 (2) 522-334 Я.В. ПУНЕВСКИЙ ВОПРОСЫ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ ЯРОСЛАВСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА (по материалам газет «Голос», «Северный край», «Северное слово») Ключевые слова: периодическая печать, городское самоуправление, гласные, бюджет, финансирование, политическая активность, избирательная активность, деятельность, благоустройство. Статья посвящена изучению отражения вопросов и проблем городского самоуправления в России периода 1870 г. – первой половины 1914 г. на страницах ярославских либеральных газет. В контексте возрастающего в последнее время интереса к проблемам городского самоуправления изучение позиции либеральных публицистов по этому вопросу в период наиболее яркого развития городского самоуправления в России в конце XIX – начале XX в. особенно значимо. Целью статьи является выявление характера освещения вопросов городского самоуправления на страницах периодических изданий либеральной ориентации, тех проблем, на которые преимущественно была направлена критика со стороны сотрудников этих изданий. Материалы и методы. Для достижения цели исследования автором были рассмотрены все наиболее существенные публикации в газетах «Голос», «Северный край», «Северное слово», посвященные различным аспектам существования и деятельности органов городского самоуправления в России. Вопросы городского самоуправления обсуждались на страницах ярославской либеральной периодической печати довольно часто, с разных ракурсов и по разным проблемам. Результаты исследования. Изучение этих публикаций демонстрирует преимущественно критический характер рассмотрения городского самоуправления. Основными объектами для критики со стороны либеральных публицистов были состояние бюджетов городских дум, недостатки избирательной системы, безынициативность гласных городских дум в решении вопросов, отсутствие полноценной гласности на заседаниях городских дум, низкая политическая активность и разобщенность гласных, недостаточное внимание их к проблемам городских низов, спорадичность и келейный характер деятельности органов городского самоуправления, недостаточное развитие социальных направлений деятельности, таких как общественно призрение, народное образование и здравоохранение, а также невысокий уровень благоустройства городов. Выводы. Исследование показало, что вопросы городского самоуправления на страницах ярославских периодических либеральных изданий были довольно популярной темой, обсуждались в явно выраженном критическом ракурсе. Целью настоящей работы является изучение отражения вопросов развития городского самоуправления в России на страницах либеральной периодической печати ярославской губернии конца XIX – начала XX в. Материалы и методы. Период функционирования самоуправления, который рассматривался в периодических изданиях ограничим 1870 г. – первой половиной 1914 г., поскольку этот этап в его развитии в историографии рассматривается как целостный, обособленный период, начало которого было обусловлено вступлением в силу «Городового положения» 1870 года, а конец – началом Первой мировой войны [57. C. 32; 54. C. 21]. В основе исследования лежит изучение наиболее популярных газет ярославской губернии конца XIX – начала Взгляд историка: источниковедение и историография 83 XX в.: «Голос», «Северный край», «Северное слово». В работе применялись историко-системный, хронологический и сравнительно-исторический методы. Результаты исследования. Следует отметить, что настоящее исследование находится в фарватере работ Ю.Ю. Иерусалимского, Р.А. Невиницына и В.В. Таточенко, во многом продолжая исследовать намеченными этими историками сюжеты [18, 55]. В то же время ракурс настоящей статьи позволил сконцентрироваться именно на городском самоуправлении как проблеме для обсуждения на страницах либеральной публицистики указанного выше периода. Феномену периодической печати ярославской губернии посвящена многочисленная историческая литература [1, 17]. Основными изданиями либеральной ориентации в губернии были газеты «Северный край» и «Голос». «Северный край» был открыт Э.Г. Фальком в августе 1898 г. и с перерывами просуществовал до декабря 1905 г. В историографии «Северный край» совершенно справедливо называется первым в губернии изданием общественно-политического характера [18. C. 52]. С каждым годом своего существования газета радикализировалась, в целом сохраняя либеральную ориентацию. В частности, сменивший Э.Г. Фалька на посту редактора газеты В.М. Михеев был близок к кадетской партии. Участие в издании «Северного края» принимали известные кадеты Д.И. Шаховской и А.В. Тыркова-Вильямс [16]. Пика популярности газета достигла в 1905 г., когда в год у нее было 5938 подписчиков. Тем не менее газета заметно уступала в популярности «Ярославским губернским ведомостям» [55. C. 220]. Газета «Голос» существовала с 19 февраля 1909 г. до ноября 1917 г. Ее издателями были члены кадетской партии К.Ф. Некрасов и Н.П. Дружинин [3]. Газета «Северное слово» выходила в 1912–1915 гг. Следует согласиться с Д.И. Тушкановым в том, что провинциальная периодическая печать – хороший источник для изучения социокультурных процессов в стране. Газета, как важнейший источник массовой информации в рассматриваемый нами период, стремясь привлечь читателя, на своих страницах была обязана поднимать важные и актуальные вопросы [56. C. 214]. Большое значение провинциальной журналистики в общественной жизни России также отмечал А.А. Вахрушев, акцентируя внимание на просветительской миссии периодической печати [2. C. 274]. О высокой целевой направленности «Северного края» как проводника определенных взглядов и ценностей в массы говорит тот факт, что в отличие от многих изданий газета большую часть времени своего существования была убыточной [18. C. 65]. Корреспонденты провинциальных ярославских изданий были хорошо осведомлены о ситуации в городе. Так, в одной из рубрик газеты «Голос» в 1912 г. сообщалось, что сотрудники газеты допускаются к обозрению всех дел и бумаг городского управления, а также к участию в заседаниях комиссий ярославской городской думы [11]. Позиция редакции «Северного края» по отношению к проблеме самоуправления была достаточно ясно выражена уже в публикации письма жителей Архангельской губернии «Самоуправление и хозяйственный прогресс» в январе 1899 г. Согласно трактовке этого письма, приведенной в газете, жители архангельской губернии мечтают о земстве, но «земство земству рознь» [22]. Не всякая юридическая форма самоуправления является таковой фактически. На какие же признаки самоуправления обращали внимание либеральные публицисты? Ответить на этот вопрос можно, изучив основные аспекты городского самоуправления, которые подвергались критике на страницах газет. Одними из наиболее популярных объектов для критики со стороны либеральной журналистики были безынициативность гласных в решении вопросов 84 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 городского хозяйства, безразличие к нуждам бедного люда [23, 27]. В 1898 г. журналисты писали о том, что гласные о других вспоминают, если дело идет о пустяках [26]. В 1900 г. газета передавала разговор двух рыбинских гласных между собой: «возбужден вопрос, поговорили, вот и все». В других номерах газеты фиксируется апатия и равнодушие к городским делам гласных [38]. Прямым свидетельством равнодушия гласных к решению городских дел был тот факт, что нередко многолюдное заседание думы собиралось для решения только лишь одного вопроса, после решения которого гласные вставали со своих мест и покидали зал заседаний думы [50]. Иронизируя по поводу безразличия рыбинской городской думы к вопросам благоустройства окраин города, рыбинский корреспондент «Северного края» сообщал в 1900 г.: «сложилось, видите ли, убеждение, что по улицам за Черемхой ходят лишь татары да поросята. Порядочного же, дескать, жильца там не бывает» [36]. В 1908 г. сотрудников «Северного слова» привлек случай в заседании рыбинской думы, когда гласный А. Мыркин пытался лоббировать решение вопроса о ремонте сточной трубы в свои бани за городской счет [19]. В 1899 г. из Пошехонья сообщалось, что рассмотрение отчета начальных приходских училищ производилось при наличии в зале четверых гласных, остальные на это время ушли из зала [32]. Санитарные попечители, назначенные Романово-Борисоглебской думой, предстают совершенно равнодушными к задаче, возложенной на них обществом и даже элементарными требованиями санитарии и гигиены [35]. Другими причинами критического отношения сотрудников рассматриваемых нами периодических изданий к состоянию городского самоуправления были низкая политическая активность думских гласных, апатия, разобщенность. Например, в ответ на отклонение предложений одного из гласных рыбинской думы по чествованию памяти А.С. Пушкина «Северный край» сообщал, что так называемые «отцы города» редко дают свое согласие на мероприятия, не обещающие материальных выгод [24]. В 1911 г. фельетон «Разговор с губернским гласным» описывал городского гласного, который соглашается на любое, даже самое глупое предложение [10]. В 1902 г. в «Северном крае» сообщалось, что на почве городских дел сводятся личные счеты [46]. В 1909 г. в «Голосе» было отмечено, что повышение накала в городской думе часто переходит в пререкания на личной почве [4]. В частности, заседание Романово-Борисоглебской городской думы 22 ноября 1906 г. закончилось конфликтом между городским головой Ф.К. Ячменцовым и гласным думы А.А. Новиковым по вопросу о разрешении ставить лари на базарной площади как обезображивающие вид площади. А.А. Новиков заявил, что слагает с себя звание гласного, а Ячменцов «снял с себя должностную цепь и заявил, что закрывает собрание». Гласные «бросились … мирить враждующих отцов города» и добились своего. «Значит можно поссориться не только из-за одного выеденного яйца, но и по другим причинам», справедливо резюмировал корреспондент газеты. Гласные не отличались инициативностью на заседаниях городской думы. По наблюдению сотрудников «Голоса», большинство из них молча садились на свое обычное место, также молча вставали с него, не проронивши ни единого слова [5]. Обращало на себя внимание и панибратское отношение гласных между собой, не подобающее городским служащим. Одно из заседаний углической городской думы описывалось следующим образом: «сговориться думцы не могли и вопрос этот решали уже закрытой баллотировкой, предварительно отдохнувши в канцелярии за дружеской папироской» [31]. Взгляд историка: источниковедение и историография 85 Отдельной темой на страницах периодических изданий Ярославской губернии выступала гласность, которая рассматривалась как необходимая черта подлинного самоуправления [11]. В 1899 г. отмечалось, что большинство дел в Ярославском городском самоуправлении решается в «тиши и безмолвии» [25]. Ярославские газеты не упускали момента высмеять несуразности в деятельности городских дум по благоустройству. В частности, в 1899 г. сообщалось, что в Рыбинске «умеют совмещать несовместимое». Дело в том, что в здании здешнего зимнего театра помещался городской ломбард, а место летних увеселений – городской дача, находилось рядом с георгиевским кладбищем [29]. В другой статье газеты осуждалось нерациональное использование городской думой леса [30]. Кроме того, подчеркивалась неторопливость рыбинских гласных по совершенствованию системы освещения улиц города, который неделю не освещался по ночам. Попытки объяснения этого факта основывались на предположении о том, что гласные хотели сделать денежную экономию для осуществления проекта электрического освещения [33]. Осенью 1900 г. сообщалось, что даже гласный Рыбинской городской думы С.П. Мясоедов при проезде по ремонтированному мосту на Ярославской улице сломал крепкое колесо [41]. Критически рассматривалось и состояние городских бюджетов. 17 мая 1900 г. из Пошехонья сообщалось: «наши «отцы» опять дефицит выдумали! Что за гениальная изобретательность!» [37]. В других материалах газеты фигурировали ссылки на совмещение гласными городской думы личных и общественных интересов [40]. Автор задавался вопросом: к каким мерам хочет прибегнуть наше городское самоуправление, чтобы покрыть в будущем году дефицит в 4 000 руб.? Меры эти довольно обычные: сокращение числа фонарей на улицах, сторожей, расходы по очистке и мощению улиц и т.д. Предлагалось начать экономию с содержания городской управы. Подчеркивалось, что на освещение управы тратится 973 руб., а на освещение всего города – 425 руб. «Несмотря на яркое освещение, наши отцы никак не могут усмотреть новых источников городских доходов», удивлялись сотрудники газеты [42]. В то же время, в некотором смысле оправдывая городских деятелей, сотрудники газеты отмечали, что покрытие дефицита требует неослабной энергии по изысканию новых источников доходов по городскому хозяйству [43]. Городские средства расходовались во многом нерационально и случайно. В фельетоне «Ярославские картинки» сообщалось: «шла городская управа по Некрасовскому бульвару и была у нее в кармане будка для военной музыки. … городской управе все равно, где выпала у нее из кармана эта будка, там пускай и остается» [12]. Очень удивило сотрудников газеты поведение мологского городского головы, который по причине напряженного состояния городской сметы распорядился не давать служащим городской управы лимон к чаю [15]. Отдельного внимания сотрудников либеральных периодических изданий заслуживали легитимность городских выборов. В 1900 г. обращалось внимание на грубые нарушения, допущенные в процессе выборов в Рыбинскую городскую думу. «К чему же способны те деятели, которые сами не могут даже председателя себе выбрать?», – удивлялся корреспондент газеты [39]. В другой рубрике газеты автор сетовал на полную апатию городских избирателей [44]. Указывалось и на нежелание избирателей проводить предвыборные собрания как свидетельство их политической незрелости [6]. Важными чертами местного самоуправления, с точки зрения либеральной периодической печати, были открытость городских служащих, их готовность к диалогу с обществом. В 1902 г. 86 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 в «Северном крае» описывались сложности ходатайств обывателей в Пошехонскую городскую думу [45]. Итак, основными объектами критики городского самоуправления со стороны либеральных периодических изданий были: безразличность гласных городских дум к нуждам низших классов населения, корпоративность и кастовость городских дум, недостатки избирательного процесса, скудность бюджетов городов и их нерациональное использование, отсутствие гласности и низкая политическая активность гласных в целом. Теперь обратимся к рассмотрению вопроса: как оценивали деятельность органов городского самоуправления рассматриваемые нами периодические издания? В подавляющем большинстве случаев оценки были критичные. Признавалась ограниченность деятельности городского самоуправления жесткими законодательными рамками [7]. В одном из номеров был помещен фельетон, описывающий удручающую ситуацию в Ярославском городском самоуправлении: низкое качество мостовых, критическое санитарное состояние города, на что закрывал глаза престарелый городской голова [21]. Мероприятия городских дум в сферах народного образования, общественного призрения и медицины не были оценены журналистами. В «Северном крае» заметили, что участие Романово-Борисоглебского городского общества в деле призрения определяется только назначением по 120 руб. по 60 на каждую богадельню на стипендии. В то время как годовой расход богаделен составил 1443 и 1095 руб. соответственно [47]. Вызывало вопросы и состояние городских училищ [48, 49]. По мнению сотрудников газеты, подача бесплатной медицинской помощи ярославскому населению оставалась одним из самых больных мест города [52]. Предметом особого беспокойства журналистов стала сложная ситуация в торговой школе в Ярославле, открытой в 1898 г. по инициативе органов городского самоуправления. «Граждане! Школа ваша не казенная, возьмите ее в руки и покажите, что общество достойно быть хозяином школьного дела», призывали в одной из газет [53]. Особое внимание газетчиков привлекали задержки с устройством водопроводов в городах [28, 34]. По убеждению сотрудников «Голоса», водоснабжение города – одна из самых важных сторон городского хозяйства без усовершенствований которого не может быть и речи о каком-либо благоустройстве города [9]. Насмешки вызывали неудачные попытки углического городского самоуправления устроить в городе водопровод. По мнению сотрудников «Северного края», вместо водопровода гласные думы решили роскошно отремонтировать управу [51]. Газета «Голос» сообщала о низком уровне благоустройства города в Романово-Борисоглебска: «нет даже порядочного количества фонарей… или, может быть, в тьме жить спокойнее и лучше?» [8]. Привлекает также внимание фельетон В. Вирского «Санитарная идиллия» о спуске нечистот в реку Которосль. «Если увидишь в стакане твоем нечто из городской свалки, преклони голову твою и смиренно сие выпей», – писал В. Вирский [14]. Возмущение сотрудников «Северного слова» вызвало сравнение расходов городов на выплату жалования старостам бесприходных церквей и подобные расходы с финансированием важных социальных направлений деятельности: городские власти не жалели средств на выдачу пособий благотворительным учреждениям, не состоящим в ведении города, вроде всевозможным монастырей, церквей, на что расходовалось около 3000 руб., в то время просьбы о помощи земству в деле Взгляд историка: источниковедение и историография 87 обустройства больницы оставались без ответа [20]. В то же время следует отметить, что некоторые обзоры состояний городского хозяйства, помещенные в рассматриваемых нами периодических изданиях, были позитивными и не содержали критики. Так, в обзоре состояния двух отделений земской больницы, перешедших в ведение г. Ярославля, действия городских властей получили высокую оценку [13]. Выводы. Исследование показало, что вопросы городского самоуправления обсуждались на страницах ярославской либеральной периодической печати довольно часто, с разных ракурсов и по разным проблемам. Состояние органов городского самоуправления ярославской губернии получило на страницах газет «Голос», «Северный край», «Северное слово» по большей части негативную оценку. Главная критика была сосредоточена на недостатках в избирательной системе, скудности бюджетов городских дум, низкой политической активности гласных, деятельности городского самоуправления. Литература 1. Белоногий С.А. Периодическая печать Ярославской губернии (1914 год) // Путь в науку: сб. науч. работ аспирантов и студентов исторического факультета / Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Ярославль, 2001. Вып. 6. С. 96–98. 2. Вахрушев А.А. Просветительская миссия печати и литературы в провинциальной России (на материале Вятской губернии XVII – начала XX вв.): дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2013. 306 с. 3. Волкова Т.И. Голос (ежедневная газета) [Электронный ресурс]. URL: https://yarwiki.ru/article/1093/golos-ezhednevnaya-gazeta (дата обращения: 12.02.2022). 4. Голос. 1909. № 52. 5. Голос. 1909. № 225. 6. Голос. 1910. № 67. 7. Голос. 1911. № 1. 8. Голос. 1911. № 187. 9. Голос. 1911. № 219. 10. Голос. 1911. № 278. 11. Голос. 1912. № 75. 12. Голос. 1912. № 108. 13. Голос. 1913. № 160. 14. Голос. 1914. № 102. 15. Голос. 1914. № 127. 16. Григорьев А.В., Невиницын Р.А., Шестерина Н. Северный край (1898–1909) [Электронный ресурс]. URL: https://yarwiki.ru/article/1094/severnyj-kraj-br1898-1909 (дата обращения: 12.02.2022). 17. Иерусалимская С.Ю. ,Иерусалимский Ю.Ю. Периодическая печать конца XIX– начала XX в. как источник по истории народного образования Ярославской губернии // Демидовский временник: Исторические исследования в Ярославском государственном университете: сб. науч. тр. Ярославль: ООО Ремдер, 2004. С. 205–213. 18. Иерусалимский Ю.Ю. Невиницын Р.А. Становление либеральной печати Верхнего Поволжья и Севера России в конце XIX – начале XX в. (на материалах «Северного края»). Ярославль: ООО НТЦ «Рубеж», 2008. 231 с. 19. Северное слово. 1908. № 6. 20. Северное слово. 1909. № 10. 21. Северный голос. 1906. № 9. 22. Северный край. 1899. № 32. 23. Северный край. 1899. № 46. 24. Северный край. 1899. № 56. 25. Северный край. 1899. № 70. 26. Северный край. 1899. № 127. 27. Северный край 1899. № 137. 28. Северный край. 1899. № 156. 29. Северный край. 1899. № 232. 30. Северный край. 1899. № 292. 31. Северный край. 1899. № 324. 32. Северный край. 1899. № 345. 88 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 33. Северный край. 1899. № 351. 34. Северный край 1899. № 357. 35. Северный край. 1900. № 62. 36. Северный край. 1900. № 115. 37. Северный край. 1900. № 130. 38. Северный край. 1900. № 219. 39. Северный край. 1900. № 220. 40. Северный край. 1900. № 273. 41. Северный край. 1900. № 311. 42. Северный край. 1900. № 334. 43. Северный край. 1901. № 120. 44. Северный край. 1902. № 62. 45. Северный край. 1902. № 189. 46. Северный край. 1902. № 309. 47. Северный край. 1904. № 71. 48. Северный край. 1904. № 87. 49. Северный край 1904. № 101. 50. Северный край. 1904. № 128. 51. Северный край. 1905. № 31. 52. Северный край. 1905. № 213. 53. Северный край. 1905. № 258. 54. Судавцов Н.Д. Земское и городское самоуправление в России в годы Первой мировой войны. М.; Ставрополь: Изд-во Ставроп. гос. ун-та, 2001. 718 с. 55. Таточенко В.В. Роль провинциальной прессы в формировании гражданского общества в России в конце XIX–начале XX в. (по материалам Ярославской губернии): дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2010. 241 с. 56. Тушканов Д.И. Отражение в провинциальной периодической печати социокультурных процессов конца XIX–начала XX вв. (на примере Саратовской губернии): дис. … канд. ист. наук. Волгоград, 2018. 248 с. 57. Чудаков О.В. Городское самоуправление Сибири в годы Первой мировой войны, период социальных катаклизмов (июль 1914–первая половина 1918 гг.). Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2013. 422 с. ПУНЕВСКИЙ ЯРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ – аспирант кафедры истории России средних веков и нового времени, Государственный университет просвещения, Россия, Москва (moskva221090an@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7459-6538). Yaroslav V. PUNEVSKIY ISSUES OF CITY SELF-GOVERNMENT ON THE PAGES OF YAROSLAVL PERIODICALS OF LIBERAL ORIENTATION OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY (based on the materials of the newspapers "Golos", "Severny krai", "Severnoye slovo") Key words: periodical press, city self-government, councillors, budget, financing, political activity, electoral activity, activity, public services and amenities. The article is devoted to the study of issues and problems of urban self–government in Russia during the period of 1870 – the first half of 1914 reflected on the pages of Yaroslavl liberal newspapers. In the context of the recent growing interest in the problems of urban self– government, the study of liberal publicists' position on this issue during the period of the most vivid development in urban self-government in Russia in the late XIX – early XX century is especially significant. The purpose of the article is to identify the nature of covering the issues of urban selfgovernment on the pages of liberal orientation periodicals, those problems that were mainly criticized by the staff of these publishing houses. Materials and methods. To achieve the purpose of the study, the author reviewed all the most significant publications in the newspapers "Golos", "Severny Krai", "Severnoye Slovo", devoted to various aspects of the existence and activities carried out by city self-government Взгляд историка: источниковедение и историография 89 bodies in Russia. Issues of city self-government were discussed on the pages of Yaroslavl liberal periodicals quite often, from different angles and on different issues. Study results. The study of these publications demonstrates a predominantly critical nature of considering urban self-government. The main objects of criticism from liberal publicists were the state of the city duma's budgets, the shortcomings of the electoral system, the lack of initiative from the city duma councillors in solving issues, the lack of full-fledged publicity at the meetings of the city duma, low political activity and disunity of the councillors, their insufficient attention to the problems of the urban grassroots, sporadic and cell-like nature of the activities carried out by city self-government bodies, insufficient development social activities, such as public assistance, public education and health care, as well as a low level of urban public services and amenities. Conclusions. The study showed that the issues of urban self-government on the pages of Yaroslavl periodical liberal publications were quite a popular topic, and were discussed in a clearly critical perspective. References 1. Belonogii S.A. Periodicheskaia pechat' Iaroslavskoi gubernii (1914 god) [Periodical press of Yaroslavl Province (1914)]. In: Put' v nauku: sbornik nauchnyh rabot aspirantov i studentov istoricheskogo fakul'teta [The path to science: a collection of scientific papers of graduate students and students of the Faculty of History]/ Yaroslavl, 2001, iss. 6. pp. 96–98. 2. Vakhrushev A.A. Prosvetitel'skaia missiia pechati i literatury v provintsial'noi Rossii (na materiale Viatskoi gubernii XVII–nachala XX vv.): dis. … d-ra filol. nauk [The educational mission of the press and literature in provincial Russia (based on the material of the Vyatka province of the XVII – early XX centuries: Doct. Diss.]. St. Petersburg, 2013, 306 p. 3. Volkova T.I. Golos (ezhednevnaia gazeta) [The Golos (daily newspaper)]. Available at: https://yarwiki.ru/article/1093/golos-ezhednevnaya-gazeta (Access Date: 2022, Feb. 12). 4. Golos, 1909, no. 52. 5. Golos, 1909, no. 225. 6. Golos, 1910, no. 67. 7. Golos, 1911, no. 1. 8. Golos, 1911, no. 187. 9. Golos, 1911, no. 219. 10. Golos, 1911, no. 278. 11. Golos, 1912, no. 75. 12. Golos, 1912, no. 108. 13. Golos, 1913, no. 160. 14. Golos, 1914, no. 102. 15. Golos, 1914, no. 127. 16. Grigor'ev A.V., Nevinitsyn R.A., Shesterina N. Severnyi krai (1898–1909) [Northen region]. Available at: https://yarwiki.ru/article/1094/severnyj-kraj-br1898-1909 ((Access Date: 2022, Feb. 12). 17. Ierusalimskaya S.Yu. Ierusalimskii Yu.Yu Periodicheskaya pechat' kontsa XIX– nachala XX v. kak istochnik po istorii narodnogo obra-zovaniya Yaroslavskoi gubernii [Periodicals of the late XIX–early XX century as a source on the history of public education of the Yaroslavl province]. In: Demidovskii vremennik: Istoricheskie issledovaniya v Yaroslavskom gosudarstvennom universitete [Demidovsky vremennik: Historical research at Yaroslavl State University: Collection of scientific papers], 2004, pp. 205–213. 18. Ierusalimskii Yu.Yu. Nevinitsyn R.A. Stanovlenie liberal'noi pechati Verkhnego Povolzh'ya i Severa Rossii v kontse XIX – nachale XX v. (na materialakh «Severnogo kraya») [The formation of the liberal press of the Upper Volga region and the North of Russia in the late XIX–early XX century (based on the materials of the "Severnyi krai"]. Yaroslavl, 2008, 231 p. 19. Severnoe slovo, 1908, no. 6. 20. Severnoe slovo, 1909, no. 10. 21. Severnyi golos, 1906, no. 9. 22. Severnyi krai, 1899, no. 32. 23. Severnyi krai, 1899, no. 46. 24. Severnyi krai, 1899, no. 56. 25. Severnyi krai, 1899, no. 70. 26. Severnyi krai, 1899, no. 127. 27. Severnyi krai, 1899, no. 137. 28. Severnyi krai, 1899, no. 156. 29. Severnyi krai, 1899, no. 232. 90 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 30. Severnyi krai, 1899, no. 292. 31. Severnyi krai, 1899, no. 324. 32. Severnyi krai, 1899, no. 345. 33. Severnyi krai, 1899, no. 351. 34. Severnyi krai, 1899, no. 357. 35. Severnyi krai, 1900, no. 62. 36. Severnyi krai, 1900, no. 115. 37. Severnyi krai, 1900, no. 130. 38. Severnyi krai, 1900, no. 219. 39. Severnyi krai, 1900, no. 220. 40. Severnyi krai, 1900, no. 273. 41. Severnyi krai, 1900, no. 311. 42. Severnyi krai, 1900, no. 334. 43. Severnyi krai, 1901, no. 120. 44. Severnyi krai, 1902, no. 62. 45. Severnyi krai, 1902, no. 189. 46. Severnyi krai, 1902, no. 309. 47. Severnyi krai, 1904, no. 71. 48. Severnyi krai, 1904, no. 87. 49. Severnyi krai, 1904, no. 101. 50. Severnyi krai, 1904, no. 128. 51. Severnyi krai, 1905, no. 31. 52. Severnyi krai, 1905, no. 213. 53. Severnyi krai, 1905, no. 258. 54. Sudavtsov N.D. Zemskoe i gorodskoe samoupravlenie v Rossii v gody Pervoi mirovoi voiny [Zemstvo and city self-government in Russia during the First World War]. Moscow, Stavropol, 2001, 718 p. 55. Tatochenko V.V. Rol' provintsial'noi pressy v formirovanii grazhdanskogo obshchestva v Rossii v kontse XIX–nachale XX v. (po materialam Yaroslavskoi gubernii): dis. … kand. ist. nauk The role of the provincial press in the formation of civil society in Russia in the late XIX – early XX century (based on the materials of the Yaroslavl province): Cand. Diss.]. Yaroslavl, 2010, 241 p. 56. Tushkanov D.I. Otrazhenie v provintsial'noi periodicheskoi pechati sotsiokul'turnykh protsessov kontsa XIX –nachala XX vv. (na primere Saratovskoi gubernii): dis. … kand. ist. nauk [Reflection in the provincial periodical press of the socio–cultural processes of the late XIX – early XX centuries (on the example of Saratov province): cand. Diss.]. Volgograd, 2018, 248 p. 57. Chudakov O.V. Gorodskoe samoupravlenie Sibiri v gody Pervoi mirovoi voiny, period sotsial'nykh kataklizmov (iyul' 1914–pervaya polovina 1918 gg.) [Urban self–government of Siberia during the First World War, the period of social cataclysms (July 1914 – the first half of 1918)]. Omsk, Omsk University Publ., 2013, 422 p. YAROSLAV V. PUNEVSKIY – Post-Graduate Student, Department of the History of Russia of the Middle Ages and Modern Times, State University of Enlightenment, Russia, Moscow (moskva221090an@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7459-6538). Формат цитирования: Пуневский Я.В. Вопросы городского самоуправления на страницах ярославских периодических изданий либеральной ориентации конца XIX – начала XX века (по материалам газет «Голос», «Северный край», «Северное слово») // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 82–90. DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-82-90. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-2-91-96 УДК 39+325.1 ББК 63.5 А.И. МИНАКОВА ИСТОКИ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ МОРДОВСКОГО КРАЯ Ключевые слова: многонациональность, Мордовский край, иностранцы, переписи населения, Республика Мордовия. Тема полиэтничности находится сегодня на пике актуальности, поскольку преимущественное большинство территорий России характеризуются многонациональным составом населения. Полиэтничность Российской Федерации определяется во взаимодействии этнических общностей. Одним из ярких примеров полиэтничного субъекта Российской Федерации является республика Мордовия. Мордовия является благополучным в этнополитическом плане регионом России, где народы живут «в мире и согласии». Целью статьи является всестороннее рассмотрение предпосылок появления представителей различных национальностей в Мордовском крае, а также факторов, повлиявших на формирование полиэтничности региона в составе территорий, вошедших позднее в состав Республики Мордовия. Материалы и методы. При написании научной публикации использовалась научная и исследовательская литература, при помощи которой удалось установить исторические предпосылки полиэтничности Мордовского края. Благодаря использованию метода регионоведческого исследования был проведен историко-этнографический анализ, позволивший выявить исторические аспекты, повлиявшие на формирование региона в русле этнического многообразия. Результаты исследования. Полиэтничность региона начала складываться в связи с началом строительства засечных черт с конца XVI – первой половины XVII в., как следует из исторических источников, где на службе можно было встретить среди служилых людей в том числе и иностранцев. В Мордовском крае в указанном периоде названия населенных пунктов свидетельствуют о многонациональном характере проживающих там народов, к примеру, в деревне Литва Краснослободского района проживало литовское население или другой пример населенного пункта с иностранным населением – деревня Лопатино с украинским населением, расположенная в Лямбирском районе. Выводы. В исторической ретроспективе полиэтничность Мордовии складывалась на протяжении длительного периода и сопровождалась историческими событиями, происходившими как в России, так и во всем мире. Официальные истоки начала формирования полиэтничности можно отнести к 1897 г., когда впервые была проведена перепись населения, по итогам которой на территориях, входящих в Мордовский край, проживали лица различных национальностей. К 2010 г. Мордовия сформировалась как полиэтнический субъект России, что наглядно демонстрируют официальные статистические переписи населения. Полиэтничность Российской Федерации определяется во взаимодействии этнических общностей. По данным переписи населения 2010 г., общее количество последних составило 190 наименований. Каждый субъект Российской Федерации имеет свою историю формирования полиэтничности. В статье предлагается на примере одного из ретпроспективных субъектов России – Республики Мордовия, зарекомендовавшей себя как благополучный в этнополитическом 92 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 плане субъект Российской Федерации, где народы или этнические общности живут «в мире и согласии», проследить исторические предпосылки начала становления многонациональности. Целью статьи является всестороннее рассмотрение предпосылок появления представителей различных национальностей в Мордовском крае, а также факторов, повлиявших на формирование полиэтничности Мордовского края в составе территорий, вошедших позднее в состав Республики Мордовия. Материалы и методы. При написании научной публикации использовалась научная и исследовательская литература, посредством которой удалось установить исторические предпосылки полиэтничности Мордовского края. Благодаря использованию метода регионоведческого исследования был проведен историкоэтнографический анализ, позволивший выявить исторические аспекты, повлиявшие на формирование региона в русле этнического многообразия. Результаты исследования. Впервые в Мордовском крае иностранцы появились в XVII в. Это было обусловлено развитием дипломатических отношений с Западной Европой в результате войн с Польшей, Швецией и Турцией. На фоне усиления интереса западных стран к Российскому государству и в нем проживавших в XVI–XVII вв. народам границы Мордовского края стали наносить на карты, составленные западноевропейскими авторами – англичанами, голландцами, шведами и французами (Фра Мауро, С. фон Герберштейн, А. Дженкинсон, И. Масса, Г. Герритс, Н. Сансон, Н. Витсен, Г. Делиль и др.) [7. C. 259]. Кроме того, в эпоху расцвета картографического искусства на карты мира наносили известную ученым географическую информацию: «Не меньший интерес вызывает изображение на карте регионов России. Среднее Поволжье на карте Фра Мауро изображено как область поворота реки Edil, или Vulga (Волга), с востока на юг. При этом она делится на 2 протока (рукава), между которыми расположен остров Amasonia. Западный… соответствует Суре» [7. C. 150]. В Италии впервые в Европе сложилась национальная традиция восприятия России как самостоятельной страны и проживавших в ней народов: «Они стремились не только обосновать независимое достоинство особого мнения, вкуса, дарования, но и понять чуждый им образ жизни, отличный от их повседневности» [8. C. 94]. Работы немецких мастеров также способствовали широкому распространению знаний о Мордовском крае в государствах бывшей Священной Римской империи [8. C. 98]. Венецианец Франческо Тьеполо в опубликованном в 1560 г. трактате дает описание Мордовского края как маленькой области, именуемой «Мордуа», имеющей ровную и лесистую поверхность, очень плодородной и богатой пастбищами [7. C. 250]. В XVII в. продолжало возрастать число иностранцев в Русском государстве – дипломатов, купцов, наемников, отправлявшихся в Россию с сугубо деловыми целями. Например, шведский дипломат и историк Петр Петрей де Эрлезунд описывает особенности мордовского народа, в частности обычаи их женитьбы [7. C. 157]. Строительство «засечных черт» в Мордовском крае для защиты от набегов крымских татар, ногайцев и башкир [7. C. 159], несомненно, сыграло свою роль в формировании многонациональности региона. Строительство на мордовских землях засечных черт отражается в характерных названиях населенных пунктов, показывающих их военно-оборонительное назначение. В то же время селам давали названия по имени и национальности владельца населенного пункта или национальностям, некогда там проживавших. Названия населенных пунктов показывают многонациональный характер народов в Мордовском крае. Например, Литва – русская деревня в Краснослободском районе на речке Ликешка. Название-этноним: здесь проживало литовское Этнографическое обозрение народов России 93 население. В книге «Краснослободск» сообщается: «Судя по писцовой книге Краснослободского присуда, составленной в 1629 г. «путным ключником» Федором Малым, и другим данным, население Слободы было очень разношерстным [3. C. 124]. Другой пример: Лопатино – украинская деревня в Лямбирском районе [3. C. 125]. Следующим фактором, повлиявшим на национальный состав Мордовского края, была Отечественная война 1812 года. В начале сентября 1812 г. в Среднем Поволжье появились военнопленные армии Наполеона, они конвоировались в глубь страны. Квартировались военнопленные и в Пензенской губернии, у местного населения, находясь с ним в непосредственном контакте. Исходя из исторических сведений, первая партия военнопленных на территорию Пензенской губернии прибыла 18 июня 1813 г. В их числе находились будущие мемуаристы, обер-лейтенанты из Вюртемберга Х.-Л. фон Йелин и Ф.Ю. фон Зоден. В этой же партии были и старшие офицеры – майоры Теодор Вундт, Розен Обермайер и Вильгельм Грин. В начале июля пленные офицеры были распределены по городам Пензенской губернии [4. C. 304]. По сообщению саранского частного пристава Никольского, 18 июля 1813 г. в Саранск были «доставлены и размещены по квартирам» 18 обер-офицеров и 12 «нижних чинов». Это капитаны баденской службы К. Хубауэр (Hubbauer) и К. фон Цах (von Zah), капитан вюртембергского 4-го линейного полка К. Арандт (Arandt), капитан баварского 8-го пехотного полка Ф. Гаршер (Harscher), оберлейтенанты вюртембергской службы Г. фон Кляйн (von Klein), Х.-Л. фон Йелин (von Yelin) и Ф.Ю. фон Зоден (von Soden), лейтенант баварской артиллерии В. Шарнагель (Scharnagel), вюртембергские лейтенанты Ф. Майсрюммель (Meisrümmel), Д. фон Бюлов (von Bülov), Ф. фон Райх (von Reuh), Э. Кун (Kuhn) и К. Шталь (Stahl), обер-лейтенант баденской службы Ф. Клауер (Clauer), хирурги В. Буркарт (Burhart), Э. Кляйн (Klein), Ф. Юнг (Jung), секретарь Ф. Гюдеман (Güdemann). Чуть позднее сюда же прибыл вюртембергский лейтенант К. Химер (Hiemer), оставленный в Пензе по болезни [1. C. 21, 22]. Вюртембергские офицеры Х.-Л. фон Йелин и Ф.Ю. фон Зоден оставили воспоминания об этом периоде жизни, которые интересны прежде всего тем, что в них говорится об иностранцах, проживающих в Мордовском крае, условиях проживания военнопленных и их содержании, взаимоотношениях с местным населением. «И простолюдины оказывали нам внимание и были так учтивы, что редко кто-то проходил мимо нас без поклона» [1. C. 22, 23]. Хотя, как отмечал Ф.Ю. фон Зоден, они иногда «приветствовали нас обращением “француз” или “шельма-француз”, но мы этого не замечали» [1. C. 23]. Один из пленных офицеров, оставивших дневниковые записи о том периоде, – обер-лейтенант баварского полка линейной пехоты Фридрих (ФридрихВильхельм-Карл) фон Фуртенбах – прибыл в г. Краснослободск 5 сентября 1813 г. «…Четырнадцать из нас [военнопленных] получили назначение в городок Краснослободск. Это были три баварца – я, Франкель (Frankel) и Хинтермайер (Hintermayer), семь вестфальцев – Ландсберг, Гофман, Симонис (Simonis), Круземарк (Krusemark), Шуц (Schuez), Мендель (Mendel) и Морио (Morio), а также трое французов: Сципио (Scipio), Богледу (Bogledou) и Шеен (Schoen) и хорватский капитан Думлунович (Dumlunowitsch). Мы… 1 сентября отбыли из Пензы. ˂…˃ После пяти дней пути мы добрались до нашей стоянки – Краснослободска. Вечером 5 сентября мы были расквартированы городничим или городским судьей. Здесь мы встретили 23 пленных офицеров разных национальностей. В основном это были бергцы и вестфальцы, так что теперь с нами было 37 офицеров. ˂…˃ Во всем городе была только одна портниха, урожденная курляндка, которая говорила по-немецки… Приблизительно в четырех верстах отсюда жил в своем 94 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 имении в деревне Барановке (Borunn) русский офицер в отставке фон Фалькенклау (v. Falkenklau), урожденный курляндец» [7. C. 301–304]. Ф. фон Фуртенбах в воспоминаниях подчеркнул особенность Поволжского края: «Нигде в России нельзя встретить больше народностей, религий и различных сект, чем в Казанском наместничестве и, прежде всего, в Пензенской и Саратовской губерниях. От этих губерний и до Казани вдоль Волги живут люди самых разных национальностей, в братском согласии, без каких-либо обид. Здесь живут мордва, черемисы, менониты, гернгутеры, греки, татары, католики, лютеране и реформисты и, как все они могли бы подтвердить, отправляют свои религиозные обычаи свободно и без какого-либо принуждения» [7. C. 296]. О своем пребывании в г. Саранске оставил записи Ф.Ю. фон Зоден – немецкий офицер, попавший в плен 28 ноября (10 декабря) 1812 г. и в апреле 1813 г. отправленный с другими военнопленными на проживание в Пензенскую губернию. 29 июня он прибыл в г. Пензу, а затем вместе с Х.-Л. фон Йелином был определен на жительство в уездный город Саранск, где пробыл с 18 июля по 20 декабря 1813 г. [2. C. 273] «... После 14-дневного пребывания в Пензе мы, наконец, узнали о месте нашего будущего назначения. Это был уездный город Саранск. Я с одним моим товарищем был размещен в доме одной молодой мещанки. Мы встретили в Саранске человека, который владел немецким языком. Его звали Зоммер. Он родился в Курляндии и был учителем. Ему было 30 лет. Он был холост и жил здесь со своей матерью. Зоммер имел чин прапорщика и носил портупею. … Должность учителя стояла в большом почете, и можно было подняться до довольно высокого чина. Правда, Зоммер имел небольшое продвижение по службе, так как жители этой местности, исключая дворян, не испытывали потребности в немце» [2. C. 278]. По его же воспоминаниям, здесь проживали и евреи. «Как-то вечером мы все вместе в приподнятом настроении, не спеша, пили чай у доброго Зоммера. Внезапно среди нас появился один еврей и спросил доктора» [2. C. 278]. В дневнике автор зафиксировал уловку быстрого знакомства с местным населением: пленные для облегчения общения брали себе русские имена – одного называли Петром Ивановичем, другого Николаем Павловичем [4. C. 306]. В дневнике отмечались места знакомства с местным населением, их язык общения и др. Особое место отводилось торговым центрам – ярмаркам. Сюда отовсюду съезжались торговцы. Это было место встреч и для дворянства, и для сельского населения. В частности, в Краснослободском уезде, где проживали в то время пленные, было много торговых центров: большие базары проходили в заштатном городе Троицке, с. Аксёл, Базарные Дубровки, Большой Азясь, Сивинь, Пурдошки, Ельники. Сюда приезжали не только краснослободские, но и спасские, темниковские торговцы. Самые значительные базары в уезде проводились перед большими церковными праздниками – Покров, Михайлов и Николины дни, Рождество и перед масленичной неделей [4. C. 240]. Вместе с Ф.Ю. фон Зоденом в плену в г. Саранске (с 18 июля по 20 декабря 1813 г.) находился Христоф-Людвиг фон Йелин (26.02.1787 г., г. Фюрфельд (Баден) – 05.10.1861 г., г. Тюбинген) – немецкий офицер. В записках о пребывании в российском плену он указывал, что «по дороге до Краснослободска ему встречались люди разных национальностей – русские, татары, башкиры, калмыки, цыгане – в национальных нарядах, и его поразило, что цыгане не оставались на ночь в российских городах и селениях и не имели права там ночевать, но должны были и летом, и зимой жить в палатках в диком поле» [1. C. 258]. Автор отмечал хорошее знание иностранных языков дворянством и неплохие способности к обучению простого народа, причем некоторых пленных офицеров дворяне привлекали к обучению своих детей [4. C. 306]. «Русские очень способны. Особенно очень легко Этнографическое обозрение народов России 95 они усваивают иностранные языки, и находился редкий дворянин, который бы не очень хорошо говорил по-французски. Я здесь знал девушек лет двенадцати-пятнадцати, которые кроме родного языка говорили и еще довольно аккуратно писали по-польски, по-французски, по-немецки и немного по-итальянски. Также способны и простолюдины, которые вскоре научились от нас разным словам и часто просили нас сказать им, как та или иная вещь называется по-немецки» [1. C. 268]. В Мордовском крае в то время, по мнению Н.Ф. Тюгаева, проживали не только русские, мордва и татары, но и «другие национальности» [5. C. 31, 32, 33]. Например, проживание евреев в Мордовском крае зафиксировано с начала XIX в. – несколько человек работали по временным паспортам на винокуренных заводах в Инсарском и Краснослободском уездах Пензенской губернии. В 1897 г. они проживали главным образом в уездных городах: в г. Саранске – 38 человек, в г. Ардатове – 32, в г. Инсаре – 3. По социальному статусу это были торговцы, ремесленники и др. [6. C. 304] 18 сентября 1894 г. была открыта Новоусадская церковно-приходская школа в Краснослободском уезде. На этом мероприятии в числе высоких гостей присутствовал земский начальник барон Коте. Предположительно это австрийский дворянин барон Венцеслав Марквартович Коту, принявший российское подданство в 1815 г. после наполеоновских войн и имевший владения в Русских Парках и Уреях. Выводы. В исторической ретроспективе полиэтничность Мордовии складывалась на протяжении длительного периода и сопровождалась историческими событиями, происходящими как в России, так и во всем мире. Официальные истоки начала формирования полиэтничности можно отнести к 1897 г., когда впервые была проведена перепись населения, по итогам которой на территориях, входящих в Мордовский край, проживали лица различных национальностей. К 2010 г. Мордовия сформировалась как полиэтнический субъект России, что наглядно демонстрируют официальные статистические переписи населения. Литература 1. Белоусов С. В., Щукин Д. С. Мордовский край в 1812 г. Участие его уроженцев в Отечественной войне и заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. // Российская провинция первой четверти XIX в.: Мордовский край глазами участников и современников Отечественной войны 1812 г. Саранск, 2013. С. 21–268. 2. Зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера о его пребывании в плену // Российская провинция первой четверти XIX в.: Мордовский край глазами участников и современников Отечественной войны 1812 г. / сост. С. В. Белоусов, Д. С. Щукин. Саранск, 2013. С. 273–278. 3. Инжеватов И.К. Топонимический словарь Мордовской АССР: Названия населенных пунктов. Саранск, 1987. С. 124–125. 4. Лютов А.В. Краснослободские истории: очерки о г. Краснослободске и Краснослободском уезде в XVIII – XIX веках. Саранск, 2017. С. 240–306. 5. Тюгаев Н.Ф. Крепостная деревня Мордовии в конце XVIII – первой половине XIX в. Саранск, 1975. С. 31-33. 6. Шитов В.Н. Евреи // Мордовия: энцикл.: в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1. С. 304. 7. Юрченков В.А. Мордовский народ: вехи истории. Саранск, 2007. Т. 1. С. 150–250. 8. Юрченков В. А. Начертание мордовской истории. Саранск, 2012. С. 94–98. МИНАКОВА АЛЬБИНА ИРФАНОВНА – старший преподаватель кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; аспирантка отдела этнографии и этнологии, Научноисследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, Россия, Чебоксары (lilalbina@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3938-7276). Albina I. MINAKOVA THE ORIGINS OF THE ETHNOCULTURAL DIVERSITY OF THE MORDOVIAN REGION Key words: multinationality, the Mordovian Region, foreigners, population censuses, the Republic of Mordovia. 96 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 The topic of polyethnicity is at its peak of relevance today, since the vast majority of Russian territories are characterized by a multinational population. Polyethnicity of the Russian Federation is determined in the interaction of ethnic communities. One of the most striking examples of a multiethnic subject of the Russian Federation is the Republic of Mordovia. Mordovia is a prosperous ethnopolitical region of Russia, where peoples live "in peace and harmony". The purpose of the article is a comprehensive examination of the prerequisites for the appearance of representatives belonging to various nationalities in the Mordovian Region, as well as factors that influenced polyethnicity formation in the region as part of the territories that later became part of the Republic of Mordovia. Materials and methods. When writing the scientific publication, scientific and research literature was used, with the help of which it was possible to establish the historical prerequisites for polyethnicity of the Mordovian region. Thanks to the use of the regional studies method, a historical and ethnographic analysis was carried out, which gave the opportunity to identify historical aspects that influenced the formation of the region in line with ethnic diversity. Study results. The polyethnicity in the region began to take shape with the beginning of constructing recorded observation lines from the end of the XVI – the first half of the XVII century, as it follows from historical sources, where it was possible to meet foreigners among the service people. In the Mordovian Region in the specified period, the names of settlements indicate the multinational nature of the peoples living there, for example, the Lithuanians lived in the village of Litva in Krasnoslobodsky district, or another example of a settlement with a foreign population is the village of Lopatino with the Ukrainians located in Lyambirsky district. Conclusions. In historical retrospect, polyethnicity of Mordovia developed over a long period and was accompanied by historical events taking place both in Russia and around the world. The official origins of polyethnicity formation can be attributed to 1897, when a population census was conducted for the first time, according to the results of which people of various nationalities lived in the territories included in the Mordovian Region. By 2010 Mordovia was formed as a multiethnic subject of Russia, which is clearly demonstrated by the official statistical population censuses. References 1. Belousov S.V., Shchukin D.S. Mordovskii krai v 1812 g. Uchastie ego urozhentsev v Otechestvennoi voine i zagranichnykh pokhodakh russkoi armii 1813–1814 gg. [Mordovian region in 1812. Participation of its natives in the Patriotic War and foreign campaigns of the Russian army in 1813–1814]. In: Rossiiskaya provintsiya pervoi chetverti XIX v.: Mordovskii krai glazami uchastnikov i sovremennikov Otechestvennoi voiny 1812 g. [Mordovian region through the eyes of participants and contemporaries of the Patriotic War of 1812]. Saransk, 2013, pp. 21–268. 2. Zoden F.Yu. fon. Vospominaniya vyurtembergskogo ofitsera o ego prebyvanii v plenu [Memoirs of a Württemberg officer about his time in captivity]. In: Belousov S.V., Shchukin D.S., comp. Rossiiskaya provintsiya pervoi chetverti XIX v.: Mordovskii krai glazami uchastnikov i sovremennikov Otechestvennoi voiny 1812 g. [Mordovian region through the eyes of participants and contemporaries of the Patriotic War of 1812]. Saransk, 2013, pp. 273–278. 3. Inzhevatov I.K. Toponimicheskii slovar' Mordovskoi ASSR: Nazvaniya naselennykh punktov [Toponymic dictionary of the Mordovian ASSR: Names of settlements]. Saransk, 1987, pp. 124–125. 4. Lyutov A.V. Krasnoslobodskie istorii: ocherki o g. Krasnoslobodske i Krasnoslobodskom uezde v XVIII – XIX vekakh [Krasnoslobodsky stories: essays on the city of Krasnoslobodsk and Krasnoslobodsky district in the 18th – 19th centuries]. Saransk, 2017, pp. 240–306. 5. Tyugaev N.F. Krepostnaya derevnya Mordovii v kontse XVIII – pervoi polovine XIX v. [The fortress village of Mordovia at the end of the 18th – the first half of the 19th century]. Saransk, 1975, pp. 31–33. 6. Shitov V. N. Evrei [Jews]. In: Mordoviya: entsikl.: v 2 t. [Mordovia: encyclopedia: 2 vol.]. Saransk, 2003, vol. 1, 304 p. 7. Yurchenkov V.A. Mordovskii narod: vekhi istorii [Mordovian people: milestones of history]. Saransk, 2007, vol. 1, pp. 150–250. 8. Yurchenkov V.A. Nachertaniye mordovskoy istorii [Inscription of Mordovian history]. Saransk, 2012, pp. 94–98. ALBINA I. MINAKOVA – Senior Lecturer, Bauman Moscow State Technical University, Department of Law, Intellectual Property and Forensic Examination; Post-Graduate Student, Department of Ethnology and Interethnic Relations, Research Institute of the Humanities by the Government of the Republic of Mordovia, Russia, Saransk (Lilalbina@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3938-7276). Формат цитирования: Минакова А.И. Истоки этнокультурного многообразия Мордовского края // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 91–96. DOI: 10.47026/2712-9454-2023-4-291-96. ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ УДК 94:351.852.12(470.344) ББК Т3(2Рос.Чув) Е.Н. МОКШИНА ПЕРЕЛИСТЫВАЕМ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЧУВАШИИ (Рецензия на книгу-альбом: История Чувашского края в уникальных архивных документах. Чебоксары: Новое Время, 2020. 232 с.) Ключевые слова: чуваши, Чувашский край, формирование национальной государственности, Чебоксары, архив, библиотека, документ. В рецензии содержится анализ книги-альбома, подготовленного чувашскими историками-архивистами к 100-летию образования Чувашской автономной области. В ней собраны документы с 1469 по 2020 гг., выявленные в фондах архивов и библиотек России, которые отражают основные вехи истории чувашей и Чувашского края. Здесь представлено 100 наиболее значимых с историко-культурной точки зрения документов в сопровождении аннотаций и иллюстративных материалов. Рассчитано издание на широкий круг читателей, интересующихся историей чувашского народа и нашего Отечества. Книга-альбом «История Чувашского края в уникальных архивных документах» (Чебоксары, 2020) была подготовлена к изданию историками-архивистами Государственного исторического архива Чувашской Республики кандидатами исторических наук Д.В. Басманцевым, Г.В. Ертмаковой, В.Г. Харитоновой, Ф.Н. Козловым. В нее вошло 100 наиболее значимых с историко-культурной точки зрения документов, отражающих основные вехи истории чувашей и Чувашского края с 1469 по 2020 г. Читателям представлены отсканированные образы документов, дающие возможность наглядно познакомиться с подлинными историческими источниками и их особенностями. Эти документы сопровождаются краткими аннотациями и иллюстративными материалами. Собраны они были в разных федеральных и региональных архивах, архивах и отделах рукописей научных учреждений и библиотек Российской Федерации. Издание приурочено к 100-летию образования Чувашской автономной области и рассчитано на широкий круг читательской аудитории, интересующейся историей чувашского народа и нашего Отечества. В обращении к читателям книги руководитель Федерального архивного агентства, доктор исторических наук А.Н. Артизов отметил: «Убежден, что издание станет прекрасным подарком и настольной книгой для гостей и жителей края» [1. С. 5]. Открывается книга-альбом вступительной статьей директора Государственного исторического архива Чувашской Республики кандидата исторических наук Г.В. Ертмаковой «Моя Республика Чувашия». В ней автор рассказывает об основных вехах в истории региона, выделяя ключевые события. 24 июня 1920 г. стало историческим днем в судьбе чувашского народа. В этот день был принят декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР «Об Автономной Чувашской области», подписанный председателем ВЦИК М.И. Калининым, председателем СНК РСФСР В.И. Лениным и секретарем ВЦИК А.С. Енукидзе. Следующим этапом в развитии 98 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 национально-государственного строительства Чувашии стало постановление о преобразовании Чувашской автономной области в Чувашскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, принятое ВЦИК 21 апреля 1925 г. и скрепленное подписями председателя ВЦИК М.И. Калинина и секретаря ВЦИК А.С. Киселева. За 100-летний период государственности в развитии чувашского народа и республики произошли кардинальные изменения во всех сферах жизни. Экономика Чувашской Республики обладает значительным потенциалом социально-экономического роста. Ведущий вектор развития в долгосрочной перспективе определен с учетом глобальных тенденций мирового развития, связанных с переходом к постиндустриальному обществу и новым технологическим укладам, с формированием «экономики знаний», усилением интеграционных экономических процессов, а также приоритетов социально-экономической политики Российской Федерации. В республике наблюдается постоянный количественный и качественный рост показателей в области культуры, образования, науки и искусства. Делается все возможное для того, чтобы сберечь самобытность, традиции и обычаи, духовное наследие предков [1. С. 6–12]. Из отобранных составителями комплекса исторических источников 38 документов относятся к дореволюционному периоду, 43 – к советскому, 19 – к постсоветскому. Эти документы позволяют проследить основные переломные моменты из истории чувашей, рассказывают об известных личностях, вышедших из Чувашского края. Открывается книга-альбом сообщением из Никоновской летописи о первом упоминании г. Чебоксары в 1469 г. (док. № 1). Документы XVII–XVIII вв. рассказывают о событиях Смутного времени и осады Москвы в 1618 г. (док. № 8–9), крестьянских движениях под руководством С. Т. Разина и Е. И. Пугачева (док. № 12, 22), христианизации чувашей и народов Поволжья в 1740-х гг. (док. № 18), социально-экономическом положении и хозяйстве региона (док. № 7, 10, 11, 13, 14, 20), его городах (док. № 15, 23). Документы XIX – начала XX в. показывают участие населения края в Отечественной войне 1812 г., Первой мировой войне 1914–1918 гг., Акрамовском восстании 1842 г., Первой русской революции 1905–1907 гг., реализации Столыпинской аграрной реформы (док. № 24, 27, 29, 35, 65, 66). Ряд документов посвящен просветительской деятельности среди чувашей И. Я. Яковлева, зарождению здесь чувашского национального движения, а с 1906 г. начинает выходить в свет первая чувашская газета «Хыпар» (док. № 30, 34, 39). В годы Советской власти в период национально-государственного строительства чувашской автономии были приняты важные законодательные акты: «Об Автономной Чувашской области» (1920), «О преобразовании Чувашской автономной области в Чувашскую Автономную Социалистическую Советскую Республику» (1925), «О гербе и флаге Чувашской АССР» (1927), «О районировании Чувашской Автономной Социалистической Советской Республики» (1927), «О вхождении Чувашской АССР в состав Нижегородского края» (1929), Конституции Чувашской АССР 1937 и 1978 гг. (док. № 44, 48, 49–51, 58, 79). С началом нового постсоветского этапа в1990-е – 2000-е гг. был введен институт Президента Чувашской ССР (впоследствии Чувашской Республики), утверждены государственные символы и Государственный гимн Чувашской Республики, реформированы высшие и местные органы власти, созданы Государственный совет Чувашской Республики, Чувашский национальный конгресс, Обзоры и рецензии 99 Общественная палата Чувашской Республики, принята Конституция Чувашской Республики (док. № 84–86, 89, 91, 92, 96). В книге-альбоме представлено много документов, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся соотечественников, прославивших чувашский народ и республику. Среди них архитектор П.Е. Егоров (док. № 19, с. 54–55); священнослужитель-миссионер Е.И. Рожанский (док. № 21, с. 58–59); известный синолог Н.Я. Бичурин (о. Иакинф) (док. № 26, с. 68–69); зачинатель чувашской гуманитарной науки С. М. Михайлов (Яндуш) (док. № 28, с. 72–73); просветитель И.Я. Яковлев (док. № 30, с. 76–77; № 46, с. 108–109); чувашский предприниматель и меценат П. Е. Ефремов (док. № 31, с. 78–79); известный актер Н.Д. Мордвинов (док. № 32, с. 80–81); поэт К.В. Иванов (док. № 33, с. 82– 83); историк и этнограф, профессор, основатель первой чувашской газеты «Хыпар» Н.В. Никольский (док. № 34, с. 84–85); общественно-политический деятель, депутат II Государственной думы А.Ф. Федоров (док. № 36, с. 88–89); художник А.А. Кокель (док. № 37, с. 90–91); организатор музыкального образования Ф.П. Павлов (док. № 41, с. 98–99); академик-кораблестроитель А.Н. Крылов (док. № 42, с. 100–101); легендарный военачальник Гражданской войны, командир 25-й стрелковой дивизии Красной Армии В.И. Чапаев (док. № 43, с. 102–103); поэт М.К. Сеспель (Кузьмин) (док. № 45, с. 106–107); языковедтюрколог и чувашевед, член-корреспондент АН СССР Н.И. Ашмарин (док. № 54, с. 124–125); летчик-истребитель, Герой Советского Союза А.В. Кочетов (док. № 62, с. 140–141); поэт и переводчик Г.Н. Айги (Лисин) (док. № 68, с. 152– 153); актер и режиссер И.С. Максимов-Кошкинский (док. № 70, с. 156–157); оперный певец М.Д. Михайлов (док. № 99, с. 214–215); летчик-космонавт А.Г. Николаев (док. № 71, с. 158–159); поэт П.П. Хузангай (док. № 72, с. 160– 161); партийные, общественные и государственные деятели советской Чувашии С.М. Ислюков и И.П. Прокопьев (док. № 80, с. 176–177; № 93, с. 202–203); врач-офтальмолог, академик С.Н. Федоров (док. № 81, с. 178–179); балерина Н.В. Павлова (док. № 88, с. 192–193); основатель этнопедагогики, профессор Г.Н. Волков (док. № 90, с. 196–197); боксер, тренер, олимпийский чемпион В.С. Соколов (док. № 98, с. 212–213) и др. На мой взгляд, выход в свет этой замечательной, богато иллюстрированной и прекрасно изданной книги является новым шагом в познании истории чувашского народа, популяризации его национального наследия, по-настоящему ценным подарком для всех жителей нашего многонационального Отечества в ознаменование векового юбилея Чувашской национальной государственности. Литература 1. История Чувашского края в уникальных архивных документах. Чебоксары: Новое Время, 2020. 232 с. МОКШИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории России, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Россия, Саранск (enm2112@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-00027069-6563). 100 Исторический поиск. 2023. Т. 4, № 2 Elena N. MOKSHINA TURNING OVER THE PAGES OF CHUVASHIA'S HISTORY (Review of the Book-Album: The history of the Chuvash region in unique archival documents. Cheboksary, Novoye vremya Publ., 2020, 232 p.) Key words: the Chuvash, the Chuvash region, formation of national statehood, Cheboksary, archive, library, document. The review contains the analysis of the book-album prepared by Chuvash historians-archivists for the 100th anniversary of the Chuvash Autonomous Region formation. It contains documents from 1469 to 2020, found in the collections of archives and libraries of Russia, which reflect the main milestones in the history of the Chuvash and the Chuvash region. It includes 100 most significant documents from a historical and cultural point of view, accompanied by annotations and illustrative materials. The publication intended for the broadest audience of readers interested in the history of the Chuvash people and our Homeland. References 1. Istoriya Chuvashskogo kraya v unikal'nykh arkhivnykh dokumentakh [History of Chuvashia in unique archival documents]. Cheboksary, Novoe Vremya Publ., 2020, 232 р. ELENA N. MOKSHINA – Doctor of Historical Sciences, Professor, Department of Russian History, National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev, Russia, Saransk (enm2112@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7069-6563). Формат цитирования: Мокшина Е.Н. Перелистываем страницы истории Чувашии (рецензия на книгу-альбом: История Чувашского края в уникальных архивных документах. Чебоксары: Новое Время, 2020. 232 с.) // Исторический поиск / Historical Search. – 2023. – Т. 4, № 2. – С. 97–100. ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ Редакция журнала «Исторический поиск» просит авторов руководствоваться нижеприведенными правилами. 1. Авторские оригиналы представляются на бумажном и электронном носителях. Авторский текстовый оригинал должен быть пронумерован и подписан авторами на титульном листе с указанием даты. 2. К статьям, направляемым в редакцию, прилагаются: 1) заявление автора на имя главного редактора; 2) анкета авторов; 3) ходатайство научного руководителя (для авторов статей, не имеющих ученых степеней). 3. Оформление статьи: 1) классификационные индексы УДК и ББК; 2) инициалы и фамилия авторов; 3) название статьи; 4) ключевые слова; 5) аннотация статьи; 6) название статьи, инициалы и фамилия автора на английском языке; 7) ключевые слова на английском языке; 8) аннотация на английском языке; 9) текст статьи; 10) пристатейный библиографический список; 11) транслитерированный библиографический список References; 11) сведения об авторе. Авторские оригиналы подготавливаются с помощью компьютера в среде Microsoft Word (файлы типа doc). Формат бумаги А4, поля: справа и слева 4 см, сверху 4,5 см, снизу 5,7 см, от края до верхнего колонтитула 3 см, красная строка 0,75 см. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman размера 11 пт через 1 интервал. 4. Рисунки. Количество рисунков не более 4. На рисунки должны быть ссылки. Рисунки должны быть внедрены в режиме Вставка Объект Рисунок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом размера 9 пт. 5. Таблицы. Текст в таблицах набирается шрифтом размером 9 пт, заголовок выделяется полужирным шрифтом. На таблицы должны быть ссылки. 6. Список литературы. Список строится по алфавиту, записи рекомендуется располагать сначала на языке издания, в которое включен список, затем на других языках. Источники набираются шрифтом Times New Roman размера 9 пт. При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления». Ссылки на источники в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [1. C. 5]. 7. Список References. Транслитерацию русского текста в латиницу следует производить в соответствии со стандартом BSI. 8. Сведения об авторах набираются полужирным шрифтом размера 10 пт на русском и английском языках в именительном падеже по следующей форме: Фамилия, имя, отчество – ученая степень, должность, место работы, страна, город. Контактная информация (e-mail; ORCID). 9. Статьи, оформленные без соблюдения этих правил, возвращаются без рассмотрения. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначальным экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой поступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи. 10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. СОДЕРЖАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Ахмадиев Ф.Н., Востриков И.В., Шарафутдинов Г.Р. К вопросу о развитии исторического образования в России второй половины XIX – начала ХХ века ........................................................................................ 5 Маньков А.В. Симбирская периодическая печать о праздновании Дня Красной армии: к вопросу о ранней истории Дня защитника Отечества ............................................................ 13 Ткаченко В.Г. Реализация контроля делопроизводственной и архивной деятельности в приказной системе управления территориями Российского государства (на примере Чувашского края) ..................................................................................................... 24 Юзеев А.Н., Мухаметзянова И.Г. Из истории «Татарской ассоциации пролетарских писателей» (20–30-е годы ХХ века) ....... 34 Юстус Т.В. Борьба с негативными проявлениями в межнациональных отношениях среди трудящихся в 1928–1932 годах (на материалах Чувашской АССР).............................. 40 ВЗГЛЯД ИСТОРИКА: ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ Архипова Л.М. Кинематографический дискурс истории в объективе историка ................................................ 51 Ахмадиев Ф.Н., Востриков И.В., Шарафутдинов Г.Р. Мухаммед как исторический персонаж в российской науке всеобщей истории начала второй половины XIX века (на примере «Очерков…» М.Н. Петрова) ......................... 62 Дмитриева О.О., Туманова М.М., Широков О.Н. «Место памяти/lieux de memoire» как механизм сохранения исторической памяти общества ................................................................................................... 73 Пуневский Я.В. Вопросы городского самоуправления на страницах ярославских периодических изданий либеральной ориентации конца XIX – начала XX века (по материалам газет «Голос», «Северный край», «Северное слово») .................................. 82 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ Минакова А.И. Истоки этнокультурного многообразия Мордовского края ........................................................ 91 ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ Мокшина Е.Н. Перелистываем страницы истории Чувашии (рецензия на книгу-альбом: История Чувашского края в уникальных архивных документах. Чебоксары: Новое Время, 2020. 232 с.) ...................................................................................... 97 CONTENTS NATIONAL HISTORY: PEOPLE, EVENTS, FACTS Ahmadiev F.N., Vostrikov I.V., Sharafutdinov G.R. ON THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL EDUCATION IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY ................................................................ 5 Mankov A.V. SIMBIRSK PERIODICAL PRESS ABOUT THE CELEBRATION OF THE RED ARMY DAY: REVISITING THE EARLY HISTORY OF DEFENDER OF THE HOMELAND DAY ................................ 13 Tkachenko V.G. IMPLEMENTING CONTROL OF CLERICAL AND ARCHIVAL ACTIVITIES IN THE DEPARTMENTAL SYSTEM UNDER MANAGEMENT OF THE RUSSIAN STATE TERRITORIES (on the example of the Chuvash Region) ................................................................................................ 24 Yuzeev A.N., Mukhametzyanova I.G. FROM THE HISTORY OF THE "TATAR ASSOCIATION OF PROLETARIAN WRITERS" (20–30s of the century) ............................................................................................................................ 34 Yustus T.V. FIGHT AGAINST NEGATIVE MANIFESTATIONS IN INTERETHNIC RELATIONS AMONG WORKERS IN 1928–1932 (based on the materials of the Chuvash ASSR)............................................................... 40 A HISTORIAN'S VIEW: SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY Arkhipova L.M. CINEMATIC DISCOURSE OF HISTORY IN THE CAMERA GLASS OF A HISTORIAN........................ 51 Ahmadiev F.N., Vostrikov I.V., Sharafutdinov G.R. MUHAMMAD AS A HISTORICAL FIGURE IN THE RUSSIAN SCIENCE OF UNIVERSAL HISTORY AT THE BEGINNING OF THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY (on the example of "Essays ..." by M.N. Petrov) ...................................................................................... 62 Dmitrieva O.O., Tumanova M.M., Shirokov O.N. "MEMORY SPACES/LIEUX DE MEMOIRE" AS A MECHANISM FOR PRESERVING THE HISTORICAL MEMORY OF A SOCIETY ........................................................................................ 73 Punevskiy Ya.V. ISSUES OF CITY SELF-GOVERNMENT ON THE PAGES OF YAROSLAVL PERIODICALS OF LIBERAL ORIENTATION OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY (based on the materials of the newspapers "Golos", "Severny krai", "Severnoye slovo") ....................... 82 ETHNOGRAPHIC REVIEW OF THE PEOPLES OF RUSSIA Minakova A.I. THE ORIGINS OF THE ETHNOCULTURAL DIVERSITY OF THE MORDOVIAN REGION .................. 91 REFERENCES AND REVIEWS Mokshina E.N. TURNING OVER THE PAGES OF CHUVASHIA'S HISTORY (Review of the Book-Album: The history of the Chuvash region in unique archival documents. Cheboksary, Novoye vremya Publ., 2020, 232 p.) .................................................................................. 97 ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОИСК / HISTORICAL SEARCH (16+) Том 4 № 2 2023 Редактор Н.И. Завгородняя Технический редактор Н.Н. Иванова Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзоре) Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-78843 от 04.08.2020 г. Подписной индекс в каталоге Почты России «Подписные издания» ПН062 Сдано в набор 04.04.2023. Подписано в печать 19.06.2023. Выход в свет 29.06.2023. Формат 70100/16. Бумага офсетная. Гарнитура Arial. Печать офсетная. Усл. печ. л. 8,38. Уч.-изд. л. 9,75. Тираж 100 экз. Заказ № 669. Свободная цена. Адрес редакции и издателя 428015, Чебоксары, Московский просп., 15 Типография Чувашского университета 428015, Чебоксары, Московский просп., 15