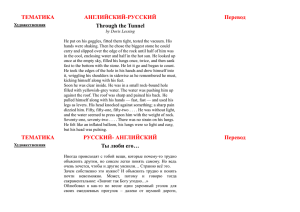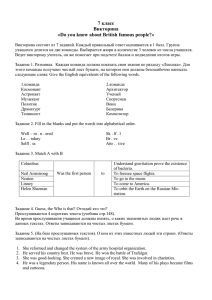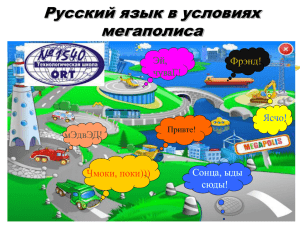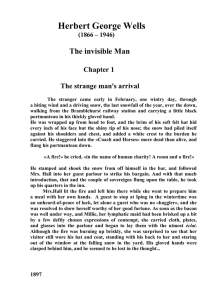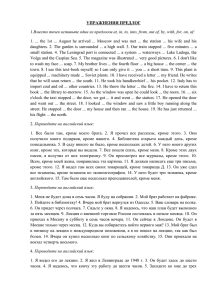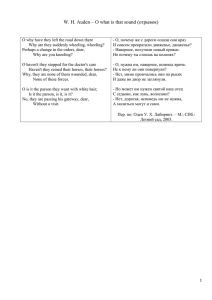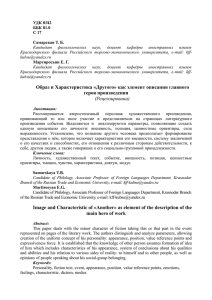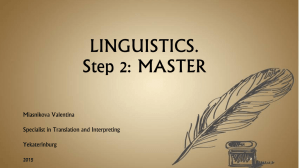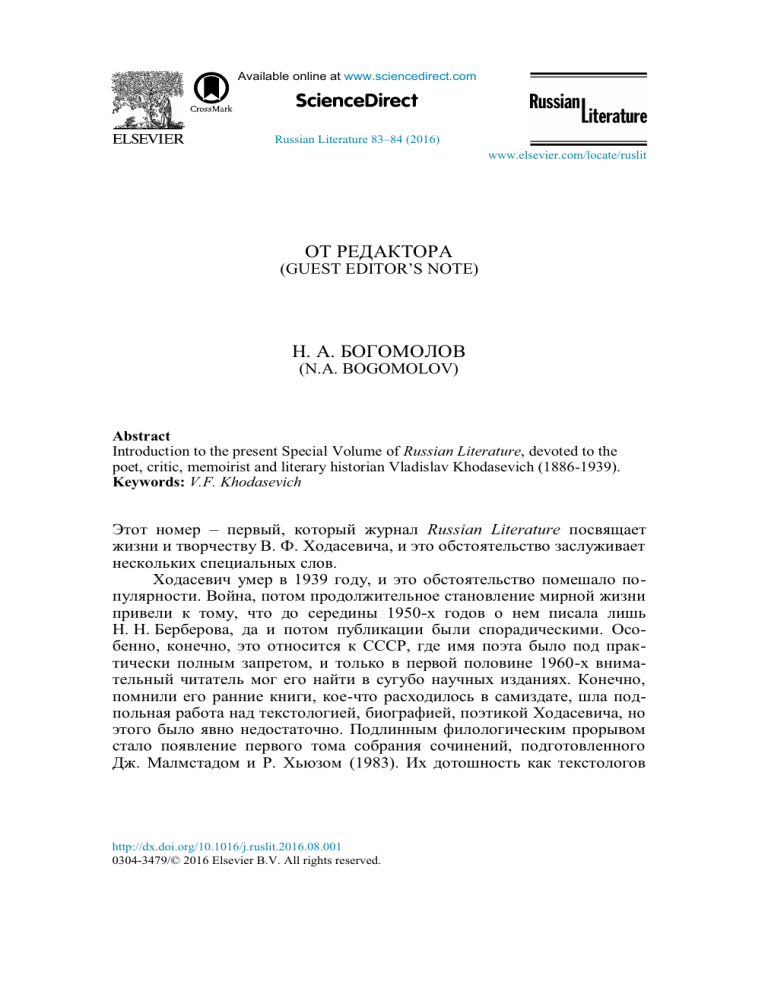
Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) www.elsevier.com/locate/ruslit ОТ РЕДАКТОРА (GUEST EDITOR’S NOTE) Н. А. БОГОМОЛОВ (N.A. BOGOMOLOV) Abstract Introduction to the present Special Volume of Russian Literature, devoted to the poet, critic, memoirist and literary historian Vladislav Khodasevich (1886-1939). Keywords: V.F. Khodasevich Этот номер – первый, который журнал Russian Literature посвящает жизни и творчеству В. Ф. Ходасевича, и это обстоятельство заслуживает нескольких специальных слов. Ходасевич умер в 1939 году, и это обстоятельство помешало популярности. Война, потом продолжительное становление мирной жизни привели к тому, что до середины 1950-х годов о нем писала лишь Н. Н. Берберова, да и потом публикации были спорадическими. Особенно, конечно, это относится к СССР, где имя поэта было под практически полным запретом, и только в первой половине 1960-х внимательный читатель мог его найти в сугубо научных изданиях. Конечно, помнили его ранние книги, кое-что расходилось в самиздате, шла подпольная работа над текстологией, биографией, поэтикой Ходасевича, но этого было явно недостаточно. Подлинным филологическим прорывом стало появление первого тома собрания сочинений, подготовленного Дж. Малмстадом и Р. Хьюзом (1983). Их дотошность как текстологов http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.001 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 2 Н. А. Богомолов сочеталась с комментаторской тщательностью и глубокими знаниями. А когда к столетию поэта его имя стало вновь упоминаемым на родине, возникла возможность объединить усилия ученых разных стран. Характерно, что первая монография о Ходасевича (Д. Бетеа, 1983) была опубликована в США, потом книги выходили в Германии и Франции, в России же – лишь в 2010-е годы. Представлялось важным напечатать тексты, откомментировать их, описать отдельные эпизоды биографии и отдельные аспекты творчества, и лишь потом создавать книги. В середине 2010-х годов окончательно пришла пора синтеза. Конечно, еще остаются материалы, которые необходимо ввести в научный оборот, конечно, остается поле для частных исследований, однако нынешнее состояние дел, как кажется, уже позволяет создавать обобщающие работы. Но они все равно будут окружены множеством статей и публикаций. И данный номер Russian Literature претендует на то, чтобы дать один из образцов такого жанра. В нем соединены обобщающие работы, исследования частных проблем, отдельные публикации и разыскания. Дa будет позволено надеяться, что это не последний номер, который Russian Literature посвящает Владиславу Ходасевичу. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 3–20 www.elsevier.com/locate/ruslit CHODASEVIČ’S PUŠKIN ROBERT P. HUGHES Abstract An overview of Khodasevich’s studies of Pushkin and his contemporaries, as collected in Pushkin i poety ego vremeni (Vols. 1-3; Berkeley, 1999-2014). Includes an attempt at defining Khodasevich’s critical method, which was often devoted to determining the angles of refraction of autobiography in Pushkin’s works. Keywords: V.F. Khodasevich; A.S. Pushkin; Pushkin Studies; Research; Criticism Between 1913 and his final illness and death in 1939, Vladislav Chodasevič published upwards of 120 articles, miscellaneous notes, reviews, essays and chapters of an unfinished biography dealing with Aleksandr Puškin. 1 The present writer thought it appropriate to collect and publish – in a first, trial edition – the corpus of these writings as a contribution to the commemorations of the bicentennial in 1999 of Puškin’s birth. It was decided additionally to include Chodasevič’s essays on Puškin’s contemporaries, both Russian and Polish, as related material; his critical appreciations of them almost invariably involved a context supplied by Puškin’s life and literary production. These two categories were supplemented by a limited number of his essays on poetics and aesthetics, since these too were so frequently based on the example of Puškin. The first of three volumes did indeed appear in 1999; in the event, the project was completed only in 2014. 2 What follows below is an attempt to highlight the landmarks in Chodasevič’s career as a Puškin scholar. 3 They emerged gradually as we under- http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.002 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 4 Robert P. Hughes took an investigation of his research, writings and publications about his great progenitor while compiling the contents and annotations for a comprehensive edition of Chodasevič’s puškinistika. Chodasevič himself kept a general register (not always completely accurate) of his publications in newspapers and other periodicals after his emigration to Berlin in 1922 and, thereupon, Paris in 1924. This “chronicle” (authoritative so far as it goes) – although incomplete and devoid of items published before his émigré period – greatly facilitated the establishing of a bibliography of his Puškin studies. As is inevitable with texts from so many disparate sources, many of them from ill-edited daily newspapers and periodicals, multiple textological difficulties cropped up. 4 Yet, another problem arose: it soon became clear to the editor that to annotate even minimally and to establish the context for each item, it would be necessary to dive into the flood of scholarship and multifarious publications in the periodical press surrounding the Puškin centennial of 1899. This meant delving into publications of primary material, periodicals and the flow of memoir writing that were published in the latter half of the 19th and the beginning of the 20th centuries. Chodasevič, the poet-scholar as ardent Puškin enthusiast, was to the extent possible an avid reader of such publications. Gradually, a good deal of primary material located in institutional and personal archives came to our attention, and it was used to construct the background of the writing and publication of many of the component parts of the collection. Additionally, an attempt was made to outline the often bitter polemics which were so often provoked by Chodasevič’s methodologies and his views of the critical writings of others. We were aided in this effort by another partial listing compiled by Chodasevič, ‘About me’ (‘Obo mne’). Of quite particular value were the surviving scrapbooks of Chodasevič’s journalism on deposit in the B.I. Nikolaevskij collection in the archives of The Hoover Institution, Stanford. (N.N. Berberova compiled a preliminary inventory of these publications in the 1980s.) Chodasevič’s devotion to Puškin was manifest as early as his second collection of poetry, Happy Little House (Sčаstlivyj dоmik, 1913): the title is drawn from an early Puškin lyric, and the poetry employs images and intimate, domestic subject matter in common with the more restrained verse of his predecessor. (The poetry of this volume represents a move away from the decadent/symbolist aesthetic of his youth.) It was while producing the texts eventually to be collected in his third book of poetry, Way of the Grain (Putem zerna, 1920), that he immersed himself in Puškin. That period saw his first substantial and enduring contribution to Puškin interpretation, ‘Puškin’s Petersburg Tales’; it was published belatedly in Apollon early in 1915. The imaginative study traces the metaphysical underpinnings of a cluster of works Puškin set in St. Petersburg. This ground-breaking essay establishes a paradigm within which a number of disparate texts – ‘Little House in Kolomna’, Chodasevič’s Puškin 5 ‘Bronze Horseman’, ‘Queen of Spades’ (with ‘Secluded Little House on Vasil’evskij’, the Hoffmannesque tale attributed to Puškin and V.P. Titov,5 providing the key) – could be read and analyzed. It may well be regarded as a pioneering conceptualization of the model of the “Petersburg text” in Russian literary criticism. 6 This publication brought him to the attention of M.O. Geršenzon, the leading intellectual historian and authority on the culture of the Puškin period, an older man with whom the young poet and critic soon established close personal ties (Chodasevič 1993). He adopted Geršenzon’s methodology of attentive, “slow reading” (“медленное чтение”) of a literary text, and from it learned to spot the repetitions which may characterize a writer’s oeuvre and which lead to a nuanced, contextualized and historicized perception of a particular text or set of texts. At about the same time, Chodasevič made the acquaintance of another, much younger Puškin scholar, M.A. Cjavlovskij, at meetings of a Puškin Circle (Moscow, 1915-1917);7 he later (1922) participated with him in the Puškin Commission (organized by the “Obščestvo ljubitelej rossijskoj slovesnosti”). This was to develop into a friendly and fruitful relationship. After moving to Petrograd, he also worked briefly with such established specialists as B.L. Modzalevskij, M.L. Gofman, N.O. Lerner, and P.E. Ščegolev at Puškin House (Puškinskij Dom). His innate independence and non-academic inclinations soon came to the fore, however, and he relinquished his aspirations to professional scholarship with the remark (in a letter to Geršenzon, 24 July 1921) that “Things aren’t working out for me at Puškin House. I respect, understand [them] – but the place reeks a bit of carrion.” 8 In the meanwhile, Chodasevič’s solitary studies had already proven vastly more productive. An early example was the editorial matter in his edition of the “Little Tragedies”, published in a mass-circulation paperback series in 1915.9 This proved to be an early indication of his preoccupation with the poet’s dramas. It was in relation to these texts that he first demonstrated his penchant for “biographical” reading, underscoring in these dramatic works elements that could be linked directly to events in Puškin’s life. 10 It should be pointed out that he never reduced the text to this aspect, but he did see it as one key to interpreting the drama at hand, be it ‘Miserly Knight’, ‘Stone Guest’, ‘Mozart and Salieri’, or ‘Rusalka’. In general, the views and methodologies he formulated in this period laid the foundations for his work in the years to come. In addition to editorial work (for the mass-circulation “Universal’naja biblioteka”) and reviews of scholarship, two essays dealing with notoriously problematic texts, ‘Egyptian Nights’ and the ‘Gabrieliad’, were published in 1918-1919. The first is a thoroughly professional appraisal of Valerij Brjusov’s proposed conclusion to Puškin’s unfinished text.11 The second draws convincing parallels between the allegedly “blasphemous” text and the spirit 6 Robert P. Hughes of the Italian Renaissance (especially its visual arts, so vivid in his memory of a three-month sojourn in Northern Italy before the war) and is a compelling and original view of Puškin’s youthful jape. He revisited these texts and refined and sharpened his analyses and commentary in subsequent years. Like so many of the intellectual class, he found himself unmoored by the revolutions of 1917-1918. Even his preoccupation with Puškin was an uncertain anchor: “At home / I gulped some tea, sorted out the papers / that had piled up all week across the table, / and sat down to some work. But for the first / time in my life, not Mozart and Salieri / nor The Gypsies could alleviate my thirst.”12 In the brief period when he determined to work with the new post-revolutionary regime, Chodasevič found himself – contrary to expectation – lecturing on the life and works of Puškin to young proletarian writers in the Literary Studio of the Proletkul’t.13 The Moscow period of his life and writing ended late in 1920 with his move to Petrograd. Recognition of Chodasevič’s growing erudition and acknowledgement of him as an astute reader of Puškin – and, briefly, influential public intellectual – became more widely apparent in February 1921. During the month, he appeared with such figures as Aleksandr Blok, Fedor Sologub, Michail Kuzmin, Boris Ėjchenbaum, Jurij Tynjanov, and Ščegolev at a series of commemorations of Puškin’s death. 14 His solemn address, ‘Shaken Tripod’, on these several occasions, resonated with those who feared the loss of Puškin’s legacy in post-1917 Russian culture. With a backward glance at Dmitrij Pisarev’s scurrilous treatment of Puškin, he predicts a “second eclipse” in the new “post-Petrine, post-Petersburg” era of Russian culture, after the wars and revolutions that have altered and coarsened Russian perceptions and sensibilities irrevocably. With the loss of Puškin’s language and his discriminating tact, Russia’s future consciousness will inevitably be trivialized under the new regime, he pessimistically predicts. Chodasevič foregrounds what he calls Puškin’s “stereoscopic depths”, and he pleads for reestablishing the unique “balance and multilayeredness” so brilliantly demonstrated by the ‘Bronze Horseman’, with its eight parallel tasks so exquisitely held in equilibrium throughout the course of the text. It was also at this time that Chodasevič first began work on a biography of Puškin, commissioned surely because of his growing renown as poet, critic and even scholar. The project was abandoned when he decided to emigrate.15 (As we shall see, Chodasevič – as biographer-in-waiting – was to be frustrated over and over again He eventually had to admit defeat.) Before leaving Petrograd, however, he collected and published what he considered his best pieces, a small collection of literary essays under the modest title of Articles on Russian Poetry (Chodasevič 1922). This little volume contained his most accomplished Puškin studies to date and included ‘Puškin’s Petersburg Stories’, ‘On “The Gabrieliad”’ and ‘Shaken Tripod’. They were supplement- Chodasevič’s Puškin 7 ed by a revised version of an earlier research piece about Puškin’s contemporary Countess Rostopčina and the first of his multiple reflections on Deržavin; alongside Puškin (but to a lesser extent) these two figures proved to be of abiding interest for Chodasevič. Ambivalent about his national or even ethnic/confessional identity (culturally Russian, Polish and Jewish by heritage), Chodasevič left Russia forever on 22 June 1922, carrying in his meager baggage an edition of Puškin in eight volumes.16 Puškin was to provide the “homeland” of his consciousness for the remainder of his life. It was not long before he declared: “[…] Stepson to Russia; but to Poland – / what could I claim of Poland’s love? / My homeland? Those collected works / in eight small volumes – all I have. // […] You must touch your native dust: / but wherever I may be / a sacred pair of Moorish lips / whispers the fabled land to me” (Chodasevič 2014b: 157). For some two years he was in almost constant motion, from Berlin to Prague and Sorrento (in the entourage of Maksim Gor’kij), to Paris, to London, to Dublin; with N.N. Berberova, he settled ultimately in Paris in April 1924. Improbably, he was able to continue research and to write a host of large and small pieces on Puškin that he intended for a collection to be published in commemoration of the 125th anniversary of Puškin’s birth. Chodasevič was on the alert for what he called “autoreminiscences”, a search for chains of recurrent motifs, phraseologies and sound patterns in the whole range of Puškin’s oeuvre, particularly the lyric poetry and Evgenij Onegin. His goal was to determine the extent to which the repetitions might contribute to an interpretation of the texts thus encompassed. Meanwhile, one extensively researched piece intended for the collection turned out to be highly controversial. 17 His lengthy study of Puškin’s unfinished drama ‘Rusalka’ employed a biographical model that many critics were to deem outmoded in the new era of formalist hegemony. This reading of Puškin’s unfinished drama employs biographical criticism to illuminate the text to an extent that was only obliquely implied in some of his earlier critical writings. ‘“Rusalka”. Assumptions and Facts’ first appeared in the leading “thick” journal of the emigration, the Paris quarterly Sovremennye zapiski (1924, Vol. XX).18 In one sense, the study indulges in the then-fashionable preoccupation with Puškin’s amorous exploits.19 To establish the autobiographical matrix, Chodasevič initiates his study with an account of Puškin’s quarrel in 1824 and subsequent relationship with his father and its refraction in the ‘Miserly Knight’ five years later. In like manner he posits a thesis that ‘Rusalka’ rests on Puškin’s brief love affair with a peasant girl, her consequent pregnancy and eventual drowning by suicide of herself and the child. At some length, he sketches in earlier treatments of the theme of the doomed water sprite; and adduces further evidence from several lyric poems (landscapes drawn from the earlier poetry) and from one of the “Songs of Western Slavs” to reach his conclusions about the text. 8 Robert P. Hughes The culminating moment of the first period of his Puškin studies then was the ill-fated publication of Puškin’s Poetic Economy (Pоėtičеskое chоzjajstvо Puškinа; Chodasevič 1924; Chodasevič 1999b: 107-374). Much of this material had already been printed, primarily in the Berlin journal Beseda, for which Chodasevič served as literary editor. The book itself appeared in Leningrad, even while the author was attempting to find a home abroad, shuttling among various Russian émigré communities. The Leningrad Poėtičeskoe chozjajstvo Puškina was to contain 52 “notes”, “заметки”, as Chodasevič initially conceived it; however, only 42 found their way into the volume. What was eventually printed was so bowdlerized that its author publicly renounced any responsibility for the volume in an aggrieved “letter to the editor”. This document in actual fact details only a small number of the most egregious lapses.20 We were able hypothetically to reconstruct the author’s original intentions on the basis of previous periodical publication, on the marginalia and additions inserted in Chodasevič’s own copy of the published book, and on information contained in his correspondence with his second wife, Anna Čulkova, whom he left behind at the House of Arts in Petrograd when (accompanied by Berberova) he emigrated two years earlier. His principal motivation for publishing in Soviet Russia was to provide financial support for Čulkova and her son. The truncated, imperfectly realized book was subjected to a good deal of derogatory criticism for its physical aspect, in large part resulting from the lack of direct participation on the part of its author in any aspect of its production except providing the raw material from which it was almost criminally fashioned. Chodasevič was cut off from direct contact with the publisher; much of the book’s content was arbitrarily selected; there was no competent copy-editing or proofreading. What remained contained a good number of valuable observations about the life and works: a study of “blasphemy” in Puškin; appearances of the poet’s Muse; the nature of inspiration; the image of Napoleon; the poet’s relationships with friends and family; above all, the strings of rhymes, auto-reminiscences, repeated locutions, words, and phrases to be found in the oeuvre. However, in the main, it was Chodasevič’s biographical reading of ‘Rusalka’ that provoked a cascade of negative responses. Geršenzon’s tempered rejection of his thesis (in a private letter) was mild compared to what followed. Despite its faint praise to the effect that “some observations are very apt”, Boris Tomaševskij’s ironic review – especially of the study of ‘Rusalka’ – which was published on the pages of Russkij sovremennik 21 drew Chodasevič’s especial ire. His spirited response and Tomaševskij’s rejoinder appeared in the next and final issue of the journal. 22 Indeed, the most contested of the book’s chapters (hacked into 18 separate sections by the publisher, who also omitted the title) was the study of ‘Rusalka’. In Pečat’ i revoljucija, G.O. Vinokur declared that “At times it Chodasevič’s Puškin 9 seems that the author is simply mocking Puškin’s certified biographers, that his book is nothing but a parody.”23 Also weighing in were V.V. Veresaev, M.L. Gofman, and – eventually and most authoritatively – P.E. Ščegolev. The latter, an erstwhile colleague at Puškin House, to Chodasevič’s chagrin, published (three years later) hitherto unknown evidence concerning the peasant girl in question; in actual fact, she survived Puškin himself. There is no denying that the book as published was a typographical disaster. Above and beyond that, Chodasevič was an émigré, known to be unsympathetic to the Bolshevik regime; he was already at least unofficially persona non grata in Soviet Russia, 24 and this may well have contributed to the belittling views of his book. Further, Russian Formalism was the critical method then in ascendance, and his biographical approach seemed to fellow scholars old-fashioned and little more than simple “factology”. Moreover, it was clear that Chodasevič (through no fault of his own) had imperfect knowledge of an episode in Puškin’s biography which was all-important for his reading of ‘Rusalka’. The mistake was to haunt him for years to come, and he returned defensively to the incident on several occasions. Ščegolev’s revelations, he declared in 1928, “[…] will force me to rework my article thoroughly in many ways. But, its main point – about ‘Rusalka’ as a drama inspired by a peasant love affair and retaining superficial traces of that affair – remains in force. The actual events were not quite what I assumed, and the ‘angles of refraction’ in the drama are not quite the same. So what? Does my construct collapse [completely]?” He thought not.25 Nevertheless, the experience resulted in his making adjustments in his methodology. Taken as a whole, Puškin’s Poetic Economy together with Chodasevič’s earlier Puškin studies set forth desiderata that the critic would continue to address in the years to come. In the words of a perceptive reviewer of our first volume, his continuing concerns were: “[…] the need to establish an authoritative textological basis for any correct understanding of Puškin; the inadequacy of Formalism as an approach to his art; and Puškin’s place in Russian culture. Beyond any of these, however, Chodasevič was interested in the psychology of the creative process. He firmly believed that a poet’s work was intimately connected to his life, and that this was true of Puškin in the highest degree. Indeed, his rallying cry as a Pushkinist – “Пушкин автобиографичен насквозь” (“Puškin is autobiographical throughout”) – can be found more than once in pages of this volume (118, 383). For Chodasevič this meant that Puškin’s most important life experience lay at the foundation of all his work. He was, to be sure, well aware of the role that literary convention played in shaping a work, but he did not believe that literature was powered by literature. Life as it revealed itself to a poet’s creative intelligence was the engine of poetic creation. Literary convention and technique were the tools a poet deployed to give body to his insight into experience. They were lenses through which he refracted the light of his vision. 10 Robert P. Hughes ‘Psychology’ meant uncovering the angle of refraction to reveal the process by which Puškin’s life became Puškin’s art.”26 In June 1924, in connection with observances of Puškin’s birth, Chodasevič was invited to deliver a lecture at the Sorbonne entitled ‘On Reading Puškin’. (It was thereupon published in the same issue of Sovremennye zapiski as the first publication of his study of ‘Rusalka’.) It is his profession de foi as a Puškin scholar, and it contains his definition of poetic inspiration: “For Puškin poetry arises not out of arbitrary imagination, not out of abstract philosophizing. At the foundation of poetry lies an impression, i.e. material drawn by inspiration out of reality.” Such a view was and remained the basis for Chodasevič’s “biographical” approach to Puškin. Chodasevič focused on understanding Puškin’s creative psychology, and he was ever concerned with reconstructing the immediate experience underlying the text. It was perhaps inevitable that his approach would be denigrated by those whose allegiance had switched to the formalist method. However, Chodasevič held the firm belief that form and content, like life and art, were inseparable. At this point, Chodasevič was exhausted and disillusioned. There was a brief hiatus in his Puškin studies after his appearance at the commemorations at the Sorbonne and the debacle over Puškin’s Poetic Economy. Now a permanent resident of France, he worked briefly as assistant literary editor for the Paris émigré newspaper Dni. In February 1927, he finally secured a regular position as contributor to the newly-founded newspaper Vozroždenie (Renaissance; Paris, 1927-1940). It was here that he published the lion’s share of his literary criticism for the rest of his career. Even as a “literary journalist” he maintained the highest possible standards, depending reliably on his vast and ever-growing knowledge and his commonsensical attitude toward the literary text and relevant biographical information. Above all, he was a stylist of extraordinary skill, calibrating his crisp and chiselled language to the sensibilities of the ordinary cultivated and cultured reader, while simultaneously practicing strict scholarly integrity. In addition to his almost weekly journalism, he published a few substantial research articles and theoretical statements, chiefly on the pages of Sovremennye zapiski. At times he complained of the every-day drudgery (“поденщина”) of being forced to exist as a writer in this fashion, but he persevered out of sheer necessity. Henceforth, in addition to trenchant reviews of Puškin scholarship both in Soviet Russia and in the emigration and to crucial episodes in the writer’s biography (and often their links to specific literary texts), he produced studies of the biographies and writings of the Puškin pléiade, others among his contemporaries, and critiques of bibliographic research and surveys. As a literary journalist and popularizer, he was not above paying attention to Puškin’s amorous adventures (piquant entertainment for his readers), but always thoroughly researched and conceptualized. Already in Puškin’s Poetic Economy, he had included at least one serious note (45) in which he documented Chodasevič’s Puškin 11 the youthful Puškin’s carefree delight in cuckolding other men – to later tormented fears of himself suffering the same fate. After the resounding success – with both readers and critics – of his biography of Gavrila Deržavin (published serially in Sovremennye zapiski in 1929-1930 and as a separate book the following year by the journal’s publishing house),27 he was persuaded by the same institution to take up a biography of Puškin, the project on which he had begun work over ten years earlier. Now, at the beginning of the 1930s, he thought it feasible to make another start. He completed and, in 1932-1933, published only three chapters – “Beginning of Life”, “Literature”, and “Youth” – of a newly conceptualized, full-length biography. Again he was forced to abandon the project for a myriad of reasons: lack of access to primary documents; difficulty in acquiring the latest scholarship produced in Moscow and Leningrad; not least, bouts of bad health. Nor had he the wherewithal to sustain himself financially while doing the necessary research and writing. A letter to Berberova (who had recently parted with him after their ten years together, but with whom he remained on friendly terms), 19 July 1932, is heartrending: “My health is tolerable. Mood – cheerful-hopeless. I think the latest outbreak of illness was caused by my farewell to Puškin. Both him and poetry I’ve now given up for lost [поставил крест]. Now I have nothing. Indeed, it’s time to calm down and try to squeeze out of life those small delights it can provide – and in sum give up for lost all proud plans.” 28 Despite all, he was quite extraordinarily prolific in the final decade and a half of his life, the period from 1925 through the end of 1938. He published in periodicals some 75 separate pieces dealing directly or indirectly with Puškin (Chodasevič 2001, 2014). Among them were valuable essays on the poets belonging to Puškin’s generation, fellow writers like Venevitinov, Vjazemskij, Tjutčev, Griboedov, Del’vig, Gnedič, again Rostopčina (reworked from earlier biographical essays), Gogol’, Denis Davydov. The present editor/annotator of these pieces soon discovered in his efforts to contextualize such pieces – as well as those directly concerning Puškin – that Chodasevič often relied initially on information drawn from Lerner’s chronology Trudy i dni A.S. Puškina and Veresaev’s popular, oft-reprinted compendium of fragments about the poet’s life, Puškin v žizni. Citations, some revealed, others hidden, could often be tracked down from bibliographical data in these sources. Another important starting point for his work turned out to be editions of Puškin’s correspondence, diaries and other such material, especially the volumes so meticulously edited and annotated by B.L. Modzalevskij, whose annotations were chock-full of pertinent information. It was never a simple matter of citation, for Chodasevič was a master at shaping a coherent narrative – with psychologically credible underpinnings – out of the objective facts gleaned from these sources. Of great scholarly value are Chodasevič’s exemplary, well-informed evaluations (often spread over two issues of Vozrožde- 12 Robert P. Hughes nie) of studies like those of the Marxist historian D.D. Blagoj’s Klassovoe samosoznanie Puškina and the same critic’s remarks on Arzamas: or of the capacious Puškin volume of Literaturnoe nasledstvo, Vols. 16-18. Items like these were surely unexpected by readers of a daily newspaper, but we now see that they possess enduring critical and documentary value. A characteristic essay from 1932, ‘On Pushkinism’ is perhaps his clearest and most passionate plea to set about producing a full and accurate edition of Puškin’s collected works, an enterprise never completed in his lifetime – or thereafter. This was a theme that surfaced again and again as he reviewed various editions of Puškin published to mark the bicentennial of 1937. He was not averse to writing what might be termed “human interest” items, such as explorations of Puškin’s exploits as a “Don Juan” or his addiction to gambling; these were often undertaken with a seriousness of purpose and were the result of as much research as he could manage. He devoted a good deal of attention to a gallery of female figures in the poet’s life, both malign (the Countess Nessel’rode, Idalija Poletika) and more benign (the Countess Kutuzova-Tizengauzen-Chitrovo and her daughter Dolly Fiquelmont; or, the denizens of Trigorskoe, members of the Osipov-Vul’f family). The poet’s “first friend”, I.I. Puščin, and his nanny and muse, Arina Rodionovna, were subjects of affectionate pen-portraits. More peripheral figures like Avrora Šernval’, Aglaja Davydova and her daughters (an original research project, using French resources), and Anna Olenina (whose diary was first published in French) were likewise objects of his discerning scrutiny. In the long run-up to the commemorations of 1937, he published a series of psychologically acute portraits of Natal’ja Gončarova-Puškina, including wellconsidered details of the poet’s ultimate duel. He unearthed in the Paris archive of Prince I.S. Gagarin the correspondence between Prince P.V. Dolgorukij and Gagarin, essential documents for any discussion of the aftermath of the poet’s final and fatal encounter. He translated from the Polish and published in Russian the memoirs of a certain Julij Strutynskij, which contained important information about the encounters between Puškin and Nicholas I. This latter was part and parcel of his activities as a purveyor of Pushkiniana emanating from Poland (where he also published in the language of his ancestors). Of quite extraordinary value are his discussions of the major Polish romantic poets and their relationships to Puškin. He was ever prepared to render his scholarly predecessors their due, and a series of memorial obituaries marked their passing. (These necrologies are included within relevant notes in the commentaries of the three volumes here under survey.)29 Of some considerable interest is his laudatory account of Puškin’s first editor and biographer, P.V. Annenkov, which he also published appropriately in 1937. At about the same time, he respectfully took issue with Father Sergij Bulgakov about the meaning and role of ‘The Prophet’ in the life and work of Puškin and in Russian culture as a whole. In Chodasevič’s Puškin 13 displays of his sharply contentious manner, Chodasevič subjected several Puškin publications of Sergej Lifar’ and M.L. Gofman to exacting critiques. Their resentful responses were immediately forthcoming (and are reprinted in our annotations). Chodasevič always returned to the fray, both privately and publically, his polemical nature brilliantly on display. The foregoing brief and incomplete survey provides only a superficial view of the range of his interests and expertise in the study of Puškin. To the multiple items that appeared over his own name should be added a considerable number of accounts and evaluations of committees, publications, events (both in Soviet Russia and in the émigré community) and reviews – of, for example, biographies from Jurij Tynjanov and Georgij Čulkov – that Chodasevič, writing as Gulliver, published in his weekly Literary Chronicle. (Many of these are included in an appendix in Chodasevič 2014: 355-391.)30 He also prepared a scrupulous reader’s edition of Evgenij Onegin (with elegantly evocative illustrations by M.V. Dobužinskij), which was issued by the publishing house Petropolis in the jubilee year. 31 Thus, during the last four years remaining to him, 1935-1939, his writings about Puškin (Chodasevič 2014a) were frequently focused on the centennial of Puškin’s death in 1937. For a brief time he participated in the multiple observances and activities surrounding the event, from serving on various committees to preparing and publishing accounts of a number of commemorative enterprises. However, it was not long before he was disillusioned by the pettiness and what he deemed the vulgar tastes and reduced expectations of the majority even of his literary colleagues. He was for the moment energized when he was given yet another opportunity to bring to fruition his vision of writing a “life and works” of Russia’s supreme poet. His reputation as a great admirer of Puškin had led to the invitation late in 1921 (through the good offices of Geršenzon) to write a Puškin biography for the Sabašnikov Publishing House. As we have noted, however, he succeeded only in sketching out the first three chapters – carrying Puškin only through his meeting with the Raevskij family – before his emigration. Renewed plans to complete the project in the early 1930s were frustrated. By 1934-1935, however, he had a bulging portfolio of publications – and a burnished reputation as a Puškin specialist. With the imminent 1937 centennial in view, the émigré Puškin Committee commissioned from him a new biography. At the very beginning of 1935, an announcement – over the signatures of I.A. Bunin, M.A. Aldanov, Professor N.K. Kul’man, and others – concerning a subscription to the unwritten biography appeared in émigré newspapers. It contained (rather florid) words testifying to his qualifications and the general esteem in which the proposed biographer was held: “V.F. Chodasevič, a student of Puškin as poet and man, has long been working on such a biography. V.F. Chodasevič’s works on Puškin and his own poetic production clearly reveal that he is not 14 Robert P. Hughes only a specialist and connoisseur in this particular area, but a writer from whom readers are most justified in expecting a heartfelt and artistic revelation of the image of Puškin.” We have no evidence that a sufficient number of subscriptions were ever in place to warrant the expectations of the Committee, but Chodasevič did set out finally to complete the biography he had for so long in mind. 32 Extant is a partial bibliography he compiled for it (Chodasevič 2014a: 392-393).33 In the event, however, he managed to revise and republish (in the Riga newspaper Segodnja) only two of the three chapters that had already appeared in 1932-1933 as part of the project instigated by Sovremennye zapiski. Undoubtedly the same absence of the necessary source material, his punishing schedule as contributor to Vozroždenie, and his ever-worsening health forced him to abandon the project once and for all. Even more important, it seems to this writer, is that he was dispirited by a host of plans that he deemed inappropriate for observances of the centennial (some of them in the hands of Lifar’ and Gofman). He wanted no part of them, and made every effort to avoid enmeshing himself in the debates and quarrels around the event in the émigré community. In 1935, it had been of course a foregone conclusion that he would be invited to join the Puškin Committee organized in Paris (then the capital of Russians abroad). He very soon relinquished the appointment, repelled by the politics and bickering within the group, few of whose members he considered competent to serve. He quite obviously came to the conclusion that he could offer more as a critic and observer than as an organizer of commemorative events and publications. The biography project was shelved once and for all. He was encountering the same “deafness” to Puškin that he had foreseen in his formal address back in Petrograd in February 1921.34 In partial compensation to subscribers who waited in vain for the longpromised biography of Puškin, he prepared a corrected, revised and truncated edition of “notes” that had first appeared under the covers of Puskin’s Poetic Economy in 1924; to these were added a small number of articles published in the interim. This collection was released under the title of About Puškin (О Puškinе)35 in an edition of 500 copies by the Berlin publishing house Petropolis. A rather muted, even pathetic coda to his effort is provided by a limited response from critics, chiefly from a few admirers and disciples like A.L. Bem, V.V. Vejdle and Jurij Mandel’štam. As if in one voice, they all expressed deep regret that the biography was not forthcoming. Just a few short months later, a saddened and even embittered Chodasevič died, his potential seemingly unfulfilled. Writing for Sovremennye zapiski in 1928, Vejdle had observed that “Chodasevič is connected to Puškin as he is to no other Russian poet, and no other Russian poet is as connected to Puškin.” His profound attachment led him to engage Puškin not only as a poet, but also as a scholar-critic. Our goal was to make his unique contri- Chodasevič’s Puškin 15 bution to the “science of Puškin” (“наука o Пушкине”), in his words, comprehensively available to the scholarly community. It is a body of work that amply displays the perceptions and sensibilities of one gifted poet – and discerning, attentive reader – when brought to bear on his illustrious predecessor. NOTES 1 2 3 4 5 6 7 Items first published in the periodical press were twice incorporated into two essay collections, Puškin’s Poetic Economy (1924; Pоėtičеskое chоzjajstvо Puškinа) and On Puškin (1937; О Puškinе). Several substantial items published under a pseudonym, Gulliver (used at times jointly with N.N. Berberova in a weekly Literary Chronicle), particularly between 1935 and 1939, should be added to the overall rough count (Chodasevič 2014: 355-391). Chodasevič (1999b; 2001; 2014a). N.A. Bogomolov has insightfully traced the trajectory of Chodasevič’s Puškin studies, documenting the perceptible switch from an involvement with his creative work to more specifically biographical studies, as he adapted himself to conditions within the émigré world. See Bogomolov (2014). Analogous problems surfaced with regard to Puškin’s texts. Not all versions used by Chodasevič correspond to later, more authoritative scholarly editions. An attempt was made to normalize the citations from Puškin in accordance with Puškin (1994), the expanded reprint of the standard 17-volume edition published by the Academy of Sciences, 1937-1959. Chodasevič’s review of N.O. Lerner’s republication of the tale in 1913 was his first published piece about Puškin (Chodasevič 1999b: 11-13). A slightly revised version of the Apollon essay served as the introduction to his edition of the Puškin-Titov tale for “Universal’naja biblioteka” (No. 1129), 1915. The essay was thereupon reprinted in Chodasevič (1922). The concept and critical methodology theorized, preeminently, in: Toporov (2003: 7-118). In certain respects, Chodasevič’s methodologies here and later may be seen as anticipating semiotic theories developed in the 1960s and 1970s. Further about this “Puškinskij kružok” see N.A. Bogomolov’s ideally annotated publication of excerpts from the diary of the bibliophile Ivan Rozanov, ‘Chodasevič v dnevnike I. N. Rozanova (1913-1923)’, in the present volume of Russian Literature. During much of this period Chodasevič was on friendly terms with Rozanov, and the latter’s diary is replete with basic new information about the former’s life and literary activities. 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Robert P. Hughes “С Пушкинским Домом не ладится у меня. Уважаю, понимаю – но мертвечинкой пахнет” (Chodasevič 1993: 26). This passage is followed by some particularly sarcastic characterizations of his colleagues at the institution. Puškin (1915). Chodasevič’s introduction, annotations and additional materials are reproduced in Chodasevič (1999b: 44-56, 401-402). This proved to be a life-long obsession. One of the last articles he ever drafted (April-June, 1938) dealt with the autobiographical underpinnings of Puškin’s ‘Stone Guest’; it remained in manuscript. On the text and its antecedents, see Hughes (Ch’juz 2011: 287-297). Transcribed text reprinted: Chodasevič (2014a: 398-401). Brjusov as mentor, friend and foe is an important figure in Chodasevič’s life and career. See his incisive but jaundiced memoirs published upon the elder poet’s death in 1924 and later (Chodasevič 1996: 19-50, 274-282.). In 1920, he published a discerning review of Brjusov’s controversial edition of Puškin’s lyric poetry (1999b: 82-87). Chodasevič (2014b: 62-67). “Дома / Я выпил чаю, разобрал бумаги, / Что на столе скопились зa неделю, / И сел работать. Но, впервые в жизни, / Ни ‘Моцарт и Сальери’, ни ‘Цыганы’ / В тот день моей не утолили жажды.” This poetic narrative, ‘2nd November’, written at the end of May 1918, depicts a Moscow street scene, people emerging from shelter after revolutionary disruptions, and the lyric persona’s arrival home after a visit with Geršenzon. The lecture notes survive and are reproduced in Chodasevič (1999b: 449-463). See Hughes (1992: 204-213). These few pages survive in two copies, uncorrected and corrected; see Chodasevič (1999b: 467-486). Puškin (1902-1905). This was one of the then standard editions, the work of P.A. Efremov, in one of its several printings. Another item with him – in the toe of his companion’s galoshes! – was the manuscript of a poem that contained lines written just before departure: “My honest, joyful task of making psalms, / in which I serve each moment all day long, / your wonder-making genius teaches me, / and my profession is your magic tongue. // And I may stand before your feeble sons / priding myself at times that I can guard / this language, handed down from age to age, / with a more jealous love for every word” (Chodasevič 2014b: 93). The “wonder-making genius” is clearly Puškin. Already abroad in Berlin in 1923, on the advice of Geršenzon he turned to Cjavlovskij when he hit a roadblock while working on the article. The letters (Chodasevič 1999a: 293-345) are particularly revealing of his acerbic views of contemporary Puškin studies and provide revealing glimpses of his own approach to Russia’s premier poet. (I wish to thank G.V. Obatnin for first drawing my attention to these letters in the Cjavlovskij collection at IMLI, Sankt-Peterburg.) Chodasevič’s Puškin 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 17 About Chodasevič’s publications in Sovremennye zapiski and his dealings with the editors of the journal, see Malmstad (2012: 255-440). Several examples of such studies dating from this period were collected and republished in the 1990s: Ljubovnyj byt puškinskoj ėpochi (Ed. S.T. Ovčinnikova), Moskva, 1994; Utaennaja ljubov’ Puškina (Ed. R.V. Iezuitova and Ja.L. Levkovič), Sankt-Peterburg, 1997. The facsimile and transcription of one such letter (a copy sent to Cjavlovskij) is reproduced in Chodasevič (1999b: 415-418). Another version was actually published in Beseda, the Berlin journal edited by Gor’kij, Chodasevič, et al. Publication of the letter in Soviet Russia was thwarted by the closing of Russkij sovremennik in 1924. Russkij sovremennik, 1924, No. 3, pp. 262-263, 281-283 (cited in Chodasevič 1999b: 439-441). Ibid., No. 4, 281-283 (cited in Chodasevič 1999b: 441-443). This may well have been his last publication in Soviet Russia in his lifetime. Vinokur (1924, 6: 222-224). Chodasevič made his first public declaration that he would not return to Soviet Russia in November 1925, responding to an attack on him in the Leningrad Žizn’ iskusstva. It is of some interest that his thesis was referenced in S.M. Bondi’s extensive commentary (Puškin 1935: 610-638) – which also rehearsed a good deal of the material that Chodasevič had used in his study – in the authoritative edition of Puškin’s dramatic works. This volume 7 was the only volume ever published of the officially cancelled Polnoe sobranie sočinenij (Akademija Nauk SSSR). Peter Scotto, review of Chodasevič (1999b) (2001: 554-556). Chodasevič (1931). Cited in Chodasevič (2001: 461-462). Compare his letter to M.M. Karpovič, August 29, 1932: “I’ve already given up on the Puškin biography: I figured that, at the pace at which I could write, it would be finished in 30-40 years. And I can’t write any faster than that, since I now have to churn out [валять] three pieces a month in order to feed myself. Non vivimus ut edamus – but if you don’t eat, you’ll give up the ghost. I eat so that doesn’t happen, but getting food takes so much energy and time that there’s not enough of either one or the other” (462). A project analogous to these several obituaries and perhaps to Chodasevič’s final published book, Nekropol’ (Chodasevič 1939; Chodasevič 1996: 17-175) was an essay to be entitled ‘Tutankhamen’, which was abandoned in its planning stages (see Bogomolov 2011: 201-205). It was to be a discussion of the numerous Puškin scholars who met untimely, early deaths and of their aborted scholarly plans. The curse of illness and early death predicted for anyone opening the tomb of the Egyptian pharaoh extended metaphorically to Puškin scholars; see note 32 below for a prescient ironic instance. About the pseudonym “Gulliver” and regarding “his” views of Tynjanov’s earlier biographical novel concerning Griboedov, see Bogomolov (2011: 260- Robert P. Hughes 18 31 32 33 34 35 265). It seems to the present writer that Gulliver’s “chronicles” relating to Puškin most likely belonged solely to Chodasevič and not to his co-author, N.N. Berberova. It is a matter of considerable regret that the text was published without commentary by its eminently capable editor, something – slightly more restrained – for the Russian reader on the model provided by Vladimir Nabokov (Chodasevič’s younger admirer) in his voluminous commentaries for his English-language Eugene Onegin. In expectation of the commission, he wrote to V.V. Rudnev in December 1934: “[…] it seems that I’ll again and definitively be sitting down to a biography of Puškin. […] However, patience, patience, patience… I keep reminding myself of that as soon as it comes to Puškin’s biography. Nevertheless, I hope to finish it, if I don’t die beforehand – for Puškin is none other than a Russian Tutankhamen” (Malmstad 2012: 361-363). First published in Jangirov (1999: 226-227). See also: Chodasevič (2014a: 392-393). Jangirov (1999: 181-228). Chodasevič’s disappointments at the time were expressed most vividly in these letters to A.L. Bem (Prague), the contemporary émigré Puškin scholar, for whom he had the greatest respect. See also Livak (2002: 391-456). See I.Z. Surat’s exemplary commentary in Chodasevič (1997, 3: 560-590). The same scholar has also published a useful monograph about Chodasevič’s writings on Puškin (Surat 1994; Surat 2009: 427-520). LITERATURE Bogomolov, N.A. 2011 Sоprjažеniе dаlеkоvаtych. О Vjačеslаvе Ivаnоvе i Vlаdislаvе Chоdаsеvičе. Mоskvа. 2014 ‘Puškinizm V.F. Chodaseviča na rodine i v ėmigracii’. L’émigration russe et l’héritage classique (Modernités russes, 14). Lyon, 127135. Chodasevič, V.F. 1922 Stаt’i о russkоj pоėzii. Pеtrоgrаd. 1924 Pоėtičеskое chоzjajstvо Puškinа. Lеningrаd. 1931 Dеržаvin. Pаriž. 1937 О Puškinе. Bеrlin. 1939 Nеkrоpоl’. Bruxelles. 1993 ‘Pеrеpiskа V. F. Chоdаsеvičа i M. О. Gеršеnzоnа’. Publikаcija I. Аndrееvоj. De Visu, № 5, 12-51. 1996 Nеkrоpоl’. Vоspоminаnija. Litеrаturа i vlаst’. Pis’mа B.А. Sаdоvskоmu. Prеdislоviе i kоmmеntаrii N. Bоgоmоlоvа, primеčаnija k pis’mаm i zаključitеl’nаja stаt’ja I. Аndrееvоj. Mоskvа. Chodasevič’s Puškin 19 1996-1997 Sоbrаniе sоčinеnij v čеtyrеch tоmаch. Rеd. V.P. Kоčеtоv. Mоskvа. 1999a ‘Pis’mа k M.А. Cjavlоvskоmu’. Publikаcija R. Ch’juzа. Russkаja litеrаturа, 2, 214-230. 1999b Puškin i pоėty еgо vrеmеni. I: Stаt’i, rеcеnzii, zаmеtki 1913-1924 gg. Pоd rеd. R. Ch’juzа. Oakland. 2001 Puškin i pоėty еgо vrеmеni. II: Stаt’i, rеcеnzii, zаmеtki 1925-1934 gg. Pоd rеd. R. Ch’juzа. Oakland. 2014a Puškin i pоėty еgо vrеmеni. III: Stаt’i, rеcеnzii, zаmеtki 1935-1939 gg. Pоd rеd. R. Ch’juzа. Oakland. 2014b Selected Poems. Translated by Peter Daniels. Introduction by Michael Wachtel. New York. Hughes, Robert P. 1992 ‘Pushkin in Petrograd, February 1921’. Cultural Mythologies of Russian Modernism: From the Golden Age to the Silver Age. Berkeley, Los Angeles. Hughes, Robert (Robert Ch’juz) 2011 ‘Zametki Chodaseviča o “Kamennom goste”’. Pаrаbоly. Studies in Russian Modernist Literature and Culture. In Honor of John E. Malmstad. Frankfurt am Main. Jangirov, R.M. 1999 ‘Puškin i puškinisty. Pо mаtеriаlаm iz čеšskich аrchivоv’. Nоvое litеrаturnое оbоzrеniе, № 39. Livak, Leonid 2002 ‘Poėtičeskoe chozjajstvo Chodaseviča’. Diaspora: Novye materialy, vyp. 4. Pariž-Sankt-Peterburg. Malmstad, J.E. 2012 ‘“Žurnаl’nаja rаbоtа i vprоgоlоd’ nе kоrmit”: N.N. Bеrbеrоvа i V.F. Chоdаsеvič’. “Sоvrеmеnnyе zаpiski”, Pаriž, 1920-1940. Iz аrchivа rеdаkcii. Mоskvа. Puškin, A.S. 1902-1905 Sоčinеnija. V 8 t. Pоd rеdаkciеj P.А. Еfrеmоvа. Sankt-Peterburg. 1915 Drаmаtičеskiе scеny (Univеrsаl’nаja Bibliоtеkа, № 1015). Mоskvа. 1935 Pоlnое sоbrаniе sоčinеnij. T. 7: Drаmаtičеskiе prоizvеdеnija. Lеningrаd. 1994 Pоlnое sоbrаniе sоčinеnij. V 17 t. Mоskvа. Scotto, Peter 2001 Review of Chodasevič (1999b). Slavic and East European Journal, Fall (45.3). Surat, I.Z. 1994 Puškinist Vlаdislаv Chоdаsеvič. Mоskvа. 2009 Včеrаšnее sоlncе. О Puškinе i puškinistаch. Mоskvа. Toporov, V.N. 2003 ‘Peterburg i “Peterburgskij tekst russkoj literatury” (Vvedenie v temu)’. Peterburgskij tekst russkoj literatury. Sankt-Peterburg. 20 Robert P. Hughes Vinokur, G.O. 1924 ‘Poėtičeskoe chozjajstvo Puškina’ (Review). Pečat’ i revoljucija, № 6. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 21–39 www.elsevier.com/locate/ruslit CHODASEVIČ AND LERMONTOV IRENA RONEN Abstract Both Lermontov and Khodasevich were greeted by critics as having deep ties to the lyre of the Russian classical poets and both were also appreciated for the distinctiveness of their individual artistic voices. The name of Lermontov is rarely mentioned in connection with Khodasevich, nevertheless, the impact of his poetics on Khodasevich deserves our attention. Keywords: V.F. Khodasevich; M.Iu. Lermontov; Poetry; Literary Criticism In 1923 in the Russian émigré literary journal Contemporary Papers, Andrej Belyj published an article on the poetry of Vladislav Chodasevič entitled ‘“The Heavy Lyre” and Russian Lyrics’. Belyj wrote: We greet “The Heavy Lyre”, as a bright, marvellous gift, as though someone handed to us a notebook with yet unknown verses of Baratynskij, Tjutčev. In accordance with the lyre of our classical poets, the lyre of the poet conveys self-awareness that rises in spirit. In the lyrics of Chodasevič there is a frequent emergence of manner and style of the coryphaeus of poetry: it is not a stylization, a stylization is similar to a grimace, which is easy to recognize: there, in the poetry of Chodasevič, the familiar gestures of Baratynskij, Tjutčev, Puškin have ripened; those poets leaned over the deep trembling thoughts of a poet who lives 1 among us. http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.003 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 22 Irena Ronen Almost a hundred years earlier, in 1841, the well-known Russian literary historian and critic S. Ševyrev gave his account of Lermontov’s first collection of poetry: “When you listen carefully to the sounds of this new lyre […] you will hear in turns the sounds of Žukovskij, Puškin, Kirša Danilov, Benediktov: it is noticeable not only in the sounds, but even in their creative forms; sometimes there are phrases similar to Baratynskij, Denis Davydov; sometimes one can recognize the manner of foreign poets […] in the poetry of Mr. Lermontov we hear the reverberations of lyres familiar to us, and we read them as if they were reminiscences of Russian poetry from the last twenty years.”2 Considering Chodasevič’s strong connection to Russian classical poetry, it is surprising that the correspondences between the works of Chodasevič and Lermontov barely attracted the attention of critics. 3 To a certain degree this can be explained by the admiration Chodasevič had for Puškin throughout his life. A prolific critic, he dedicated only one paper to Lermontov, written on the anniversary of the poet’s death. Among Russian émigré writers, Lermontov’s place in Russian literature became a topic of polemics, especially between Chodasevič and Adamovič, who was one of the most influential critics in the eyes of the younger generation of Russian poets.4 Nevertheless Chodasevič was influenced by Lermontov on the thematic level as well as in the later dark outlook of his poetry; this he sometimes blended with Puškin’s lighter approach to gloomy or sinister themes. The critical appraisal of Lermontov by Russian Symbolists and the following generation (Chodasevič’s) was formed to a large degree by Vladimir Solov’ev’s speech ‘Lermontov’ (1899), published in 1901.5 Solov’ev was particularly harsh regarding Lermontov’s character – Lermontov’s “demonic” nature or as he called it: his “demoniac Übermensch”. In Solov’ev’s view, Lermontov was a precursor of the feelings, ideas and sometimes actions that would later become widespread, and which he called “Nietzschean”. 6 Solov’ev emphasized the duality in Lermontov. According to Solov’ev, “the strains of resentment of an almost demonic nature” were already noticeable in Lermontov, first in his childhood and then in the expressions that “signified the sensitivity and the tenderness of his soul”. Solov’ev insisted that Lermontov delighted in doing evil and commented, “to derive pleasure from doing evil is already a sign of inhumanity”. 7 The influence of Solov’ev’s critical view concerning Lermontov is quite apparent in the way Chodasevič writes about Lermontov in his own article. 8 He acknowledges in Lermontov “a firm, unshakable propensity for evil”: “Lermontov’s heroes, tortured by their own passions, are longing for storms and when they give in to repentance, they receive it like a new passion. They don’t want to be merely human. They want ‘to surpass [humans] in good and in evil’” (p. 442).9 Still, it should be pointed out that Chodasevič, unlike Solov’ev, in accusing Lermontov of indulging in vice (in the “demon of uncleanliness”), Chodasevič and Lermontov 23 regards Lermontov’s turpitude as something that belongs to “a passion of cosmic proportions, the ugliness and evil in the world” (p. 444). Chodasevič draws attention to the difference between Lermontov and Puškin. Puškin was not interested in projecting upon his reader the feelings of his anti-heroes; according to Chodasevič that would be the opposite of Puškin’s intentions, whereas Lermontov aimed to precisely cross this boundary, and bring his reader along with his remorseless hero. Lermontov not only places his reader in the centre of what is happening; he forces him to sense all the wickedness, depravity and rage of his protagonists: “Lermontov systematically injects his reader with a burning poison of passions and sufferings. The reader’s peace of mind is as intolerable for him as his own serenity. He makes his reader’s soul join with the soul of his character in order to experience the drudgery of passion. And as the drudgery becomes more frightening, Lermontov’s tongue becomes more articulate: he, it seems, takes pleasure in it. The best examples of this are in some pages in The Hero of Our Time (especially ‘Bėla’), ‘Chadži Abrek’, ‘The Villain’ and [...] ‘Izmail-Bej’” (p. 442). Chodasevič’s remarks regarding Lermontov are especially telling in the context of his own poetics. In his essay on Chodasevič entitled ‘Quiet Hell: On the Poetry of Chodasevič’ Gleb Struve writes: “Chodasevič does not accept the world per se, its harmony, its virtual makeup (in that deep down he is different from Puškin, Tjutčev, and even Baratynskij) […] the poetry of European Night is terrifying and eerie, this is the real poetry of decomposition, decay, smoldering. The poet condemns the vulgarity of the world, and yet he swims in it with some sort of salacity.” 10 If we take a closer look at what Chodasevič emphasizes in his criticism of Lermontov, we notice that he devotes special attention to Lermontov’s early poem ‘The Villain’, which is definitely not his best. The significance of this poem for Chodasevič is in Lermontov’s propensity from an early age for finding excitement in feelings “of seductive and evil nature”. For Chodasevič Lermontov lets himself be seduced by “the beauty that is ugly”. In ‘The Villain’, the son falls in love with his beautiful step-mother and kills his father. “The hero of ‘The Villain’ was seduced by love, and became a murderer,” writes Chodasevič. He adds: “And yet, doesn’t love have a divine face? Thus the greatest and the most dreadful evil, death, insidiously takes a delightful image. Within beautiful and blooming nature, it [death – I.R.] shows its image as though it were a part of nature. The ‘priceless’ gift for the Terek breathes the vapor of decomposition: Труп казачки молодой, С темно-бледными плечами, С светло-русою косой. Грустен лик ее туманный, 24 Irena Ronen Взор так тихо, сладко спит, А на грудь из малой раны Струйка алая бежит.” (p. 444) The body of a young Cossack woman With pale-dark shoulders With a fair braid. Her misty face is sad Her gaze is quietly, sweetly asleep, And a red trickle from a small wound Keeps running down her breast. Let us turn our attention to the verses of Chodasevič himself. We notice the presence of motifs that are akin to Lermontov’s. In his poem ‘An Mariechen’ Chodasevič describes a maiden working in a Berlin bar whose life is predictable, boring, routine. The narrator imagines the possibility of a different, exciting, and deadly path for the girl. Уж лучше бы – я еле смею Подумать про себя о том – Попасться бы тебе злодею В пустынной роще, вечерком. Уж лучше в несколько мгновений И стыд узнать, и смерть принять, И двух нетлений, двух растлений Не разделять, не разлучать. Лежать бы в платьице измятом Одной, в березняке густом, И нож под левым, лиловатым, Еще девическим соском. (‘An Mariechen’; p. 260) Wouldn’t it be better – I barely dare To think about it to myself – Were you to be caught by a villain In a deserted grove, sometime one evening. Wouldn’t it be better in just a few moments To learn shame, to take death And not to split, not to separate Two decays, two seductions. Chodasevič and Lermontov 25 To lie down in a wrinkled dress All alone in a birch wood And a knife in, under your left, slightly violet Still girlish nipple. Vladimir Vejdle has noticed here an allusion to a poem by Puškin, ‘Dorožnye žaloby’ (‘Road Complaints’): “Иль в лесу под нож злодею / Попадуся в стороне” (“Or in the woods I’ll get stabbed with a knife by a villain”).11 As we see, here again Chodasevič combines Puškin with Lermontov. He uses Puškin’s motif of a possible violent death, but unlike Puškin’s light-hearted humorous resolution, Chodasevič regards a violent death as an alternative to a dull, unexciting life, which is more fitting with Lermontov’s theme of the tragic beauty of death. In the verses of Chodasevič one does not find Lermontov’s strong sentiments of rage and indignation. His “demonism” is presented as a protecting and liberating measure, yet what he describes is a murder. Here is another example: Не верю в красоту земную И здешней правды не хочу. И ту, которую целую, Простому счастью не учу. По нежной плоти человечьей Мой нож проводит алый жгут: Пусть мной целованные плечи Опять крылами прорастут! (“Ne verju v krasotu zemnuju...”; p. 234) I don’t believe in terrestrial beauty And I have no need for worldly truth. And the one whom I kiss I don’t teach her about simple happiness. My knife makes a red thread On tender human flesh Let those shoulders kissed by me Grow their wings again. (“I don’t believe in terrestrial beauty”) This murder is driven by a resolve to save the victim from the “quiet hell” of a mundane existence. Снег навалил. Всe затихает, глохнет. Пустынный тянется вдоль переулка дом. 26 Irena Ronen Вот человек идет. Пырнуть его ножом – К забору прислонится и не охнет. Потом опустится и ляжет вниз лицом […] А люди черными сбегутся муравьями Из улиц, со дворов и станут между нами. И будут спрашивать, за что и как убил, – И не поймет никто, как я его любил. (‘Sumerki’; p. 218) Snow is piled up. Everything is getting quiet, is dying away, An empty house stretches itself along the alley. Here is a man walking. If one stabs him with a knife – He would lean against the gate and wouldn’t gasp. Then he would lower himself and lie down on his face […] And people would run to him like black mosquitoes From the streets and from the courtyards and stand between us. And they would keep asking why and how did I kill him – And no one would understand, how much I loved him. (‘Twilight’) The theme of longing for death also finds its place in the poetry of Chodasevič: “For a long time I have been yearning for death / Like you in the evening hours yearn for sleep” (“Sweet maidens, believe it or not…”). Sometimes this theme takes the form of a sudden, stormy impulse: Быстрая тень со стены сорвалась […] Счастлив, кто падает вниз головой: Мир для него хоть на миг – а иной. (“Bylo na ulice polutemno...”; p. 261) A swift shadow slipped away […] Happy is the one who falls head down: Even for only a moment, The world for him is different. (“The street was semi dark...”) A similar sentiment is expressed in the poem ‘To the Aviator’: Что тебе до заоблачной ясности? На земной, материнской груди Отдохни от высот и опасностей – Упади – упади – упади! Chodasevič and Lermontov 27 Ах, сорвись, и большими зигзагами Упади, раздробивши хребет. (‘Aviatoru’; p. 183) Why should you care for heavenly serenity? Let yourself rest on earthly, motherly breasts From heights and dangers – Fall to the ground – fall – fall! Ah, break, and with big zigzags Fall, breaking your spine. In the poem “I’m still waiting; for someone to be crashed into” (‘Iz okna’, 2; ‘From the window’, 2) the speaker finds himself waiting in anticipation for a car accident, which for him symbolizes the approaching Apocalypse: Все жду: кого-нибудь задавит Взбесившийся автомобиль, Зевака бедный окровавит Торцовую сухую пыль. И с этого пойдет, начнется: Раскачка, выворот, беда, Звезда на землю оборвется, И станет горькою вода. (‘Iz okna’, 2; p. 209) I’m still waiting for someone to be crashed into By a car gone mad, A poor onlooker would bleed Over the edge of the pavement’s dry dust. And that will be the beginning: Buildup, eversion, calamity, A star will fall on the earth, And water will grow bitter. (‘From the Window’, 2) Chodasevič abstains from a direct challenge to God, a reproach that is indicative for Lermontov. An example is in Lermontov’s poem ‘Blagodarnost’’ (‘Gratitude’): 28 Irena Ronen За всe, за всe тебя благодарю я […] Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 12 Недолго я еще благодарил. I thank you for everything […] Do arrange it in such a way, that henceforth I wouldn’t be thankful to you for too long. According to Chodasevič Lermontov oversteps his bounds in this poem: “Those lines, it seems, are the most sacrilegious in the whole of Russian literature: in them the impudence of the contents is underlined by the offensive simplicity of the form” (p. 439). Yet, in his own poetry, especially in the period of European Night, Chodasevič’s disappointment with life is expressed quite strongly. Всe высвистано, прособачено. Вот так и шлепай по грязи. Пока не вздрогнет сердце, схвачено Внезапным треском жалюзи. (“Net, ne najdu segodnja pišči ja...”; p. 262) (Everything is rotten, gone to the dogs. Keep splashing in the mud Until your heart would shudder, seized By the sudden snapping of a venetian blind. (“No, I won’t find nourishment today…”) Instead of Lermontov’s indignant protestations, Chodasevič resorts to a rather non-confrontational but bitter complaint: Так вот в какой постыдной луже Твой День Четвертый отражен!... Не легкий труд, о Боже правый, Всю жизнь воссоздавать мечтой Твой мир, горящий звездной славой И первозданною красой. (‘Zvezdy’; p. 294) This is how, in a shameful puddle, Your Fourth Day is reflected!.. It is not an easy task, O good Lord , To recreate all life by daydream Your world, glowing with starlit glory And pristine beauty. (‘The Stars’) Chodasevič and Lermontov 29 Like Lermontov and the Russian Symbolists before him, Chodasevič could not avoid what Solov’ev called Lermontov’s “Nietzschean” contempt of traditional values, his tendency, to use Chodasevič’s paraphrase of Lermontov, “to surpass men in good and in evil”: Здесь, на горошине земли, Будь или ангел или демон. А человек – иль не затем он, Чтобы забыть его могли? (‘Gostju’; p. 205) Here, on this tiny ball of earth, Be either angel or demon. But to be human – isn’t it To be forgotten? (‘To a Guest’) In regard to beauty Chodasevič shows a deliberate restraint. “Beauty” as such, beautiful artifacts, do not please him anymore: По залам прохожу лениво. Претит от истин и красот. Еще невиданные дива, Признаться, знаю наперед. (‘Chranilišče’; p. 268) I walk idly through the museum’s rooms. Sickened by the truisms and beauty. I admit, I already know in advance Those yet unseen marvels. (‘The Depository’) In his essay on Lermontov Chodasevič describes the mistrust Lermontov felt towards beauty as something misleading and insidious, full of corruption and passion. The “beauty of ugliness”, as Chodasevič calls it, is not a romantic flourish; it is “an acknowledgment of a passion of cosmic proportion, of ugliness and evil in the world” (p. 444). In Lermontov’s poetry, according to Chodasevič, beauty can lead to death. For Chodasevič – the critic – “that beauty of ugliness” is an evil temptation. However, Chodasevič – the poet – could not resist similar temptations. In his own poetry he created numerous compelling images of an ugly and repulsive nature. И в этой жизни мне дороже Всех гармонических красот – 30 Irena Ronen Дрожь, побежавшая по коже, Иль ужаса холодный пот. (“Vesennij lepet ne raznežit…”; p. 250) And more than any harmonious beauties I cherish in this life A shiver, running over my skin Or the cold sweat of horror. (“The babble of spring would not soothe…”) The Romantic notion of the “Byronic hero” gets a new twist in Chodasevič’s verse, which combines Pushkinian interpretation on this theme with allusions to Lermontov. The Muscovite described by Puškin “in Harold’s cloak” is transformed into a visitor from St. Petersburg in Chodasevič’s poem ‘The Mouth of the River Belka’: Я петербургские туманы Таю любовно под плащом. (‘Bel’skoe ust’e’; p. 221) I tenderly hide under my cloak The mists of St. Petersburg. In Chodasevič’s speaker one can recognize the features of Lermontov’s demonic hero but they are represented in a subtle way through an ironic comparison of himself, a tempter of the village beauties, to a fallen angel: И к девушкам, румяным розам, Склоняясь томною главой, Дышу на них туберкулезом, И вдохновеньем, и Невой […] И тот, прекрасный неудачник С печатью знанья на челе, Был тоже – просто первый дачник На расцветающей земле. Сойдя с возвышенного Града В долину мирных райских роз, И он дыхание распада На крыльях дымчатых принес. And bending my weary head Towards the rosy-cheeked maidens I breathe on them tuberculosis And inspiration, and the Neva […] Chodasevič and Lermontov 31 And that one, the alluring loser With a stamp of knowledge on his forehead Was also only a first vacationer On the earth that had started to flower. Descending from the towering City To the valley of heavenly, peaceful roses He, too brought the breath of decay On his steel-grey wings. Like Lermontov’s demonic heroes, who appear in both male and female forms,13 Chodasevič creates a counterpart to his hero, a village temptress – Lida, a reduced and harmless variation of Lermontov’s Tamara. И, говорят, не мало пятен – Разгулу отданных ночей – На женской совести у ней. (‘Lida’; p. 220) And, as they say, there is a good deal of stains On her female conscience – Nights given to revelry. Lermontov’s Tamara is full of contrasts: “Прекрасна как ангел небесный, / Как демон, коварна и зла” (“Beautiful like a heavenly angel, / Devious and evil like a demon”). In his image of Lida Chodasevič also applies a set of contradictions, but in tune with his ironic version of the theme, they are rather built on wordplay: “Высоких слов она не знает, / Но грудь бела и высока” (“She doesn’t know high-flown words, / But her breast is white and high”). In Lermontov’s poem the outcome of the conflict takes place at daybreak. In ‘Lida’ the heroine also appears in the early hours of the morning: Но мило мне ее явленье, Когда на спящее селенье Ложится утренняя мгла: Она проходит в отдаленьи, Едва слышна, почти светла, Как будто Ангелу Паденья Свободно руку отдала. (p. 220) But I’m pleased by her appearance When the morning haze covers A still sleeping village She walks at a distance 32 Irena Ronen Almost soundless, almost bright As if she would give her hand freely To the Fallen Angel. In contrast to these light-hearted, nearly humorous verses the poem that follows it in the collection The Heavy Lyre, ‘The Automobile’, touches a different chord. Once again Chodasevič reinterprets the demon/angel mythologeme of Puškin and Lermontov,14 primarily Puškin’s ‘Demon’ and Lermontov’s ‘My Demon’. Similarly to Puškin’s work, where the positive, virtually idealistic view on life is nearly shaken by the appearance of a sceptic, Chodasevič’s poem consists of two opposing parts. Its first part is devoted to the appearance of an automobile that has white, angelic wings. Everything that enters its lights is beautifully transformed. The second automobile with its black wings does the opposite, it brings skepticism and disillusionment, and it poisons and destroys life. However in Puškin’s poem, all that occurs happened in the past, when the poet was young and, presumably, vulnerable, whereas Chodasevič is closer here to Lermontov’s interpretation of the theme – Lermontov’s Demon exists in his present and even in his future: И гордый демон не отстанет, Пока живу я, от меня, И ум мой озарять он станет Лучом чудесного огня; Покажет образ совершенства И вдруг отнимет навсегда И, дав предчувствия блаженства, Не даст мне счастья никогда. (‘Moj demon’ [1831]; p. 273) And as long as I would live A prideful Demon wouldn’t let me alone, And he would illuminate my mind With a magnificent blaze; He would show me an image of an ideal And would take it away forever And he would give me hope for bliss But he would never give me happiness. In his poem Chodasevič describes his current state of mind, similarly to Lermontov’s writing, but unlike Lermontov’s his outlook is drastically divided. Chodasevič and Lermontov 33 Здесь мир стоял, простой и целый, Но с той поры, как ездит тот, В душе и в мире есть пробелы, Как бы от пролитых кислот. (p. 226) The world that stood here was simple and complete, But since that time, another one started running, There are cracks in my soul and the world, Like those made by spilled acids. By the time he began working on the verses that were included in the collection European Night, the images of a terrifying, ugly and vulgar earthly existence became predominant in the poetry of Chodasevič. Occasionally, very rarely, he still wrote poems in which he would take delight in the surrounding world and in the memories of his past, as he did in his masterpiece ‘The Sorrento Photographs’. Vladimir Solov’ev perceived in Lermontov “the capacity to transfer in his feelings and observations the boundaries of everyday life and to be able to capture the transcendental side of life and human relationship”.15 In the lyrics of Chodasevič the same inclination to capture the “transcendental side” of life reaches a great intensity. Большие флаги над эстрадой, Сидят пожарные, трубя. Закрой глаза и падай, падай, Как навзничь – в самого себя […] Как всадник на горбах верблюда, Назад в истоме откачнись, Замри – или умри отсюда, В давно забытое родись. И с обновленною отрадой, Как бы мираж в пустыне сей, Увидишь флаги над эстрадой, Услышишь трубы трубачей. (“Bol’šie flagi nad ėstradoj…”; p. 238) The large flags are over the platform, The firefighters trumpet sitting. Close your eyes and fall down, fall. Into yourself – as if you are falling down on your back […] 34 Irena Ronen Like a rider on a camel’s bumps, Lean back in torpor, Fade away – or die from here, Be reborn into the forgotten past. And with a renewed delight, Like a mirage in this desert, You will see the flags over the platform, You will hear the trumpeters’ trumpets. (“The large flags are over the platform…”) Among the verses of Lermontov Solov’ev singles out the poem ‘The Dream’. He praises Lermontov for his prophetic spirit as well as for his mastery of composition. “Lermontov,” writes Solov’ev, “saw not only the dream of his dream, but also the dream that appeared in his dream – which means the dream in a cube. The fact remains, Lermontov not only anticipated his inevitable death, he saw it coming.”16 Chodasevič’s poem ‘The Dreams’ shows some affinity with Lermontov. There the “I” of the poet is completely separated from his soul and can see the dreams of his soul. Дорогой снов, мучительных и смутных, Бреди, бреди, несовершенный дух. О, как еще ты в проблесках минутных И слеп, и глух! […] День изо дня, в миг пробужденья трудный, Припоминаю я твой вещий сон, Смотрю в окно и вижу серый, скудный, Мой небосклон. (‘Sny’; p. 149) Through painful and bleary dreams, Go, go, my imperfect spirit. Oh, how blind and deaf You still are in your minute glimpses! […] Day after day, in the moment of awakening, I remember your prophetic dream, I look through the window and see grey and meagre, My horizon. The influence of Lermontov on Chodasevič can also be illustrated in two poetic texts: Lermontov’s poem “No, it’s not you whom I love so pas- Chodasevič and Lermontov 35 sionately...” and one of Chodasevič’s two poems entitled ‘About Myself’. Here is Lermontov’s. Нет, не тебя так пылко я люблю, Не для меня красы твоей блистанье: Люблю в тебе я прошлое страданье И молодость погибшую мою. Когда порой я на тебя смотрю, В твои глаза вникая долгим взором: Таинственным я занят разговором, Но не с тобой я сердцем говорю. Я говорю с подругой юных дней; В твоих чертах ищу черты другие; В устах живых уста давно немые, В глазах огонь угаснувших очей. (“Net, ne tebja tak pylko ja ljublju...”; p. 81) No, it’s not you whom I love so passionately, And it’s not for me your beauty shines: I love in you my past suffering And my perished youth. When sometimes I look at you Into your eyes my long gaze penetrates: I am busy in a mysterious conversation, But it is not to you that I speak with my heart. I am speaking to a girlfriend from my early days, In your features I search for the features of another; In lips alive, lips that are long mute, In eyes alive, the flame of eyes extinguished. (“No, it’s not you whom I love so passionately...”) And here is Chodasevič’s poem: Нет, ты не прав, я не собой пленен. Что доброго в наемнике усталом? Своим чудесным, божеским началом, Смотря в себя, я сладко потрясен. Когда в стихах, в отображенье малом, Мне подлинный мой образ обнажен, – Всe кажется, что я стою, склонен, В вечерний час над водяным зерцалом. 36 Irena Ronen И, чтоб мою к себе приблизить высь, Гляжу я вглубь, где звезды занялись. Упав туда, спокойно угасает Нечистый взор моих земных очей, Но пламенно оттуда проступает Венок из звезд над головой моей. (‘Pro sebja’, 2; pp. 147-148) No, you are wrong; I am not enchanted by myself. What good is there in a tired hireling? I am sweetly stunned, looking at myself By the miracle-like, godlike gem in me. When in my verse, in that minor reflection, My true image is revealed. – It seems like in the evening hour I am standing, leaning Over the watery mirror. And, in order to bring closer my height, I look into the deepness, where the stars flare. By falling there The impure gaze of my earthly eyes, fades away But the wreath of stars blazes over my head. (‘About myself’, 2) Aside from the obvious similarities at the beginning of both poems with their double negations, one can notice that Chodasevič and Lermontov use the same metric pattern (iambic pentameter) as well as circular rhyme (AbbA) – in Chodasevič’s poem this occurs in the first two stanzas. There is also a grammatical affinity between these two poems: they both are addressed to an interlocutor, “you”. In Lermontov’s poem “you” is a woman. Chodasevič speaks to a man; which leads to the absence of any male/female love conflict. His poem is about himself, a poet. It is a variation on the theme of Narcissus, who fell in love with his own reflection. In a certain sense, however, this change of addressee in Chodasevič’s poem brings it closer to the essence of Lermontov’s poem, since Lermontov is more preoccupied with his own feelings of the past than with the object of his past attraction. In both poems the speakers insist that they are in love not with the outer image of this object (“not for me your beauty…” and “I am not captivated by myself”), rather they are both in love with their own feelings and their own inner selves. It was Solov’ev who perceived a propensity for “Narcissism” in Lermontov: “For Lermontov love could not be a fulfilling source of life, he Chodasevič and Lermontov 37 was in love with his own being in love, and, it is clear that this kind of formal love could be only a frame, and not an essence of his ‘I’, which stayed lonely and empty. The loneliness and emptiness of a tense and personal energy concentrated on itself, not finding any satisfactory use, remains the first and main feature of Lermontov’s poetry and life” (p. 394).17 The second stanzas of both poems open with the same word “when”: “when […] I look at you” (Lermontov) and “when in my verses” (Chodasevič), in both of them the development of this motif is applied by the use of synecdoche. Lermontov’s speaker sees in the present day his past, in the woman alive – the reflection of the girl of his youth, whereas the speaker in Chodasevič’s poem sees in his poetry, “in that minor reflection”, the image of his true poetic self. Still, in both poems there is the penetrated look of the speaker that sees through the surface, through the outer image the real, authentic one. In conclusion I would like to return to Ševyrev’s article on Lermontov. Ševyrev compared Lermontov to a bee: “The young poet appears to us as some sort of eclectic, who, like a bee, collects to himself all the sweets coming from the Russian muse in order to create out of them new honeycombs. This kind of eclecticism has occurred in the history of art in certain periods: it could have happened with us, according to the laws of its general development. Or is this protean quality a personal attribute of the poet himself?” 18 In one of his lyrics Chodasevič compared a poetic thought to a “hardworking bee”: Трудолюбивою пчелой, Звеня и рокоча, как лира, Ты, мысль, повисла в зное мира Над вечной розою – душой […] И в свой причудливый киоск Летишь назад, полухмельная, Отягощаясь, накопляя И людям – мед, и Богу – воск. (‘Trudoljubivoju pčeloj...”; p. 303) A hardworking bee Ringing and rumbling, like a lyre, In the heat of the world, you, a thought, is hanging down Over the eternal rose – the soul […] Irena Ronen 38 And to your whimsical kiosk You fly back, half intoxicated, Enriched, loaded With honey for the people and wax for God. (“A hardworking bee...”) Both Lermontov and Chodasevič, each in his own way, found inspiration in the poetry of past generations and had the creative power to make it anew. After all even the comparison of a poet to a bee comes from Plato: [The souls of poets], flying like bees from flower to flower and wandering over the gardens and the meadows and the honey-flowing fountains of the Muses, return to us laden with the sweetness of melody; and ar19 rayed as they are in the plumes of rapid imagination they speak truth. NOTES 1 2 3 4 5 6 7 8 A. Belyj, ‘“Tjaželaja lira” i russkaja lirika’, Sovremennye zapiski, 1923, 15, p. 278. S. Ševyrev, ‘Stichotvorenija M. Lermontova’, Moskvitjanin, 1841, Č. 2, Kn. 4; http://az.lib.ru/s/shewyrew_s_p/text_0050.shtml. Some of the observations on this topic were made in: Ju.I. Levin, ‘O poėzii Vl. Chodaseviča’, Izbrannye trudy. Poėtika. Semiotika, Moskva, 1998, pp. 214, 219, 223, 227; and in: I. Ronen, ‘Chodasevič i simvolizm’, Puti iskusstva: Simvolizm i evropejskaja kul’tura XX veka/Paths in Art. Symbolism and European Culture in the 20th Century, Moskva, 2008, p. 299. On polemics between Chodasevič and Adamovič see: R. Hagglund, ‘The Adamovič-Xodasevič polemics’, Slavic and East European Journal, Vol. 20, 1976, 3, pp. 239-252; D. Bethea, Khodasevich: His Life and Art, Princeton, 1983, pp. 322-331; O. Korostelev, S. Fedjakin, ‘Polemika G.V. Adamoviča i V.F. Chodaseviča (1927-1937)’, Rossijskij literaturovedčeskij žurnal, 1994, 4, pp. 204-252; Galin Tikhanov, Russian Émigré Literary Criticism and Theory between the World Wars. A History of Russian Literary Theory and Criticism: The Soviet Age and Beyond, Pittsburgh, 2011, pp. 156-162. V.S. Solov’ev, ‘Lermontov’. First publication in Vestnik Evropy, 1901, 2, pp. 441-459. V.S. Solov’ev, Sobranie sočinenij Vladimira Solov’eva. 1901-1907, Vol. 8, Sankt-Peterburg, 1903, p. 387. Ibid., pp. 399-400. See: I.P. Andreeva, Commentary, V. Chodasevič, Sobranie sočinenij v četyrech tomach, 1996-1997, Vol. 1, Moskva, 1996, p. 558. Chodasevič and Lermontov 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 39 V. Chodasevič, ‘Fragmenty o Lermontove’, Sobranie sočinenij v četyrech tomach, Vol. 1, 1996, p. 442. Here and in the following references to Chodasevič’s article and poems are to this volume and indicated by page number. G. Struve, ‘Tichij ad. O poėzii Chodaseviča’, Za Svobodu!, 1928, № 59 (2391), 11 marta, p. 6. V. Vejdle, ‘Poėzija Chodaseviča’, Russkaja literatura, 1989, 2, p. 150. M. Lermontov, Polnoe sobranie sočinenij, Vol. 1, Moskva-Leningrad, 1948, pp. 59-60. Here and in the following quotations from Lermontov are from this edition, indicated by page number. “At the core of Lermontov’s poetic world one finds the traditional but distinctly individualized and highly personal myth of the fallen angel. Or its feminine variation: a demonic fallen temptress and her male victims” (I. Ronen, ‘Bela and Tamara: An Invariant and Variations in Lermontov’s A Hero of Our Time’, International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 43, Amsterdam, 2001, p. 113). Ju.I. Levin, ‘O poėzii Vl. Chodaseviča’, p. 223. V.S. Solov’ev, Sobranie sočinenij Vladimira Solov’eva. 1901-1907, p. 394. Ibid., p. 396. Ibid., p. 394. S. Ševyrev, ibid. Plato, ‘Ion, or of the Iliad’, translated from Plato by Percy Bysshe Shelley; see in: James A. Notopoulos, The Platonism of Shelley: a Study of Platonism and the Poetic Mind, New York, 1969, pp. 472-473. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 41–53 www.elsevier.com/locate/ruslit ТОСКА ПО АВТОБИОГРАФИИ: К ТЕМЕ “ПАСТЕРНАК И ХОДАСЕВИЧ” (LONGING FOR АN AUTOBIOGRAPHY: PASTERNAK AND KHODASEVICH) АННА СЕРГЕЕВА-КЛЯТИС (ANNA SERGEEVA-KLIATIS) Abstract The article deals with two major figures in Russian literature of the 20th century, Vladislav Khodasevich and Boris Pasternak. It describes the situation in which Khodasevich’s autobiographical fragment called ‘Mladenchestvo’ (‘Infancy’) was created, almost immediately after the publication of Pasternak’s Okhrannaia gramota (Safe Conduct) and the numerous critical responses to it, especially by G.V. Adamovich and A.L. Bem. It is assumed that Khodasevich started work on his own autobiography after reading Оkhrannaia gramota. Keywords: V.F. Khodasevich; B.L. Pasternak; Autobiography; G.V. Adamovich: A.L. Bem В 1930-м году у Б. Пастернака возникло ощущение конца творческого пути и приближающегося жизненного финала. В письме к О. М. Фрейденберг он признавался: “Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь. Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит из самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она упер- http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.004 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 42 Анна Сергеева-Клятис лась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки: я не участвовал в созданьи настоящего и живой любви у меня к нему нет. Что всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мной будет.”1 Причины, вызвавшие такое мироощущение, мы не будем здесь обсуждать подробно, среди них были и личные, и политические, и мировоззренческие. Отметим только, что в этот период главным произведением, над которым работал Пастернак и в котором неминуемо должен был отразиться захвативший его кризис, была Охранная грамота. К 1930-му году повесть стала восприниматься им как итоговое произведение, позволяющее не только окинуть прощальным взглядом свое прошлое, но и высказать важнейшие мысли об искусстве и судьбе художника. Замысел Охранной грамоты (первоначально она называлась “Статья о поэте”) датируется 1927-м годом, тогда Пастернак намеревался написать о недавно скончавшемся Рильке. Работать над повестью он начал в 1928 году, когда замысел уже слегка трансформировался: “Между тем под руками, в последовательности исполнения, задуманная статья превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся”.2 Первая часть повести была опубликована в журнале Звезда в 1929 г. (№ 8). Затем публикация продолжалась в Красной нови (1931, № 4, 5-6), где появились части вторая и третья. Отрывок о первых встречах с Маяковским печатался и в Литературной газете 14 апреля 1931 г. – в номере, посвященном годовщине его гибели. Отдельным изданием Охранная грамота вышла в 1931 г. Как известно, советская критика восприняла повесть резко враждебно. В качестве главного пункта обвинения в адрес Пастернака выдвигались его философские установки о соотношении жизни и искусства, которые были идеологическим центром Охранной грамоты. Субъективный идеализм, так или иначе связанный с неокантианским прошлым Пастернака, стал той дубиной, которой беспроигрышно “гвоздили” его добросовестные зоилы на страницах центральной прессы. “Искусство как явление вторичное, как губка, все время грозит превратиться у Пастернака в ту подлинную ‘вторую вселенную’, для которой только существует бытие. А это последнее, естественно, рискует стать лишь ‘эпиграфом’ поэтического творчества”;3 “Исходя из кантианских предпосылок о непознаваемости разумом сущности вещей, о разрыве между сущностью и явлением, между действительностью и видимостью, из кантианского дуализма, – Пастернак приходит в конце концов к последовательному субъективному идеализму, к представлению о мире как о воплощении мысли поэта”;4 “‘Спекторский’ и ‘Охранная грамота’ в этом смысле однозначны. Обе вещи – уход в идеалистическое созерца- Тоска по автобиографии: Пастернак и Ходасевич 43 тельство, аполитизм, сопряженный в своем объективном развитии с уходом от пролетариата в стан его прямых врагов”.5 Получившая такие оценки книга естественно была запрещена к переизданию, повесть изъяли из составленного в Гослитиздате сборника прозы Воздушные пути. Однако еще до того, как такие радикальные меры были приняты литературными властями по отношению к подвергаемой остракизму повести, она была довольно широко растиражирована и доступна как в журнальном, так и в книжном формате, любому заинтересованному читателю, в том числе и за рубежами советской страны. Охранная грамота, этапное прозаическое произведение Пастернака, в котором практически напрямую выражалось творческое, а отчасти и политическое кредо автора, сюжетно и идеологически подчеркивающее значимость его связи с европейской культурой, под определенным углом раскрывающее актуальную тему судьбы гения в современной России, не могло остаться без внимания и в среде русской эмиграции. Действительно, в самое короткое время на Охранную грамоту отозвались крупнейшие критики зарубежья. Г. В. Адамович в своей рецензии, появившейся среди ‘Литературных заметок’ парижской газеты Последние новости, по сути повторил устоявшиеся со времени Сестры моей жизни формулы о “темноте” и сложности Пастернака, на которых сходилась в начале 1920-х гг. практически вся русская эмиграция. Так, свою, вполне, впрочем, доброжелательную, рецензию на Сестру мою жизнь в 1922 г. А. В. Бахрах начал со сравнения поэзии Пастернака с санскритской поэзией по степени ее усложненности: “Надо, действительно, обладать крепчайшими зубами, чтобы прокусить толстую и твердую кору его неожиданных оборотов, перескочить через баррикады его замысловатых метафор и добраться до самого нутра.”6 Сходным, но с более гастрономическим уклоном, был и знаменитый отзыв Ходасевича о поэзии Пастернака: 7 “Однажды мы с Андреем Белым часа три трудились над Пастернаком. Но мы были в благодушном настроении, и лишь весело смеялись, когда после многих усилий вскрывали под бесчисленными капустными одежками пастернаковских метафор и метонимий – крошечную кочерыжку смысла.”8 Упреки в невнятности, темноте, немотивированной сложности поэтики Пастернак слышал постоянно во время своего семимесячного пребывания в Берлине в 1922-1923 гг., исходили они от самых разных людей, принадлежавших подчас к враждебным литературным группировкам, как почитателей, так и противников его творчества. Эти упреки создавали устойчивое впечатление единого общего мнения русской эмигрантской среды о поэзии Пастернака. “Какой-либо обидной нетерпимости (политической, национальной, сословной или возрастной) здесь нет в помине, – объяснял Пастернак Боброву. – Здесь есть нечто другое. 44 Анна Сергеева-Клятис Все они меня любят, выделяют, но [...] ‘не понимают’.”9 “Именно в Берлине Пастернак впервые столкнулся с удивлявшей его всю жизнь формулой признания в любви и, одновременно, свидетельством непонимания его стихов,”10 – свидетельствует сын поэта. Уверенность в том, что Пастернак вовсе не нуждается в понимании и не для этого пишет, у многих эмигрантов сохранилось чуть ли не пожизненно. Так, Н. Н. Берберова замечала много позже: “Хотел ли Пастернак сам, чтобы люди добирались до сути его стихов? Теперь я думаю, что эти усилия понять до конца строфу за строфой были совсем и не обязательны – в его поэзии строфа, строка, образ или слово действуют внесознательно, это в полном смысле не познавательная, но чисто эмоциональная поэзия [...].”11 Адамович при оценке Охранной грамоты в целом придерживался сходной позиции. “Книга очень трудна,” – заявляет он и поясняет: “Бывают ‘трудные’ мысли, необычайно новые, редкие или необычайно спорные, которые остаются малодоступными или таинственными, как бы мыслитель ни бился, чтобы их нам растолковать. (Очень часто у Гете.) Но бывает и другое: трудная манера думать или излагать свои мысли, ни в какой связи с уровнем этих мыслей не находящаяся… Кто внимательно прочтет Охранную грамоту, найдет в ней и то, и другое, но другого, второго, т. е. трудной манеры, в книге несравненно больше.”12 Помимо затрудненной манеры изложения, “косноязычия”, за которым скрывается бедность мысли, Адамович отмечает формальные особенности пастернаковского письма – прежде всего перегруженность метафорами. Приведя ряд красноречивых примеров, автор рецензии задается вопросом, на который сам же дает вполне определенный ответ: “По совести, может ли кто-нибудь сказать, что подобная ‘изобразительность’ нужна, ценна и дает хоть что-нибудь новое по сравнению с самой бедной, самой скромной прозаической речью [курсив мой – А.С.-К.]. На мой взгляд, это скорее мусор, засоряющий текст, чем украшающий его.”13 Любопытны попытки Адамовича определить существо таланта Пастернака и его место в современной словесности. Сначала, не соглашаясь с декларацией автора: “Я не пишу своей автобиографии,” – Адамович утверждает: “‘Охранная грамота’ – вещь откровенно автобиографическая. В этом – замечу сразу – ее главный интерес. Пастернак ведь, бесспорно, – одно из крупнейших имен в нашей новой литературе. Имя это окружено ореолом необычайной даровитости и какого-то загадочного своеобразия. Безразличного отношения к Пастернаку нет почти ни у кого.”14 Другими словами, Охранная грамота представляет интерес прежде всего как автобиография одного из самых крупных поэтов современности. Однако в конце статьи Адамович словно открещивается от этой посылки: “это чрезвычайно талантливый писатель, но это писа- Тоска по автобиографии: Пастернак и Ходасевич 45 тель не очень значительный”, “новый Андрей Белый, но не Блок”, “у него вместо ума и души – какой-то проходной двор”, “все летит, все пролетает без задержки, без следа, и после удивления не остается ничего”. Отчасти в своей рецензии на Охранную грамоту Г. В. Адамович практически совпал в оценках со своим антагонистом (в том числе и по вопросу о Пастернаке!) в литературной полемике – В. Ф. Ходасевичем. Приведем характерный пример. В своей рецензии 1928 г. на книгу М. И. Цветаевой После России Ходасевич лаконично и точно формулирует свою позицию: “Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься: слава Богу, что всё это так темно: если словесный туман Пастернака развеять – станет видно, что за туманом ничего или никого нет.”15 Как воспринял Ходасевич статью своего постоянного многолетнего оппонента, нам, к сожалению, неизвестно.16 Однако наверняка был с нею знаком, и можно предпринять попытку смоделировать его реакцию. Об этом – чуть ниже. Другая значимая статья об Охранной грамоте принадлежит авторитетному профессорскому перу – ее автор А. Л. Бем, одним из первых откликнувшийся на пастернаковскую повесть в берлинской газете Руль (8 октября 1931 г.). Свою точку зрения автор декларативно противопоставляет взгляду В. Ф. Ходасевича на Пастернака.17 Ходячему штампу о затрудненной, темной пастернаковской поэтике, которая скрывает под собой бедность замысла (штампу, утвердившемуся в критике не без участия Ходасевича), Бем противопоставляет мысль о точной, сжатой, концентрированной манере пастернаковского письма. Предлагая анализ небольшого фрагмента Охранной грамоты, посвященного размышлениям о русской истории, Бем делает значимый вывод: “Я нарочно oстановился несколько на манере преломления Б. Пастернаком исторических событий, чтобы показать, какими экономными средствами, при кажущейся словесной перегруженности, создается для понимания хода внутренней жизни культурно-исторический фон. Думается мне, что это необходимо указать в связи со столь часто раздающимися упреками Б. Пастернаку в излишнем мудрствовании и неоправданном усложнении формы.”18 В своей рецензии Бем останавливается на двух важнейших пунктах, идеологически приоритетных для повести в целом, и в обоих случаях открыто апеллирует к своему гипотетическому оппоненту – Ходасевичу. Первый пункт – вопрос о генезисе и роли футуризма, резко отрицательное отношение к которому Ходасевича хорошо известно. Пересказав фрагмент повести о родственной связи между футуризмом и лучшими образцами символизма, которые “хотелось повторить, но только еще шибче, горячей и цельнее”, Бем пишет: “Так обычное представление о разрушающем пафосе футуризма (я вовсе при этом не забываю о внутренних различиях между группами раннего футуризма)19 встречается с неожиданным убеждением одного из его участников ран- 46 Анна Сергеева-Клятис ней стадии его формирования в преемственности его со старшим литературным поколением. И правда, думается мне, здесь на стороне Б. Пастернака, а не тех, кто все еще в футуризме видит одно разрушающее начало.”20 Под “теми” прежде всего подразумевается Ходасевич, который прямо привлекается Бемом в качестве свидетеля в следующем фрагменте, написанном не без изящного лукавства: “Очень часто в процессе развития литературных форм выясняется, что то, что казалось разрушением, в сущности, является началом конструктивным. Это прекрасно отметил недавно В. Ходасевич в своей работе о Державине, говоря о значении его ‘Фелицы’ в общем развитии русской литературы.”21 Бему удается показать внутреннюю противоречивость взглядов Ходасевича, который способен посмотреть на прошлое со всей широтой и объективностью, но не в состоянии столь же непредвзято оценить современность. Второй пункт, ставший существенным для Бема в Охранной грамоте, – вопрос о Маяковском. Несколькими месяцами раньше, в июле 1931 г. Бем, ранее практически не участвовавший в полемике о современной литературе, развернуто высказался о Маяковском на страницах газеты Руль, где оценил его творчество как крупнейшее явление русской поэзии. Эта публикация стала ответом на многочисленные негативные высказывания о Маяковском В. Ф. Ходасевича, которые были аттестованы как неудачные и случайные.22 Ходасевич не замедлил с ответом. В частности он писал: “Не отрицаю и того, что Маяковский ‘войдет в историю русской литературы’, но вижу в этом не заслугу, а вину Маяковского и жалею об этом. Не считаю его, как А. Бем, ‘крупным поэтом’, но считаю крупным явлением – крупным злом. Этому крупному злу не могу ни поклоняться, ни сочувствовать, ни даже любоваться его размахом, как не сочувствую, не поклоняюсь и не любуюсь Лениным, хотя и он, еще несомненнее, был тоже крупным явлением и тоже останется в истории России.” И далее по вопросу о футуризме: “Маяковский есть футурист, разрушитель и осквернитель русской поэзии, которая для меня есть не только предмет безразличного и безучастного исторического изучения. Долг мой – бороться с делом Маяковского и теперь, как боролся и прежде, с первого дня, – ибо Маяковский умер, но дело его живет.”23 Собственно на этом полемика была завершена. Размышляя об Охранной грамоте, Бем вольно или невольно вернулся к ней и вновь обратился к Ходасевичу как к своему недавнему оппоненту: “Мне сейчас не хочется возвращаться к спору о Маяковском, хотя для этого давало бы основание обширное и во многом существенно интересное возражение В. Ходасевича [...] на мою статью о Маяковском. Дальнейший спор здесь мне представляется бесплодным. [...] Но меня искренне порадовало то, что повесть Б. Пастернака как бы явилась косвенным ответом на возражения мне В. Ходасевича [курсив мой – А.С.-К.].”24 Тоска по автобиографии: Пастернак и Ходасевич 47 Имелась в виду, несомненно, третья часть Охранной грамоты, фактически целиком посвященная Маяковскому. Однако назвать Охранную грамоту ответом на критику Ходасевича мог только человек, обладающий особенной филологической чуткостью, ощущавший то напряжение, которое уже почти десятилетие определяло отношение Ходасевича к Пастернаку.25 Напоминание об этом факте само по себе не могло быть Ходасевичу приятным. Мимо статьи Бема Ходасевич пройти, конечно, не мог – слишком прямо обращался к нему автор, слишком свежа еще была недавняя полемика между ними. Не мог он также не обратить внимания на характеристику пастернаковской поэтики, которую вопреки его собственному, многократно провозглашенному мнению, отчетливо высказал пражский профессор, тремя месяцами ранее вступивший в полемику о Маяковском. Стоит отметить, что, отстаивая свою позицию, Ходасевич предельно корректен по отношению к оппоненту. И если в адрес Р. Якобсона он обращает презрительное “какой-то там Якобсон”, то о Беме говорит как об уважаемом университетском профессоре, мнение которого имеет ощутимый вес.26 Лестная оценка, данная Бемом пастернаковской повести, в том числе ее поэтике, не могла не покоробить Ходасевича. А упоминание его имени в контексте творчества Пастернака должно было насторожить. Думается, что едва ли не в большей степени должна была обратить на себя внимание Ходасевича и статья Адамовича, прежде всего практически полным (чуть ли не цитатным) совпадением с его собственным мнением, сравнением усложненной манерной пастернаковской прозы “с самой бедной, самой скромной прозаической речью”, разумеется, в пользу последней. А аттестация Пастернака как “крупнейшего” поэта поколения и в связи с этим высокая оценка Охранной грамоты как автобиографической повести не могла не задеть. Сложив все перечисленные составляющие, мы получим психологическую подоплеку, подтолкнувшую Ходасевича к работе над собственной автобиографией, получившей название ‘Младенчество’, практически сразу после выхода в свет Охранной грамоты. Иными словами, Ходасевич, с момента публикации Сестры моей жизни смотревший на Пастернака как на соперника, узурпировавшего первенство в русской поэзии, жестко критиковавший его словесное трюкачество, его отход от классической манеры, его ангажированность футуристическими изысками, предпринял попытку противопоставить пастернаковской автобиографии – свою собственную. Фактически это была неравноценная замена поэтической борьбы, от которой Ходасевич добровольно отказался. Трагичность своих выборов он прекрасно осознавал: “Настроение весело-безнадежное, – писал летом 1932 г. – Думаю, что последняя вспышка болезни и отчаяния были вызваны прощанием с Пушкиным. 48 Анна Сергеева-Клятис Теперь на этом, как и на стихах, я поставил крест.”27 Ощущение конца творческого пути, безнадежности и бесперспективности будущего (ср. с Пастернаком: “У меня нет перспектив, я не знаю, что со мной будет”) заставило Ходасевича сделать такой же творческий выбор, который был сделан в 1930-м году его соперником: он обратился к автобиографии.28 Задача, которую видел перед собой Ходасевич, берясь за автобиографию, была для него идеологически значимой – стилистической. Затрудненной пастернаковской речи он противопоставил детскую простоту, насыщенности метафорами – минимализм в средствах художественной выразительности; многословию – краткость; широким обобщениям – мелкую деталь; усложненности мысли – ее намеренную ясность; требовательной серьезности автора Охранной грамоты – подкупающую самоиронию. Свою концепцию Ходасевич отчетливо выразил в одной из критических заметок: “Художественное произведение есть как бы космос, мир самодовлеющий, замкнутый в себе, целостный в своем разнообразии: мир, устроенный, организованный из первобытного хаоса чувств и мыслей, возникающих и мятущихся в душе художника. Чем совершенней художественное произведение, тем стройней, завершенней космос, тем глубже скрыты от нас те бурные стихийные процессы, в результате которых он образовался.”29 Пастернаковское “природное косноязычие”,30 по мнению Ходасевича, не позволяло ему окончательно справиться с хаосом, космос в его произведениях не выстраивался.31 В собственной автобиографии Ходасевич предлагал пример полной победы над хаосом. Наличие автобиографической прозы словно маркировало значимость творческого пути. Неслучайно впоследствии Ходасевич отказался от продолжения работы над ней, когда, по воспоминаниям Н. Н. Берберовой, получил отповедь эмигрантской общественности: “Кому интересны его воспоминания детства? Что он, Лев Толстой, что ли? Давление было столь сильным, что ему пришлось бросить начатую книгу.”32 Эта критика попала в самую болевую точку. Под сомнение ставилась именно значимость Ходасевича для русской культуры. Не станем абсолютизировать предположения, что на замысел Ходасевича могла повлиять появившаяся в 1931 г. Охранная грамота, oсобенно учитывая факт публикации в январе 1930 г. первой части обширной автобиографии А. Белого На рубеже двух столетий (через год вышло и второе издание). Однако непосредственный толчок к работе над ‘Младенчеством’ вполне вероятно отнести на счет Пастернака. Поскольку автобиография Ходасевича не была закончена, то и полноценно говорить о ее замысле невозможно. Какое впечатление она произвела на Пастернака, прочитал ли он ее при жизни Ходасевича – неизвестно. Можно, однако, предположить, что сразу ли после публикации или много позже, но – прочитал. Через 20 лет после этого, готовя Тоска по автобиографии: Пастернак и Ходасевич 49 автобиографический очерк для несостоявшегося впоследствии сборника избранных стихотворений в 1956 г., Пастернак, как кажется, пошел по пути, стилистически сближающему его с Ходасевичем. Этот путь, впрочем, был определен глобальными изменениями, произошедшими в творческой манере Пастернака на рубеже 1930-1940-х годов. Удивительно, но в ‘Людях и положениях’ можно уловить не только интонационное сходство с мемуарной прозой Ходасевича, но и совпадения, которые выходят за рамки языка и стиля. Среди них – увлечение музыкой и личностью Скрябина мальчика Пастернака и увлечение балетом юного Ходасевича, парадоксальным образом давшие сходные плоды: Я забыл сказать, что в балетных своих упражнениях я неизменно изображал танцовщицу, а не танцовщика. Оно и понятно: в классическом балете танцовщице принадлежит роль несравненно более видная и выигрышная. Должно быть, это обстоятельство (в связи с моей хрупкостью) отчасти способствовало тому, что во мне развились черты и наклонности женственные. Я не очень любил играть с детьми, но уж если играть, то предпочитал с девочками. [...] Как многие дети, я часто задумывался, не подкидыш ли я, и преисполнялся к себе жгучею жалостью. Порою после какой-нибудь неприятности я находил наслаждение в том, что изо всех сил 33 бередил эту рану. (Ходасевич) Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновлен34 ный ими приемыш. (Пастернак) Отмеченная параллель никаким образом не может быть аттестована как заимствование.35 Однако о сближении определенного рода она все же свидетельствует. Неслучайно, очерк Пастернака начинался значимым предисловием: “В ‘Охранной грамоте’, опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет.”36 К этой теме Пастернак вернулся еще раз, чтобы снова проговорить свою позицию: “Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог.”37 Об этом сближении выразительно пишет Дж. Малмстад: “Какая же горькая ирония судьбы в том, что Хода- Анна Сергеева-Клятис 50 севичу, старше Пастернака всего на четыре года, не довелось увидеть сдержанной простоты сборника ‘На ранних поездах’ (1943) и поздней лирики ‘антагониста’, на склоне лет смотревшего на свою раннюю поэзию, по существу, глазами Ходасевича. Творчество зрелого Пастернака развивалось в направлении, которое, я уверен, Ходасевич безогoворочно бы одобрил.”38 Мы не можем с такой же уверенностью утверждать, что Ходасевич принял бы новую манеру Пастернака и не нашел бы в ней недостатков, сводящих на нет все поэтические победы. Впрочем, логика его более поздних высказываний о Пастернаке как будто убеждает в изменении негативного отношения на позитивное. Не стоит также забывать и о разнице между тем, что декларируется во всеуслышание, и тем глубинным процессом творческого взаимодействия и взаимовлияния, который остается скрыт для постороннего глаза, но не прерывается даже со смертью его участников. Очевидно, что зрелый Пастернак с уважением и вниманием оглядывался и на пройденный Ходасевичем творческий путь, и на его борьбу за чистоту и ясность художественной речи, которая раньше представлялась ему искусственным самоограничением.39 Так что о сближении определенного рода говорить, конечно, допустимо. ПРИМЕЧАНИЯ 1 2 3 4 5 6 ‘Письмо О. М. Фрейденберг 1 июня 1930’, Б. Пастернак, Пожизненная привязанность: Переписка с О. М. Фрейденберг, Москва, 2000, c. 167. Письмо С. Н. Дурылину 7 ноября 1929. Ж. Эльсберг, ‘Мировосприятие Пастернака’, На литературном посту, 1930, № 1, c. 45. Р. Миллер-Будницкая, ‘О философии искусства Пастернакa и Рильке’, Звезда, 1932, № 5, c. 168. А. Тарасенков, ‘Охранная грамота идеализма’, Литературная газета, № 68, 18 декабря 1931; № 68 (167), c. 2. Ср. также родственные по интонации статьи и выступления: А. Селивановский, ‘О буржуазном реставраторстве’, Красная новь, 1932, № 2, cc. 156-157; Н. Асеев, Доклад ‘О современной поэзии’, 1931. А. Б-х (Бахрах), ‘Борис Пастернак. Сестра моя жизнь. Лето 1917 года. Берлин, 1922’, Дни, 1922, № 51 (30 декабря), c. 6. Тоска по автобиографии: Пастернак и Ходасевич 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 51 Истории пересечений Пастернака и Ходасевича посвящен ряд работ. Перечислим некоторые из них: Дж. Е. Малмстад, ‘Единство противоположностей: история взаимоотношений Ходасевича и Пастернака’; Ел. В. Пастернак, ‘Постскриптум’; Н. А. Богомолов, ‘Выбор путей’, Литературное обозрение, 1990, № 2, cc. 51-64. Jane Ann Miller, ‘Pasternak and Khodasevich’, Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре: Борис Пастернак 1890-1990, т. 1, Нортфилд, Вермонт, 1991, cc. 147-156. Ю. В. Шатин, ‘Мотив квартиры в русской балладе новейшего периода (Ходасевич, Пастернак, Мандельштам)’, Интерпретация текста: Сюжет и мотив. Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы, вып. 4, Новосибирск, 2000, cc. 189-197. Г. Дюсембаева, ‘Пастернак и Ходасевич о возможной перекличке’, “В рассеянии сущие…”: Культурологические чтения “Русская эмиграция XX века”, Москва, 2006, cc. 142-146. Н. А. Богомолов, ‘Ходасевич и Пастернак: ранние пересечения’, Сопряжение далековатых: О Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче, Москва, 2011, cc. 169-175. В. Ф. Ходасевич, ‘Парижский альбом’, Дни, Париж, 1926, 13 июня, № 1027, c. 3. В число непонимающих попал и Б. Зайцев, говоривший о “высоко изобразительной и неподдельной кубистической невнятности” Пастернака (‘Письмо Пастернака С. П. Боброву от 9 января 1923 года’, Борис Пастернак и Сергей Бобров: Письма четырех десятилетий. Публикация М. А. Рашковской, Stanford, 1996, cc. 132-133). Е. Б. Пастернак, Борис Пастернак: Материалы для биографии, Москва, 1989, c. 376. Н. А. Берберова, Курсив мой, Москва, 1996, c. 240. Г. В. Адамович, ‘Пастернак. Охранная грамота’, Последние новости, 28 апреля 1932, № 4054, c. 2. Там же. Там же. В. Ф. Ходасевич, ‘После России: Марина Цветаева. “После России”: Стихи 1922-1926, Париж, 1928’, Возрождение, 19 июня 1928 года, № 1113, c. 3. О полемике Ходасевича с Адамовичем см.: Г. П. Струве, Русская литература в изгнании, Нью-Йорк, 1956, cc. 199-222; Ю. К. Терапиано, ‘Об одной литературной войне’, Мосты, 1966, № 12, cc. 363-375; Roger M. Hagglund, ‘The Adamovič-Хodasevič Polemics’, Slavic and East European Journal, 1976, Vol. 20, № 3, cc. 239-252. David Bethea, Khodasevich: His Life and Art, Princeton, New Jersey, 1983, cc. 323-331; О. А. Коростелев, С. Р. Федякин, ‘Полемика Г. В. Адамовича и В. Ф. Ходасевича (19271937)’, Российский литературоведческий журнал, 1994, № 4. Подробно об этом см. в нашей книге: А. Ю. Сергеева-Клятис, Поэзия Бориса Пастернака 1920-х годов в советской журналистике и критике русского зарубежья, Москва, 2013, cc. 51-62, 128-135, 216-232. 52 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Анна Сергеева-Клятис А. Л. Бем, ‘“Охранная грамота” Бориса Пастернака’, Руль, 8 октября 1931, № 3304, c. 2. Часть о футуризме в составе статьи ‘Декольтированная лошадь’ начинается как раз с разделения на группы: “Русский футуризм с самого начала делился на две группы…” (Возрождение, 1927, № 821, 1 сентября, cc. 2-3). А. Л. Бем, ‘“Охранная грамота” Бориса Пастернака’, cc. 2-3. Там же, c. 3. А. Л. Бем, ‘Спор о Маяковском’, Руль, 2 июля 1931, № 3220, cc. 2-3. В. Ф. Ходасевич, ‘Книги и люди’, Возрождение, 30 июля 1931, № 2249, c. 4. А. Л. Бем, ‘“Охранная грамота” Бориса Пастернака’, c. 3. В Охранной грамоте содержится фрагмент, непреднамеренно сближающий Ходасевича с ненавистным ему Маяковским, который очевидным образом свидетельствовал о приятельском общении между ними в описываемый период: “Я увидал Маяковского издали и показал Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса в направлении к Страстному. Маяковский остался один за столиком” (Б. Л. Пастернак, Охранная грамота, Полное собрание сочинений в 11 томах, т. 3, Москва, 2003-2005, c. 217). Учтем здесь также вскрытую Л. С. Флейшманом полемику между Пастернаком и Ходасевичем относительно места и значения Маяковского на страницах Охранной грамоты, посвященных эпизоду игры в орлянку (Л. С. Флейшман, Борис Пастернак в 1920-е годы, Санкт-Петербург, 2003, cc. 302-305. Ср. также дневниковую запись И. Н. Розанова: Н. А. Богомолов, ‘Пастернак в дневнике И. Н. Розанова’ (печатается в данном номере журнала). В. Ф. Ходасевич, ‘Книги и люди’, c. 4. ‘Письмо Н. Н. Берберовой, 19 июля 1932’, В. Ф. Ходасевич, Собрание сочинений в 4 томах, т. 4, Москва, 1996-1997, cc. 520-521. Позволим себе провести аналогию между восприятием Ходасевичем Охранной грамоты и Смерти Вазир-Мухтара Ю. Н. Тынянова. Роман Тынянова Ходасевич не принял, но, как убедительно показал Н. А. Богомолов, именно его появление спровоцировало начало работы над “Державиным” (Н. А. Богомолов, ‘Гулливер и Вазир-Мухтар’, Сопряжение далековатых, cc. 260-266). В. Ф. Ходасевич, ‘Достоевский за рулеткой’, Собрание сочинений, т. 2, c. 247 (В. Ф. Ходасевич, ‘Книги и люди’, c. 2). В. Ф. Ходасевич, ‘Скучающие поэты’, Собрание сочинений, т. 2, c. 192 (Возрождение, 1930, 30 января, № 1703, c. 3). Категории “хаос” и “космос” по отношению к Пастернаку и Ходасевичу соответственно применил Ю. К. Терапиано в своей статье ‘Два начала русской современной поэзии’ (Новый дом, 1926, № 1). Н. А. Берберова, Курсив мой, c. 703. В. Ф. Ходасевич, ‘Младенчество’, Собрание сочинений, т. 4, c. 199. Тоска по автобиографии: Пастернак и Ходасевич 34 35 36 37 38 39 53 Б. Л. Пастернак, ‘Люди и положения’, Полное собрание сочинений в 11 томах, т. 3, c. 305. Учтем также отдаленное сходство обоих фрагментов с детским опытом Андрея Белого: “Вот первое, что узнал о себе: ‘уже лобан’: и переживал свой лоб как чудовищное преступленье: чтоб скрыть его, отрастили мне кудри; и с шапкой волос я ходил гимназистом уже; для этого же нарядили в атласное платьице: – У, девчонка! – дразнили мальчишки. И – новое горе: отвергнут детьми я; кто станет с ‘девчонкой’ играть?” (Андрей Белый, На рубеже двух столетий, Москва-Ленинград, 1930, c. 73). Б. Л. Пастернак, ‘Люди и положения’, c. 295. Там же, c. 327. Дж. Е. Малмстад, ‘Единство противоположностей’, c. 59. “Драма [...] всех его заблуждений настолько перевита с культом старого мастерства, что только редкие уходят с собственным лицом со школьного маскарада. [...] Он не знает, что кроме сырости беспомощности, есть сырость силы, сырость большой, трудной формы. А может быть, и знает, да не хочет знать. Между тем эта линия отделяет большое явление от малого” (Б. Л. Пастернак, ‘Письмо М. И. Цветаевой 11 апреля 1926 г.’, Марина Цветаева, Борис Пастернак, “Души начинают видеть”: Письма 1922-1936 гг., Москва, 2004, cc. 173-174). Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 55–90 www.elsevier.com/locate/ruslit BORN OF WAR: THE RELUCTANT MODERNISM OF VLADISLAV CHODASEVIČ EDWARD WAYSBAND Abstract This paper contextualizes Khodasevich’s poem ‘Slezy Rakhili’ (‘Rachel’s Tears’; 1916) and his article ‘Voina i poeziia’ (‘War and Poetry’; 1938) as his responses to World War I and to the Munich agreement, respectively. I contend that the First World War provided the impetus to Khodasevich for starting to write modernist poetry, in which he explicitly opposed “then” and “now”, a contrast that lies at the core of modernist consciousness. In Khodasevich’s case, this acute awareness of a break with previous values had a personal quality, as the birth of his modernist poetics evolved out of a personal crisis in the wake of the suicide of his closest friend, Samuil Kissin, on 22 March 1916. Khodasevich’s poem ‘Slezy Rakhili’ recapitulates macro- and micro-histories, referring to the broader issue of refugees and deportees and to Kissin’s tragic end. ‘Slezy Rakhili’ is also a self-referential war poem as it reflects on current war poetry and questions whether poetry can adequately negotiate modernity in its most extreme form of a modern war. It is a conscious exploration of the contrast between “established things” and the new catastrophic reality of war and postwar Russia and Europe that makes Khodasevich a modernist poet and unites him with other modernist poets, like Vladimir Maiakovskii, despite their personal and literary animosities. Keywords: V.F. Khodasevich; World War I; Munich Agreement; S. Kissin; V. Maiakovskii; F. Tiutchev http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.005 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 56 Edward Waysband In Western literary studies it has become a commonplace to explore Modernism in correlation to the experience of World War I (see, inter alia, Fussell 1975; Sherry 2003; Sherry 2005; Smith 2000; Campbell 2005; Tate 1998). As Edna Longley points out, however, one should not overstate the extent to which the war can be associated with literary Modernism in some national literary traditions (2005: 74). Even so, it was the unprecedented strength and urgency of the modern war experience that gave rise to modernist literary consciousness in some cases and that intensified prewar modernist tendencies in others. In this light, it is clear that too little work has been done in linking Russian Modernism’s premises with the first war that was called a “world war”. One explanation may lie in the general underestimation of both phenomena – World War I and Modernism – in Russian cultural and literary consciousness. Contemporaries and subsequent generations of scholars have overlooked the historical and cultural influences of this war in favour of the 1917 October revolution and its aftermath, which has exerted a major influence on cultural and literary studies up to the present (see Cohen 2008: 2-4; Ogden 2014: 234). Works that have attempted to coordinate Modernism with Russian history also focused predominantly on the Bolshevik October revolution (see Williams 1977; Gibian 1976: 15; Erlich 1994), thus perpetuating the inattentiveness to World War I in literary studies. A dearth of research does not, however, signify an absence of subject matter. Some Russian writers shared the elsewhere common recognition of the war as a watershed between the modern and pre-modern world – best known is probably the famous formulation in Anna Achmatova’s ‘Poėma bez geroja’ (‘Poem Without a Hero’) of the “non-calendar, but – real twentieth century” having been ushered in by World War I. In fact, Russian war poetry – like its Western counterpart – became a battlefield where Russian poets attempted to cope with the growing tensions between pre-war aesthetic norms and modernist challenges. The authors of the best war poems expressed the feeling of an unprecedented historical rupture that separated the modern “age of extremes” (Hobsbawm 1995) from a pre-war reality perceived as “normal”. Although it is impossible to provide an all-inclusive definition of Modernism covering scores of writers, individual case studies show that the time has come to explore in depth the general premise that Modernism, as a literary exploration of the impact of modernity, in some cases appeared and in some cases intensified because of World War I. This war increasingly became a historical event that demolished pre-war conception of a rational world (or at least a rational Europe), marking a total collapse of all logic and sense instead. As I show in this paper, Vladislav Chodasevič represents a prominent example of the birth of modernism out of the spirit of this particular war. As for many of his contemporaries, the war became a watershed in his poetic career. It epitomized to him the extremity of modernity, which required a The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 57 new kind of ontological understanding of reality. The personal and cultural upheavals of the war in Chodasevič’s life triggered the initial creative process of his first mature book of poetry Putem zerna (Grain’s Way; 1920), which eventually constituted the first part of his final collection of poetry Sobranie stichov (Collected Poems; 1927). The first editions of the book reflected the poet’s inner change thematically and compositionally. In the final form presented in Sobranie stichov, however, Chodasevič consciously reshaped Putem zerna both structurally and conceptually to make it appear as poetic reflections on the October revolution (Andreeva 1999: 368). This version obscures the impact of World War I on the poet and the catalyst it provided to him for starting to write modernist poetry, in which he explicitly and starkly opposed “then” and “now”, a contrast that constitutes the core of modernist consciousness. In Chodasevič’s case, this acute awareness of a radical break with previous values had a personal aspect as well: the birth of his modernist poetics also evolved out of a personal crisis in the wake of the suicide of his closest friend, Samuil Kissin, on 22 March 1916. The poetic cycle “Farforovyj venok” (“Porcelain Wreath”), dedicated to Kissin’s memory, marks an important and substantial “grain” of his modernist poetics that subsequently blossomed into Grain’s Way. Kissin’s suicide encapsulated both personal and historical significance: it pointed to his failed Russian assimilation – he was Jewish – which acquired symbolic significance against the background of various disasters befalling Jewish populations in the region of the Pale during World War I. Those, in turn, signified the failure of Jewish assimilation in the Russian Empire. The opening poem of Chodasevič’s obituary cycle, ‘Slezy Rachili’ (‘Rachel’s Tears’; 1916), recapitulates macro- and micro-histories, referring to the broader issue of Jewish refugees and deportees, as well as to Kissin’s individual tragedy. It is also a self-referential war poem as it reflects on contemporary war poetry and asks whether poetry can adequately negotiate modernity in its most extreme form – that of a modern war. For Chodasevič, as for many Western European poets, war poetry became less a generic category than the quintessential case of the encounter between poetry and modern history. The war triggered the epistemological shock reaction to what W.B. Yeats called “established things” – accepted metaphysical systems, traditional ideas of history, and received assumptions about poetic means and ends (quoted in Longley 2005: 58). Chodasevič’s answer to the war challenge was his modernist poetry, seen by him as something unnatural and contradictory to his “true” nature, however. He thus terms his cycle dedicated to Kissin’s memory “macabre” verses. Subsequently, he would refer just as ambiguously to his poetry in exile that reflected and refracted the dismal state of post-war Europe. In his 29 November 1922 letter to Michail Geršenzon, Chodasevič, then in Saarow, Germany, describes one of the most productive periods of his poetic career in 58 Edward Waysband these terms: “Я купил себе очень хорошую пробковую ногу, как у Вашего Кривцова,1 танцую на ней (т. е. пишу стихи), так что как будто и незаметно, – а знаю, что на своей я бы танцевал иначе, может быть, даже хуже, но по-своему, как мне полагается при моем сложении, а не при пробковом” (Chodasevič 1997, 4: 454; “I bought myself a very good cork leg, as your Krivcov did. I can even dance with it (i.e., write poems) and so no one seems to notice that I have one; but I know that had I still my own leg I would dance differently, maybe worse, but in my own way, as is appropriate to my constitution and not to the cork [one]).2 Although Chodasevič realizes that his current poetry opens new horizons, he, paradoxically, nevertheless, contrasts its alienated tonality to his “real” inclinations. This “cork” poetry is a conscious exploration of the contrast between “established things” and the new catastrophic reality of war and post-war Russia and Europe and it makes Chodasevič a modernist poet joining the camp of other modernist poets of his time, in spite of any personal and literary animosities they may have had. Chodasevič may have considered Vladimir Majakovskij’s poetry the worst example of a new post-classical poetics that modernity had introduced (see Malmstad 1995-1996; Bogomolov 2006), but their war articles and war poetry testify to a common awareness of World War I as the frontline of modern poetic sensibility. Their war poetry also shares common imagery based upon the analogous principle of the modernist contrast between accepted norms of war poetry and “new” perceptions derived from the experience of modernity: war poetry became a paradigm for modernist poetry. At the same time, the modernist frame of mind clashed with Chodasevič’s neo-classical inclinations. The Post-Munich Inversion: ‘Vojna i poėzija’ For “the generation of 1914” (Robert Wohl), writing war poetry acquired an additional dimension as the threat of World War II was looming. Like many of his contemporaries, Chodasevič saw the approaching war in an inverse perspective, in which past experience was mingled with projections of the future, making World War I appear in a new light. The possibility of a new world war called for a reconsideration of the World War I heritage. It is in this context that in 1938 Chodasevič wrote his article ‘Vojna i poėzija’ (‘War and Poetry’), which brings together issues of modernity and war poetry. ‘Vojna i poėzija’ is not strictly a memoir; it can be assigned to the genre of the semi-literary and semi-memoiristic essay that Chodasevič developed in emigration. At the same time, like numerous World War I memoirs, it reconsiders a set of received values about heroism and war literature in light of new insights that re-evaluate the past (see Edwards 2005: 15). Paradoxically, in ‘Vojna i poėzija’, the poet mobilizes his modernist re-evaluation of tra- The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 59 ditional literary features to justify the appeasement politics of post-Munich Europe. On 21 September 1938, at the peak of the Sudeten crisis, Chodasevič wrote to his ex-wife Nina Berberova (who remained a close friend and correspondent): Ну, душенька, будем надеяться, что мы с тобой переволновались понапрасну: кажется, всеблагие хотят нас избавить от присутствия на их очередной пирушке. Это очень мило с их стороны. Не люблю роковых минут и высоких зрелищ. (1988: 324) Well, my dear, let us hope that we were alarmed for no reason: it seems that the all-powerful gods want to spare us from being present at their next revelry. That is very nice of them. I do not like fateful moments and majestic spectacles. Consciously or not, this reaction of relief at the apparent solution of the crisis directly intertwines Chodasevič’s current feelings with his experience of World War I, as the letter’s main intertextual reference, Tjutčev’s poem ‘Ciceron’ (‘Cicero’; 1830), quoted in the letter, makes plain. The same poem is also alluded to in his 1916 poem ‘Slezy Rachili’. In both cases, Tjutčev’s poem, with its celebration of historical grandeur that acquires a metaphysical dimension, 3 serves as a foil for his down-to-earth demystification of historical hero-worship. Retrospectively, these 1916 and 1938 references to Tjutčev’s ‘Ciceron’ attain different historical meanings, but both derive from Chodasevič’s profound recognition of “1914 as the beginning of catastrophe”,4 as he wrote in his 26 October 1926 letter to Julij Ajchenval’d (Chodasevič 1997, 4: 503) in which he discusses his war poem ‘Džon Bottom’ (‘John Bottom’; 1926). Many Frenchmen and Russian émigrés shared a similar passivist attitude to the Sudetenland crisis. Afraid of the Soviet Union’s increasing influence on the political scene – it had shouldered the role of a guarantor of Czechoslovakia’s security – anti-Soviet Russian emigrants viewed the Sudeten crisis through the prism of their hostile attitude to the Soviet Union. Democratic France and Great Britain had signed a separate agreement with Germany acknowledging Hitler’s right to the Sudetenland, and this move seemed to undermine the Soviet Union’s claims to equal participation in European politics. While a new European coalition against the Bolshevik danger was taking place, its “small change” had become Czechoslovakia. 5 At the beginning of October 1938, when the Munich agreement had been signed, the historian and publicist Sergej S. Ol’denburg wrote in the lead article of the newspaper Vozroždenie (Renaissance), where Chodasevič was the major literary critic: 60 Edward Waysband После грозной предшествующей недели народы Европы испытали огромное облегчение. Война избегнута. Радость народов выразилась в шумных встречах, устроенных участникам Мюнхенской конференции, в бесчисленных телеграммах, письмах, адресах, сборах пожертвований в честь тех людей, которые обеспечили мир. Голоса недовольных буквально тонут в хоре радующихся. (S. O. [Ol’denburg] 1938: 1) After the menacing previous week, the peoples of Europe felt an enormous relief. War has been avoided. People expressed their joy in noisy receptions organized for participants of the Munich conference, in countless telegrams, letters, addresses, donations in honour of those who had secured the peace. Dissatisfied voices literally drown in the chorus of celebrants. At that time, Vozroždenie consistently supported the alliance between Nazi Germany and European countries against the Soviet Union – in contrast to its main rival, Poslednie novosti (Latest News), which considered the European countries’ policy of appeasement a dubious enterprise. There were also the pessimists and fearful however who thought that, in the long run, war could not be averted. In his 20 January 1939 letter to Berberova, Chodasevič wrote: “У меня душа в пятках – не хочу воевать. В сущности, только об этом и думаю, а что-то пишу и хлопочу – как сквозь сон” (Chodasevič 1988: 326; “My heart is in my heels – I don’t want to go to war. Essentially this is all I think about, while I write something and bustle about – as in a dream”). The above situation formed the historical and emotional background for the long article ‘Vojna i poėzija’, published in two issues of Vozroždenie.6 This article – which literary historians have not yet analysed – is one of the most important statements of the late Chodasevič and it holds up a mirror to the pre-World War II Russian émigré and European attitudes at the time. In it, Chodasevič summed up his reflections about a distinct historical-cultural period in European history having concluded for good; part of that end of a historical period included his sense of the end of traditional poetry. A month later, in November 1938, Chodasevič published an extensive review of Vladimir Vejdle’s book Umiranie iskusstva (The Dying of Art), where he again referred to the “иссякновение той мифотворческой способности, благодаря которой действительность преображается в искусство” (Chodasevič 1938c: 9; “depletion of that myth-making force that transforms reality into art”). In ‘Vojna i poėzija’, Chodasevič traces this depletion of artistic essence in the sphere of Russian battle poetry of the last century and a half to historical, economic, cultural, and military conditions. Based on his analysis, Chodasevič questions whether a modern battle poetry would be possible at all, if a new war broke out, and if so, what the nature of this poetry would be. The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 61 The publication of ‘Vojna i poėzija’ in Vozroždenie followed an article by Andrej Rennikov entitled ‘Filosofija vojny’ (‘Philosophy of War’).7 In a characteristically superficial manner, the latter described the development of European democracies as a process of democratization and expansion of a total war that would involve more sectors of the population than previously. In spite of Rennikov’s superficiality, his and Chodasevič’s articles are similar in taking a stand against modernist perspectives, which, in Rennikov’s case, paved the way for collaborationism. 8 Contrasting two states of consciousness – the “then” of a naïve vision at the beginning of the first World War, and the “now” of the sober insights he had since acquired – insights which had intensified at the time of writing the article, while facing the danger of a new European war, Chodasevič opens ‘Vojna i poėzija’ with a reminiscence: Осенью 1914 года, в самом начале войны, издательство “Универ9 сальная Библиотека” (многим памятны желтые книжечки) предложило мне составить небольшую антологию под заглавием “Война в русской лирике”. Решено было, что как общее правило в сборник будут включаться лишь такие стихотворения, которые посвящены самой войне, т. е. идее войны, боевым действиям, боевой обстановке и т. д. Пьесы, возникшие лишь по поводу войны, по существу же трактующие политическую, а не военную тему, исключались. Помятуя о коммерческой стороне дела, редактор сказал мне: – Только вы поскорее, а то и война кончится, пока мы будем печатать книжку. (1938a: 9) In the fall of 1914, at the very beginning of the war, the publishing house “Universal Library” (many remember its little yellow books) proposed that I compile a small anthology entitled “War in Russian Lyric Poetry”. It was decided to include, as a rule, only poems concerned with war itself, i. e., the concept of war, military activities, military conditions, etc. Pieces that appeared only because of the war but actually dealt with political, not military, topics were excluded. Thinking about commercial profit, an editor said to me: “Don’t dawdle [getting the anthology together], otherwise, the war will be over before we publish the book.” The editor’s remark ironically highlights his contemporaries’ naiveté at the beginning of the war. Further on in his article, Chodasevič indicates how his earlier naïve self underwent a painful process of comprehending both modern war’s unprecedented features and the profound discrepancy between the “modern” character of the war and the inadequacy of contemporary war literature. This understanding was all the more painful as Chodasevič came to understand that his own anthology of war poetry was a prominent example of 62 Edward Waysband such an inadequacy. He also understood that it had had the purpose of mobilizing enthusiasm for the war among the reading public. Ironically, just as his war anthology had engaged in the patriotic effort of World War I, his article, ‘Vojna i poėzija’, which revealed one historical inadequacy, was currently being used in yet another propagandistic campaign. Its thematic relatedness to Rennikov’s article ‘Filosofija vojny’ testifies to Chodasevič’s intention to support the previous article. 10 Chodasevič’s article thus encompasses two perspectives: it describes the experience of World War I; yet, this description constantly addresses the current situation and the fear that another war would replay the previous one on an even more terrifying and “absurd” level. Ambiguous in its historical and ideological perspectives, the article also compromised Chodasevič’s literary position. While criticizing traditional war poetry, Chodasevič ignored existing modernist responses to the war, including his own war poetry. Accepting that modernist poetry was the adequate response to yet another war would mean endangering his own neoclassical literary position and identifying with representatives of a modernist poetics that Chodasevič disliked. Chodasevič can thus be called a reluctant modernist who was fully aware of the challenges of modernity, but, at the same time, like many other post-war European writers, objected to modernist writing. He was wary of a positive revaluation of that modernity that, it seemed to him, had ushered in the inhumanity of the modern age (see Edwards 2005: 30). The Meeting of Extremes: Chodasevič’s ‘Vojna i poėzija’ and Majakovskij’s ‘Vojna i jazyk’ Despite Chodasevič’s view of Vladimir Majakovskij as the embodiment of a complete embrace of modernity that he himself did not accept, his article ‘Vojna i poėzija’ has much in common with the latter’s criticism of war literature. Significantly, the first public statement in their long literary opposition raised the issue of battle poetry as a paradigm of modernist consciousness. It was Majakovskij’s response to the publication of the anthology Vojna v russkoj lirike (War in Russian Lyrics) that served as an overture to the two poets’ subsequent long feud, which did not end even with Majakovskij’s death. Among Russian Futurists, Majakovskij was the one who most extensively elaborated their aesthetics with regard to World War I. At the beginning of the war, his sentiments coincided with the common militarist and anti-German enthusiasm that swept through most of Russian society (see Brown 1973: 109-110). At that time, in a number of articles published in the newspaper Nov’ (Virgin Soil) from October to December 1914, Majakovskij applied pre-war concepts of Futurism to the new reality of war. His article The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 63 ‘Štatskaja šrapnel’’ (‘Civilian Shrapnel’) depicted the war as an extreme manifestation of modernity that demanded radically new forms for its representation: “Искусство умерло. [...] Умерло искусство потому, что оказалось в хвосте жизни: дебелое не могло защищаться” (Majakovskij 1955: 302-303; “Art died. […] Art died because it trailed behind life: pudgy [art] could not protect itself”). War is a new form of modernization or futurization not only of art but of life itself: “[...] я никогда не был в Олонецкой губернии, но я достоверно знаю – сегодня ее пейзаж изменился до неузнаваемости оттого, что под Антверпеном ревели сорокадвухсантиметровые пушки” (309; “I have never been in Olonec province, but I know for sure – today its landscape has changed unrecognizably because forty-twocentimeter cannons were booming near Antwerp”). Hence, modern warfare and Futurism have common denominators – drastic changes in life and art (see Borenstein 2000-2001: 87-89; Hodgson 1994: 66-67). Utilizing his aggressive pre-war tactics, Majakovskij’s articles affirmed Futurism by pitting it against “outmoded” literary practices. In his article ‘Vojna i jazyk’ (27 November 1914; ‘War and Language’), published in Nov’, Chodasevič’s anthology Vojna v russkoj lirike became a target: Люди по трехлетней привычке бранят футуристов и их новшества, но что же ценное можно получить от старой, уже бывшей в употреблении, литературы? Вот, напр., “Универсальная библиотека”, чтоб удовлетворить потребность разговаривать войной, выпустила сборник “Война в русской лирике”. Вы накинитесь, вам интересно знать, как чувствуют жизнь те, уже слышавшие и пение пуль и нытье шрапнелей, и вдруг наталкиваетесь на стих Рылеева (хорошо, что еще “Слово о полку Игореве” не напечатали): В лесу дремучем, на поляне Отряд наездников сидит. Послушайте! “Дремучая поляна” и “сидящие наездники” – ведь 11 это же для сегодняшнего дня настоящая “электрическая конка”! Боже меня сохрани говорить скверно о Рылееве, но в чью безумную голову вкралась мысль красоту сегодняшней жизни аргументировать этим столь далеким прошлым? (Majakovskij 1955: 326) Following their three-year-old habit, people inveigh against the Futurists and their innovations, but, I ask you, can anything valuable be obtained from tired, second-hand literature? Take, for example, the collection “War in Russian Lyrical Poetry”, published by “Universal Library” to fill the need to speak about the current war. 64 Edward Waysband You will pounce upon [such book], you will want to know how those who already have heard the singing of bullets along with the whining of shrapnel experience life, and suddenly you come up against Ryleev’s verse (we should be grateful, at least, that they did not publish “The Tale of Igor’s Campaign”): In the thick forest, on the meadow A squadron of horsemen are resting. Listen! “The thick forest” and “resting horsemen” – are we not dealing with a genuine “electric horse tram” and that in our day and time! God keep me from disparaging Ryleev, but into whose deranged head did the idea of demonstrating the beauty of today’s life by such a distant past enter? The expression “безумная голова” was directed against the book’s publisher as well as its editor, Chodasevič. In addition to insulting Chodasevič personally, the statement above points to the opposition of two aesthetic principles: the presentation of modern life through the prism of poetic tradition versus an abrupt break with this tradition. Majakovskij’s rebuke was all the more painful as Chodasevič himself was aware of the anthology’s failure. In his 9 November 1914 letter to Boris Sadovskoj (that is, before the publication of Majakovskij’s article ‘Vojna i jazyk’), Chodasevič writes: “Вышла моя ‘Война’. Ужасно плохая книжонка. Да некогда было сделать ее получше – и не из чего: плохо пишут русские поэты о войне” (1996: 346; “‘My War’ has been published. A terribly bad book. But there was no time to improve it – and there was no material either: Russian poets write poorly about war”). A month after the publication of Majakovskij’s article, in his 28 December 1914 letter to Georgij Čulkov Chodasevič wrote about changes in Moscow life after the war had started. Among other things, he touched upon literary life: Литературы нет, не взыщите. Впрочем, все (ах, и я!) пишут плохие стихи на военные темы. На военные темы, оказывается, русские поэты всегда писали неважно. Я это узнал, составив по заказу “Пользы” антологию: “Война в русской лирике”. Скучная вышла книжка. (1997, 4: 392) There is no literature to speak of; don’t blame us. Everybody (ah, myself included!) writes bad poems on war themes. It turns out that Russian poets always wrote bad war poetry. I discovered this when I compiled the anthology “War in Russian Lyrical Poetry” at the request 12 of “Profit”. It is a boring book. The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 65 Majakovskij and Chodasevič shared a negative evaluation of the anthology, but they explained its failure differently. Majakovskij points to traditional poetry’s inability to capture modern warfare. Probably influenced by Viktor Šklovskij’s lectures, he posits a correlation between a poetic utterance and the time in which it was composed.13 He questions not Ryleev’s poetic importance for that poet’s own time but the meaningfulness of his war poems for the present. Chodasevič’s war anthology was based on the principle sub specie aesthetica, declared in his introduction to the anthology Russkaja lirika ot Lomonosova do našich dnej (Russian Lyrical Poetry from Lomonosov to the Present), which he compiled in the first half of 1914:14 В то время, как другие подобные издания стараются представить каждого поэта в наиболее характерных, выразительных для него образцах, стремятся выявить его творчество и миросозерцание как можно всестороннее, – мы мало заботились о такой полноте. Мы старались выбрать лучшие произведения каждого данного автора, независимо от того, являются ли они в его творчестве типическими или случайными, вполне самостоятельными или отражающими чужое влияние. (2009-2010, 1: 604) Whereas other such compilations attempt to present the most characteristic, significant examples of a poet’s work, striving to reveal the most multifaceted picture possible of his work and worldview, we did not worry about such all-comprehensiveness. We attempted to select the best works of each author, regardless of its place as typical or as incidental in his oeuvre, of whether they are completely independent or reflect an outside influence. In Vojna v russkoj lirike, however, the aim of compiling a war collection took precedence over the canonization by aesthetic principle that had dominated the previous collection. In selecting poems based on their thematic suitability and transferring them into a new historical context, Chodasevič involuntarily turned them into inadequate, “poor” poems. His subsequent application of evaluative criteria all the more distinctly reveals enforced methods of “anthologization”: while seeming to uphold eternal aesthetic values, Chodasevič, nevertheless, judged poems from the past by current literary criteria, which, incidentally, Majakovskij does not permit himself with regard to Ryleev. In his article ‘Vojna i poėzija’, Chodasevič’s explanation of the failure of his anthology nevertheless recalls Majakovskij’s diatribe: Работу свою я сделал добросовестно, хоть и проворно. О книжке 15 появились благоприятные отзывы. Но пока я [антологию] соста- 66 Edward Waysband влял и пока она печаталась, прошло месяца полтора. Война тем временем разгоралась, определялся ее характер[,] и я все отчетливее чувствовал режущее противоречие между тем, что сейчас происходит, и тем, что изображено в книжке. Мне казалось, что я в чем-то очень важном обманываю читателей. В особенности неприятно было думать, что книжку будут читать и на фронте, в окопах. (1938a: 9) I did my work conscientiously although hurriedly. The little book received favourable reviews. About a month and a half passed, however, while I was compiling the anthology and until its publication. The war, in the meantime, flared up, its nature became clearer, and I felt ever more clearly the acute contradiction between what was happening and what was depicted in the book. It seemed to me that I was deceiving the readers about something very important. It was particularly unpleasant to think that the book would be read also at the front, in the trenches. Subsequently, Chodasevič expanded on his feeling of embarrassment when he recognized the contradiction between the spirit of the battle poetry in his collection and the spirit of the modern war: Большое значение имели для меня штабные сводки и другие реляции с фронта. При всей их краткости, сухости, скудости, я понял, что по мере приближения к нашему времени не мог не пересохнуть душевный родник батальной лирики, ибо все более менялась и, наконец, изменилась в корне боевая обстановка, а с нею – и вся психология бойца. Разумеется, война, как всякое другое жизненное явление, осталась возможною и законною темой поэзии. Но она постепенно лишалась и к 1914 году почти уже полностью лишилась того, что прежде могло быть в ней упоительно. То, что некогда одушевляло и вдохновляло поэтов боя, почти иссякло, и в новой обстановке моя книжка стала звучать не только ложью, но как бы даже издевательством. Залихватские стихи Дениса Давыдова я предлагал людям, которые, побывав в современном бою, не только не сохранили о нем никаких поэтических воспоминаний, но и вообще не хотели о нем вспоминать и о нем говорить, потому что лишь чувство долга и ложная боязнь показаться трусом мешали им сказать прямо: мерзость и ужас. (ibid.) Staff reports and other dispatches from the front were very important to me. For all their brevity, dryness, and terseness, I realized that as it came closer to our time, the source of battle lyrics could not but dry up because the nature of war kept changing and, eventually, changed completely, along with the psychology of the soldier. Of course, war, like any other aspect of life remained a possible and legitimate subject of poetry. It was, however, gradually losing, and by 1914 had almost The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 67 completely lost that which previously made it entrancing. The inspiration that once animated and inspired battle poets has almost dried up, and in new circumstances my book began to sound not only false, but even as mockery. I offered Denis Davydov’s rollicking poems to people who, having been in modern battle, not only did not retain any poetic reminiscences about it, but did not want to remember or to talk about it at all, because only a sense of duty and a false fear of appearing to be a coward prevented them from saying directly what they thought – that it was abomination and horror. In his war articles, Majakovskij similarly writes about the discrepancy between traditional battle poetry and the reality of modern war. Yet Majakovskij and Chodasevič differed in regard to the emotional reactions that the war aroused in them and they reached different conclusions from their awareness of the depletion of the poetic tradition. Rejecting the old “word weaving” of battle poetry, Majakovskij optimistically urges searching for new poetic forms to describe the modern war. In his article ‘Vojna i jazyk’, he metaphorically identifies poetry with war based on their common renewing essence: “Пересмотр арсенала старых слов и словотворчество – вот военные задачи поэтов” (emphasis added; “The revision of the arsenal of old words and word-creation are the poets’ military tasks”). Chodasevič is also aware of the obsoleteness of traditional battle poetry, as is evident from his article ‘Vojna i poėzija’. Moreover, he is aware of the gradual disappearance of the social, cultural, and military contexts that conditioned the creation of traditional battle poetry. In contrast to Majakovskij’s glorification of the creative essence of modern warfare, however, Chodasevič emphasizes the depersonalizing effect of total technological war on its participants who are transformed from individuals to “units” of a collective by it: Лишенный того, что составляет его воинскую личность, участник будущей войны рано или поздно ощутит себя не частицею действующей армии, но частицей толпы, на которую обрушилась стихийная катастрофа. Обезличенный как боец он сохранит лишь другие, чуждые войне стороны своей личности. Подобно тому, как бывает, скажем, во время землетрясения, он, вероятно, постарается сохранить в себе остатки пассивного мужества, известную выдержку, но это и будет максимум требований, которые он к себе предъявит. Как во время землетрясения, он не только даст волю инстинкту самосохранения, но и оценит свое природное право на этот инстинкт так, как не оценивал, пока его воинское сознание не было парализовано. Иначе говоря, он не только не станет сопротивляться страху и отвращению, вызываемому войной, но и ощутит всем своим существом право на этот страх и на это отвращение. Больше того: как всякое право – и это станет ему дорого, 68 Edward Waysband приобретет в его глазах некоторый ореол. И если он еще пожелает, подобно предкам, изъяснить свои чувства стихами, то это право на страх и на отвращение станет основным двигателем и основным мотивом его поэзии, которую придется назвать батальной, потому что она вызвана переживанием боя, но в применении к которой такое прозвище будет звучать уже иронически. Скажу, однако, по совести, может быть, такое переживание войны будет, наконец, то самое, какого она единственно заслуживает. (Chodasevič 1938b: 9) Deprived of what constitutes his military personality, the participant of the future war will eventually feel not like part of an active army but like a particle of a crowd hit by natural disaster. Depersonalized as a fighter, he will preserve only the other aspects of his personality – those alien to war. For example, just like during an earthquake, he will probably attempt to preserve vestiges of passive courage, some stamina, but this will be the most he will demand of himself. As at an earthquake, not only will he give free rein to his instinct of self-preservation but he also will valorize his natural right to this instinct in a way he never valorized it before his military consciousness was paralysed. In other words, not only will he not resist his fear and disgust evoked by war but he will also, with all his being, feel that he is entitled to his fear and disgust. What is more, he will cherish this sense of entitlement and it will acquire an aura of justification. And if he still wishes, like poets before him, to convey his feelings in verse, his right to fear and disgust will become the main impetus behind, and the main theme of, his poetry; this poetry will have to be called battle poetry since it was called forth by war experience, but such an appellation would inevitably sound ironic. I would say, however, in good conscience, perhaps such a perception of war is ultimately the only one it deserves. Following his anti-war sentiment, Chodasevič finishes his article with a sentence that exposes his current agenda: “Я хотел бы отметить, что во время недавно пережитой военной тревоги ни один русский писатель не запятнал себя призывом к бойне” (ibid.; “I would like to point out that during the recent war tribulations, no Russian writer besmirched himself by issuing a call to slaughter”). This demarcates the dividing line between Majakovskij’s and Chodasevič’s attitude to war and battle poetry, a division impacted by their differing visions of literature, as well as the almost quarter of a century time span between the writing of their respective articles. With enthusiasm characteristic of his time, Majakovskij praises the reinvigorating effect of modern war on life and art. Chodasevič describes its destructive effect on the individuality The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 69 of its participants. According to Chodasevič, modern war poetry should express war’s dehumanizing effect on man. His own modernist war poetry – but also Majakovskij’s – read as if written in response to this retrospective demand. The Modernist Contrast: Majakovskij’s ‘Traurnoe ura’ and ‘Mama i ubityj nemcami večer’ In his already mentioned article ‘Vojna i jazyk’, Majakovskij rejects the outdated phraseology exemplified by the “электрическая конка”, advocating a modern, “war” language to replace it: “Мы должны требовать речь, экономно и точно представляющую каждое движение. Хотим, чтоб слово в речи то разрывалось, как фугас, то ныло бы, как боль раны, то грохотало б радостно, как победное ура” (1955: 326; “We must demand a speech that would economically and precisely represent every movement. We want speech in which the word might at one moment explode like a mine, and at another ache like the pain of a wound, or roar joyfully as a victorious hurrah”). Yet, as if consciously subverting his own “victorious hurrah”, Majakovskij edited a literary page in Nov’ under the title ‘Traurnoe ura’ (‘The Mournful Hurrah’), where he also published his poem ‘Mama i ubityj nemcami večer’ (‘Mama and an Evening Killed by the Germans’) and his short story ‘Davno prošedšee’ (‘Plus quam perfectum’; under the pen name “ъ”) along with works of other avant-garde poets. By publishing the poem on the same literary page of Nov’ where he had published his previous articles in support of war, he seemed to intend ‘Mama i ubityj nemcami večer’ as their poetic embodiment. Its formal novelty does indeed vividly distinguish it from most poetic production of the time, but its tone contrasts sharply with the prevalent spread-eagle enthusiasm that, in fact, had predominated in Majakovskij’s articles as well. Majakovskij planned a showcase for modernist poetry on Nov’s pages. On November 19, a day before publication of ‘Traurnoe ura’, Majakovskij issued this announcement: “Завтра выйдет страница новейшей поэзии и литературы. Асеев Н., Большаков К., Бурлюк Д., Маяковский В., Пастернак Б. и др. Страница первая ‘Траурное ура’” (Nov’, No. 118, 19 November 1915, 6;16 “Tomorrow we publish a page of the newest poetry and literature. Aseev, N.; Bol’šakov, K.; Burljuk, D.; Majakovskij, V.; Pasternak, B.; and others. First page – ‘A Mournful Hurrah’”). This first page was, however, also the last, as after its publication, the editor of Nov’, A. Suvorin, turned against Majakovskij and removed him as editor of the literary page (see Majakovskij 1955: 449; Vladimirov 1976: 26-27).17 The thematic coherence of ‘Traurnoe ura’ does however highlight Majakovskij’s conscious effort to bring together a literary group with a common agenda. The failed 70 Edward Waysband enterprise of ‘Traurnoe ura’ can thus be compared to similar European modernist enterprises such as the Vorticist Blast (1914-1915) or expressionist Menschheitsdämmerung (1919). ‘Traurnoe ura’ and the “электрическая конка” have a similar oxymoronic structure. Majakovskij scholars refer to this type of “oxymoronic” form as a technique of “parodic contrast”, noting that it was Majakovskij’s favourite literary technique (see Jakobson 1956: 184; Aroutunova 1973: 7). It should be noted, however, that the “parodic contrast” is a metonymic representation of a more general phenomenon that, as a whole, guided Majakovskij’s poetics – the modernist contrast. In terms of this contrast, there is a definite shift in emotional attitude to the war, but there is no contradiction between Majakovskij’s war articles and war poetry (cf. Percov 1976: 229232). In his articles, he constantly contrasts outdated literary practices with new war realities and the need to renew poetry, using the oxymoronic “электрическая конка” and Chodasevič’s war anthology as examples of failed attempts to catch up with modernity. Just as the phrase “электрическая конка” exposes an inner gap, so too, ‘Traurnoe ura’ points to the tragicomic discrepancy between traditional hurrah-patriotism and the dreadful reality of the war. ‘Traurnoe ura’ seems to serve as an auto-commentary to the poem ‘Mama i ubityj nemcami večer’, as it focuses on the internal contradiction between the hurrah-patriotic language of “newspapers” and the horrendous experience of soldiers and their families. Just as “электрическая конка” comically pulls apart on “horse” and “electric tram”, the “Evening”, despite its multiple mutilations, pathetically attempts to catch up with the rollicking spirit of war propaganda: А вечер кричит, безногий, безрукий: “Неправда, я еще могу-с – хе! – выбряцав шпоры в горящей мазурке, выкрутить русый ус!” (Majakovskij 1955: 67) But the evening is crying out, legless, armless: “You’ve got it all wrong, I still can – ha! – clanging my spurs in a fiery mazurka, twirl my golden-brown mustache!” With its tragic tone, juxtaposition of physical injuries with official newspaper reports of glorious victories, grotesque infusion of the dance macabre into the maimed ‘Evening’s’ pathetic heroism, and simultaneous appeal to basic human feelings of kinship, Majakovskij’s poem creates the same sense of empathy with the victims of war that Chodasevič wrote about in his article, calling these “the main motif and the main theme” of “future” The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 71 war poetry. Majakovskij’s poem expresses the only perception of the “new war” that it deserves in Chodasevič’s view, expressed later. A Friendship Encounters the Modern War: Chodasevič and Kissin Chodasevič’s attempt to write modernist war poetry went through some preliminary stages. His first effort to come to terms with war poetry was his poem ‘Iz myšinych stichov’ (‘From Verses of Mice’), which tries to apply the poetics of “private existence” (Kotrelev 1989: 134), typical of his pre-war book Sčastlivyj domik (The Happy Little House; 1914), to current war realities. In his above-mentioned letter to Čulkov (15 December 1914), Chodasevič exclaims: “все (ах, и я!) пишут плохие стихи на военные темы” (1997: 392; “everybody [ah, myself included!] writes bad war poems”). This statement may well refer to his ‘Iz myšinych stichov’ published in the December 1914 issue of Apollon, along with poems by Gumilev, Georgij Ivanov, Blok, Mandel’štam, and Vjačeslav Ivanov.18 Composed on 17 September 1914, the poem exemplifies the Russian intelligentsia’s feelings at the beginning of World War I, as it attempted to delineate the borderline between the private and the public and to preserve the autonomy of the former. Chodasevič’s alter ego, a mouse, accepts the “lofty” ideology of war rhetorics and is prepared “to pray” for the victory of Russia and its allies, but the “mouse” also clearly distances itself from the war of humans: У людей война. Но к нам в подполье Не дойдет ее кровавый шум. (Chodasevič 2009-2010, 1: 205) People are at war. But its bloody roar Will not reach us in the underground. The mouse’s “underground” may refer to Dostoevskij’s underground man who does call himself a mouse and unabashedly voices his extreme individualism. 19 At the beginning of the war, Chodasevič attempts to circumscribe the autonomy of this private world in the face of historic upheavals. The mouse’s pre-war playful praise of humble values looks incongruously out of place, however, in the context of the true scale of tragic events at the time of the poem’s publication. Chodasevič’s second war poem (unfinished), “Na novom, radostnom puti” (“On your new, joyous path”; 1914-1915), represents his self-mobilization. His conscious use of traditional Russian poetics reinforces his subscribing to Russian imperial discourse and the poem’s propagandistic rhetoric (see Waysband 2015). In Russian society, such self-mobilizing rhetoric started to fall apart with military defeats at the front in the second half of the spring of 1915. In 72 Edward Waysband his 9 August 1915 letter to Kissin, Chodasevič, nevertheless, proposes, in a rather violent language, to halt the breakdown of that ideology: Я не говорю про тех, кто на позициях: должно быть, там и прапорщик порядочный человек. Но здешних интеллигентов надо вешать: это действительно внутренний враг, на ¾ бессознательный, – но тем хуже, ибо с ним труднее бороться. Он и сам не знает, что он враг, так где уж его разглядеть? А он тем временем пакостит, сеет “слухи из верных источников” и т. д. (1997, 4: 396) I am not speaking about those who are manning the positions: most probably, there, even a warrant officer is a decent man. But our intelligentsia ought to be hanged: it is truly an internal enemy, three-quarters unconscious, but this makes it even worse, as it is more difficult to struggle against him, this internal enemy. He himself does not know that he is an enemy, so how can he be recognized? And in the meantime, he plays dirty, spreads rumours “from reliable sources” and so forth. This fantasy of imposing order on the ideological collapse had its analogy in Realpolitik, as the military government tried to consolidate the situation by trying and executing would-be “internal enemies”. Jews, in civilian life and especially in the military, who by their marginality undermined the premises of national consolidation, were among the first victims of the effort to strengthen the system (see Altshuler 1973-1974; Fuller 2006: 175-180; Goldin 2000; Lohr 2003: 137-150; Lohr 2011). It thus sounds strangely callous on Chodasevič’s part to call for executions in a letter to his Jewish friend Kissin, whose problems in the army, despite his attempts to conceal them in his correspondence, infuse his writings and sleep (see Kissin 1999: 157; Andreeva 1999: 358-359) and can be easily contextualized by literary and historical evidence (see Dubnov 1918; Petrovsky-Shtern 2009: 248-264). Chodasevič seems to sacrifice sympathy for his friend’s predicament for the sake of his own self-mobilization. Chodasevič’s sense of guilt in the wake of Kissin’s suicide (see Čulkova 1990: 398; Andreeva 1999: 362364), which he also expressed in his poetry (see his poem “Ledi dolgo ruki myla” [“The Lady washed her hands for a long time”]; 1922), was, therefore, not altogether groundless. The matter goes beyond his inability to prevent his friend’s suicide. His self-mobilized and assimilatory aspirations, which found an expression in the poetic denunciation of his mother’s Polish-Jewish heritage in his lyrical manifesto “Ne mater’ju, no tul’skoju krest’jankoj” (“Not by my mother, but by a Tula peasant woman”; 1917-1922), symbolically accorded with all too real marginalization and denouncement of such liminal elements as Kissin. As Sarah Cole points out, male friendship was an essential experience in the course of World War I. Kissin’s letters, similar to those of many other The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 73 combatants, testify to the importance of personal friendship in a war atmosphere. The more Kissin felt alienated from the “primary group” of fellow servicemen, the more importance he attributed to the correspondence with his best friend, “Vladja”. His letters abound in self-abasing requests for correspondence and descriptions of his happiness upon receiving letters; they verge on whimpering bliss. The emotional stress of his situation seems to have exacerbated the intensity of his dependence on this friendship, which Chodasevič constantly ignored with his rare, ironic answers sometimes diluted with propagandistic rhetoric. According to Kissin’s 1915-1916 notebook, even during his rare visits to Moscow, Chodasevič preferred anyone else’s company to his. 20 In her book, Cole discusses male friendship and war in relation to the notion of “modernity”, arguing that the war was the watershed of the transformation “from an idealized, often utopian notion of male friendship to an image of modernity as reflecting the wreckage of that very ideal” (2003: 2). The friendship between Kissin and Chodasevič did not withstand the challenge of the modern war: Kissin was driven to desperation by his war experience, whereas Chodasevič was slow to understand this while wrapped in the security of patriotic ideology, which suddenly collapsed in the face of Kissin’s suicide. The process of mourning, reflected in his “macabre” poems, was, at the same time, a process of coming to terms with modernity. Chodasevič’s distancing himself from his friend was counterbalanced by Kissin’s growing indifference to, if not contempt of, his friend’s literary self-realization. In the poetry that he was rather infrequently writing at that time, Chodasevič continued to work within the neo-classical poetics that was a literary counterpart to his assimilationist aspirations. That form of identity politics and literary strategy were at variance with Kissin’s increasing cultural and existential uprootedness during the war. Kissin himself did not, however, turn his back on poetry altogether. In his 27 December 1915 letter to Kissin, Chodasevič answers his request to send him Tichon Čurilin’s recently published book Vesna posle smerti (Spring after Death). Although this book may be considered a modernist breakthrough in Russian poetry, 21 Chodasevič disparagingly dismisses it as “третьесортные подделки под Белого” (Kissin 1999: 255; “a third-rate imitation of Belyj”). Kissin, apparently, was looking for adequate literary attempts to address a new reality, but as such attempts necessarily deviated from traditional literary forms, Chodasevič scorned them. Conversely, Chodasevič’s reminiscences indicate that his own neo-classical poetry was, in turn, a target of Kissin’s critique. In his article ‘Muni’, Chodasevič describes their last conversation in the spring of 1916, when Kissin arrived for a brief visit to Moscow: Под конец его последнего пребывания в Москве, как раз накануне его отъезда, я должен был читать стихи на каком-то вечере в 74 Edward Waysband Политехническом музее. Муни сказал, что придет меня слушать, но за час до начала позвонил по телефону: – Нет, прости, не приду. – Почему? – Так, не сочувствую. Не нужно все это. Будь здоров. И повесил трубку. Это был наш последний разговор. (Chodasevič 1997, 4: 73) Close to the end of his last stay in Moscow, just on the eve of his departure, I was supposed to read my poems at some evening at the Polytechnic Museum. Muni said that he would come to listen to me, but an hour before it started, he phoned me: – No, sorry, I won’t come. – Why? – Well, I don’t sympathize with it. It’s all unnecessary. Be well. And he hung up. That was our last conversation. Whereas this conversation could be interpreted as Kissin’s having lost interest in literary life, in another instance Chodasevič indicates that Kissin was disparaging of a specific type of poetry. In his Sobranie stichov, Chodasevič wrote about his poem ‘Ručej’ (‘The Brook’): “Это последние стихи, прочитанные мной Муни дня за два до его отъезда из Москвы. Он зло улыбнулся и сказал: ‘Ну, валяй, валяй в антологическом духе. А мне уж не до того’” (2009-2010, 1: 381; “This is the last poem that I read to Muni about two days before he left Moscow. He smiled wickedly and said: ‘Well, carry on, carry on in the anthological spirit. This no longer interests me’”). Although Kissin here primarily alludes to the neo-classical characteristics of Chodasevič’s poetry, he may also ironically be drawing a parallel between Chodasevič’s neo-classical poetry and his above-mentioned anthological undertakings. Chodasevič’s neoclassicism and self-fashioning as a proponent of traditional norms could not speak to Kissin’s war experience fraught with an actuality Chodasevič did not know. The above examples undercut the accepted view that Kissin’s criticism hindered Chodasevič’s poetic development and that only during the war – far from his over-critical friend – did Chodasevič have a feeling of a poetic freedom. That view merely follows Chodasevič’s self-justifying vision of their relationship (see Chodasevič 1997, 4: 73; Andreeva 1999: 362). Until Kissin’s death, Chodasevič continued to develop the poetics of Sčastlivyj domik; only his “macabre” poetry broke drastically with his previous “anthological” verse, as if he had suddenly heeded Kissin’s criticism. The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 75 Anti-war Modernism: ‘Rachel’s Tears’ In his 26 January 1917 letter to Boris Sadovskoj, Chodasevič wrote: “написал пяток макабрических стихотворений” (1996: 359; “I wrote five macabre poems”). He probably was referring to five poems written in the second half of 1916 that appeared one by one in his notebook under the motto “Omen aversum” (Latin: “bad omen”): ‘Slezy Rachili’ (‘Rachel’s Tears’), ‘Sny’ (‘Dreams’), ‘Utro’ (‘Morning’), “Visel on, ne kačajas’” (“He hung, not swinging”), and ‘Smolenskij rynok’ (‘Smolensk Market’) (422). All but one of them (‘Sny’), plus an additional poem ‘Zoloto’ (‘Gold’), later appeared in the collection Vetv’ (The Branch; 1917) under the title “Iz knigi Farforovyj venok” (“From the Book The Porcelain Wreath”; 1917).22 As this cycle is directly connected to Kissin’s death, its title, mentioning a common Russian grave adornment, suggests that Chodasevič envisioned his future book Farforovyj venok as a memorial tribute to his dead friend. Later retitled Putem zerna and supplemented by poems written during the revolutions of 1917 as well as post-revolutionary poems, the collection still memorializes Kissin by its dedication, “Pamjati Samuila Kissina” (“To the memory of Samuil Kissin”; Andreeva 1999: 367-368); it is thus firmly linked to the experience of World War I. The first poem of the cycle, ‘Slezy Rachili’, written from 5 to 30 October 1916, is prominently associated with war poetry and can be considered a turning point in Chodasevič’s poetic career. It sets the stage for the emergence of Chodasevič as a modernist poet who breaks with his own immediate poetic past and rejects his contemporary Russian patriotic war culture. In his brief comments on the poem in his Sobranie stichov (1927), he writes that his brother-in-law Čulkov reproached him for “defeatism” because of this poem (2009-2010, 1: 380). In other words, readers were now blaming him for what he himself had criticized in others a year before. Chodasevič’s “macabre” poems prove the commonplace that Modernism reassesses war experience both topically and formally: in them he not only introduces thematic innovation but also experiments with new formal features (see Bogomolov 1999: 349, 365-367), which in a moderate way integrate the most common modernist characteristics of fragmented narratives and sparse language. Thus, the “prosaic” dol’nik of ‘Slezy Rachili’ continues “the poetic revolution of modernism” initiated by Blok’s accentual poetry (see Gasparov 1997: 467), reinforcing Chodasevič’s drastic break with the “heroic” tradition of Russian war poetry: 23 76 Edward Waysband Слезы Рахили Rachel’s Tears Мир земле вечерней и грешной! Блещут лужи, перила, стекла. Peace to crepuscular and sinful earth! Puddles, railings, window panes are glittering. I walk slowly in the rain, My shoulders and hat are drenched. Now we have all become homeless, As if we always were eternal vagrants, And the irrepressible rain is singing to us About Rachel’s ancient tears. Под дождем я иду неспешно, Мокры плечи, и шляпа промокла. Нынче все мы стали бездомны, Словно вечно бродягами были, И поет нам дождь неуемный Про древние слезы Рахили. Пусть потомки с гордой любовью Про дедов легенды сложат – В нашем сердце грехом и кровью Каждый день отмечен и прожит. Горе нам, что по воле Божьей В страшный час сей мир посетили! На щеках у старухи прохожей – Горючие слезы Рахили. Не приму ни чести, ни славы, Если вот, на прошлой неделе, Ей прислали клочок кровавый Заскорузлой солдатской шинели. Ах, под нашей тяжелой ношей Сколько б песен мы ни сложили – Лишь один есть припев хороший: Неутешные слезы Рахили! (2009-2010, 1: 85-86) Let our descendants compile legends About their grandfathers with proud love – In our hearts every lived-through day Is marked by sin and blood. Woe unto us, who by God’s will Visited this world at a terrible time! On the cheeks of the old woman passing by We see Rachel’s scalding tears. I shall not accept either honour or glory If, look, last week, She was sent a bloodied and stiff piece Of a soldier’s stiffened coat. Ah, under our shared heavy burden No matter how many songs we have written There is only one good refrain: Rachel’s inconsolable tears! As in his future 1938 letter to Berberova, one of the main terms of reference for ‘Slezy Rachili’ is Tjutčev’s poem ‘Ciceron’, which sets the metaphysical dimension for the current historical reality. Whereas in 1938, this allusion served to justify Chodasevič’s passivism, in 1916 it is radically revisionary, as it reflects back on and subverts the “recruitment” of Tjutčev by contemporary war poets, primarily Chodasevič’s literary “father figure”, Valerij Brjusov. Brjusov viewed this poem as a point of reference for major historical upheavals starting from the outbreak of World War I. 24 In his book Sem’ cvetov radugi (Seven Colours of the Rainbow; 1916), which includes poems from 1912 to 1915, the section of war poems, entitled “Želtyj” (“Yel- The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 77 low”), is divided into three parts, each introduced by a quotation from Tjutčev. Brjusov enlists Tjutčev both for his pan-Slavist vision of and his metaphysics of war. Accordingly, the central part of “Želtyj” is named after ‘Ciceron’s line “Высоких зрелищ зритель…” and is introduced by an epigraph taken from the same poem: “Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты роковые. / Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир. / Он – их высоких зрелищ зритель” (see note 3). Ennobling World War I by providing it with a classical pedigree, its unique, unprecedented characteristics are obscured; it was a similar anti-modernistic perspective that inspired the compilation of the anthology Vojna v russkoj lirike. In his article ‘Vojna i jazyk’, Majakovskij immediately after the gibe at Chodasevič’s war anthology, cites Brjusov’s war poem ‘Naši dni’ (‘Our days’; which subsequently was included in the section “Želtyj” of Sem’ cvetov radugi) and exclaims: “разве можно подобными словами петь сегодняшнюю войну! Ведь это язык седобородого свидетеля крестовых походов. Живой труп, право, живой труп” (Majakovskij 1955: 327; “Can one really sing of today’s war using such words! Isn’t this the language of a grey-bearded witness of the Crusades? A living corpse, yes, a living corpse”). This archaizing tendency unites Brjusov and Chodasevič in Majakovskij’s eyes. In terms of the broader European context, it represents what T.S. Eliot condemned as an anti-modernist attempt at “controlling, of ordering, of giving a shape and significance to the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary history”.25 In Russian World War I poetry, self-mobilization went hand-inhand with recourse to classical traditions. In ceasing to identify with the war’s aims, Chodasevič simultaneously rejected traditional war imagery. Turning away from the Russian battle tradition, Chodasevič similarly problematizes the future construction of national memory and future generations’ ability adequately to represent “real things”: “Пусть потомки с гордой любовью / Про дедов легенды сложат – / В нашем сердце грехом и кровью / Каждый день отмечен и прожит.” These lines from ‘Slezy Rachili’ already anticipate the sweeping critique of the post-war European memorialization culture in Chodasevič’s war poem ‘Džon Bottom’ (1926).26 Against these two abysses of inadequacies, past and future, Chodasevič depicts a “real” picture of the war, drawing heavily upon a modernist awareness of “the present” – no less radical than that of self-proclaimed avant-gardists. Here Brjusov’s self-aggrandizement is opposed by the self-effacement of a representative of the modern world. In ‘Slezy Rachili’, arguably for the first time, Chodasevič’s new lyric persona appears – an everyman, a flâneur-observer of modern mass society. Chodasevič’s extended review of Brjusov’s Sem’ cvetov radugi, published in the newspaper Utro Rossii (No. 141, 21 May 1916), can be seen as self-commentary leading up to his incipient modernist poetics. While most reviewers of the book point to Brjusov’s rationalism and the accompanying 78 Edward Waysband decline of his poetry, 27 Chodasevič is not so negative. He sets up an opposition between Brjusov’s previous poetry, which was exclusively subordinated to poetic conventions, and Brjusov’s new poetry of Sem’ cvetov radugi, which was written by someone who has freed himself from these conventions (Chodasevič 2009-2010, 2: 215). A modern critic supports Chodasevič’s antithesis by saying that Sem’ cvetov radugi aligns two aspects of Brjusov’s poetry: his dying symbolism and emerging realism (Gevorkian 2001: 94). In the war chapter, “Želtyj”, the realistic features are, however, subservient to Brjusov’s war ideology. At the same time, one can read Chodasevič’s observation as anticipating the change of his own poetic perspective starting from ‘Slezy Rachili’. Descending from the lofty realm of neo-classical poetics, the poet now views reality as unpredictable and catastrophic but, at the same time, as opening vistas for new poetic creativity. Although the poetic result of the encounter with modernity may seem “macabre”, the poet finds confirmation for this newly discovered poetic authenticity in its sometimes ironic, sometimes tragic, contrast to a pre-modern perspective. In ‘Slezy Rachili’ Chodasevič turns his back on the imperial CiceroTjutčev-Brjusov tradition and identifies with the modern reincarnation of the biblical destiny of personal mourning, guilt, and exile. His poetic persona undergoes drastic re-evaluation in terms of its civic, literary, and gender engagement. The ancient tradition of military glory and the biblical tradition of family values enter into an axiological clash to dramatize the emergent modernist poetics of contrast. Whereas in his previous war poem, “Na novom, radostnom puti”, Chodasevič sanctioned the Russian liberal imperial statement by the supra-individual stance of God-the-father (see Waysband 2015), he is now haunted by the individual female figure of Rachel, who unites in herself a modern war muse and a Jewish version of Pietà. 28 This poetic reorientation was stimulated by Chodasevič’s Polish-Jewish identity predicament and was anticipated by his previous war poems, which imply alienation from the Russian majority and identification with a subaltern point of view. Whereas in his first war poem, ‘Iz myšinych stichov’, Chodasevič resorted to an escapist position, whereas in his second war poem, “Na novom, radostnom puti”, he attempted to overcome his minority complex by redemptive assimilation into a Russian imperial, supranational vision,29 Kissin’s suicide catalysed his civic and minority identification. In ‘Slezy Rachili’, he practically embraces his minority status and universalizes it by extrapolating from it to the plight of the entire Russian population. Chodasevič’s correspondence of that period indicates that he anxiously followed the Jewish predicament during the war. In his 19 June 1915 letter to Kissin, Chodasevič writes: “Гершензон напечатал в ‘Невском Альманахе’ […] прекрасную статью о евреях” (see Kissin 1999: 246; “Geršenzon published an excellent article on Jews in ‘Nevskij Almanach’”). Michail Geršenzon’s article, ‘Delo pravdy i razuma’ (‘The Issue of Truth and Reason’), The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 79 addressed the current tragic situation of Russian Jewry. A major Russian defeat at the front during the spring of 1915 was accompanied by accusations of treason against the Jewish population living near the front line, drastic official anti-Jewish measures, and waves of anti-Jewish actions by retreating Russian troops (see ‘Iz “černoj knigi” rossijskogo evrejstva’; 1918: 237-296; Goldin 2000: 53-59). In its appeal to the Russian public to reconsider the situation of Russian Jewry, who lacked civil rights, Geršenzon’s article echoed the tone of the main publication of that time that addressed the Jews’ plight, the collection Ščit (The Shield).30 Chodasevič’s ‘Slezy Rachili’ clearly draws on Tat’jana Ščepkina-Kupernik’s poem ‘Evrejke’ (‘To a Jewish Woman’), published in Ščit. In her poem, Ščepkina-Kupernik sentimentally reveals the biblical Ur-Mother Rachel in modern Jewish women. In the daughter of a baptized Jew, Lev Kupernik, current Jewish sorrows reawaken a Jewish selfconsciousness: Эти мысли горят… Они жгут, как огнем, И в душе у меня пробудили Затаенный на дне – я забыла о нем! Скорбный плач неутешной Рахили. […] У красавицы юной, – у нищей с клюкой, – Тот же ужас глаза сохранили: Отразился в них странной, нездешней тоской Скорбный взгляд неутешной Рахили. These thoughts burn… They burn like fire, And aroused in my soul Inconsolable Rachel’s mournful weeping, Hidden so deeply – I forgot about it! […] The eyes of a beautiful girl or of an old destitute woman with a crutch Have preserved the same horror: Inconsolable Rachel’s mournful glance Is reflected in them with a strange otherworldly melancholy. (Ščepkina-Kupernik 1915: 187) The repetition of the refrain (“Скорбный плач неутешной Рахили”, “Скорбный взгляд неутешной Рахили”) generalizes the plight of the poet’s contemporaries in a mournful tonality, a refrain which Chodasevič repeats for his own purposes (see “Древние/Горючие/Неутешные слезы Рахили”). In the third part of the poem, Ščepkina-Kupernik replaces the condensed pictures of Jewish sufferings with an optimistic outburst of liberal, populist hopes: 80 Edward Waysband – О, начнись же, начнись же, обещанный день, Солнце радости – золотом брызни!.. Прогони эту вечную черную тень, И несчастный народ поскорее одень Светом новой свободы и жизни! (ibid.) – O, promised day, break forth then, break forth, The sun of joy, splash out gold! Chase away this eternal black shadow, And swiftly clothe an unhappy people With the light of new freedom and life! Chodasevič replicates the tripartite structure of Ščepkina-Kupernik’s poem, moving from an individual to a universal vision, but the third part of his poem is self-referential, not emancipatory. His main question concerns the nature of modern war poetry, and his answer is a striking rejection of the war itself and its post-war glorification that to most constitutes “the entrance ticket” for entering into historical and literary eternity. Chodasevič returns this ticket.31 In an act of self-negating rebellion against poetic rationalization of the historical disaster (in which he himself took part with his anthology of war poetry), Chodasevič prefers a language of mourning that borders on silence: “Сколько б песен мы ни сложили – / Лишь один есть припев хороший: / Неутешные слезы Рахили!” The poems he labelled “macabre”, with their frequent identification with the dead set the stage for this poetic self-annihilation, without, however, achieving it, because it is salvaged by “expressing” mourning.32 At the same time, in ‘Slezy Rachili’, Chodasevič dialectically returns to the values of the private existence of ‘Iz myšinych stichov’; now, however, the ground has been prepared for the deep civic engagement, thematized in Putem zerna. In ‘Slezy Rachili’, Chodasevič’s modernist contrast is strikingly reminiscent of Majakovskij’s “Mama i ubityj nemcami večer”. Both poems resist the abstract rhetoric of heroism by realistic portrayals of mothers receiving a message about the death of their sons “beyond the barriers” (to use Boris Pasternak’s term) of personal and literary animosities, the two poets demonstrate their belonging to “the generation of 1914”, drawn together by their common opposition to the traditional patriotic values that the Russian government was liable to employ in its justification of the war.33 Engaging with and rejecting Russian patriotic culture, ‘Slezy Rachili’ likewise paves the way for the further development of Chodasevič’s modernist poetry on the broader geographical scale of post-war Europe.34 The speaker of ‘Slezy Rachili’, a city flâneur who identifies himself with the war refugees and exiles, 35 later reappears in his European guise in Chodasevič’s émigré poetry, in which he presents a broad range of “damaged men” – “a frequent and dominant character” in post-war European literature (Hynes 1990: 304) – using “damaged” imagery in reference to his exilic I. 36 Self-violated, self-estranged war imagery is thus reactualized to symbolize Chodasevič’s émigré experience against the backdrop of post-war Europe. From ‘Slezy Ra- The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 81 chili’ onward, war poetry will epitomize for Chodasevič the challenges of modernity, ambiguously culminating in the encounter with a new, imminent European war in the article ‘Vojna i poėzija’. NOTES 1 2 3 4 5 6 7 8 Nikolaj Krivcov – the main character of Geršenzon’s book Dekabrist Krivcov i ego brat’ja (The Decembrist Krivcov and His Brothers; 1914). At the battle at Kul’ma, his leg was torn off above the knee by a French bomb, but in London, he was fitted with an artificial leg, that enabled him not only to walk but even to dance (see Chodasevič 1997, 4: 657). Unless otherwise indicated, translations are mine. See: “Оратор римский говорил / Средь бурь гражданских и тревоги: / ‘Я поздно встал – и на дороге / Застигнут ночью Рима был!’ / Так!.. но, прощаясь с римской славой, / С Капитолийской высоты / Во всем величье видел ты / Закат звезды ее кровавой!.. // Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые! / Его призвали всеблагие / Как собеседника на пир. / Он их высоких зрелищ зритель, / Он в их совет допущен был – / И заживо, как небожитель, / Из чаши их бессмертье пил!” (Tjutčev 1966: 36; “Rome’s orator was known to say / Amidst a world disturbed and shaken, / ‘I got up late and was o’ertaken / By Roman twilight on my way!’ / So! But you stood upon a height / And bid farewell to Roman glory / Just when its star, immense and gory, / Declined in all its awesome might!.. // Happy is he who saw this earth / Split to the core by fate’s upheavals: / The feasting gods, like his coevals, / Invited him to share their mirth. / Of all they watch, a live spectator, / Among them with a god-like rank, / Himself as high as a creator, / Their immortality he drank!”; Tyutchev 1993: 58). Italics in the original. On the diverse attitudes of the Russian émigré community to the Munich agreement, see Urickaja (2010: 66-71). Chodasevič (1938a: 9; 1938b: 9). Rennikov (1938: 5). Accused of collaborationism, Berberova thus describes the anti-democratic Weltanschauung of 1940 France in her 30 September 1945 letter to Mark Aldanov: “Да, в 1940 г., вплоть до осени, т.е. месяца три, до разгрома библиотек и первых арестов, я, как и 9/10 французской интеллигенции, считала возможным, в не слишком близком будущем, кооперацию с Германией. […] Мы были слишком разочарованы парламентаризмом, капитализмом, третьей республикой, которая для нас тогда отождествлялась со Стависским” (Berberova 2010: 102; “Yes, in 1940, until the fall, i.e., about three months, until the devastation of libraries and the first 82 9 10 11 12 13 14 15 Edward Waysband arrests, I, just as 9/10 of the French intelligentsia, thought that cooperation with Germany was possible in the not too near future. […] We were overly disappointed by parliamentarianism, capitalism, and the Third Republic, which we equated with Stavisskij”). This attitude infused Rennikov’s article, too; Chodasevič could have partially shared their ressentiment. “Universal’naja biblioteka” was initially a cheap and popular series of the publishing house “Pol’za”. It was so popular that in 1915, a stock company with the same name was established. Chodasevič uses both “Universal’naja biblioteka” and “Pol’za” for designating the publishing house where the anthology was published. The article’s embeddedness in the political situation led to the following situation. Many of Chodasevič’s articles that were first published in Vozroždenie were republished in the Riga newspaper Segodnja (Today). ‘Vojna i poėzija’ was to be republished there as well. Although the first part was reprinted there (with the subtitle “I”; Segodnja, 22 October 1938) and the second part was sent to the newspaper (see Ravdin 1992: 149), the latter did not appear. Unfortunately, because archival materials of Segodnja for 1938-1939 have not been preserved, it is not possible to discover the exact reason why the second part was not published. I would suggest, however, that it was precisely because of its political tendentiousness. At that time, Latvia, endangered by Germany’s blatant expansionist politics, hoped that the Soviet Union, the only country that did not betray its agreements with Czechoslovakia, would serve as a guarantor of its safety (see Abyzov et al. 1997: 180). In that political climate, Chodasevič’s article, with its conspicuous appeasement appeal, would definitely endanger the Russian émigré periodical’s precarious position vis-à-vis Latvian authorities. In Majakovskij’s article, the expression “электрическая конка” (“electric horse tram”) serves as an example of a verbal inadequacy that oxymoronically attempts to cope with modern technological progress. See note 9. In his article ‘Vojna i poėzija’ Majakovskij implicitly refers to Šklovskij’s lecture ‘Voskrešenie slova’ (‘The Resurrection of the Word’; see Majakovskij 1955: 327). According to Chodasevič’s 17 November 1915 letter to Aleksandr Tinjakov, this anthology was published only in November 1915 (1986: 369); although compiled later, the publication of Vojna v russkoj lirike thus preceded the publication of Russkaja lirika by a year. A positive brief remark about the anthology was made by Georgij Ivanov in his review of war poetry (see Ivanov 1915: 62). Ėl-skij [Sergej Štejn] in the 28 November 1914 issue of the newspaper Permskie vedomosti wrote that the beginning of the war generated interest in “how poets of the past looked at war. This interest is satisfied by this collection”. Despite some omissions, Ėlskij noticed that “the most significant found a shelter in [Chodasevič’s] little collection, which most likely will attain wide circulation”. Likewise, the review by Boris Nejman, in the journal Russkij bibliofil (No. 6, 1915), while The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 16 17 18 19 20 21 22 23 83 disagreeing with some of the compiler’s choices, concludes as follows: “In general, the publication of Mr. Chodasevič’s collection is entirely appropriate and has to be welcomed.” I am grateful to Roman Timenčik for sharing the information about these reviews. This announcement was anonymous, but since it followed right after Majakovskij’s article ‘Rossija. Iskusstvo. My’ (‘Russia. Art. We’), the implication is that it was Majakovskij who wrote it. Majakovskij continued, however, to publish articles there. In his review of war poetry, Nikolaj Berner probably refers to this issue of Apollon, including Chodasevič in the group of young poets centred around this journal: “Что касается молодых версификаторов – Георгия Иванова, Владислава Ходасевича и Мандельштама – все они друг другу не уступают в искусственности” (“As regards young versifiers – Georgij Ivanov, Vladislav Chodasevič, and Mandel’štam – no one yields to the other in artificiality”; Berner 1915: 27). See: “Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, a чтоб мне чай всегда пить” (Dostoevskij 1973: 174; “Is the world to go to pot, or am I to go without my tea? I say that the world may go to pot for me so long as I always get my tea” [Dostoevsky 1972: 133]). Already in his poem ‘Begstvo’ (‘Flight’; 1911), Chodasevič defiantly states his preference for Horace-like individualist and hedonist values over military and civic achievements (see Žolkovskij 2009). See: “Владя находит время играть на биллиарде, ходит в бар, считает возможным обедать у Валерия [Брюсова], ко мне зайти не может. Я ему не нужен, скучен. Даже для Грифцова есть у него время” (Kissin 1999: 159; “Vladja finds time to play billiards, frequents the bar, finds it possible to dine at Valerij’s [Brjusov], but does not drop in on me. He does not need me, I’m boring. He has time even for Grifcov”). Marina Cvetaeva remembered Čurilin in her essay on the painter Natal’ja Gončarova as follows: “В первый раз я о Наталье Гончаровой – живой – услышала от Тихона Чурилина, поэта. Гениального поэта. Им и ему даны были лучшие стихи о войне, тогда мало распространeнные и не оценeнные. Не знают и сейчас” (1994: 72; “For the first time I heard about Natal’ja Gončarova from the poet Tichon Čurilin. A poet of genius. It was given to him to write the best poems about the war and he delivered, but at the time they were hardly disseminated and were not appreciated. They are not known even now”). The publication of Vetv’ spans a unique period of Russian history. The collection was typeset following the February Revolution of 1917 and appeared in print on the eve of the October Revolution; see reviews of Vetv’ by I.I. (Il’ja Ignatov) in Russkie vedomosti, No. 266, 4 October 1917, p. 6; and by Avič (Abramovič) N. in Svoboda, No. 22, 9 October 1917. Possibly, Chodasevič consciously uses this rhythm with its “Blokian” semantic halo in his general attempt at that time to draw upon Blok’s modernist war poetry. 84 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Edward Waysband On Brjusov’s references to Tjutčev and, inter alia, to ‘Ciceron’ see Gudzij (1930), and Frajlich (2007: 70-71). Later, after the October Revolution, Brjusov would exploit Tjutčev’s ‘Ciceron’ for self-aggrandizement in new historical circumstances; see his 1920 speech in honour of the 50th birthday of Vladimir Lenin and his 1922 poem ‘Krasnoe znamja’ (‘The Red Banner’; 1922 [Brjusov 2003: 168-169; 1973-1975, 3: 133]). T.S. Eliot, ‘Ulysses, Order and Myth’ (1923), in James Joyce: The Critical Heritage, Ed. R. H. Deming, London, 1970, 1: 268; quoted in Edwards (2005: 28-29). On the phenomenon of postwar memorialization and its Russian contexts, see Petrone (2011). See, for instance, Mark Slonim in Odesskij listok, No. 179, 3 July 1916, and Margarita Tumpovskaja in Apollon, 1917, No. 1. At that time, the biblical figure of “Rachel weeping for her children and refusing to be comforted” (Jeremiah 31:15) was often associated with the suffering of the Jewish population. See further discussion of Ščepkina-Kupernik’s poem below. See, likewise, Semen Frug’s poetic cycle “Dnevniki” (“Diaries”), published in the Moscow Russian-Jewish journal Novyj put’ (New Way) at the beginning of 1916, describing the tragic plight of Jewish refugees. The cycle was dedicated to Hayim Nahman Bialik (probably, not without an allusion to his famous epic poem ‘In the City of Slaughter’ [1904]) and preceded by the following epigraph “Не шел по тем дорогам Иеремия, / Не плакала Рахиль у тех могил” (Frug 1916: 18; “Jeremiah did not walk along these roads, / Rachel did not weep by these graves”). The fact that he did not finish or publish this poem in full suggests his dissatisfaction with this attempt. Ščit, edited by Leonid Andreev, Maksim Gor’kij, and Fedor Sologub, was issued in three editions during 1915-1916. In a review of Ščit, A. Kratov (I.S. Knižnik) writes that its major theme was the “уверенность, что ограничение прав евреев в России вредно не только для евреев, но и для всего русского народа” (“conviction that restricting the rights of Jews in Russia is harmful not only for Jews but also for the entire Russian people”; Kratkov 1915). Pavel Uspenskij (2014: 164) pointed out Chodasevič’s possible reference to Ivan Karamazov’s famous theodicy speech in the line: “Не приму ни чести, ни славы, / Если вот, на прошлой неделе, / Ей прислали клочок кровавый / Заскорузлой солдатской шинели”. This process of mourning is elaborated in Walter Benjamin’s and Gershom Scholem’s works on lament and lamentation; see Sauter (2014: 212) and Scholem (2014). One can speculate that Chodasevič’s reminiscences about his anthology Vojna v russkoj lirike in his article ‘Vojna i poėzija’ were partly inspired by the reissuing of Majakovskij’s article ‘Vojna i jazyk’ in his Polnoe sobranie sočinenij in 1935; Chodasevič responded to controversies following this pu- The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 34 35 36 85 blication by referring to the time of its first publication at the beginning of World War I (see Gulliver [Chodasevič] 1935; Waysband 2016). David Bethea has situated Chodasevič’s mature poetics in the context of European High Modernism, although without referring to the experience of World War I (see Bethea 1983: passim). Here the sentence “Словно вечно бродягами были” might refer to the image of “the wandering Jew”. See, for instance, the image of the “decapitated” poet in the poem ‘Berlinskoe’ (1922; ‘Berlinian’). His adopting a self-referential image of a poet with a “cork” leg in his aforementioned 29 November 1922 letter to Geršenzon may also be included in the “damaged” imagery of postwar European poetry. LITERATURE Abyzov, Ju.; Flejšman, L.; Ravdin, B. 1997 ‘Rižskaja gazeta “Segodnja” i kul’tura russkogo zarubež’ja 1930-ch gg.’. Russkaja pečat’ v Rige. Iz istorii gazety “Segodnja” 1930-ch godov: Kniga I. Na grani ėpoch. Berkeley, 11-243. Altshuler, M. 1973-1974 ‘Russia and Her Jews: The Impact of the 1914 War’. Wiener Library Bulletin, 27/30-31, 12-16. Andreeva, Inna 1999 ‘Svidanie “u zvezdy”’. Samuil (Muni) Kissin, Legkoe bremja. Stichi i proza. Perepiska s V.F. Chodasevičem. Ed. Inna Andreeva. Moskva, 259-390. Aroutunova, Bayara 1973 ‘“Davno prošedšee” Majakovskogo’. Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky. Ed. Roman Jakobson, C.H. Van Schooneveld, and Dean S. Worth. The Hague, 5-23. Berberova, Nina 2010 ‘Cirkuljarnoe pis’mo N.N. Berberovoj M.A. Aldanovu. 30 sentjabrja 1945 g.’. I.A. Bunin, Novye materialy. Vyp. II. Ed. Oleg Korostelev and Richard Davis. Moskva, 8-108. Berner, Nikolaj 1915 ‘Vojna i poėzija’. Pesni žatvy, 1, 25-27. Bethea, David M. 1983 Khodasevich: His Life and Art. Princeton. Bogomolov, Nikolaj А. 1999 Russkaja literatura pervoj treti XX veka. Portrety. Problemy. Razyskanija. Tomsk. Edward Waysband 86 ‘Iz istorii odnogo kul’turnogo uročišča russkogo Pariža’. Novoe literaturnoe obozrenie, 81, 143-163. Borenstein, Eliot 2000-2001 ‘Fighting Words: Maiakovskii’s War with Himself’. The Silver Age, 3-4, 85-104. Brjusov, Valerij 1973-1975 Sobranie sočinenij v 7 t. Moskva. 2003 Mirovoe sostjazanie. Političeskie kommentarii. 1902-1924. Ed. Vasilij Molodjakov. Moskva. Brown, Edward J. 1973 Mayakovsky: A Poet in the Revolution. Princeton. Campbell, James 2005 ‘Interpreting the War’. The Cambridge Companion to the Literature of the First World War. Ed. Vincent Sherry. Cambridge, 261-279. Chodasevič, Vladislav 1917 ‘Iz knigi Farforovyj venok’. Vetv’. Sbornik kluba moskovskich pisatelej. Moskva, 32-36. 1938a ‘Vojna i poėzija’. Vozroždenie (October 21). 4154: 9. 1938b ‘Vojna i poėzija’. Vozroždenie (October 28). 4155: 9. 1938c ‘Knigi i ljudi. “Umiranie iskusstva”’. Vozroždenie (November 18). 4158: 9. 1988 ‘Pis’ma V. Chodaseviča k N. Berberovoj’. Ed. David Bethea. Minuvšee: Istoričeskij al’manach, 5, 228-327. 1996 Nekropol’. Vospominanija. Literatura i vlast’. Pis’ma B.A. Sadovskomu. Moskva. 1997 Sobranie sočinenij v 4 t. Moskva. 2009-2010 Sobranie sočinenij v 8 t. Moskva. Cohen, Aaron J. 2008 Imagining the Unimaginable: World War, Modern Art, and the Politics of Public Culture in Russia, 1914-1917. Lincoln. Cole, Sarah 2003 Modernism, Male Friendship, and the First World War. Cambridge. Čulkova, Anna 1990 ‘Vospominanija’. Novo-Basmannaja, 19, Moskva, 386-410. Cvetaeva, Marina 1994 ‘Natal’ja Gončarova’. Sobranie sočinenij v semi tomach. T. 4. Moskva, 64-129. Dostoevskij, F.M. 1973 Polnoe sobranie sočinenij v tridcati tomach. Vol. 5. Leningrad. Dostoevsky, Fyodor 1972 Notes from Underground. Poor People. The Friend of the Family. Trans. Constance Garnett. New York. Dubnov, S.M. 1918 Istorija evrejskogo soldata: Ispoved’ odnogo iz mnogich. Petrograd. 2006 The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 87 Edwards, Paul 2005 ‘British War Memoirs’. The Cambridge Companion to the Literature of the First World War. Ed. Vincent Sherry. Cambridge, 15-33. Erlich, Victor 1994 Modernism and Revolution: Russian Literature in Transition. Cambridge. Frajlich, Anna 2007 The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age. New York. Frug, Semen 1916 ‘Dnevniki’. Novyj put’, January 29, 2, 18-19. Fuller, W.C. 2006 The Foe Within: Fantasies of Treason and the End of Imperial Russia. Ithaca. Fussell, Paul 1975 The Great War and Modern Memory. Oxford. Gasparov, M.L. 1997 Izbrannye trudy. Vol. 3. Moskva. Gevorkian, A.V. 2001 ‘“Sem’ cvetov radugi”. Tekst i kontekst’. Brjusovskie čtenija 1996 goda. Ed. S.T. Zolian et al. Erevan, 83-94. Gibian, George 1976 ‘Introduction’. Russian Modernism: Culture and the Avant-Garde, 1900-1930. Eds. George Gibian and H.W. Tjalsma. Ithaca, 9-17. Goldin, Semen 2000 ‘Deportation of Jews by the Russian Military Command, 19141915’. Jews in Eastern Europe, 41, 1, 40-73. Gudzij, N. 1930 ‘Tjutčev v poėtičeskoj kul’ture russkogo simvolizma’. Izvestija po russkomu jazyku i slovesnosti, 3, 465-549. Gulliver (V. Chodasevič) 1935 ‘Literaturnaja letopis’. Stat’i Majakovskogo’. Vozroždenie, 3 November, 3774, 4. Hobsbawm, Eric J. 1995 Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991. London. Hodgson, Katharine 1994 ‘Myth-making in Russian War Poetry’. The Violent Muse: Violence and the Artistic Imagination in Europe, 1910-1939. Eds. Jana Howlett and Rod Mengham. Manchester, 65-76. Hynes, Samuel 1990 War Imagined: The First World War and English Culture. London. Ivanov, Georgij 1915 ‘Voennye stichi’. Apollon, 1, 58-62. 1918 ‘Iz “černoj knigi” rossijskogo evrejstva: Materialy dlja istorii vojny 1914-1915 gg.’. Evrejskaja starina, 10, 195-295. 88 Edward Waysband Jakobson, Roman 1956 ‘Novye stroki Majakovskogo’. Russkij literaturnyj archiv. New York, 173-206. Kissin, Samuil (Muni) 1999 Legkoe bremja. Stichi i proza. Perepiska s V.F. Chodasevičem. Ed. Inna Andreeva. Moskva. Kotrelev, Nikolaj 1989 ‘Sčastlivyj domik’. Pamjatnye knižnye daty. Moskva, 131-134. Kratkov, A. [I.S. Knižnik] 1915 Den’. 1 October. Lohr, E. 2003 Nationalizing the Russian Empire: The Campaign against Enemy Aliens during World War I. Cambridge. 2011 ‘1915 and the War Pogrom Paradigm in the Russian Empire’. AntiJewish Violence: Rethinking the Pogrom in East European History. Eds. Jonathan Dekel-Chen, David Gaunt, Natan M. Meir, Israel Bartal. Bloomington, 42-51. Longley, Edna 2005 ‘The Great War, History, and the English Lyric’. The Cambridge Companion to the Literature of the First World War. Ed. Vincent Sherry. Cambridge, 57-84. Majakovskij, Vladimir 1955 Polnoe sobranie sočinenij. Vol. 1. Moskva. Malmstad, John 1995-1996 ‘Po povodu odnogo “ne-nekrologa”: Chodasevič o Majakovskom’. Sed’mye Tynjanovskie čtenija: Materialy dlja obsuždenija. RigaMoskva, 189-199. Ogden, Alexander 2014 ‘Contemplating War, Caught Up in Revolution: A Survey of Russian Poetry, 1914-22’. Russian Culture in War and Revolution, 1914-22, Book 1: Popular Culture, the Arts, and Institutions. Eds. Murray Frame, Boris Kolonitskii, Steven G. Marks, and Melissa K. Stockdale. Bloomington, 233-259. Percov, V. 1976 Majakovskij. Žizn’ i tvorčestvo. Vol. 1. Moskva. Petrone, Karen 2011 The Great War in Russian Memory. Bloomington. Petrovsky-Shtern, Yohanan 2009 Jews in the Russian Army, 1827-1917: Drafted into Modernity. Cambridge. Ravdin, Boris 1992 ‘V.F. Chodasevič i gazeta “Segodnja”’. Daugava, 4, 142-155. Rennikov, A. 1938 ‘Filosofija vojny’. Vozroždenie, No. 4152, 10 October. The Reluctant Modernism of Vladislav Chodasevič 89 S. O. [S.S. Ol’denburg] 1938 ‘Posle otstavki Beneša’. Vozroždenie, October 7, 4152, 1. Sauter, Caroline 2014 ‘The Ghost of the Poet: Lament in Walter Benjamin’s Early Poetry, Theory, and Translation’. Lament in Jewish Thought: Philosophical, Theological, and Literary Perspectives. Eds. Ilit Ferber and Paula Schwebel. Berlin, 205-220. Ščepkina-Kupernik, Tat’jana 1915 ‘Evrejke’. Ščit. Literaturnyj sbornik. Eds. Leonid Andreev, Maksim Gor’kij, and Fedor Sologub. Moskva, 187. Scholem, Gershom 2014 ‘On Lament and Lamentation’. Lament in Jewish Thought: Philosophical, Theological, and Literary Perspectives. Eds. Ilit Ferber and Paula Schwebel. Berlin, 313-319. Sherry, Vincent 2003 The Great War and the Language of Modernism. Oxford. 2005 ‘Introduction’. The Cambridge Companion to the Literature of the First World War. Cambridge, 1-11. Šklovskij, Viktor 1940 O Majakovskom. Moskva. Smith, Angela K. 2000 The Second Battlefield: Women, Modernism, and the First World War. Manchester. Tate, Trudi 1998 Modernism, History and the First World War. Manchester. Tjutčev, Fedor 1966 Lirika. Vol. 1. Moskva. Tyutchev, Fedor 1993 On the Heights of Creation. The Lyrics of Fedor Tyutchev. Trans. from Russian with Introduction and Commentary by Anatoly Liberman. London. Urickaja, Rita L. 2010 Oni ljubili svoju stranu… Sud’ba russkoj ėmigracii vo Francii s 1933 po 1948 g. Sankt-Peterburg. Uspenskij, Pavel 2014 Tvorčestvo V.F. Chodaseviča i russkaja literaturnaja tradicija (1900-e gg.-1917 g.). Tartu. Vladimirov, Sergej 1976 Ob ėstetičeskich vzgljadach Majakovskogo. Leningrad. Waysband, Edward 2015 ‘Vladislav Khodasevich’s “On Your New, Joyous Path” (19141915): Russian Literary Empire Interferes in the Polish-Jewish Relationship’. Slavic and East European Journal, 59, 3 (in press). 2016 ‘V bor’be za istoričeskuju pravdu: Mladoformalisty, “nekij A. Dymšic” i Gulliver o voennych stat’jach Majakovskogo’ (in press). 90 Edward Waysband Williams, Robert C. 1977 Artists in Revolution: Portraits of the Russian Avant-garde, 19051925. Bloomington. Wohl, Robert 1980 The Generation of 1914. London. Žolkovskij, A.K. 2009 ‘Kak organizovano “Begstvo” Chodaseviča’. Novaja i novejšaja russkaja poėzija. Moskva, 35-52. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 91–111 www.elsevier.com/locate/ruslit КОМПОЗИЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ НОЧИ В. Ф. ХОДАСЕВИЧА: КАК ЭМИГРАЦИЯ ОПРЕДЕЛИЛА СТРУКТУРУ СБОРНИКА? (THE COMPOSITION OF V.F. KHODASEVICH’S EUROPEAN NIGHT: HOW DID EMIGRATION DETERMINE THE STRUCTURE OF THE COLLECTION?) ПАВЕЛ УСПЕНСКИЙ (PAVEL USPENSKII) Abstract This paper is devoted to the influence that the experience of emigration had on the poetics of Khodasevich’s book European Night (Evropeiskaia noch’). Till the spring of 1925 Khodasevich thought that he had the possibility to return to the Soviet Union. This state of mind determined the pragmatic meaning of the poems that Khodasevich wrote in the period between 1922 and 1925, i.e. the time in which he emigrated to Europe and yet did not feel himself a “real” emigrant. These poems are characterized by a satirical orientation as well as by a radical rejection of emigration. On the other hand, the texts that were written between 1925 and 1927 (when Khodasevich formed his self-identification as an emigrant) radically changed the pragmatics of European Night: In this way it becomes a book expressing a deep existential despair. This inner crisis includes the Russian space as well as the space of emigration. In our study we also analyse the way in which Khodasevich mitigates the satirical orientation of the first version of the book. Keywords: V.F. Khodasevich; ‘Evropeiskaia noch’; Russian Émigré Literature http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.006 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 92 Павел Успенский Сборник1 В. Ф. Ходасевича Европейская ночь был опубликован в итоговом Собрании стихов (Париж, 1927). Об отдельных стихах, вошедших в книгу, как и об отразившемся в них новом мировоззрении поэта, написано довольно много.2 Однако до сих пор, насколько нам известно, в научной литературе не появилось ответа на вопрос: каким образом ситуация эмиграции повлияла на поздние стихи Ходасевича? Конечно, такая постановка вопроса провоцирует мгновенный ответ: стихи Европейской ночи возникли исключительно благодаря эмиграции их автора. При всей справедливости этого утверждения, следует отметить, что оно ничего не меняет в устоявшемся представлении о последнем сборнике Ходасевича. Думается, что эмиграция, помимо того, что она была причиной возникновения стихов, повлияла на поэтику Европейской ночи более сложным образом. В настоящей статье мы постараемся показать, как осмысление эмигрантского состояния определило замысел и композицию последней поэтической книги Ходасевича. Название будущего сборника поэт придумал уже осенью 1922 года, спустя несколько месяцев после отъезда из Советской России. 6 октября Ходасевич писал А. И. Ходасевич: Я, кажется, к Рождеству смастерю цикл, кот<орого> название сообщаю по секрету: “Европейская ночь”. Туда войдут 3 стих<отворения>, посланные Слонимскому, с продолжением “Каина”, посланным тебе, то, что пишу, и то, что собираюсь написать. Всего 3 будет штук 12, издам книжечкой и пришлю тебе. Через несколько месяцев у Ходасевича возникли колебания в выборе заглавия для будущей книги, о чем он сообщал тому же адресату: “Я сейчас работаю над тем, что должно было называться ‘Европ<ейская> ночь’, но будет называться иначе.”4 Однако публикуя в 1927 году Собрание стихов, поэт вернулся к первоначальному варианту заглавия, отраженному и во втором стихотворении цикла “У моря” – “Сидит в табачных магазинах…” (2 сентября 1922 года): “Под европейской ночью черной / Заламывает руки он.”5 За пять лет, прошедших между возникновением и реализацией поэтического замысла, смысл заглавия планирующейся книги, по-видимому, изменился кардинальным образом, хотя его лексическое оформление осталось неизменным. Смысловая доминанта словосочетания “Европейская ночь” сдвигалась от социальной оценки европейского мира в сторону всеобъемлющего экзистенциального отчаяния, охватывающего все мыслимые пространства и географические точки.6 Охарактеризовав в первом приближении семантический сдвиг в заглавии последней книги (о котором подробнее мы напишем ниже), попробуем объяснить, почему он был связан с эмиграцией. Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 93 Н. А. Богомолов в обстоятельной статье ‘Как Ходасевич становился эмигрантом’ предлагает датировать окончательный отказ поэта от мысли вернуться на родину 11 июня 1926 года, когда было написано известное письмо М. Карповичу, в котором идея возвращения в Советскую Россию увязывалась с отречением от себя и с превращением человека в подлеца. Однако исследователь справедливо указывает и на важность лета и осени 1925 года. Именно тогда Ходасевич, испытывая идеологические разногласия с писателем, пишет последнее письмо М. Горькому, а также начинает эпистолярные расставания с корреспондентами из СССР. Еще раньше, весной 1924 года, поэт адресуется к А. И. Ходасевич с просьбой о расторжении гражданского брака, что трактуется Богомоловым как стремление освободиться от связей, которые могли бы компрометировать оставшихся на родине.7 По-видимому, важный перелом в отношении к идее возвращения произошел у Ходасевича в первой половине 1925 года.8 Он, в частности, был связан с переездом в Париж. Еще 17 декабря 1924 года поэт писал М. О. Гершензону: “[…] боюсь, что наступит безденежье и погонит в Париж, о котором думаю с ужасом. Разумею ‘русский’ Париж.”9 Ужас мыслей о возможном переезде зафиксировала в своих мемуарах Н. Берберова. Из ее воспоминаний можно также вывести, что именно Париж для эмигрантского самосознания Ходасевича стал главной точкой внутреннего перелома: Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный “личный” или “частный” ад вокруг себя и как тянет меня в этот ад [...] Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что не может ни жить, ни писать в России, – и умоляет меня умереть вместе с ним. [...] Окончательно приезжаем мы в Париж в апреле 1925 года [...]. Теперь он смирился. Он знает, что к Горькому возврата нет, что там скоро все переменится. Он знает, что у него нет выбора, ехать больше некуда и, значит, все задачи сами собой разрешены: надо жить здесь, надо жить, надо. И нет нам другой дороги, как тесный и грязноватый “Притти-отель” на улице Амели [...] Тут мы начи10 наем нашу жизнь в Париже. В настоящей работе мы будем считать рубежной точкой именно апрель 1925 года, учитывая при этом разнообразные колебания в осмыслении эмигрантского состояния, возникавшие как раньше, так и позже этой даты. Итак, после апреля 1925 года Ходасевич – полноценный эмигрант, знающий о невозможности вернуться и вынужденный привыкать к “окончательности” своего положения. 94 Павел Успенский До этого момента пребывание Ходасевича в эмиграции, с известными оговорками, можно охарактеризовать как “полу-эмиграцию”. В 1922 году поэт уехал за границу официально и на протяжении долгого времени считал возможными и свое возвращение, и публикации в советской России. “Жизнь в Германии воспринимается им как временная, отчасти объясняемая личными обстоятельствами, отчасти враждой тех, кто почему-либо видит в нем литературного врага,” утверждает Богомолов и высказывает убедительное предположение, что стремление отказаться от неоднозначности своего положения и некоторой двуличности, проявляющейся в сотрудничестве как с эмигрантскими изданиями, так и со склонным к симпатиям к советской власти Горьким, “побудило Ходасевича расставить точки над i. [...] На первых порах такое двойственное положение могло занимать Ходасевича, не лишенного склонности к различным литературным играм и мистификациям, однако, судя по всему, к середине двадцатых годов оно откровенно стало его тяготить.”11 Годы с 1922 по 1925, таким образом, можно воспринимать как состояние “полу-эмиграции”, которое не заставляло Ходасевича до конца выстраивать эмигрантскую самоидентификацию и давало возможность смотреть на жизнь диаспоры со стороны. В этот период поэт всегда, по справедливому замечанию Богомолова, “старался найти повод подчеркнуть свое несогласие с эмиграцией в широком смысле слова и конкретными ее представителями”.12 В самом деле, до 1925 года Ходасевич критически относился к эмиграции. Составляя еще зимой 1922 года план предстоящего разговора с Луначарским по поводу разрешения на отъезд за границу, поэт, в частности, выделил следующие пункты: “Я не хочу писать белых статей. [...] Я хочу занять независимое положение в зарубежной прессе. [...] Я хочу бороться с духом буржуйства, т. е. с идейным обывательством, мещанством, оппортунизмом.”13 Эти пункты, разумеется, можно объяснить спецификой предстоящего разговора с властителем, однако, думается, не стоит преувеличивать меру конформизма Ходасевича. Желание бороться “с духом буржуйства”, во-первых, вполне согласуется с симпатиями поэта к революции и, во-вторых, проявляется в письмах, написанных уже из-за границы и не адресованных власти. Так, через несколько дней после приезда в Берлин Ходасевич писал Б. А. Диатроптову: Живем в пансионе, набитом зоологическими эмигрантами: не эсерами какими-нибудь, а покрепче: настоящими толстобрюхими хамами. [...] Чувствую, что не нынче-завтра взыграет во мне коммунизм. Вы представить себе не можете эту сволочь: бездельники, убежденные, принципиальные, обросшие 80-пудовыми супругами Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 95 и невероятным количеством 100-пудовых дочек, изнывающих от безделья, тряпок и тщетной ловли женихов. [...] У барышень психология недоразвившихся блядей, мамаши – “мамаши”, папаши – прохвосты, необычайно солидные. Мечтают об одном: вешать большевиков. Нa меньшее не согласны. Грешный человек: уж если оставить сентименты – я бы их самих – к стенке. Одно утешение: все это сгниет и вымрет здесь, навоняв своим разложением на всю 14 Европу. (9.07.1922) В уже цитировавшемся письме к Гершензону от 17 декабря 1924 года Ходасевич нелестно отзывается и о парижской диаспоре: “Разумею ‘русский’ Париж, который все безнадежнее погрязает в чистейшем черносотенстве. Уже весной я пришелся там не весьма ко двору. Что же будет теперь, когда Н. А. Бердяев официально объединился с Коковцовым и они вместе строят ‘Сергиевское подворье’?”15 Вкратце напомнив выборочно приведенные факты из истории эмиграции Ходасевича (их количество, разумеется, можно было бы умножить) и придя к выводу, что полноценная эмигрантская самоидентификация возникла у Ходасевича в первой половине 1925 года, обратимся к стихам Европейской ночи. С нашей точки зрения, тексты, вошедшие в последнюю поэтическую книгу, необходимо разделить на два периода, точно так же, как и пребывание Ходасевича за границей. В первую группу текстов войдут стихи, написанные до первой половины 1925 года (когда поэт находился в “полу-эмиграции”), во вторую – стихи, написанные в период с 1925 до 1927 года, т. е. до выхода Собрания стихов. Подобное разделение оправдано не только фактической стороной истории эмиграции Ходасевича, но и психологически: если переезд в Париж заставил поэта найти новую самоидентификацию, очевидно, что и стихи, писавшиеся с 1925 года, сочинялись уже человеком с несколько иным мировоззрением. Если совершить мысленный эксперимент и изъять на время из Европейской ночи вторую группу текстов, мы лишимся опорных композиционных точек книги. В самом деле, после апреля 1925 года были написаны следующие стихи: открывающее книгу стихотворение ‘Петербург’ (декабрь 1925), ‘Соррентинские фотографии’ (закончены в феврале 1926), ‘Из дневника’ (сентябрь 1925), ‘Бедные рифмы’ (октябрь 1926), “Сквозь ненастный зимний денек…” (январь 1927), ‘Баллада’ (июнь-август 1925), ‘Джон Боттом’ (март-май 1926) и закрывающее книгу стихотворение ‘Звезды’ (сентябрь, октябрь 1925). Из перечисленных текстов четыре, несомненно, относятся к ключевым для раскрытия замысла Европейской ночи: помимо стихотворений, размещенных в позиции начала и конца сборника, это – ‘Баллада’ и ‘Джон Боттом’. 96 Павел Успенский О второй, только что названной группе текстов мы скажем ниже, а пока обратимся к текстам, написанным до 1925 года. Выше мы приводили цитаты из переписки Ходасевича, в которых он нелестно отзывался о жизни эмиграции. Следует обратить внимание на сравнительную близость письма Диатроптову от 9 июля 1922 года и письма Анне Ходасевич от 6 октября того же года. Если во втором письме поэт сообщает название придуманного сборника (Европейская ночь), который он хотел закончить к Рождеству, то в первом письме слово “Европа” употребляется в семантическом соседстве со словами, характеризующими социальную сущность эмигрантской действительности: “Одно утешение: все это сгниет и вымрет здесь, навоняв своим разложением на всю Европу.” В таком контексте словосочетание “Европейская ночь”, по-видимому, имеет смысл понимать как социальную характеристику эмигрантов и европейского мира. Думается, что именно такая социальная семантика доминировала в заглавии планирующейся книги до 1925 года. Первую группу стихов Европейской ночи следует разделить на две подгруппы – стихи о лирическом субъекте и стихи, посвященные разным персонажам (разумеется, с учетом возможной интерференции двух подгрупп). Обратимся ко второй подгруппе (стихи о других). В ней в фокусе лирического высказывания часто оказываются люди, мучающиеся своей жизнью: “И разом вдруг ослабевает, / Как сердце в нем захолонет. // О чем? Забыл. Непостижимо, Как можно жить в тоске такой!” (‘У моря’, 2); “Опрокинул столик железный, / Опрокинул пиво свое. / Бесполезное – бесполезно: / Продолжается бытие” (‘У моря’, 4); “Счастлив, кто падает вниз головой: / Мир для него хоть на миг – а иной” (“Было на улице полутемно…”); “Небритый старик, отодвинув кровать, / Забивает старательно гвоздь, / Но сегодня успеет ему помешать / Идущий по лестнице гость” (‘Окна во двор’). Персонажи стихов Ходасевича нередко наделены физическими недостатками или изъянами и почти всегда неприятны, если не отвратительны: “Палкой щупая дорогу, / Бродит наугад слепой” (‘Слепой’); “А по пескам, жарой измаян, / Средь здоровеющих людей / Неузнанный проходит Каин / С экземою между бровей” (‘У моря’, 1); “Здесь нужно быть девицей бойкой, – / Ты нездорова и бледна. / С какой-то розою огромной / У нецелованных грудей” (‘An Mariechen’); “Блудливые невесты с женихами / Слипаются, накрытые зонтами” (‘Дачное’); “Не отойдет, не обернется, / Лишь весь качается слегка, / Да как-то судорожно бьется / Потертый локоть сюртука. [...] Потом вонючая метла / Безумца гонит из угла. // И вот, из полутьмы глубокой / Старик сутулый, но высокий, / В таком почтенном сюртуке, / В когда-то модном котелке, / Идет по лестнице широкой” (‘Под землей’); “Несчастный дурак в Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 97 колодце двора / Причитает сегодня с утра, / [...] / С улыбкой сидит у окошка глухой, / Зачарован своей тишиной. // Курносый актер перед пыльным трюмо / Целует портреты и пишет письмо” (‘Oкна во двор’). Создаваемый поэтический мир можно охарактеризовать по первой строке стихотворения: его герои – “Уродики, уродища, уроды” (‘Дачное’). Сама же воссоздаваемая реальность достойна только исчезновения: “И всe исчезнет невозвратно / Не в очистительном огне, / А просто – в легкой и приятной / Венецианской болтовне” (“Интриги бирж, потуги наций…”). Отношение лирического субъекта к этому миру разнится. Персонажи могут вызывать в нем злость: “И злость, и скорбь моя кипит, / И трость моя в чужой гранит / Неумолкаемо стучит” (‘Под землей’), “И лишнего нет у меня башмака, / Чтобы бросить его в дурака” (‘Окна во двор’). Лирический субъект может и выдумать альтернативную биографию персонажа. Именно так происходит в стихотворении ‘An Mariechen’, причем воображаемая судьба девушки также пропитана злостью: “А смертный венчик, самый скромный, / Украсил бы тебя милей. // Ведь так прекрасно, так нетленно / Скончаться рано, до греха”. Иногда лирический субъект почти уравнивает себя со своими героями: “Лежу, ленивая амеба, / Гляжу, прищуря левый глаз, / В эмалированное небо, / Как в опрокинувшийся таз” (‘У моря’, 1); “Нет, не найду сегодня пищи я / Для утешительной мечты: / Одни шарманщики, да нищие, / Да дождь – всe с той же высоты” (“Нет, не найду сегодня пищи я…”). Однако в большинстве случаев “я” лирики Европейской ночи отделено от происходящего. Субъекту, примеряющему маску эмигранта, свойственно терять ощущение целостности своей личности и чувствовать расподобление с самим собой: “Иль сон, где, некогда единый, – / Взрываясь, разлетаюсь я, / Как грязь, разбрызганная шиной” (“Весенний лепет не разнежит…”); “Отображаюсь… нет, не я: // Лишь угловатая кривая, / Минутный профиль тех высот, / Где, восходя и ниспадая, / Мой дух страдает и живет” (“Вдруг из-за туч озолотило…”); “И, проникая в жизнь чужую, / Вдруг с отвращеньем узнаю / Отрубленную, неживую, / Ночную голову мою” (‘Берлинское’); “Я, я, я. Что за дикое слово? / Неужели вон тот – это я?” (‘Перед зеркалом’). Вместе с тем, лирический субъект Ходасевича остается поэтом и способен к прямому высказыванию: “Весенний лепет не разнежит / Сурово стиснутых стихов” (“Весенний лепет не разнежит…”); “Хожу среди своих стихов, / Как непоблажливый игумен / Среди смиренных чернецов. [...] Я – чающий и говорящий. [...] Люблю из рода в род мне данный / Мой человеческий язык: / Его суровую свободу, / Его извилистый закон…” (“Жив Бог! Умен, а не заумен…”). 98 Павел Успенский Хотя лирический субъект ощущает отторжение от культуры (“По залам прохожу лениво. / Претит от истин и красот. / Еще невиданные дива, / Признаться, знаю наперед” – ‘Хранилище’), он наделен тайным знанием, недоступным прочим персонажам Европейской ночи: “Встаю расслабленный с постели. / Не с Богом бился я в ночи, – / Но тайно сквозь меня летели / Колючих радио лучи. [...] Хожу – и в ужасе внимаю / Шум, не внимаемый никем. / Руками уши зажимаю – / Всe тот же звук! А между тем… // О, если бы вы знали сами, / Европы темные сыны, / Какими вы еще лучами / Неощутимо пронзены!” (“Встаю расслабленный с постели…”). Так в общих чертах можно охарактеризовать тексты, входящие в первую группу стихов Европейской ночи (т. е. тексты, написанные до апреля 1925 года). Теперь необходимо задаться вопросом, кто именно является персонажами рассмотренного корпуса текстов. С одной стороны, ответ вроде бы очевиден – перед нами жители Европы. Это доказывает и обращение – “Европы темные сыны” (“Встаю расслабленный с постели…”), и имя героини стихотворения ‘An Mariechen’. С другой стороны, некоторые персонажи иногда притягиваются к российскому контексту. Так, называние Берлина “мачехой российских городов” позволяет увидеть в героях берлинских стихотворений эмигрантов. Например, в стихотворении ‘Дачное’ “вдалеке” “из трубы еще рычит Шаляпин”, и мы можем предположить, что речь может идти и о русских эмигрантах, слушающих музыку на одной из дач. В этой связи необходимо остановиться на образе “Каина” из цикла “У моря”. Весь цикл впервые был опубликован в 1923 году (Эпопея, 1923, № 4) под заглавием “Каин”. И хотя в Европейской ночи заглавие изменилось, мы можем считать, что именно “Каин” – герой всех четырех стихотворений. Его имя вводится в текст в финале первого стихотворения (“Лежу, ленивая амеба…”): “А по пескам, жарой измаян, / Средь здоровеющих людей / Неузнанный проходит Каин / С экземою между бровей”. В комментариях к изданию стихотворений отмечено, что экземой страдал сам Ходасевич.16 И. А. Муравьева, отмечая, что эти стихи “принято считать написанными как бы про самого себя – Каина, косвенно предавшего друга юности” (Муни), приводит интересную цитату из письма Ходасевича к оставленной жене, которая неверным образом (повидимому, в биографическом ключе) интерпретировала рассматриваемое стихотворение: “Пожалуйста, не делай из моих прошлых, теперешних и будущих стихов никаких личных выводов. То, что ты мне написала о Каине, и обидно, и неверно.”17 В самом деле, прямое биографическое прочтение здесь едва ли возможно, поскольку лирический субъект введен в первых строках и Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 99 потому автоматически расподоблен с появляющимся в финале “Каином”.18 Думается, что в данном случае предпочтительно не биографическое объяснение этого образа. Напомним, что в Ветхом Завете с Каином связана не только история братоубийства, но и проклятие изгнания. Так, после убийства Авеля, Каин слышит слова Бога: “ты будешь изгнанником и скитальцем на земле” (Быт. 4:12). Соответственно, в условиях массового отъезда людей из России образ Каина обладал потенцией реактуализации (в определенной идеологической системе). С другой стороны, образ Каина иногда использовался в контексте осмысления недавних политических событий. Так, например, Ф. Сологуб, приветствуя Февральскую революцию, написал стихотворение, в котором были такие строки, вероятно, известные Ходасевичу: “Все норы самовластных тайн / Раскрыл ликующий поток, / И если есть меж нами Каин, / Бессилен он и одинок” (“Тяжелый и разящий молот…”; 15 марта 1917).19 Нельзя исключать вероятности того, что Ходасевич знал эпиграмму Б. Садовского, сочиненную в 1917 году: “Так Вышний повелел хозяин, / Чтоб были по своим грехам / Социалистом первым Каин / И первым демократом Хам”.20 В речи памяти убитых Шингарева и Кокошкина Л. М. Горовиц-Власова на заседании Союза Петербургских врачей говорила: “глухой ночью в священную ограду обители страдания [...] пришли звери в человеческом образе, темные и страшные существа, отмеченные печатью Каина”.21 Приведем пример и из противоположного стана. В поэме В. Маяковского 150 000 000 (1921) революционное “будущее загорланило триллионом труб”: “Авелем называйте нас / или Каином, / разница какая нам!”.22 Вводя в цикл образ “Каина”, Ходасевич, скорее всего, помнил и о недавно актуализировавшейся политической семантике имени библейского персонажа. Это позволяет предположить, что и финал стихотворения “Лежу, ленивая амеба…”, и весь цикл может дополнительно прочитываться и в узком политическом смысле: в нем идет речь о русском эмигранте (вероятно, участнике Гражданской войны). Здесь уместно задаться двумя вопросами. Во-первых, почему Ходасевич поменял название цикла? Во-вторых, прочитал ли ктонибудь стихи в вышеописанном ключе? Ответ на первый вопрос, с нашей точки зрения, связан с эмиграцией поэта: когда Ходасевич осознал, что ему не суждено вернуться на родину, он предпочел размыть острополитическую эмигрантскую тематику цикла, придав его герою более общие и неопределенные черты. Высказанную выше гипотезу косвенно подтверждает ответ на второй вопрос. Известен занятный случай, когда рассматриваемые стихи Ходасевича были прочитаны как стихи об эмигранте. В № 4 100 Павел Успенский Звезды за 1931 год появилось стихотворение Н. Брауна ‘Русский иностранец’, эпиграфом к которому служили строки Ходасевича “Под европейской ночью черной / Заламывает руки он”. Стихотворение Брауна было посвящено жизни эмигранта “николаевского образца” (и воображаемой расправе с белогвардейцем): “Это брякнет усами ржавыми, / Выпрямляя лампасы штанин, / Императорской державы / Верноподданный гражданин. // Это он, потертый, понурый, / Чужеземную злость вороша, / Продается до нитки, до шкуры – / Дело швах: не взять ни шиша”.23 По всей вероятности, именно образ “Каина” из стихотворения “Лежу, ленивая амеба…” позволил Брауну увидеть в стихах Ходасевича героя-эмигранта (а не европейца). Здесь сработала памятная в 1920-е годы традиция использовать имя библейского персонажа в политическом контексте. Примечательно, что Ходасевич выступил категорически против отождествления своего героя с эмигрантом: “‘Он’, о котором здесь говорится, не имеет никакого отношения к эмиграции”.24 Однако стоит учитывать дату этого утверждения – 1931 год. В это время самоидентификация Ходасевича стала полностью эмигрантской, а признание за своими стихами антиэмигрантской направленности выглядело бы неуместным.25 Вместе с тем, нельзя не отметить, что в группе стихов Европейской ночи, написанных до 1925 года, герои (за исключением рассмотренных случаев) не получают какой-либо национальной маркировки и могут восприниматься и как коренные жители Европы, и как русские эмигранты. В самом деле, мы можем считать, что строка “Европы темные сыны” и название стихотворения ‘An Mariechen’ – намеренно маркированные случаи, тогда как все остальные герои по умолчанию – представители русской эмиграции. К такому, вероятно, несколько неожиданному прочтению нас подталкивает не только рассуждение об образе Каина, но и гневное письмо поэта Б. Диатроптову об отвратительности русских эмигрантов, которое мы цитировали выше (ср. выше поэтические примеры, описывающие персонажей Европейской ночи). Впрочем, это предположение невозможно никак подтвердить.26 Более того, окончательная композиция и состав Европейской ночи не позволяет прочитывать стихи как тексты о представителях диаспоры (см. ниже). Сказанное подводит нас и к вопросу о прагматике первой группы текстов Европейской ночи. Думается, что эти стихи можно рассматривать как поэтическую сатиру. Стоит при этом отметить, что сатиричность здесь не сопряжена с установкой на иронию и непременный комизм (элементы подобной установки проявляются, пожалуй, лишь в Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 101 ‘Окнах во двор’ с присущей тексту злой иронией и отчасти в ‘An Mariechen’). Тем не менее, моделирование в стихах гротескной эмигрантской реальности, главными деятелями которой оказываются “уродики, уродища, уроды”, а счастлив лишь падающий вниз головой самоубийца, позволяет видеть в этих текстах социальную сатиру. Неслучайно некоторые стихотворения рассматриваемой группы типологически близки к сатирическим стихам Саши Черного.27 Вместе с тем сатирическое начало осложняется противоречивым статусом говорящего субъекта: он то становится таким же персонажем окружающей действительности, что и герои стихов, теряет ощущение целостности своего “я”, то, наоборот, дистанцируется от созданной в поэтических текстах страшной реальности (см. выше). Однако сложная позиция лирического субъекта не столь радикально противоречит сатирической установке, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, тексты, написанные с позиции эмигрантской идентификации, в перспективе потенциального возвращения могли бы восприниматься как ролевые (они, таким образом, становились бы интроспективным свидетельством). Во-вторых, в некоторых стихах наряду с расподоблением с самим собой и потерей собственной идентичности одновременно манифестируется позиция поэта, критически относящегося к окружающей действительности. Происходит это за счет обращения к лирике Н. А. Некрасова. Наиболее показательно здесь стихотворение ‘Перед зеркалом’. Пропитанное экзистенциальным отчаянием, оно вместе с тем актуализирует некрасовскую концепцию поэта-сатирика. Вторая строфа – “Разве мальчик, в Останкине летом / Танцевавший на дачных балах, – / Это я, тот, кто каждым ответом / Желторотым внушает поэтам / Отвращение, злобу и страх?” – перекликается с двумя фрагментами некрасовского стихотворения “Блажен незлобивый поэт…”: “Его преследуют хулы: / Он ловит звуки одобренья / Не в сладком ропоте хвалы, / А в диких криках озлобленья”; “И каждый звук его речей / Плодит ему врагов суровых”. Внешняя деталь автопортрета лирического субъекта (“Разве мама любила такого, / Желто-серого, полуседого”) также перекликается с популярным манифестом: согласно Некрасову, “Блажен незлобивый поэт, / В ком мало желчи, много чувства” (перекличка здесь достигается за счет ассоциации желто-серого цвета лица с печенью и, соответственно, с желчью; лирический герой Ходасевича, таким образом, соотносится с другим типом поэта, который, “уста вооружив сатирой”, “Стал обличителем толпы, / Ее страстей и заблуждений”).28 Аллюзии на поэтический манифест Некрасова хорошо согласуются с более заметными отсылками к Божественной комедии Данте. Эпиграф из Ада актуализирует не только идею “середины жизни”, но и 102 Павел Успенский установку на сатирическое изображение тех, кто оказался в аду (эмиграции). В других стихах о лирическом субъекте, написанных до 1925 года, также можно увидеть отсылки к Некрасову. Так, например, в стихах “Весенний лепет не разнежит…” строки о “визгучем лязге электрической пилы” (как и в целом “железный скрежет какофонических миров”) перекликается с некрасовским ‘Утром’, в котором в фокус лирического высказывания также попадает непоэтическая деталь: “Жутко нервам, железной лопатой / Там теперь мостовую скребут”. 29 Здесь же отметим, что в ‘Балладе’, написанной уже после переезда в Париж, обнаруживаются не только некрасовские реминисценции, но и аллюзия на стихотворение Пушкина “О муза пламенной сатиры!..” (1823-1825). Строки “Приди на мой призывный клич! / Не нужно мне гремящей лиры, / Вручи мне Ювеналов бич”30 теряют в ‘Балладе’ свою риторичность и как бы буквально воплощаются в лирической ситуации ‘Баллады’: ангел подает поэту лиру, а он ее не принимает – “Ремянный бич я достаю / С протяжным окриком тогда / И ангелов наотмашь бью”. Таким образом, стихи, написанные до апреля 1925 года (и тексты о персонажах, и тексты о лирическом субъекте) содержат в себе сатирическую направленность. Учитывая долго сохранявшуюся у Ходасевича идею возвращения на родину, мы можем предположить, что поэт не исключал возможной актуализации своих стихотворений в советском литературном процессе. В таком контексте заглавие книги/цикла Европейская ночь, как и сами стихи, воспринимались бы как социальная сатира на европейскую и эмигрантскую жизнь. Однако Европейская ночь не воспринимается как книга сатирических стихотворений, посвященных исключительно Европе. Заглавие прочитывается расширительно – как всеобъемлющая ночь западной культуры, а вся книга оставляет ощущение неизбывного экзистенциального отчаяния. Происходит это благодаря стихотворениям, написанным после апреля 1925 года. Коротко рассмотрим, как они выстраивают смысловые линии последней книги Ходасевича. Сразу при этом отметим, что в этих текстах поэт, по-видимому, продолжает говорить от лица нового некрасовского поэта – и в ‘Петербургe’, и в ‘Соррентинских фотографиях’, и в ‘Балладе’, и в ‘Звездах’ обнаруживается множество аллюзий на произведения Некрасова.31 Но как сатиру эти стихи не дают воспринимать их трагические темы. Эти же темы вымывают сатирическое начало из стихотворений, написанных до 1925 года. Прежде всего, в стихах Ходасевича расширяется географическое пространство, которое теперь включает в себя и Россию. Это происходит только в двух стихотворениях – ‘Петербург’ и ‘Соррентинские фотографии’. Во втором стихотворении – за счет описания наложив- Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 103 шихся друг на друга фотографий – фрагменты эмигрантской жизни накладываются на фрагменты жизни российской. Отметим, что уже сам предмет стихотворения можно воспринимать как метафору отождествления Европы и России. В первом случае сквозь итальянский пейзаж проступает сцена похорон: “Раскрыта дверь в полуподвал, / И в сокрушении глубоком / Четыре прачки, полубоком, / Выносят из сеней во двор / На полотенцах гроб дощатый, / В гробу – Савельев, полотер”. Эта сцена в композиции Европейской ночи предвосхищает другую описанную смерть – в ‘Окнах во двор’: “Рабочий лежит на постели в цветах. / Очки на столе, медяки на глазах”. Эта перекличка на ассоциативном уровне уравнивает пространство диаспоры и метрополии. В другом случае сквозь итальянский пейзаж проступает шпиль Петропавловского собора в Петербурге: “В ноябрьской утренней заре, / На восьмигранном острие / Золотокрылый ангел розов / И неподвижен [...] И, отражен кастелламарской / Зеленоватою водой, / Огромный страж России царской / Вниз опрокинут головой. / Так отражался он Невой, / Зловещий, огненный и мрачный, / Таким явился предо мной – / Ошибка пленки неудачной”. Экфрасис воображаемой фотографии, несомненно, нагружен: отраженный в воде опрокинутый вниз головой ангел становится метафорой того, что происходит в России с 1917 года (здесь неслучайна строка “Огромный страж России царской”). В строке “Вниз опрокинут головой” проступает коллокация “падший ангел”. Соответственно, можно предположить, что в процитированных строках ‘Соррентинских фотографий’ на ассоциативном уровне говорится о Люцифере, а новое российское пространство приравнивается к инфернальному. Такое прочтение опять уравнивает мир Европы и России: вспомним стихотворение ‘Под землей’, в котором старик “Идет по лестнице широкой, / Как тень Аида – в белый свет”. Созданное общее для всей Европейской ночи инфернальное пространство позволяет вспомнить стихотворение ‘Перед зеркалом’. В свете ‘Соррентинских фотографий’ достойный сатирического изображения ад эмиграции замещается тотальным метафизическим адским пространством. Образ опрокинутого вниз головой ангела рифмуется и со строкой стихотворения “Было на улице полутемно…” – “Счастлив, кто падает вниз головой”. В обоих случаях неестественное состояние вещей становится нормой. Заметим также, что метаморфозы ангела со шпиля собора семантически перекликаются с избиваемыми ангелами ‘Баллады’: в обоих случаях ангелы – в силу разных причин – как бы не выполняют предписанные им функции. 104 Павел Успенский Наконец, упоминание Невы заставляет вспомнить ‘Петербург’. Не углубляясь в анализ этого стихотворения, отметим, что в нем совершено главное для книги сближение пространства Европы и России. В третьей строфе Ходасевич пишет о “тьме гробовой, российской”. Поскольку ‘Петербург’ – стихотворение, открывающее Европейскую ночь, первой раскрывает смысл заглавия именно процитированная строка. “Тьма гробовая, российская” становится точкой отсчета лирического сюжета книги. Когда же в стихотворении ‘У моря’, 2 герой заламывает руки “под европейской ночью черной”, читатель вынужден приравнять друг к другу “тьму” и “ночь” и объединить их в одном пространстве. Подобный эффект происходит и с местом действия. Поскольку первый город, возникающий в книге, – это Петербург, то он уравнивается со всеми другими названными в сборнике топосами. Не менее важно, что в некоторых стихах, написанных после апреля 1925 года, национальная принадлежность персонажей становится яснее. Так, Джон Боттом – несомненно, житель Европы. К герою ‘Баллады’ лирический субъект обращается по-французски; в ‘Звездах’ же французский язык используется в описании танцовщиц (“Играют сгустки жировые / На бедрах Etoile d’amour <Звезда любви>”). Указанные детали заставляют предполагать, что герои стихов – французы (по-видимому, второй случай более спорный, однако нельзя исключать, что французский язык порождает в сознании читателей возможную национальную маркировку танцовщиц). Напомним и о полотере Савельеве, который в ‘Соррентинских фотографиях’ назван по фамилии. Вместе с тем, в стихах ‘Бедные рифмы’ и “Сквозь ненастный зимний денек…” о национальной принадлежности героев нельзя сказать ничего конкретного. В этой связи важно вернуться к ‘Петербургу’. Понятно, что его безличные герои (“Напастям жалким и однообразным / Там предавались до потери сил. / Один лишь я полуживым соблазном / Средь озабоченных ходил. // Смотрели на меня – и забывали / Клокочущие чайники свои; [...] Все слушали стихи мои”) – жители Петербурга. Однако их безличность создает интересный семантический эффект, распространяющийся на всю книгу. В этом стихотворении маркировка героев происходит благодаря указанию на место их обитания. Из-за этого национальная принадлежность других героев размывается и становится, в конечном счете, неважной: читатель связывает персонажей с тем пространством, в котором они появляются, а если и пространство не получает никакой маркировки, то включаются ассоциативные факторы. Это рассуждение важно, потому что ‘Петербург’ таким образом запрещает прочитывать некоторые стихи как стихи о русских эмигрантах. Выше мы писали, что так на момент 1925 года могло прочитываться (помимо общей гипотезы о том, что неназванные персонажи – представители диаспоры) ‘У моря’, 1 (как, видимо, и другие стихо- Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 105 творения этого цикла) или “Уродики, уродища, уроды”. Первое стихотворение Европейской ночи, очевидно, такое восприятие перечеркнуло. Сходным образом “работает” и наделенный фамилией полотер из ‘Соррентинских фотографий’. Если в стихах, написанных до апреля 1925 года, никак не маркированные персонажи могли считаться эмигрантами (а если речь заходила именно о коренных жителях Европы, Ходасевич это маркировал, как в строке “Европы темные сыны” или как в заглавии стихотворения ‘An Mariechen’), то теперь все персонажи стали уравненными между собой. Наконец, нам осталось вкратце рассмотреть темы, которые вводятся в стихотворениях, написанных после апреля 1925 года. Стихи этой группы (за исключением ‘Петербурга’ и ‘Соррентинских фотографий’) усиливают экзистенциальное отчаяние сборника.32 Так, стихотворение ‘Из дневника’ провозглашает исчезновение из мучающей жизни единственным правильным выходом: “Пора не бодрствовать, а спать, / Как спит зародыш крутолобый, / И мягкой вечностью опять / Обволокнуться, как утробой.” Примечательно, что в книге за этими стихами сразу же следовало стихотворение ‘Перед зеркалом’, которое должно было прочитываться в свете безысходности ‘Из дневника’. Такие стихи, как ‘Бедные рифмы’ и “Сквозь ненастный зимний денек…”, формируют всеобщую безысходность; из нее нет выхода (“И ни разу по пледу и миру / Кулаком не ударить вот так”) и о ней нечего сказать (“И о чем говорить, мой друг? / У нее мешок, у него сундук… / С каблуком топотал каблук”). В ‘Балладе’ бунт лирического субъекта против социальной несправедливости приводит к отказу от поэзии (поэт не принимает протянутую ангелом лиру); искупительная коммуникация с безруким, однако, также оказывается невозможной: “Стоит безрукий предо мной / И улыбается слегка, / И удаляется с женой, / Не приподнявши котелка”. Намеченное в ‘Балладе’ посмертное пребывание простых “смирных” людей в раю (“А вы с супругою в раю / Спокойно будете витать…”) разрушается в ‘Джоне Боттоме’ – стихотворении, в котором и после смерти невозможно успокоение: “И всe томится он с тех пор, / И рай ему невмочь. // В селенье света дух его / Суров и омрачен”. Последнее стихотворение книги – ‘Звезды’.33 В нем “непотребный хоровод” “сомнительных дев” становится моделью мира. Обозначенные темы вымывают из семантики заглавия последней книги Ходасевича социальный план и переводят словосочетание “Европейская ночь” в план экзистенциальный. Итак, стихи, написанные после переезда в Париж, когда Ходасевич стал эмигрантом и отказался от идеи возвращения на родину, сформировали основные композиционные точки Европейской ночи. Открывающее книгу стихотворение ‘Петербург’ и следующие друг за другом Павел Успенский 106 вплоть до окончания сборника ‘Бедные рифмы’, “Сквозь ненастный зимний денек…” ‘Баллада’, ‘Джон Боттом’ и ‘Звезды’ (а также вкрапленные в середине книги стихи ‘Соррентинские фотографии’ и ‘Из дневника’) создали лирическое пространство, уравнивающее Европу и Россию и наполненное таким экзистенциальным отчаянием, что существование поэзии в нем оказывается невозможным. Указанные стихи бросают обратный (а в случае ‘Петербурга’ – проспективный) свет на стихотворения, написанные до апреля 1925 года, делают их более пессимистическими и безысходными, чем, вероятно, они задумывались изначально. В знаменитой речи 1921 года ‘Колеблeмый треножник’ Ходасевич, в частности, говорил о том, что в художественных произведениях автор часто ставит себе ряд заданий: “Задания эти бывают разного порядка: философского, психологического, описательного и т. д. – до заданий чисто формальных включительно. Ставятся они не с одинаковой сознательностью.”34 По-видимому, мы не сможем окончательно ответить на вопрос, насколько сознательно Ходасевич “унифицировал” лирическое пространство и эмоционально-смысловой настрой своего последнего сборника, но думается, что подобная “унификация”, отменяющая сатирический пласт Европейской ночи, являлась одним из таких “заданий”. ПРИМЕЧАНИЯ В данной статье использованы результаты проекта “Европейская литература в компаративном освещении: метод и интерпретация”, выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016 году. Автор – преподаватель Школы филологии Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Выражаем признательность Н. А. Богомолову, прочитавшему первый вариант статьи и предложившему ряд ценных добавлений. 1 2 Поскольку Европейская ночь отдельно не публиковалась, этот раздел Собрания стихов можно трактовать как лирический цикл. В настоящей статье последний раздел итоговой поэтической книги мы будем называть “сборником”. В работе также будут рассматриваться только стихи из Европейской ночи. Обобщающие работы: David M. Bethea, Khodasevich: His Life and Art, Princeton, 1983, cc. 251-316; М. Крепс, ‘“Европейская ночь” (Поэтическое мироощущение Владислава Ходасевича)’, Canadian-American Slavic Studies, 27, Nos. 1-4, 1993, cc. 121-147; С. Г. Бочаров, ‘“Памятник” Ходасевича’, В. Ходасевич, Собрание сочинений: В 4 т., т. 1, Москва, 1996- Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 107 1997, сс. 37-48; Ю. И. Левин, ‘О Поэзии Вл. Ходасевича’, Избранные труды. Поэтика. Семиотика, Москва, 1998, сс. 209-267; Н. А. Богомолов, ‘Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича’, Русская литературa первой трети ХХ века. Портреты. Проблемы. Разыскания, Томск, 1999, сс. 119-131; E. Demadre, La quête mystique de Vladislav Xodasevič: Essai d’interprétation de l’œuvre poétique du dernier symboliste russe, Paris, 1999, cc. 432-579; В. Шубинский, Владислав Ходасевич: чающий и говорящий, Санкт-Петербург, 2011, сс. 453-617; Н. А. Богомолов, ‘Из истории одного культурного урочища русского Парижа’, Сопряжение далековатых: О Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче, Москва, 2011, сс. 218-233; О. А. Коростелев, ‘“Под европейской ночью черной…”: Ходасевич в эмиграции’, От Адамовича до Цветаевой: Литература, критика, печать русского зарубежья, Санкт-Петербург, 2013, сс. 156-182. Работы об отдельных стихах или мотивах: И. Ронен, ‘О второй “Балладе” Владислава Ходасевича’, Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 15, 1985, cc. 157-167; П. А. Рыжков, ‘Стихотворение В. Ф. Ходасевича “Джон Боттом” и параллели в русской и западноевропейской эпической поэзии’, Писатель, творчество: Современное прочтение. Сборник аспирантских научных статей, Курск, 2000, сс. 32-42; A. Kirilcuk, ‘The Estranging Mirror: The Poetics of Reflection in the Late Poetry of Vladislav Khodasevich’, The Russian Review, 2002, Vol. 61, № 3, cc. 377-390; K. Postoutenko, ‘“Я, я, я. Что за дикое слово…”: Vladislav Khodasevich’s Deconstruction of the First-Person Personal Pronoun’, Festschrift in Honour of Arnold McMillin, Victoria, 2002, cc. 225-235 (New Zealand Slavonic Journal, Vol. 36); А. С. Сваровская, ‘Субъектная организация “Европейской ночи” В. Ходасевича: “Я” и “другие”’, Русская литература в современном культурном пространстве. Материалы II всероссийской научной конференции, посв. 100-летию Томского государственного педагогического унта, часть 2, Томск, 2003, сс. 72-78; Е. Ю. Куликова, ‘“Кривое” зеркало, двойник и маскарад (“Звезды” В. Ходасевича)’, Русская литература XIX-ХХ веков. Поэтика мотива и аспекты литературного анализа, Новосибирск, 2004, сс. 283-294; Е. Ю. Куликова, ‘Расподобление целостности мира в поздней лирике В. Ходасевича (“Окна во двор”)’, Русская словесность в мировом культурном контексте, Москва, 2004, сс. 232235; Д. Попов, ‘Две “Баллады” В. Ф. Ходасевича’, Русская филология, 17, Тарту, 2006; Д. Попов, ‘Ходасевич, Блок, Некрасов’, Русская филология, 18, Тарту, 2007; М. Безродный, ‘“Слепой” Ходасевича: Опыт анализа простого стихотворения’, The Real Life of Pierre Delalande: Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin, Part 1, Stanford, 2007, cc. 233-236; Е. Ю. Куликова, ‘О сквозном пространстве в лирике В. Ф. Ходасевича (“Соррентинские фотографии”)’, Гуманитарные науки в Сибири, № 4, Новосибирск, 2008; M. Basker, ‘The Trauma of Exile: An Extended Analysis of Khodasevich’s “Sorrentinskie Fotografii”’, Toronto Slavic Quarterly, № 33, Summer 2010; А. Немзер, ‘Стихотворение В. Ф. Ходасевича “Джон Боттом” и русская романтическая поэзия (за- 108 3 4 5 6 Павел Успенский метки к теме)’, От слов к телу. Сборник статей к 60-летию Юрия Цивьяна, Москва, 2010, сс. 228-237; О. А. Лекманов, ‘Девочка красивая в кустах лежит нагой: о финале стихотворения В. Ф. Ходасевича “An Mariechen”’, От Кибирова до Пушкина. Сборник в честь 60-летия Н. А. Богомолова, Москва, 2011, сс. 251-257; П. Успенский, ‘“Начинаются мрачные сцены”: поэзия Н. А. Некрасова в “Европейской ночи” В. Ф. Ходасевича’, Europa Orientalis, № 31, Salerno, 2012, cc. 129-170; П. Успенский, ‘“Жили вместе два трамвая”: “Берлинское” В. Ф. Ходасевича’, Русская филология, 23, Тарту, 2012; П. Успенский, ‘“Из дневника” В. Ходасевича: заметки о генезисе двух образов стихотворения’, Русская филология, 24, Тарту, 2013; А. К. Жолковский, ‘Зеркало или трельяж? (“Перед зеркалом” Ходасевича)’, Поэтика за чайным столом и другие разборы, Москва, 2014, сс. 186-207; Л. Г. Панова, ‘“Перед зеркалом” Ходасевича: итальянская амальгама’, www.ruthenia.ru/document/ 551683. html. Цит. по: В. Ходасевич, Стихотворения, вст. ст. Н. А. Богомолова, сост., подгот. текста и прим. Н. А. Богомолова и Д. Б. Волчека, Ленинград, 1989, с. 396 (Библиотека поэта. Большая серия). Там же. Там же, с. 159. Далее все стихи Ходасевича из Европейской ночи приводятся по этому изданию без указания страниц (для удобства идентификации тех или иных строк мы всегда указываем название стихотворения). В данной статье мы не затрагиваем культурный аспект заглавия последней поэтической книги Ходасевича. См. о нем: С. Г. Бочаров, ‘“Европейская ночь” как русская метафора: Ходасевич, Муратов, Вейдле’, Филологические сюжеты, Москва, 2007, сс. 385-399. См. также: А. Долинин, ‘Тема заката Европы в поэзии русской эмиграции’, Russian Literature and the West. A Tribute for David M. Bethea, Part II, Stanford, 2008, cc. 44-62. Здесь же отметим, насколько нам известно, еще не отмечавшуюся перекличку заглавия планирующегося сборника Ходасевича с образами одного письма В. Шкловского. 25 октября 1922 года Шкловский писал жене из Берлина: “Почти что родина. Воздух катастрофичен. / Но все это не важно и не страшно. / Зима будет свирепая, но нас не удивить. Европа, Люсик, кончается. Кончается европейская культура. Культура не нужна никому. Будем верить, что мы не увидим конца. / Европа, Люсик, кончается от политической безответственности. / Европейская ночь наступает. Уже наступила и на меня. [...] Ночь наступает. Будем спать. / Ночь наступает, будем любить крепче. / Здесь чахнет Ремизов, танцует А. Белый, скрипит Ходасевич, хамит Маяковский, пьет А. Толстой, а остальные шиберуют. Шиберуют. / Революция. Ее уже знают. Грешники в аду после страшного суда будут так жить. Суд уже был. Веселитесь, недожаренные. / Европейская ночь (В. Шкловский, ‘Почта века. Из переписки Виктора Шкловского’, Grani, 2003, №№ 207-208. Цит. по: В. Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 109 Берeзин, Виктор Шкловский, Москва, 2014, с. 193). Интересно, что Шкловский виделся с Ходасевичем за день до написания своего письма (В. Ходасевич, Камер-фурьерский журнал, вступ. ст., подгот. текста, указатели О. Р. Демидова, Москва, 2002, с. 33; запись от 24 октября). Возможно, в разговоре Ходасевич поделился с Шкловским найденным словосочетанием. Впрочем, нельзя исключать обратного влияния (до 6 октября, когда Ходасевич сообщил жене название планирующейся книги, писатели также регулярно виделись (см. Камер-фурьерский журнал поэта за сентябрь 1922 года). Так или иначе, если рассматривать письмо Шкловского как своего рода комментарий к замыслу Ходасевича, то стоит отметить, что образ “Европейской ночи” в письме Шкловского в большей степени связан с социально-политической и культурной атмосферой, нежели с всеохватным экзистенциальным отчаянием. Н. А. Богомолов, ‘Как Ходасевич становился эмигрантом’, Сопряжение далековатых: О Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче, Москва, 2011, сс. 212-213. Там же, сс. 211-212. В. Ходасевич, Собрание сочинений: В 4 т., т. 4, Москва, 1997, сс. 480481. Н. Берберова, Курсив мой, Москва, 2009, с. 245. Н. А. Богомолов, ‘Как Ходасевич становился эмигрантом’, cc. 209, 212. См. также очерк ‘Горький’, в котором излагается краткая история издания Беседы и идеологических перипетий, связанных с этим проектом (В. Ходасевич, Собрание сочинений: В 4 т., т. 4, сс. 348-375). Н. А. Богомолов, ‘Как Ходасевич становился эмигрантом’, c. 210. В. Ходасевич, Собрание сочинений: В 4 т., т. 4, с. 649. В. Ходасевич, Собрание сочинений: В 4 т., т. 4, сс. 447-448. В. Ходасевич, Собрание сочинений: В 4 т., т. 4, с. 481. В. Ходасевич, Стихотворения, c. 397. Цит. по: И. А. Муравьева, Жизнь Владислава Ходасевича, Санкт-Петербург, 2013, сс. 324-325. Уподобление “Каина” и лирического субъекта может привести к спорным и, с нашей точки зрения, неубедительным выводам (cм.: А. С. Сваровская, ‘Субъектная организация “Европейской ночи” В. Ходасевича: “Я” и “другие”’, сс. 76-77. Ф. Сологуб, Стихотворения, вступ. ст., сост., подгот. текста и прим, М. И. Дикман, Санкт-Петербург, 2000, с. 406 (Библиотeка поэта. Большая серия; 2-е изд.). Б. А. Садовской, Стихотворения. Рассказы в стихах. Пьесы, cост., подгот. текста, вступ. ст. и прим. С. В. Шумихина, Санкт-Петербург, 2001, с. 113 (Библиотeка поэта. Малая серия). Цит. по: А. Л. Соболев, Летейская библиотека, т. II, Москва, 2013, с. 138. 110 22 23 24 25 26 27 Павел Успенский В. В. Маяковский, Полнoe cобрание сочинений: В 13 т., т. 2, Москва, 1956, с. 160. Цит. по: В. Шубинский, Владислав Ходасевич: чающий и говорящий, c. 631. Возрождение, 1931, № 2228 (9 июля). Цит. по: В. Ходасевич, Собрание сочинений: В 8 т., т. 1, cост., подгот. текста, комм. Дж. Малмстада и Р. Хьюза, Москва, 2009, с. 444. Примечательно, что нечто похожее произошло с оценкой поэзии Некрасова. Она (во многом определившая поэтику Европейской ночи) подверглась резкой критике в связи с политическим контекстом. См. подробнее: П. Успенский, ‘“Начинаются мрачные сцены”: поэзия Н. А. Некрасова в “Европейской ночи” В. Ф. Ходасевича’, cc. 131-132, 137-138. Косвенно в пользу подобного предположения могут свидетельствовать юмористические ‘Чужие слова’ и ‘Подслушанные разговоры’, опубликованные Ходасевичем в газете Дни (1925, № 808, 23 сентября) и журнале Сатирикон (1931, № 16) соответственно. В “сатириконовской” публикации диалог французов маркирован – их речь дана не в переводе, а на французском языке. Эта маркировка оттеняет все остальные разговоры, заставляя видеть в них речь русских эмигрантов (за исключением ‘Песни без слов’, где не представлены диалоги; в некоторых случаях принадлежность героев к русским эмигрантам задана в тексте их именами – “Иван Петрович”, “Семен Маркович”). Нечто похожее, возможно, происходило и в группе стихов Европейской ночи, написанных до 1925 года (герои-европейцы сознательно маркируются). Републикацию юмористических диалогов и соображения об их поэтике см.: Н. А. Богомолов, ‘Из черновиков Ходасевича’, Сопряжение далековатых: О Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче, cc. 185-191. Д. Попов обратил внимание, что подтекстом стихотворения ‘Окна во двор’ может быть сатирическое стихотворение Саши Черного 1909 года ‘Обстановочка’ (см.: Д. Попов, ‘Ходасевич, Блок и Некрасов’, Русская филология, 18, Тарту, 2007, сс. 104-105; Саша Черный, Стихотворения, Ленинград, 1960, с. 103 [Библиотeка поэта. Большая серия. 2-е изд.]). Ср. также фрагмент из стихотворения ‘У моря’, 2: “Порой просматривает даже / Столбцы газетных телеграмм, // За кружкой пива созерцает, / Как пляшут барышни фокстрот” с типологически близким началом стихотворения Саши Черного ‘Корпоранты’ (1907) из цикла “У немцев”: “Бульдоговидные дворяне, / Склонив изрубленные лбы, / Мычат над пивом в ресторане, / Набив свининою зобы” (Саша Черный, Стихотворения, с. 292). Обратим также внимание на профессиональное сходство героинь стихотворения ‘An Mariechen’ и ‘Кельнерши’ Черного: “В грубых пальцах кружки с пивом. / Деловито и лениво / Чуть скрипит тугой корсет” (Саша Черный, Стихотворения, с. 300; впервые опубл.: Сполохи, 1922, № 3). Как эмиграция определила структуру ‘Европейской ночи’? 28 29 30 31 32 33 34 111 Поэтический диалог Ходасевича с Сашей Черным, несомненно, требует дальнейшего изучения. См. подробнее: П. Успенский, ‘“Начинаются мрачные сцены”: поэзия Н. А. Некрасова в “Европейской ночи” В. Ф. Ходасевича’, cc. 151-152; Н. А. Некрасов, Полнoe cобрание сочинений: В 15 т., т. 1, Ленинград-СанктПетербург, 1981-2000, сс. 97-98. П. Успенский, ‘“Начинаются мрачные сцены”: поэзия Н. А. Некрасова в “Европейской ночи” В. Ф. Ходасевича’, c. 150; Н. А. Некрасов, Полнoe cобрание сочинений: В 15 т., т. 3, сс. 117-118. А. С. Пушкин, Полнoe cобрание сочинений: В 10 т., т. 2, под общ. ред. Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова, Ю. Г. Оксмана, Москва, 1959-1962, с. 122. См. подробнее: П. Успенский, ‘“Начинаются мрачные сцены”: поэзия Н. А. Некрасова в “Европейской ночи” В. Ф. Ходасевича’. Отметим, что усиление экзистенциального отчаяния связано не только со стихами, написанными после 1925 года, но и с отбором написанных ранее текстов. Тот факт, что Ходасевич не включил в Европейскую ночь несколько стихотворений, Н. А. Богомолов связывает с “бодлеровским” началом эмигрантских стихотворений: “Из шести стихотворений, законченных в годичном интервале между концом июля 1924 и августом 1925 года, он [Ходасевич – П. У.] включил в итоговый сборник только одно – ‘антиэстетическое’ и остро эротическое ‘Дачное’, хотя среди отброшенных, было, скажем, замечательное и аналитически-пророческое ‘Пока душа в порыве юном…’. Но в них отсутствовало (в отличие от ‘Дачного’) то, что могло бы позволить стихам называться ‘бодлеровскими’. Зато по возвращению в Париж в стихах 1925-1926 гг. именно это начало начинает торжествовать” (Н. А. Богомолов, ‘Из истории одного культурного урочища русского Парижа’, c. 233). Согласно свидетельству Н. Берберовой, описанное в ‘Звездах’ было увидено еще в первый приезд в Париж в 1924 году: “Мы ходим в маленькие театрики ‘варьете’, где картонные декорации были бы смешны, если бы не были так грустны, на ярмарки, где показывают гермафродита, сидим в кабачке, где подают голые, жирные женщины и где, опять же за пятак, можно получить чистое полотенце, если клиент решает пойти с одной из них ‘наверх’. ‘Румяный хахаль в шапокляке’ и ‘тонколягая комета’ – все это было увидено тогда на улице <Гетэ>” (Н. Берберова, Курсив мой, c. 243; конъектура сделана по цитате из ст.: Н. А. Богомолов, ‘Из истории одного культурного урочища русского Парижа’, c. 232). Если, опираясь на это свидетельство, позволительно датировать первоначальный замысел стихотворения 1924 годом, то представляется интересным тот факт, что Ходасевич написал его, лишь окончательно перебравшись в Париж. В. Ходасевич, Собрание сочинений: В 4 т., т. 2, Москва, 1996, с. 77. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 113–128 www.elsevier.com/locate/ruslit VLADISLAV CHODASEVIČ’S NECROPOLIS: WRITING LIVES IN THE CITY OF THE DEAD DANIEL BROOKS Abstract This article considers the structure of Vladislav Khodasevich’s Necropolis (Nekropol’, 1939) in relation to the volume’s critique of Symbolist life-creation (zhiznetvorchestvo). Necropolis compiles short memoir-portraits of various turn-of-the-century Russian writers. These acerbic pieces variously implicate life-creative behavioral codes in many of these Symbolist writers’ tragic fates. I contend that the sequence in which these portraits appear enhances Necropolis’ critique. The opening trio of portraits (on Nina Petrovskaia, Valerii Briusov, and Andrei Belyi) compel the reader to repeatedly experience the collapse of those writers’ love triangle. Khodasevich thus highlights two things: the degree to which individual Symbolist lives are inevitably “tangled” (in Khodasevich’s words) with one another; and the life-creative mandate of reliving one-time, kairotic events. I also argue that Khodasevich’s portrait of Maksim Gor’kii (the final piece in Necropolis) represents a counterpoint to the preceding Symbolist lives. Gor’kii’s life is just as “tangled” and artificial; however, he recognizes the falsity of his life-creative biography, and embraces the revisionist “ennobling truth” that Khodasevich offers him. Gor’kii’s portrait thus throws Necropolis’ more famous Symbolist content into relief, and demonstrates Khodasevich’s prerogative to write his contemporaries’ biographies. Thus, Necropolis’ critique of life-creation becomes more meaningful when one reads its constituent pieces as a unified whole. Keywords: V.F. Khodasevich; ‘Necropolis’; Symbolism; Life-Creation Vladislav Chodasevič’s Necropolis (Nekropol’, 1939)1 is often perceived as an illuminating if caustic account of Russian Symbolism and several of the http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.007 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 114 Daniel Brooks movement’s primary architects. It is also the origin of a seminal definition of Symbolist life-creation (žiznetvorčestvo): Symbolism did not want to be merely an artistic school, a literary movement. It continually strove to become a life-creating method, and in this was its most profound, perhaps unembodiable truth. Its entire history was in essence spent in yearning after that truth. It was a series of attempts, at times truly heroic, to find a fusion of life and art, as it 2 were, the philosopher’s stone of art. This definition becomes all the richer when we account for Necropolis’ structure. For a text often treated as a bitter appraisal of Symbolism, the volume’s bookends – portraits of Nina Petrovskaja, a minor Symbolist writer, and Maksim Gor’kij, the godfather of Socialist Realism – might seem curious. However, they are essential to Chodasevič’s project. When read into the volume’s architectural whole, these portraits articulate a richer, more nuanced critique of Symbolist life-creation than Chodasevič’s famous definition thereof does in isolation. I will argue that Chodasevič structures Necropolis with two goals in mind: to compel his reader to experience the archetypal Symbolist life in a properly life-creative way; and to present alternative, non-Symbolist variants of life-creation. This approach scrutinizes connections between the opening trio of portraits (dedicated to Petrovskaja, Brjusov, and Belyj, participants in a notorious love triangle)3 and assigns pivotal significance to portraits (of Geršenzon and Gor’kij specifically) that are normally considered anomalous in the collection. I will analyze these portraits, demonstrating their formal and thematic unity, and show how Necropolis’ structure is essential to Chodasevič’s critique of life-creation. ‘Necropolis’ in the Context of Russian Émigré Life-Writing David Bethea describes Chodasevič’s poetic eye as “stereoscopic”, capable of “perceiving two moments of time simultaneously”.4 This metaphor also obtains when applied to Necropolis, and not only because memoir writing is retrospective and stereoscopic by default. Younger than his literary peers, Chodasevič (1886-1939) experienced what he called the Symbolist “atmosphere” just when it was starting to dissipate. His “belatedness” 5 afforded him a unique perspective on Symbolism – simultaneously an insider’s and outsider’s one, in which his youthful flirtation with the movement coincided with its decline. Indeed, such belatedness permitted Chodasevič a more stereoscopic perspective on several of Symbolism’s major tenets, lifecreation among them. Chodasevič’s ‘Necropolis’ 115 Russian Symbolist life-creative practice distinguished itself from its western European equivalents in several ways. Russian Symbolists exceeded both Baudelairian dandyism, which endorsed the cultivation of theatricality in everyday life, and Wildean clichés about life imitating art. 6 Symbolist žiznetvorčestvo was not defined by ostentatious individualism, but, as Chodasevič recognized, by earnest “collective creation”,7 an ethos found in Symbolist journals, everyday behavior, and especially romantic relationships. 8 Reading Necropolis’ portraits in sequence, one sees that Chodasevič criticizes not merely the Symbolists’ naive confluence of art and life, but confluence of lives as such. He witnessed firsthand how Symbolists’ lives were treated as malleable material for a series of transcendent but ultimately quixotic communal projects that sought to rewrite the rules of biology, biography, and time itself (cf. Vladimir Solov’ev’s mystical belief that sexual abstinence would produce personal immortality; the apocalyptic significance assigned to the Blok-Mendeleeva union; and Symbolists’ general defiance of procreation and generational continuity).9 In sacrificing the present for the sake of the future, the Symbolists become anything but stereoscopic. Necropolis makes intelligible Symbolism’s communal orientation and temporal myopia, a feat that cannot be understood outside of the volume’s historical context. Émigré literary culture of the 1920s and 30s was flooded with memoirs about the Symbolists.10 Chodasevič welcomed such memoirs, believing that Symbolism required more biographical commentary than most literary movements.11 However, he often criticized these memoirs’ representational strategies, especially where the Symbolists’ interpersonal connections and sense of time were concerned; the 1939 Necropolis might be seen as a rejoinder to these works. Andrej Belyj’s The Beginning of the Century (Načalo veka, 1933), the second entry in his autobiographical trilogy, represents a useful foil for Necropolis, as Chodasevič’s review of Belyj’s text makes clear. He mocks the foreword to the Soviet edition of Beginning, penned by the Soviet ideologue and politician Lev Kamenev,12 singling out his critique that Belyj’s memoir does not engage with its “subjects’ ideas”. Chodasevič counters that “the task of the memoirist is precisely the representation of people, and not their ideas […] Descriptions of personal connections are more useful”.13 However, Chodasevič suggests that Beginning falls short even by this metric. He traces its flaws to Belyj’s rewriting of his earlier, superior Reminiscences about Aleksandr Blok (Vospominanija ob Aleksandre Bloke, 1921). Depressed by his obsolescence in post-Revolutionary culture, Belyj transformed this memoir into a sneering caricature of Blok’s generation.14 Chodasevič states that Belyj “no longer wanted to be a historian […] capable of evaluating events and people, of understanding causes and locating effects”.15 For Chodasevič, the otherwise valuable Beginning remains flawed as a specifically Symbolist memoir, which would require a particular orientation 116 Daniel Brooks towards community and temporality. Belyj orients his account of Symbolism’s collective life around himself, rather than presenting “Symbolism as the axis of his life in general”;16 he rereads all Symbolists’ life-creative projects as the origin of his own, unfortunate Soviet present, a conceptual and teleological fallacy. As Chodasevič makes clear (and not without sympathy), Belyj’s dire financial, medical, and historical circumstances fueled such myopia and conditioned Beginning’s narrative flaws. Simply put, Belyj’s text – as either willful distortion of the past or capitulation to a tragic present – possesses no capacity for stereoscopy. Necropolis overcomes Beginning’s conceptual and mimetic pitfalls through its status as a portrait gallery. By editing (rather than rewriting) portraits written apropos of their subjects’ deaths, and using the sequence of those portraits to suggest new arguments about Symbolism’s ethos, Chodasevič ensures that his memoir renews its source texts without compromising their original essence. Moreover, this format allows for a more equitable weighing of its subjects, and (contra Kamenev) inherently posits the Symbolists’ “personal connections” as their greatest (but also their most destructive) “idea”. Moreover, Necropolis’ portrait gallery structure thus makes for a more potent re-presentation and criticism of žiznetvorčestvo by embedding a critical history of Symbolist practice inside a personal account of Symbolist relationships, and creating (to use Bethea’s term) a stereoscopic fusion of present and past. It is thus no surprise that scholarship on Necropolis treats the volume’s sequence as one of its most comment-worthy features. Interpretations of that sequence, however, often come up short, especially where the non-Symbolist portraits are concerned. Among Chodasevič’s contemporaries, Vladimir Vejdle likened Necropolis’ sequence of portraits to a “classical tragedy”, while V.S. Janovskij declared that the unity of the first five portraits (Petrovskaja, Brjusov, Belyj, Muni, and one jointly dedicated to Blok and Gumilev) was undone by the next four (Geršenzon, Fedor Sologub, Sergej Esenin, and Gor’kij).17 Nikita Struve maintained that Necropolis’ four initial entries chronicle the Decadents’ pre-Revolutionary existence; the middle, joint entry – the two “central and mutually opposed figures of the poetic renaissance”; and the final four – the post-Revolutionary fates of “writers from the people”. 18 However, by reading historical progress into the volume’s sequence, Struve mischaracterizes Necropolis’ treatment of the final four writers: Chodasevič is more interested in their post-Revolutionary lives and works (Geršenzon, Gor’kij) or general oeuvre (Sologub, Esenin) than their origins. Recent assessments suggest that Necropolis’ portraits are unified by the simple tragedy of death itself. Nikolaj Bogomolov contends that Necropolis unifies its subjects’ heterogeneous fates by underscoring their uniform blindness to their “epoch’s ominous radioactivity”.19 Julia Zarankin concurs, argu- Chodasevič’s ‘Necropolis’ 117 ing that Necropolis’ structure explores the “varied nuances” of Symbolists’ deaths: namely, the Decadents’ fetishization of suicide as a creative act – and the Soviet epoch’s transformation of that personal, voluntary act into “a universally terrifying, indiscriminate reality”.20 However, Zarankin suggests that the function of the collection’s second half is merely to provide insight into Chodasevič’s life in emigration, 21 proving how difficult it is to integrate the Symbolists and non-Symbolists into a thematically unified interpretation of the volume. I propose reading these concluding portraits not as anomalies within Necropolis but as structural counterweights to the Symbolist life-creative practices explored in Necropolis’ first half. If the first five portraits are united by their critique of collective Symbolist life-creation, then “Gor’kij” and “Geršenzon” in particular explore alternative models of life-creation. Moreover, these works foreground Chodasevič’s “right to write” others’ biographies, 22 and thus perform a vital metacritical function in the volume. Thus, Chodasevič’s definition of Symbolist žiznetvorčestvo ultimately becomes inextricable from the wider structure of Necropolis itself. Living and Reliving the Symbolist Life The opening profiles of Petrovskaja, Brjusov, and Belyj explain Symbolist žiznetvorčestvo more effectively in unison than any one portrait does in isolation: they demonstrate how the “net” of Symbolist relations (one of Necropolis’ governing expressions) 23 constricts, traps, and distorts life itself. As Chodasevič states in Petrovskaja’s portrait, the Symbolists become “impossibly tangled” (“сложнейше запутаны”; p. 21) in that net and lose their sense of self: Отсюда – лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими. Все “переживания” почитались благом, лишь бы их было много и они были сильны. В свою очередь, отсюда вытекало безразличное отношение к их последовательности и целесообразности. “Личность” становилась копилкой переживаний, мешком, куда ссыпались накопленные без разбора эмоции – “миги”, по выражению Брюсова: “Берем мы миги, их губя”. Глубочайшая опустошенность оказывалась последним следствием этого эмоционального скопидомства. Скупые рыцари символизма умирали от духовного голода – на мешках накопленных “переживаний”. (p. 22) By treating personality as an object of aesthetic construction, the Symbolists render biographical time inauthentic. They define it by magnitude (numerous, powerful experiences) rather than sequence, stasis rather than progress (a tendency that extends to the appreciative portraits of Sologub and 118 Daniel Brooks Esenin).24 “Moments” and “experiences” shed their drab temporal shackles and become physical objects to be gathered in a moneybox (or an infantilizing piggybank, a sign of arrested development), and reduced to a state of pure fungibility. Take Petrovskaja: she repeatedly serves as lover and muse to various Symbolist poets, transforming herself into “one of the main loops in that net” (21), never recognizing how much this pivotal role constricts her. This theoretically transcendent but ultimately rote essence of Symbolist life is expressed in the scare-quoted “переживания”. Nouns and verbs formed from the Russian verb “жить” (to live) are ubiquitous in Necropolis, although Chodasevič appends meaningful prefixes to them in order to denote Symbolist distortions of a “typical” life. Of these prefixed variants, “переживать/пережить” appears the most frequently, and its numerous, contextually dependent meanings (to experience, to relive, to live through, to outlive, to survive, to endure, to suffer) all have their resonance within the text. In Chodasevič’s idiom, 25 it implies less a passive endurance of outside forces than a life lived actively, falsely, and masochistically. This capacious verb and its nominalization “переживание” appear throughout Petrovskaja’s portrait specifically26 (and Necropolis generally, albeit more rarely), as in this paradigmatic example: “Life events were never experienced (“переживались’) as only and simply biographical (“жизненные”): they immediately became a part of an internal world and a part of creativity” (21). This statement demonstrates the motor of Chodasevič’s critique: (stereoscopically) underscoring the distance between Symbolism’s “internal” world and the “simply biographical” context that it resists, recording the hyperbolic transformation of ontologically neutral events that pass through the Symbolists’ life-creative net.27 Ironically, these seemingly kairotic experiences (events thick with meaning and the potential for transformation) 28 become sources of chronic repetition in the Symbolists’ hands. This is never more so than in Necropolis’ first portrait, ‘The End of Renata’ (‘Konec Renaty’), Chodasevič’s profile of Petrovskaja. He states, apropos of the Symbolists’ thirst for “experiences”, that “[a] real feeling is personal, concrete, inimitable [неповторимо]. An invented or inflated one is deprived of these qualities” (p. 23). Petrovskaja demonstrates as much, repeating emotions and actions modeled on those of Renata from Brjusov’s roman à clef The Fiery Angel (Ognennyj angel). Having “become used to [сжилась] this role” (p. 26), she performs this narrow theatrical repertoire without ever changing or, consequently, experiencing authentic feelings. 29 Near the end of the portrait, Chodasevič viciously underscores Petrovskaja’s intransigence by reproducing excerpts from her letters: Сейчас я просматриваю ее письма. 26 февраля 1925: “Кажется, больше не могу.” 7 апр. 1925: “Вы, вероятно, думаете, что я Chodasevič’s ‘Necropolis’ 119 умерла? Нет еще.” 8 июня 1927: “Клянусь Вам, иного выхода не может быть.” 12 сентября 1927: “Еще немного, и уж никаких мест, никакой работы мне не понадобится.” 14 сентября 1927: “На этот раз я скоро должна скончаться.” Это – в письмах последней эпохи. Прежних у меня нет под рукою. Но всегда было то же – и в письмах, и в разговорах. (p. 28) Chodasevič’s precise, sequential reproduction of the letters’ dates underscores historical progress – progress that Petrovskaja’s repetitive sentiments resist. She dies, “speaking with me [Chodasevič] in that strange language of the 1890s that at one time connected us, was common to us, but which since then I had nearly forgotten how to understand” (p. 29). This juxtaposition between progress (the perfective “разучился”) and arrested development (the imperfective “говорила”) is reinforced by the adjective “общий”, another of Necropolis’ keywords. Located here in Chodasevič’s absolute past and Petrovskaja’s eternal present, “общий” articulates the abyss between the two figures, while also recalling the “common net [общая сеть] of loves and hatreds” referenced in the portrait’s opening paragraphs. The presence of the word “общий” thus compels us to read Petrovskaja’s life stereoscopically: we experience the Symbolists’ life-creative tendencies as transcendent projects and as distortions of biographical-historical time. Chodasevič’s portrait of Brjusov demands such stereoscopic vision, not least because it realizes similar temporal paradoxes less ostentatiously. “Brjusov” consists of fourteen sections, most of which are dedicated to its subject’s characterological traits. Many of these begin with imperfective verbal constructions, suggesting an inquiry into habitual behavior rather than narrative development. However, Chodasevič innocuously peppers the first nine sections with historical dates (in sequence, 1909, 1911, 1912, 1913, and 19071914), suggesting that, unlike Brjusov’s static, “imperfective” character, time presses on in the background. The tenth section begins with a perfective verb and a stridently historical question: “How and why did [Brjusov] become [сделался] a communist?” (p. 44). Brjusov’s decision to embrace the Soviet regime can seem surprising, given Symbolism’s presumed incompatibility with Soviet culture, or inevitable, given the Symbolist drive for world-historical (and only incidentally revolutionary) transformation. Chodasevič’s portrait encourages us to synthesize these two seemingly incompatible readings: how could Brjusov’s esoteric Symbolist existence have permitted him to become anything but a communist? A stereoscopic reading of a discussion of Brjusov’s love for meetings and organization demonstrates as much: Он страстною, неестественною любовью любил заседать, в особенности – председательствовать. Заседая – священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф – эти 120 Daniel Brooks слова нежили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова “дискреционною властью председателя”, звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося “занести в протокол”, – все это было для него наслаждение, “театр для себя”, предвкушение грядущих двух строк в истории литературы. (p. 43) This statement contains echoes of Brjusov’s early orchestration of Symbolism (p. 34) and a foretaste of the enticingly managerial “meetings, statutes, resolutions” (p. 48) of the Soviet state apparatus. To condemn Brjusov for his communist turn is to deny that his naked pursuit of power propagated Russian Symbolism. For Chodasevič, the only meaningful criticism one can marshal against him is how naïve his power grabs ultimately were.30 Chodasevič thus lays the blame for Brjusov’s myopia at the feet of Symbolism: its heady, isolated atmosphere blinds him to history, trapping him in an eternal present. The Symbolists’ endemic stasis is never clearer than in ‘Andrej Belyj’, which rounds out Necropolis’ opening triad. A la Freud, Chodasevič focuses on the Oedipal dynamics of the young Belyj’s family life, particularly the cycles of repression and compulsion that prove amenable to the verb “переживать”: “To use his own words, Belyj was ‘torn’ between his parents, and whatever the occasion, he would relive [переживал] their relative rightfulness and error. Any phenomenon seemed ambiguous, was revealed two-sidedly, equivocably” (p. 54). Symbolism – even its fascination with obscure connections between planes of existence – becomes an extension of the childhood experiences that the adult Belyj cannot escape. This compulsion for repetition inflects the entire Petrovskaja-BrjusovBelyj love triangle, and figuratively reinforces the aspectual dynamics of “переживать/пережить”. The trio seeks emotional pain, the most cultivated, kairotic, and life-creative experience: to endure (perfective: “пережить”) it is to emerge transformed. However, having each endured the trials life-creative romantic entanglements, they seek to relive (imperfective: “переживать”) them differently – and yet achieve the same (non-)result.31 The Symbolist life purposely collapses the distinct aspectual connotations of the verb, and Necropolis’ portrait gallery structure reifies that experience for its readers: having endured “Renata’s” account of the Petrovskaja-Brjusov-Belyj love triangle’s collapse, we relive it in the next two portraits. Chodasevič’s edits to Necropolis’ source texts only enhance this effect: material from the longer, original Belyj portrait from February 1934 was inserted into the Petrovskaja and Brjusov portraits, dispersing a potentially more linear account of the trio’s affairs throughout the volume’s first three entries.32 However, the cumulative effect is greater: just as Belyj’s novels increasingly “served as occasions to resurrect in his memory, and renew his consciousness [пере- Chodasevič’s ‘Necropolis’ 121 сознать] of, the impressions that struck him in youth” (p. 53), Chodasevič structures Necropolis’ first three portraits so that a non-Symbolist reader might encounter the Petrovskaja-Brjusov-Belyj triangle in a properly Symbolist way. Thus, Necropolis’ format reproduces the Symbolist net in both content and form, making the perils of žiznetvorčestvo more palpable thereby. Geršenzon and Gor’kij: Alternative Models of Life-Creation Chodasevič justifies the unflattering portrayal of Belyj with the conviction that “truth cannot be petty, for there is nothing higher than truth. To Puškin’s ‘ennobling deceit’33 one wishes to juxtapose the ennobling truth”, which is the only thing that can ensure “fullness of understanding” (p. 51). This statement resonates not only with Necropolis’ stereoscopic treatment of the Symbolists, but with Geršenzon’s and Gor’kij’s portraits that are ostensibly anomalous within the volume. These writers embody Symbolist dynamics of truth and deceit more self-consciously, and thus extend our understanding of žiznetvorčestvo beyond the word’s Symbolist connotations. Geršenzon’s obstinate mantra of “Frankness!” (“Начистоту!”; p. 102) would seem to express the same self-righteousness as Chodasevič’s “ennobling truth”, and indeed, his is the most sympathetic portrait in the volume. Paradoxically, though, Geršenzon possesses some quintessentially Symbolist flaws. Chodasevič states that “[Geršenzon’s] obstinacy partly flowed out [вытекало] of his approach to work” (p. 104), recalling a pivotal statement from Petrovskaja’s portrait: “Part of [the Symbolists’] creative energy […] was incompletely embodied, and flowed off [утекала] into life” (p. 19). So too with Geršenzon’s literary criticism, which Chodasevič would seem to purposely focus on at the expense of journalism writings on the philosophy of history: Geršenzon’s choice to ignore empirical facts and read poetry intuitively34 produced notorious inaccuracies in Puškin’s Wisdom (Mudrost’ Puškina) – an interpretative folly that might recall the Symbolists’ misreadings of their world. However, such points of continuity aside, Geršenzon and the Symbolists could not be more different. If the omnipresent “переживание” expresses the Symbolists’ mannered behavior, then Geršenzon’s governing word “без” (“without”) expresses his sincerity. Geršenzon does without many things: irony (p. 101), poses and sentimentality (p. 102), and, in his criticism, mercy (p. 104). In hard times, Geršenzon makes do “without”, as it were, abhorring the superfluous (“не любящий лишнего”; p. 98) and remaining a “maximalist” only in matters of thrift (p. 99). Indeed, such proclivities permit him (unlike the hapless Symbolists) to better endure the hardships of post-1917 existence. Thus, while Geršenzon and the Symbolists both permit their creative work to infect their lives, in Geršenzon’s case, this 122 Daniel Brooks impulse does not so much “break” life as it does perpetuate it. So too is his “intuitive” criticism redeemed, insofar as it justifies Chodasevič’s own critical ethos. As Geršenzon states, “I, perhaps, know more about Puškin than he himself did. I know what he wanted to say and what he wanted to conceal, and even that which he uttered without understanding it himself, like the Pythia” (p. 104). Here is Necropolis in miniature: the wisdom of the belated critic, insights into others’ unconsciously directed behavior, the prerogative of revealing that which modesty conceals. At the beginning of the portrait, after remarking upon how historians write about poets, never hoping that poets will one day reciprocally work their craft on them, Geršenzon laughs at Chodasevič’s offer to do just that: “Don’t write about me” (p. 96). Chodasevič must violate his subject’s directive: if Geršenzon modestly thinks himself unworthy of a biography, then, by Necropolis’ logic, that very modesty makes it imperative that he receive one. Geršenzon’s mundanity thus becomes a metacritical counterweight to Symbolism’s overwrought essence, and gives the belated Chodasevič the mandate to write his contemporaries’ lives. However, Gor’kij’s portrait, the final work in the collection, polemicizes with Symbolist life-creation more emphatically. If Geršenzon’s portrait inverts Symbolist life practices, then Gor’kij’s portrait hyperbolizes them: Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще – и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникала (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босяка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой. (p. 160) The damning coincidence of victimhood and culpability unites Gor’kij with that of the Symbolists, as do their mutual preference for half-worlds filled with ambiguous phenomena: the pointedly prefixed “полуреальный” and “полувоображаемый” recall the thematically similar “двусмысленно”, “двусторонне”, аnd “двузначаще” from Belyj’s portrait.35 However, Gor’kij’s dream (“мечта”) more resembles a psychological coping mechanism than it does the Symbolists’ voluntary tendency toward vision (“видение”). The Symbolists’ search for a transcendent future leaves them paradoxically trapped in an eternal present, while Gor’kij’s foreknowledge of a better world diminishes the current, embryonic moment. Chodasevič’s ‘Necropolis’ 123 Gor’kij’s brand of life-creation does not escape criticism, however. Chodasevič states that Gor’kij “would not endure cheerlessness and demanded hope of a person at any cost, and in this his distinctive, obstinate egoism communicated itself: in exchange for his concern he demanded for himself the right to dream about the better future of that person whom he would help”. This made him an “obstinate worshiper and creator of ennobling deceits”, someone who “regarded any kind of disappointment, any kind of petty truth [низкая истина] as the manifestation of a metaphysically vile foundation” (p. 166).36 Ultimately, however, Gor’kij’s inertia (and that of the Soviet bureaucracy) prevented him from following through with many of his promises, and Chodasevič describes Gor’kij’s deception of his supplicants as “theater for himself [театр для себя]” (pp. 168, 170) – a phrase that he also applies to Brjusov’s managerial bombast (43),37 implying that Gor’kij’s brand of life-creation can be just as egocentric and destructive as that of the Symbolists. Where, then, does Gor’kij’s redemption lie? Namely in his harmonic alignment, rather than a poisonously Symbolist mingling, of the vital and the creative: В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах […] заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда “сон золотой” заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем – не потому, что как уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. (p. 162) Here we see flickers of a Gavrila Deržavin-like artist38 whose varied selves (biographical, artistic, political) enhance rather than corrupt one another, whose creative energies could build worlds rather than destroy life. It is the epoch that corrupts this otherwise positive hero, harnessing him to quixotic, disennobling causes. Herein lies the ironic paradox of Gor’kij’s mantra: “Don’t do it, or you’ll spoil your biography” (p. 173). Gor’kij knows better than Symbolists that he is creating an artificial life for himself, and understands his life not as a static performance but biographical progress that might inspire similar progress among other Russian citizens. Gor’kij embraces evolution, embraces his impossibly wider “net” of personal connections, but traps himself in a utopian future, depriving himself of stereoscopic vision thereby. Gor’kij escapes such artificiality in the portrait’s final lines, where he shows himself to be capable of retrospection and revision: Daniel Brooks 124 Перед тем как послать в редакцию “Современных Записок” свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного: – Жестоко вы написали, но – превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне. – Хорошо, Алексей Максимович. – Не забудете? – Не забуду. (p. 175) This saccharine exchange makes for a tonally odd but thematically appropriate conclusion to the acerbic Necropolis. Brjusov’s portrait (written in 1924) receives positive commentary from Gor’kij, whose appreciation of the text’s cruelty affirms the ideal of “ennobling truth” intoned in Belyj’s portrait. More immediately, Gor’kij’s directive to “Write about me” (an inverted echo of Geršenzon’s “Don’t write about me”) permits Chodasevič to revise (and “spoil”) Gor’kij’s monumental, invented biography – a prerogative that is further signaled by Chodasevič’s use of the author’s given name, Aleksej Maksimovič. 39 With these closing lines, Gor’kij the man, “Gor’kij” the portrait, and Necropolis the memoir kairotically converge. In a collection whose entries’ opening paragraphs foretell their subjects’ grim ends, the last portrait concludes with a mandate to return to the beginning. Gor’kij may have harmed himself and others with his particular brand of life-creation, but his acknowledgment of this fact redeems him, throwing the Symbolists’ myopia into relief. Structurally and conceptually, Necropolis counters the end of “Renata”, who is unaware that she never really existed, with the end of Gor’kij, who knows all too well that Aleksej Maksimovič Peškov effectively no longer does. It is up to Chodasevič, now endowed not only with the skill and the knowledge but the right to write his contemporaries’ lives, to bring their experiences to light. Conclusion Chodasevič’s understanding of žiznetvorčestvo does not exist in a vacuum. It was influenced by youthful attempts to understand the world in life-creative, “Symbolist dimensions”, even as those dimensions were shrinking; it was in dialogue with rival memoiristic accounts of Symbolism; and it was inflected by the certainty that Symbolism was a collective life-creative project. For this reason, we must consider how Chodasevič’s pithy definition of Symbolist life-creation is enriched by the content that surrounds it. The opening Petrovskaja-Brjusov-Belyj triad manifests the essence of Symbolist žiznetvorčestvo: it allows readers to (re)experience the trials of triangular love and Chodasevič’s ‘Necropolis’ 125 the arrested development of the Symbolist personality. The Geršenzon and Gor’kij portraits explore alternative, non-Symbolist forms of life-creation, and reenact the process by which the stereoscopic Chodasevič earns the “right to write” Russian authors’ lives. Such connections between moments, people, and portraits define Necropolis, and similar connections between life, creation, and life-creation cannot be observed outside of the volume’s architectural whole. NOTES 1 2 3 4 5 6 7 8 I would like to thank Harsha Ram, Bob Hughes, and Nikolaj Bogomolov for their invaluable comments on earlier drafts of this article. All citations from Necropolis, in-text and otherwise, are drawn from V.F. Chodasevič, Nekropol’: vospominanija; literatura i vlast’; pis’ma B.A. Sadovskomu (Moskva, 1996), as it is currently the most thoroughly annotated (by N.A. Bogomolov) edition of this text. Irina Paperno, ‘Introduction’, Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism, 1-2, Stanford, CA, 1994. Note that Chodasevič merely places the words žizn’ and tvorčestvo in close proximity; the neologism žiznetvorčestvo is generally attributed to Lidija Ginzburg and Jurij Lotman. Brjusov’s roman à clef Ognennyj angel (1908) famously chronicles this love triangle. The recently compiled Brjusov-Petrovskaja correspondence (Perepiska, 1904-1913, Eds. N.A. Bogomolov and A.V. Lavrov, Moskva, 2004) sheds essential light on the trio’s relationship. David Bethea, Khodasevich, His Life and Art, Princeton, N.J., 1983, pp. 74, 305. This formulation proceeds from Chodasevič’s long poem ‘Sorrento Photographs’ (‘Sorrentinskie fotografii’, 1926). See his 1928 article ‘O simvolizme’ in V.F. Chodasevič, Sobranie sočinenij: v četyrech tomach, II, Moskva, 1996, p. 173 (hereafter SS). For Chodasevič’s comments on his “belatedness”, see his 1933 autobiographical sketch ‘Mladenčestvo’, SS, IV, p. 190. Dennis Ioffe, ‘Modernism in the Context of Symbolist “Life-Creation”’: “Lebenskunst” and the Theory of “Life ↔ Text” Sign Systems’, New Zealand Slavonic Journal, 40, 2006, pp. 22-55. ‘O simvolizme’ (SS, II, p. 177). On communities of Symbolist readers, see Jonathan Stone, ‘The Literal Symbolist: Solov’ev, Briusov, and the Reader of Early Russian Symbolism’, Russian Review, 67, 2008, pp. 373-386. On the Symbolists’ mythical playacting, see Alexander Lavrov, ‘Andrei Bely and the Argonauts’ Mythmaking’, Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism, 83-121. 126 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Daniel Brooks On Symbolist love triangles, see Olga Matich, Erotic Utopia : The Decadent Imagination in Russia’s Fin-de-Siècle, Madison, WI, 2005, and ‘The Symbolist Meaning of Love: Theory and Practice’, in Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism, pp. 24-50, respectively. See Matich, Erotic Utopia, and Jennifer Presto, Beyond the Flesh: Alexander Blok, Zinaida Gippius, and the Symbolist Sublimation of Sex, Madison, WI, 2008. For a thorough overview of Symbolist-oriented memoirs of this time, see Galina Rylkova, The Archaeology of Anxiety : The Russian Silver Age and Its Legacy, Pittsburgh, 2007, pp. 45-65. Chodasevič, ‘O simvolizme’, SS, II, p. 174. In his review, Chodasevič is oddly coy about his acquaintanceship with Kamenev, with whom he participated in many cultural organizations of the early Soviet period; see his short memoir ‘Belyj koridor’ (1925; SS, IV, pp. 241-261), where Chodasevič scathingly describes the vanity and insincerity of Kamenev and other Kremlin-based cultural power brokers in early Soviet Russia. Chodasevič, ‘Načalo veka’, SS, II, p. 321. For Kamenev’s introductory essay, see Andrej Belyj, Načalo veka, Moskva, 1933, pp. iii-xv. For more extensive generous accounts of these texts, see Lazar Fleishman, ‘Bely’s Memoirs’, in Andrei Bely: Spirit of Symbolism, Ithaca, NY, 1987, pp. 216-241, and the 1989-1990 “Chudožestvennaja literatura” editions of Belyj’s autobiographical trilogy, with commentary and introductory materials by A.V. Lavrov. SS, II, p. 327. Ibid., p. 324. Vladimir Vejdle, ‘V.F. Chodasevič: Nekropol’’, Sovremennye zapiski, 69, 1939, pp. 393-394, and V.S. Janovskij, ‘V.F. Chodasevič. Nekropol’’, Russkie zapiski, 19, 1939, pp. 198-199. Nikita Struve, ‘Nekropol’ V. Chodaseviča’, Vestnik Russkogo christianskogo dviženija, 127, 1978, pp. 105-123; 108-109. N.A. Bogomolov, in V.F. Chodasevič, Nekropol’, pp. 10-11. Julia Zarankin, ‘The Literary Memoirist as Necrographer: Xodasevič, Tsvetaeva, Nabokov, and Proust’, Ph.D., Princeton University, 2004, p. 45. Ibid., p. 42. In his article ‘Literaturnaja biografija v istoriko-kul’turnom kontekste’, Jurij Lotman suggests that calibrating the culturally variable relationship between the right to be possessed of a biography and the right to write someone’s biography would be a useful method for “typological classification of cultures” (Izbrannye stat’i v trech tomach, I, Tallinn, 1992, p. 376). See Zarankin, ‘The Literary Memoirist as Necrographer’. I will not discuss Sologub’s and Esenin’s portraits in detail, but will assert that their poetics (i.e. their status as appreciative rather than biographical works) produce a similar effect of arrested development. Quotes from distinct periods of their oeuvres illustrate uniform sets of thematic and aesthetic principles; the Chodasevič’s ‘Necropolis’ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 127 net effect is one of creative stasis. Thus, the formal features that nominally distinguish Sologub and Esenin’s portraits from Necropolis’ other entries (and make them seem like padding for an otherwise thin tome) are conceptually consistent with the volume’s ethos. The Pushkinist Grigorij Vinokur (1896-1947) employed the word “переживание” in a similar context around the same time, stating that an author’s “переживания” give the scholar “the right to speak about private life as a creation” (“о личной жизни как творчестве”; see G.O. Vinokur, Biografija i kul’tura, Moskva, 1997, p. 44). Other examples include the following: “Любовь и все производные от нее эмоции должны были переживаться в предельной напряженности и полноте, без оттенков и случайных примесей, без ненавистных психологизмов” (p. 23); “Пора было начать ‘переживать’. Она уверила себя, что тоже влюблена” (ibid.); “Но это было более ‘переживанием покаяния’, чем покаянием подлинным” (p. 24); “Вряд ли верила она, что ее магические опыты под руководством Брюсова в самом деле вернут ей любовь Белого. Но она переживала это, как подлинный союз с дьяволом” (p. 25). Lotman similarly suggests that “the distinction between ‘the non-biographical’ life and the biographical one consists in that the second admits the contingencies of real events through the cultural codes of the epoch” (Lotman, Izbrannye stat’i v trech tomach, I, p. 371). For a definition of kairos and chronos (the two Greek words for “time”), see Frank Kermode, Sense of an Ending : Studies in the Theory of Fiction, Cary, NC, 2000, esp. pp. 46-51. Chodasevič describes žiznetvorčestvo as a theater of empty novelty: “[...] Непрестанное стремление перестраивать мысль, жизнь, отношения, самый даже обиход свои по императиву очередного ‘переживания’ влекло символистов к непрестанному актерству перед самими собой – к разыгрыванию собственной жизни как бы на театре жгучих импровизаций” (p. 22). Chodasevič’s portrait of Brjusov (originally published in 1924) arguably polemicizes with Zinaida Gippius’ unflattering assessment of the poet’s Soviet turn (1922; republished in Living People [Živye lica, 1925]). See Chodasevič’s review of Gippius’ memoirs, Živye lica (SS, II, pp. 127-134). Nikolaj Bogomolov remarks upon this repetitive dynamic apropos of the Brjusov-Petrovskaja correspondence: “One cannot but feel the degree of [Brjusov’s] connection with his lover, who for five years kept drawing him towards new repetitions of that which, seemingly, had already been fully pursued” (Valerij Brjusov and Nina Petrovskaja, Perepiska, 1904-1913, p. 45). See Chodasevič’s ‘Andrej Belyj: čerty iz žizni’, and Bogomolov’s commentary thereon, in Smert’ Andreja Belogo, Moskva, 2013, pp. 502-516 and 527-541. The juxtaposition of base truth to ennobling deceit is drawn from Puškin’s 1830 poem ‘Geroj’. On Chodasevič’s conception of ennobling deceit, see 128 34 35 36 37 38 39 Daniel Brooks Angela Brintlinger, Writing a Usable Past: Russian Literary Culture, 19171937, Evanston, IL, 2000. For an exploration of Geršenzon’s critical methods, see Brian Horowitz, The Myth of A.S. Pushkin in Russia’s Silver Age: M.O. Gershenzon, Pushkinist, Evanston, IL, 1996. See also Chodasevič’s description of how he and Muni navigated everyday life in a “Symbolist dimension” (p. 74). See Brintlinger, Writing a Usable Past, pp. 71-73, on Chodasevič’s discussion of truth and deceit vis-à-vis Gor’kij. Chodasevič borrows this phrase from Nikolaj Evreinov, the early twentiethcentury playwright, theorist, and Symbolist sympathizer who penned the trilogy Teatr dlja sebja (1914-1916). Evreinov advocates playacting and theatrical performance as a kind of positive therapy; Chodasevič uses his term more ironically. On Evreinov, see Sharon Marie Carnicke, The Theatrical Instinct: Nikolai Evreinov and the Russian Theatre of the Early Twentieth Century, New York, 1989, esp. pp. 80-90. See Brintlinger, Writing a Usable Past, esp. pp. 70-71. Gor’kij could not but be addressed as “Aleksej Maksimovič” in conversation, of course. However, Chodasevič includes few conversations as such in Gor’kij’s portrait – and indeed, refers to him as “Gor’kij” throughout; thus, the force of this modest name and patronymic shines through in the work’s concluding lines. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 129–151 www.elsevier.com/locate/ruslit НЕТ CЛОВ. К ПЕРЕВОДАМ ‘ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ’ ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА (THERE ARE NO WORDS. ON TRANSLATIONS OF VLADISLAV KHODASEVICH’S ‘BEFORE THE MIRROR’ ) АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ (ALEXANDER ZHOLKOVSKY) Abstract In connection with five English translations of Vladislav Khodasevich’s famous poem ‘Before the Mirror’, the essay discusses the problem of translatability of a poetic text that features very prominently such semi-auxiliary words as “razve” and “neuzheli” that have no exact equivalents in English. It shows the crucial role these words play in the poem’s structure and intertextuality, in particular, in its references to texts by Lev Tolstoi, Ivan Goncharov and Aleksandr Pushkin. The consistent lack of such keywords in the translations may account for the failure of an indisputable gem of Russian poetry to claim its due place in the world literary canon. Keywords: V.F. Khodasevich; L.N. Tolstoi; A.S. Pushkin; Translation; Interrogative Particles; Intertexts 1. Начну немного издалека. Виртуозно растянутая заключительная фраза ‘Весны в Фиальте’ Набокова кончается так: […] причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.008 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 130 Александр Жолковский давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной. 1 (Набоков 1978: 35) Венчающей эту фразу и весь текст незабываемой пуантой является, конечно, самое последнее слово текста: “смертной”. В английской версии рассказа налицо тот же финальный эффект: […] while Nina, in spite of her long-standing, faithful imitation of them, had turned out after all to be mortal. (Nabokov 1981: 311) ‘Весна в Фиальте’ была сначала написана по-русски (1936) и лишь десяток лет спустя переведена автором на английский (1947; Boyd 1990: 575). Но представим себе – в порядке мысленного эксперимента, – что она бы переводилась, наоборот, с английского на русский, причем на русский, в котором отсутствовало бы слово “смертный”. Значит ли это, что адекватный перевод был бы невозможен? Получилось бы что-то вроде: *[…] тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, избежать смерти все-таки не смогла. Общий смысл был бы передан, но один существенный нюанс пропал бы. Пропала бы идея закономерности подобного перехода в небытие, содержащаяся в констатации у героини имманентного свойства “быть смертной”, которое, к тому же, драматизируется его неожиданным обнаружением (“оказалась…”) в самый последний момент. То есть, пострадала бы нарративная и философская парадоксальность набоковской пуанты.2 2. В свое время, 40 с лишним лет назад, мы с соавтором потратили год жизни и десятки страниц3 на разбор одной максимы Ларошфуко (№ 313): Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mémoire pour retenir jusqu’aux moindres particularités de ce qui nous est arrivé et que nous n’en ayons pas assez pour nous souvenir combien de fois nous les avons contées à une même personne. (La Rochefoucauld 1959: 109) Вот она в переводе Э. Линецкой: Почему мы запоминаем во всех подробностях то, что с нами случилось, но неспособны запомнить, сколько раз мы рассказывали об этом одному и тому же лицу? (Ларошфуко 1971: 175) К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича 131 Перевод, в общем, правильный, но не вполне точный. Во-первых, в нем отсутствует слово “память”. В оригинале речь идет не просто о запоминании/забывании, а об инстанции памяти (mémoire) как таковой – особом объективно существующем и количественно измеримом ресурсе. Буквально: Почему нам хватает [у нас достаточно] памяти, чтобы удерживать во всех подробностях то, что с нами случилось, и не хватает ее [не достаточно], чтобы помнить, сколько раз мы рассказывали 4 об этом одному и тому же лицу? А во-вторых, русский текст выдержан в изъявительном наклонении, тогда как по-французски он был в сослагательном (subjonctif): “Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mémoire…”, букв. “Почему должно быть так, чтобы у нас хватало памяти…”. Тем самым разговор опять-таки переведен в некий бытовой, чисто событийный план, тогда как в оригинале автор задумывается над неким обнаруженным им универсальным законом (“faut-il”, “должно быть”), обрекающим людей на смехотворное поведение. Свое открытие он описывает с отчужденной иронией, как некую параллельную реальность, для чего и задействует сослагательное наклонение. В переводе этот унизительный закон почти полностью исчезает со сцены; его отзвуки лишь отдаленно слышатся в словах “почему”, “мы” и “неспособны”, с их обобщенным и отчасти модальным значением, да еще в несовершенном виде глагола “запоминаем”, с его повторностью действия. Если первое решение переводчицы (опустить слово “память”) было, по-видимому, сознательным – и во всяком случае свободным – выбором, то со вторым дело обстоит иначе. Готовое выражение “Pourquoi faut-il” сочетает союз “pourquoi”, “почему”, с вопросительным обращением формулы “il faut”, “надо, дóлжно, следует”. В русском соответствующего фразеологического оборота нет. Начало максимы, конечно, можно было бы перевести: “Почему так устроено, что…”, но это было бы и не совсем точно – чересчур пережато, и не совсем идиоматично. Тут перевод практически бессилен. И в результате, вместо максимы о загадочной природе человека мы получаем анекдот о его странном поведении. 3. Этот пример с переводом на реальный русский – как и предыдущий, с воображаемым переводом на воображаемо ущербный – наглядно демонстрирует разницу между гениальной находкой и посредственным решением задачи. Ведь нетрудно представить себе русского писателя, которому просто не пришло бы в голову заговорить о подверженности его персонажа смерти, как переводчице Ларошфуко о 132 Александр Жолковский феномене памяти, а если бы и пришло, то не удалось бы найти в родном словаре нужного слова. Точно так же рядовой французский литератор вполне мог бы удовлетвориться элементарным “Pourquoi” – без “faut-il”. Имя таким авторам легион. В своем трактате ‘Что такое искусство?’ Толстой обсуждает характерный эпизод: Поправляя этюд ученика, Брюллов в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. “Вот, чуть-чуть тронули, и все изменилось,” сказал один из учеников. “Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть,” сказал Брюллов, выразив этими словами самую характерную черту искусства. (Толстой 1955: 417-418) “Замечание это верно для всех искусств,” – обобщает Толстой, которого, естественно, интересует прежде всего литература. Соответствующий литературный пример (один из множества!) – “маленькое чудо” преображения Бабелем посредственного текста, написанного его приятелем – профессиональным жокеем: Пять-шесть поправок (и притом незначительных) на страницу – вот все, что сделал Бабель с сочинениями своего питомца […] И страница, перед тем ни единой своей строкой не останавливающая внимания […] стала живописной […] Я бы не поверил, что такое возможно, если бы не убедился в этом своими глазами. (Мунблит 1989: 89) Как мы видели, чудесная поправка может сводиться к выбору правильного слова – выбору, иногда невозможному на другом языке. Почему-то то, что столь удачно выискано в языке оригинала, как правило, блистает своим отсутствием в других языках. 5 Причем часто это простейшие, казалось бы, слова, которые трудно заподозрить в непереводимости. 4. Знаменитое ‘Перед зеркалом’ Ходасевича (далее ПЗ)6 открывается памятной метаязыковой строкой: “Я, я, я! Что за дикое слово!” Слово, действительно, странное: оно – подобно зеркалу (Панова 2012: 116) – обозначает всякого, кто его произносит, и никаких конкретных свойств, общих всем таким субъектам, не подразумевает. На связанном с проблемой собственного “я” кризисе идентичности стихотворение и сосредотачивается. Впрочем, перевод самого этого слова на другие языки особой трудности не представляет: Я = Ego = I = Ich = Io, etc. Ну, пофранцузски надо выбирать между “Je” и “Moi”, но в целом проблема “я” скорее философская, нежели лингвистическая. К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича 133 Лингвистическая же возникает в следующей строке стихотворения в связи c проходным, на первый взгляд, словом “неужели”: “Неужели вон тот – это я?”. У слова “неужели” нет точного эквивалента ни в английском языке, ни во французском. То есть, можно перевести его как: “Is it possible that…?”, “Est-il possible que…?” – но это будет все равно, что по-русски сказать: “Возможно ли, чтобы…?”, “Может ли быть, что...?” А за “Неужели…?” у Ходасевича следует его приблизительный синоним – столь же уникально русское “Разве…?”. Причем не один раз, а трижды, по одному разу в каждой из трех первых строф, так что проблема переводимости никуда не уходит. Правда, в двух последних строфах эти “трудные” слова исчезают из текста, уступая место вполне переводимым зачинам: “Впрочем… А… Да… И… Только…”. Но этим как раз обнажается стержневая композиционная роль всех таких союзных и местоименных слов: Я, я, я! Что за…! Неужели… это я? Разве… такого…? Разве… это я, тот, кто…? Разве тот, кто… это я, тот же самый, который…? Впрочем – так и всегда… А глядишь… И… не… Да, меня не… И… нет…Только есть… А поскольку многие из этих опорных полу-служебных лексем точному переводу не поддаются, постольку без них конструкция в целом рушится, смазывая общий дискурсивный посыл переводимого стихотворения. 5. От нехватки в языке перевода нужных слов иногда страдает и еще один важнейший аспект поэтической структуры – интертекстуальный. Это случается тогда, когда непереводимая родная лексема многозначительно кивает в сторону какого-то – тоже родного – литературного источника. С потерей этой словесной переклички перевод теряет целый слой смыслов и коннотаций. Нечто подобное происходит при переводе ходасевичевского стихотворения на английский, ввиду отсутствия там точных эквивалентов для слов “неужели” и, главное, “разве”. Дело в том, что троекратное “разве”, да еще в сочетании с “мамой” и “детством”, отсылает к знаменитому месту из ‘Смерти Ивана Ильича’ Толстого, которое очень занимало Ходасевича как раз в связи с проблемой авторской идентичности.7 Вот этот пассаж: В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но […] никак не мог понять этого. Тот пример силлогизма […]: Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему […] правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кайчеловек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, 134 Александр Жолковский совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мамà, с папà, с Митей и Володей, с игрушками […] со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного с полосками мячика, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, – мне это другое дело. (Толстой 1952: 300-301) Разумеется, содержательная отсылка в ПЗ к толстовскому тексту по-прежнему установима, но с еще меньшей вероятностью, чем на русской почве, поскольку, даже при всей признанности ‘Смерти Ивана Ильича’ на Западе, словесное сходство ПЗ с ее переводным вариантом становится практически незаметным.8 Ср.: In the depth of his heart [Ivan Ilyich] knew he was dying, but […] he simply did not and could not grasp it. The syllogism […]: “Caius is a man, men are mortal, therefore Caius is mortal,” […] had […] seemed to him correct as applied to Caius, but certainly not as applied to himself. That Caius – man in the abstract – was mortal, was perfectly correct, but he was not Caius, not an abstract man, but a creature quite, quite separate from all others. He had been little Vanya, with a mamma and a papa, with Mitya and Volodya, with the toys […] and with all the joys, griefs, and delights of childhood, boyhood, and youth. What did Caius know of the smell of that striped leather ball Vanya had been so fond of? Had Caius kissed his mother’s hand like that, and did the silk of her dress rustle so for Caius? Had he rioted like that at school when the pastry was bad? Had Caius been in love like that? Could Caius preside at a session as he did? Caius really was mortal, and it was right for him to die; but for me, little Vanya, Ivan Ilyich, with all my thoughts and emotions, it’s altogether a different matter. (Tolstoy 1991: 149-150) В каноническом переводе Луизы и Эйлмера Мод сохранена некоторая анафоричность пяти фраз, которые в оригинале начинаются с “Разве”, но лишь отчасти и без повторов одного и того же перевода самого этого слова: “What did Caius know…? Had Caius kissed…? Had he rioted…? Had Caius been in love…? Could Caius preside…?”. Вдобавок к толстовскому, влиятельный пассаж с пятью “разве”, тоже сосредоточенный на теме идентичности “я”, есть и в Обломове Гончарова: – Я “другой”! Да разве я мечусь, разве работаю? […] Худощав или жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? […] Я ни разу не К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича 135 натянул себе чулок на ноги […] слава богу! Стану ли я беспокоиться? […] Не ты ли [= Захар] с детства ходил за мной? Ты все это знаешь, видел, что я воспитан нежно […] Так как же это у тебя достало духу равнять меня с другими? Разве у меня такое здоровье, как у этих “других”? Разве я могу все это делать и перенести?.. (Гончаров 1949: 92) Ср. английский перевод этого пассажа: I am like the “others”, am I? Do I rush about? Do I work? […] Do I look thin and wretched? Do I go short of things? […] Never in my life, thank God […] have I had to pull a sock on my foot myself! Why should I worry? […] Haven’t you looked after me since I was a child? You know all this; you’ve seen how tenderly I’ve been brought up […] So how did you have the heart to compare me to “others”? Do you think I am as strong as those “others”? Can I do and endure what they can? (Goncharov 1954: 96-97) Переводчик сохраняет анафорическую структуру язвительных вопросов Обломова, но, разумеется, на ином словесном материале: вместо “Разве” повторяются вопросительные обороты с “Do I…? Do you...? Can I…?”, к которым добавляется “Haven’t you...?” (= перевод оборота “Не ты ли...?”), так что в целом эффект повторности даже увеличивается. Однако это повторность, так сказать, синтаксическая, но не лексическая, а потому интертекстуально менее заметная. В целом же, защитная риторика, мысленно развиваемая толстовским Иваном Ильичом, а гончаровским Ильей Ильичом вслух, теряет свою узнаваемость, в результате чего понижаются и шансы на соотнесение с ней аналогичных вопросов, приходящих в голову лирическому “я” Ходасевича в ПЗ. 6. Словесный мотив “разве” представлен также в русской поэтической традиции, и ходасевичевская серия черпает оттуда значительную долю своей подспудной убедительности. Примечательна, в частности, перекличка ПЗ с ‘Унижением’ Блока (1911/1913), которое написано тем же размером (Ан3мж), тоже развертывает серию “разве”: Разве дом этот – дом в самом деле? Разве так суждено меж людьми? Разве рад я сегодняшней встрече? […] 9 (Разве это мы звали любовью?) (Блок 1997: 19) и, по-видимому, тоже восходит к прозаическому претексту. 10 136 Александр Жолковский Впрочем, в связи с ПЗ более интересны пушкинские корни мотива “неужели”, прочно увязанного (в архаичной форме “ужели/ужель”) с темой времени, возраста, проблем с идентичностью. Ср. в ‘Руслане и Людмиле’ (Песнь Первая): Ах, витязь, то была Наина […] В сомненьи [я] всe еще не верил […]: “Возможно ль! ах, Наина, ты ли! Наина, где твоя краса? Скажи, ужели небеса Тебя так страшно изменили? […] Давно ли?..” – “Ровно сорок лет, – Был девы роковой ответ: – Сегодня семьдесят мне било”. (Пушкин 1977-1979, 4: 19) It was Naina, goodly knight! […] [I] would not accept the horrid changeling […]: “You – my Naina? You...” I faltered, “Naina – where did beauty flee? Oh answer me – how could it be You were so pitilessly altered? […] How long ago?” – “Just forty years […] 11 My age is seventy today”. Этот кластер получает мощное – и во многом парадоксальное – развитие в Восьмой главе Евгения Онегина (ЕО): Но это кто в толпе избранной Стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим […]… Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он?.. Так, точно он. (VII) Все тот же ль он иль усмирился? Иль корчит так же чудака? […] Чем ныне явится? Мельмотом, Космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича Иль маской щегольнет иной […] – Знаком он вам? – И да и нет. (VIII) Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана […] Что наши лучшие желанья […] Истлели быстрой чередой […] Несносно видеть пред собою… (XI) “Ужели, – думает Евгений: – Ужель она? Но точно... Нет... Как! из глуши степных селений...” (XVII) Хоть он глядел нельзя прилежней, Но и следов Татьяны прежней Не мог Онегин обрести. (XIX) Ужель та самая Татьяна, Которой он наедине […] Читал когда-то наставленья, Та, от которой он хранит Письмо, где сердце говорит […] Та девочка… иль это сон? Та девочка, которой он Пренебрегал в смиренной доле, Ужели с ним сейчас была Так равнодушна, так смела? (XX) Как изменилася Татьяна! Как твердо в роль свою вошла! […] Кто б смел искать девчонки нежной В сей величавой, в сей небрежной Законодательнице зал? (XXVIII) И он ей сердце волновал! Об нем она во мраке ночи […] Бывало, девственно грустит […] 137 138 Александр Жолковский Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренный жизни путь! (XXVIII) Но в возраст поздний и бесплодный, На повороте наших лет, Печален страсти мертвой след. (XXIX) Примчался к ней, к своей Татьяне Мой неисправленный чудак. Идет, на мертвеца похожий. (XL) Кто прежней Тани, бедной Тани Теперь в княгине б не узнал! (XLI) “Тогда – не правда ли? – в пустыне, Вдали от суетной молвы, Я вам не нравилась.” (XLIV) (Пушкин 1977-1979, 5: 144-161) Ввиду обилия английских версий ЕО, процитирую лишь наиболее важные параллельные места из набоковского подстрочника, – те, которые свидетельствуют о трудностях с переводом, даже подчеркнуто буквальным, именно интересующей нас лексемы “ужели/ужель”: But who’s that in the chosen throng, Standing silent and nebulous? To everyone he seems a stranger […] Why is he here? Who is he? Is it really – Eugene? He, really? So, ‘tis he, indeed. (VII) “Can it be possible?” thinks Eugene. “Can it be she?.. But really… No… What! From the wild depth of steppe…” (XVII) Can it be the same Tatiana To whom, alone with her […] He had preached precepts once? The same from whom he keeps A letter where the heart speaks […] That little girl – or is he dreaming? – That little girl whom he Had in her humble lot disdained – К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича 139 Can she have been with him just now So bland, so bold? (XX) (Pushkin 1990: 284, 289-291) Если в ‘Руслане и Людмиле’ слово “ужели/ужель” появляется лишь дважды, то в Восьмой главе ЕО оно проходит шесть раз: два раза применительно к Онегину и четыре применительно к Татьяне. Оба – и Онегин, и Татьяна – сильно меняются за прошедшие годы, что подчеркивается рассуждениями поэта о смене масок (у него) и роли (у нее). Но если идентичность Онегина меняется в общем аналогично тому, что происходит с Наиной (он постарел, его молодость и лучшие желания истлели, он вошел в поздний бесплодный возраст, стал похож на мертвеца) и с лирическим героем ПЗ, то Татьяна не столько постарела, сколько созрела и достигла некого оптимального возраста. Тем острее звучат словесные переклички ПЗ с этими строфами, в частности по линии поиска узнаваемых следов прежней – юной, мальчишеской/девической – идентичности и грамматического (конструкциями с “тот”, “самый”, “который”) подчеркивания тождества, ср.: ПЗ: Разве мальчик… Это… тот, кто… Разве тот, кто… мальчишечью вкладывал прыть… Это я, тот же самый, который… И своих же следов не найти; ЕО: Ужель та самая Татьяна, Которой он… Та, от которой он хранит… Та девочка… Та девочка, которой он… Ужели с ним сейчас была… Кто б смел искать девчонки нежной В сей величавой… Печален страсти мертвой след… Кто прежней Тани… Теперь в княгине б не узнал! Сходства и контрасты между ПЗ и Восьмой главой простираются и дальше. Так, Онегин Татьяне “Читал когда-то наставленья, а теперь она Так равнодушна, так смела с ним, поскольку твердо в роль свою вошла.” Герой ПЗ, напротив, был когда-то (подобно Татьяне), наивен и горяч и в полночные споры Всю мальчишечью вкладывал прыть, а с годами На трагические разговоры Научился молчать и шутить и в результате Желторотым внушает поэтам Отвращение, злобу и страх? Возможными отсылками к ЕО являются и более периферийные лексические переклички, ср.: Александр Жолковский 140 ПЗ: Впрочем – так и всегда на средине Рокового земного пути: А глядишь – заплутался в пустыне… ЕО: ...Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренный жизни путь! […] Тогда – не правда ли? – в пустыне / […] / Я вам не нравилась... Опора Ходасевича на Пушкина, который многие годы был объектом его пристального внимания и изучения, представляется здесь очевидной, хотя, разумеется, можно спорить о степени ее осознанности.12 И, конечно, при переводе на другие языки, не располагающие эквивалентом ключевого слова “(не)ужел(и/ь)”, она в значительной мере размывается, поскольку словесные сигналы в поэзии не менее, если не более важны, чем общесодержательные. 7. В заключение кратко прокомментирую пять английских версий ПЗ (приведенные в Приложении) с точки зрения передачи слов “неужели”/ “разве”. Оболенский (1962: 308-309), совершенно не связанный соблюдением стиховой структуры оригинала, с тем большей адекватностью передает его грамматический и лексический рисунок. Единственное “Неужели…?” он переводит хорошо соответствующим ему “Is that… really…?”, а серию анафорических “Разве…?” – серией “Can it be that…?”. Сохраняет он и метатекстуальную цепочку, проходящую через весь текст, ср.: Ходасевич: Я, я, я! Что за…! Неужели… это я? Разве… такого…? Разве… это я, тот, кто…? Разве тот, кто… это я, тот же самый, который…? Впрочем – так и всегда… А глядишь… И… не… Да, меня не… И… нет… Только есть… К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича 141 Obolensky: “I, I, I”. What a… word! Is that… really I? Can it be that… such a…? Can it be that the… Is I, who...? Can it be that the same… Who… is I, Who…? Yet it’s always like this… And behold… And [you ] cannot… No… And there is no… There is only… Остальные четыре перевода выполнены верлибром, то есть с установкой на стиховое членение текста, но без претензий на сохранение метра и рифмовки оригинала. Они различаются степенью верности анафорической метасловесной схеме и эмфазы в передаче “неужели” и “разве”: Bonver (2000): “I, I, I”. What a…! Is this… I? … Could…? Can it be… that the… Is I? I who…? Can it be that the same… Who… Is I? I, who… Yet it’s always… And behold… And [you] couldn’t… There is … Butler (2005): I, I, I. What a…! Is that… there I? Can… really…? Can the… be I, Who…? Can the… who would… be I, The same who…? However, that is always how things are… Until you… And can’t even… So, there was no… And no… There is only… Daniels (2010): Me, me, me. What a…! Can that… there really be me? Did… Mama really…? Can the… be myself, whose…? Can that… have been my own…? But that’s how it always is… And look… and can’t even… Well, there was no… and there’s no… there’s only… Tjalsma (1971): I, I, I… – a wild word that, And is that me… truly, Could…? Is this really the… who once… The very same one who…? The very same… who…? It’s always like this, after all… You are… You can’t…Well, no… And there’s no… Only… Перевод Чалсма отличает очевидная установка на разговорную свободу выражения, – с досадной издержкой: утратой анафоричности при передаче серии: “Разве…? – Разве…? – Разве…?” в началах строк в трех первых строфах: “Could…? – Is this really…? – The very same…?” 142 Александр Жолковский (там, где остальные, более буквальные, переводы ее естественно сохранили). Неудачным представляется и употребление “truly”, лишенное (в отличие от английского “really…?”) того элемента “недоверчивого удивления”, который входит в значение русских “неужели” и “разве”, для перевода которых (на стыке строк 2-й и 3-й первой строфы) использовано это слово.13 Разумеется, словесные неточности – не единственные и даже не главные потери рассмотренной группы переводов. Гораздо существеннее полный отказ переводчиков от передачи стихотворной формы оригинала: метра и рифмы. ПЗ написано трехстопным анапестом с чередованием женских и мужских рифм, образующим характерный строфический рисунок АbААb. Трехстопный анапест обладает в русской поэтической традиции особым семантическим ореолом, как и пятистрочная строфа, открывающаяся строкой с женским окончанием и замыкающаяся мужской клаузулой, чему предшествуют две женские рифмующиеся друг с другом. Опора на эти стиховые контексты,14 как и на словесные и мотивные переклички с произведениями Пушкина, Толстого, Гончарова, Анненского, Блока и некоторых других авторов, в том числе самого Ходасевича, а также Данте и Петрарки, 15 образует мощную подводную часть того поэтического айсберга, которым является оригинал ПЗ, но никак не его переводные версии. Ввиду этих потерь сохранение хотя бы части композиционного контура, в данном случае анафорического, оказывается неожиданно важным. С одной стороны, так сказать, снявши голову по волосам не плачут, с другой – хоть что-то напоминает о структуре оригинала. В целом же, понятно, почему одна из бесспорных жемчужин русской поэзии в переводе не сверкает. К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича ПРИЛОЖЕНИЕ Перед зеркалом (Ходасевич 1996, I: 277) Nel mezzo del cammin di nostra vita Я, я, я! Что за дикое слово! Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея? Разве мальчик, в Останкине летом, Танцевавший на дачных балах, – Это я, тот, кто каждым ответом Желторотым внушает поэтам Отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры Всю мальчишечью вкладывал прыть, – Это я, тот же самый, который На трагические разговоры Научился молчать и шутить? Впрочем – так и всегда на средине Рокового земного пути: От ничтожной причины – к причине, А глядишь – заплутался в пустыне, И своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками На парижский чердак загнала. И Виргилия нет за плечами, – Только есть одиночество – в раме Говорящего правду стекла. 143 144 Александр Жолковский Before the Mirror (Obolensky 1962: 308-309) Midway on our journey through life “I, I, I”. What a weird word! Is that man there really I? Can it be that mother loved such a person, Greyish-yellow, with hair turning grey, And omniscient as a serpent? Can it be that the boy who used to dance At Ostankino in the summer – Is I, who, by each of my answers, Inspire loathing, anger and fear In newly hatched poets? Can it be that the same person Who used to throw all his boyish vivacity – Into midnight arguments – is I, Who have learned to be silent And to jest when faced with tragic conversations? Yet it’s always like this midway On the fatal journey through life; [You go] from one trivial cause to another, And behold, you have lost your way in the desert, And cannot find your own tracks. No panther leaping in pursuit Has driven me into my Parisian garret And there is no Virgil standing at my shoulder. There is only loneliness – framed in the mirror That speaks the truth. Before the Mirror (Bonver 2000) Nel mezzo del cammin di nostra vita. “I, I, I”. What a word! It’s unfair! Is this man I? Is this not a fake? Could his mother love him anywhere – Grayish-yellow, gray in his hair, And such witty and wise as a snake? К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича Can it be that the boy who liked dances In the summer Ostankino’s balls – Is I? I who, by each of my answers, Call for anger’s and fear’s uprises Of the poets, beginning their toils. Can it be that the same youthful person Who put vigor in his arguments – Is I? I, who, at tragic and passion’s Elements, met in all conversations, Has learnt usage of silence or jests. Yet it’s always when you just freeze on The midways through your baleful life: From the trivial reasons to reasons, And behold, you are lost in wild regions, And couldn’t find former trace of your strife. Under garrets of France, not a fear Of a panther has set me, at last. Virgil does not inspire me here… There is loneliness – framed in the mirror That is speaking the truth of the glass. Before the Mirror (Butler 2005) Nel mezzo del cammin di nostra vita. I, I, I. What a ridiculous word! Is that character there I? Can mother really have loved such a person, Yellow-grey, with greying hair, And worldly-wise as a serpent? Can the boy who at Ostankino each summer Used to dance at country balls be I, Who with every one of his replies, Inspires in the younger poets Loathing, malice and fear? Can the lad who would throw into midnight arguments All his youthful agility be I, The same who has learned, When faced with tragic discussions, To be reticent and make jokes? 145 146 Александр Жолковский However, that is always how things are Midway along life’s fateful journey: You move from one worthless cause to another Until you notice you have faltered into a wilderness And can’t even find your own footprints. So, there was no leaping panther To chase me home to my Parisian garret. And no Virgil stands by my shoulder – There is only solitude, and inside the frame The truth-telling glass. In Front of the Mirror (Daniels 2010) Nel mezzo del cammin di nostra vita Me, me, me. What a preposterous word! Can that man there really be me? Did Mama really love this face, dull yellow with greying edges like an ancient know-it-all snake? Can the boy who danced in summer at the Ostankino country-house balls be myself, whose every response to freshly-hatched poets inspires their loathing, malice and fear? Can that youthful energy thrown into arguing full pelt well after midnight have been my own, now that I’ve learnt when conversation turns to tragedy better say nothing – or make a joke? But that’s how it always is at the mid point of the way through your fate on earth: from one worthless cause to another, and look, you’ve wandered away from the path and can’t even trace your own tracks. К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича Well, there was no leaping panther chasing me up to my Paris garret, and there’s no Virgil at my shoulder – there’s only my singular self in the frame of the talking, truthtelling looking-glass. 147 Александр Жолковский 148 ПРИМЕЧАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Выделения курсивом здесь и далее мои – А. Ж. О постоянном интересе Набокова к соотношению посюсторонней и потусторонней реальности есть специальная монография: Александров (1999 [1991]). См. Жолковский, Щеглов (2014 [1972]). Ср. английский перевод: “How is it that our memory is good enough to retain the least triviality that happens to us, and yet not good enough to recollect how often we have told it to the same person?” (La Rochefoucauld 1871). Позволю себе сослаться на свое старое наблюдение: “Подбирая переводы цитат из русских классиков для своей английской книги, я был поражен, сколь редко тот эффект, ради которого привлекалась цитата, наличествовал в переводе. Получалось, что в отношении стиля зарубежный читатель имеет, как правило, дело не с Лермонтовым, Гоголем и Чеховым, а, так сказать, с Марлинским, Одоевским и Потапенко” (Жолковский 2003: 463). Кстати, как пример непереводимости задумано и заглавие настоящей статьи. Словосочетание нет слов – часть фразеологизма У меня нет слов, выражающего сильную, обычно негативную, эмоциональную реакцию человека на то, о чем идет речь, столь сильную, что ее невозможно передать словами. Но оно может пониматься и буквально – как констатация отсутствия (где-то каких-то) лексических единиц. Первому, фразеологическому, значению соответствует английский оборот I am speechless, однако в нем фигурирует нерасчлененная речь, а не отдельные слова. Есть более близкий к этому оборот It is beyond words, но и он не формулирует прямо нужной мне идеи отсутствия в языке перевода конкретных лексем. Текст стихотворения и пять его переводов на английский язык приводятся в Приложении. О перекличке ПЗ с повестью Толстого и о связи интереса Ходасевича к ней с его осмыслением – в трех вариантах его статьи об Иннокентии Анненском (1921 г., 1922 г., 1935 г., последний – Ходасевич 1991: 451458) – поэзии Анненского как разрабатывающей ту же экзистенциальную тематику, которая занимает Ивана Ильича, см. Жолковский (2014), Zholkovsky (2014). О любопытном феномене неопознанности переклички между ПЗ и ‘Смертью Ивана Ильича’ как на русской литературной почве, так и на зарубежной, см. Zholkovsky (2014: 211-212). Ср. английский перевод: “Is this the house? / Real house? And really love? / Am I glad? or not glad with this meeting? (‘Humiliation’, translated by Lyudmila Purgina; http://www.poemhunter.com/best-poems/lyudmila-purgina -2/a-blok-humiliation-translation-rus/). К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича 10 11 12 13 14 15 149 См. комментарий С. Ю. Ясенского и С. Н. Быстрова: “Ср. в ‘Записках из подполья’ Ф. М. Достоевского: ‘Разве эдак любят?’, ‘Разве эдак человек с человеком сходиться должны?’” (Блок 1997: 601). Ср. также английский перевод: “Is that the way people love? Is that how one person is supposed to encounter another” (Dostoevsky 1989: 63). Повесть Достоевского вообще пестрит словом “разве”. From the translation by Jenni Blackwood (http://web.archive.org/web/20060104082442re_/www.sunbirds.com/lacquer/ readings/1015). Интертекстуальная связь ПЗ с ‘Русланом и Людмилой’, а главное, с Восьмой главой ЕО отмечается здесь, насколько мне известно, впервые; об опоре говорящего правду стекла в финале ПЗ на мотив зеркальца в пушкинской ‘Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях’ см. Жолковский (2014: 201). Форму прош. вр. inspired в строчке: “the very same one who inspired”, употребленную вместо нужной по смыслу формы наст. вр. inspires, хочется считать простой опечаткой. Об этом см. Жолковский (2014: 202-207). Об итальянских претекстах ПЗ см. Панова (2012). ЛИТЕРАТУРА Александров, В. Е. 1999 [1991] Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. Санкт-Петербург. Блок, А. А. 1997 Полное собрание сочинений и писем. В 20 тт. Т. 3. Стихотворения (1907-1916). Москва. Гончаров, И. А. 1949 Обломов. Роман в четырех частях. Москва. Жолковский, А. К. 2003 Эросипед и другие виньетки. Москва. 2014 ‘Зеркало или трельяж? (“Перед зеркалом” Ходасевича)’. Поэтика за чайным столом и другие разборы. Сборник статей. Москва, 186-207. Жолковский, А. К.; Щеглов, Ю. К. 2014 [1972] ‘Разбор одной авторской паремии: Ларошфуко, максима № 313’. Ю. К. Щеглов, Избранные труды. Москва, 734-784 (http://www-bcf.usc.edu/~alik/rus/book/izbrtrudy/book.pdf). 150 Александр Жолковский Ларошфуко, Франсуа де 1971 ‘Максимы и моральные размышления’. Пер. Э. Л. Линецкой. Мемуары. Максимы. Подг. А. С. Бобович и др. Ленинград, 149190 (http://www.lib.ru/INOOLD/LAROSHFUKO/larosh1_3.txt). Мунблит, Г. 1989 ‘Из воспоминаний’. Воспоминания о Бабеле. Сост. А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юренева. Москва, 79-93. Набоков, Владимир 1978 ‘Весна в Фиальте’. Собрание рассказов и повестей. Том 3. Ann Arbor. Панова, Л. 2012 ‘“Перед зеркалом” Ходасевича: итальянская амальгама’. Восьмая международная школа по русской литературе. Сборник статей. Ред. А. Ю. Балакин и др. Санкт-Петербург, 95-127. Пушкин, А. С. 1977-1979 Полное собрание сочинений. В 10 тт. Ред. Б. В. Томашевский. Ленинград. Толстой, Л. Н. 1952 ‘Смерть Ивана Ильича’. Cобрание сочинений. В 14 тт. Т. 10. Повести и рассказы (1872-1886). Москва, 269-322. 1955 О литературе. Статьи. Письма. Дневники. Москва. Ходасевич, Владислав ‘Об Анненском’, ‘Колеблемый треножник’. Избранное. Сост. 1991 В. Г. Перельмутер. Москва, 451-458. 1996 Собрание сочинений в четырех томах. Москва. Bonver, Yevgeny 2000 ‘Before the Mirror’ (http://www.poetryloverspage.com/yevgeny/ khodasevich/before_mirror.html). Boyd, Brian 1990 Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton. Butler, David 2005 ‘Before the Mirror’. Metre, 17, Spring, 49 (http://metre.ff.cuni.cz/article/22). Daniels, Peter (2010?) ‘In Front of the Mirror’. Cardinal Points Literary Journal (http://www.stosvet.net/12/daniels/index2.html). Dostoevsky, Fyodor 1989. Notes from Underground. Transl. Michael Katz. New York and London, 3-89. Goncharov, Ivan 1954 Oblomov. Transl. David Magarshack. London and New York. La Rochefoucauld 1959 Maximes. Paris. К переводам ‘Перед зеркалом’ Ходасевича 151 Reflections; or Sentences and Moral Maxims. Transl. J.W. Willis Bund and J. Hain Friswell. London (http://www.gutenberg.org/files/9105/9105-h/9105-h.htm). Nabokov, Vladimir 1981 ‘Spring in Fialta’. Transl. by the author. The Penguin Book of Russian Short Stories. Ed. David Richards. New York, 289-311. Obolensky, Dimitri 1962 The Heritage of Russian Verse. With Plain Prose Translations of Each Poem. Intro. and Ed. by Dimitri Obolensky. Bloomington, IN and London. Pushkin, Aleksandr 1990 Eugene Onegin. A Novel in Verse. Vol. 1. Trans. with a Commentary by Vladimir Nabokov, Intro and Trans. Princeton (Bollingen Series LXXII). Tjalsma, H.W. 1971 ‘Four Poems by V. Khodasevich’. Russian Review, 30 (4), 369-372. Tolstoy, Leo 1991 ‘The Death of Ivan Ilych’. Tolstoy’s Short Fiction. Trans. Louise and Aylmer Maude. Revised Michael Katz. New York and London, 123-167. Zholkovsky, Alexander 2014 ‘Seeing Tolstoy’s Ghost in Khodasevich’s Mirror’. Poetry and Poetics: A Centennial Tribute to Kiril Taranovsky. Ed. Barry P. Scherr et al. Bloomington, IN, 203-213. 1871 Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 153–185 www.elsevier.com/locate/ruslit VLADISLAV CHODASEVIČ’S ‘BEFORE THE MIRROR’: THE ITALIAN AMALGAM LADA PANOVA Abstract This essay is a monographic analysis of Vladislav Khodasevich’s famous poem ‘Before the Mirror’ (1924). It focuses on the work’s biographical context; its meaning (midlife crisis superimposed on the poet’s self-portrait in a mirror); its Italian intertexts blended with Russian ones; the metatextual message (the poet ushers himself into the pantheon of great writers such as Dante, Petrarch and Pushkin); and literary craftsmanship (various “mirror” effects). Keywords: V.F. Khodasevich; Dante; Petrarch; Russian Intertexts; Midlife Crisis; Mirror Semiotics; Poetry of Grammar 0. The Poem Перед зеркалом Nel mezzo del cammin di nostra vita. I 1 2 3 4 5 Я, я, я! Что за дикое слово! Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого, Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея? http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.009 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. Lada Panova 154 II 6 Разве мальчик, в Останкине летом 7 Танцевавший на дачных балах, – 8 Это я, тот, кто каждым ответом 9 Желторотым внушает поэтам 10 Отвращение, злобу и страх? III 11 Разве тот, кто в полночные споры 12 Всю мальчишечью вкладывал прыть, – 13 Это я, тот же самый, который 14 На трагические разговоры 15 Научился молчать и шутить? IV 16 Впрочем – так и всегда на средине 17 Рокового земного пути: 18 От ничтожной причины – к причине, 19 А глядишь – заплутался в пустыне, 20 И своих же следов не найти. V 21 Да, меня не пантера прыжками 22 На парижский чердак загнала. 23 И Виргилия нет за плечами, – 24 Только есть одиночество – в раме 25 Говорящего правду стекла. 1 (179-180) Before the Mirror Nel mezzo del cammin di nostra vita/ In the middle of the journey of our life “I, I, I.” What a weird [lit.: wild] word! Is that man there really I? Can it be that mother loved such a person, Greyish-yellow, with hair turning grey, And omniscient as a serpent? Can it be that the boy who used to dance At country balls in Ostankino in the summer – Is I, who, by each of my answers, Inspire loathing, anger and fear In newly hatched [lit.: yellow-mouthed] poets? Can it be that the same person Who used to throw all his boyish vivacity Into midnight arguments – is I, Who have learned to be silent And to jest when faced with tragic conversations? Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 155 Yet it’s always like this midway On the fatal journey through life; [You go] from one trivial cause to another, And behold, you have lost your way in the desert, And cannot find your own tracks [footsteps]. No panther leaping in pursuit Has driven me into my Parisian attic And there is no Virgil standing at my shoulder. There is only loneliness – framed in the mirror That speaks the truth. 2 (Obolensky 1976: 308-309; with minor changes) 1. ‘Before the Mirror’ as a Poem on “Suprapersonal Biography” This openly autobiographical poem was written in Paris, July 18-23, 1924, two years after Vladislav Chodasevič and his new life partner, Nina Berberova, left Bolshevik Russia. The couple had tried to settle in Berlin and also visited cities like Venice before choosing Paris as their home. 3 Their first Parisian address was a servants’ room right under the roof in Zinovij Gržebin’s apartment at Champs de Mars. 4 The route Chodasevič undertook in order to feel what life abroad was like can be traced in line 22 of ‘Before the Mirror’. It depicts the “Parisian attic” into which the speaker has been driven by nothing else than his own free will. The short stay in Venice, marred by the poet’s nervous breakdown, contributed the gloomy mood to ‘Before the Mirror’ and its reminiscences of a happier past. Remarkably, when Berberova later recalled her partner’s mental state in Venice, she echoed the imagery of his poem (here in italics): И вот мы в Италии. Сперва – неделя в Венеции, где Ходасевич захвачен воспоминаниями молодости [concerning his 1911 tour of Italy and affair with Evgenija Muratova, beautiful wife of the Italophile Pavel Muratov and a dancer – L.P.] […] В Венеции Ходасевич был и окрылен, и подавлен: здесь когда-то он был молод и один, мир стоял в своей целостности за ним, еще не страшный. Теперь город отбрасывал ему отражение того, что есть: он не молод, он не один, и никто и ничто не стоит за ним, защиты нет. (Berberova 1983: 242-244) And here we are in Italy. First a week at Venice, where Khodasevich is taken up with recollections of his early years […] In Venice, Khodasevich both took wing and was depressed: here he once was young and alone, and the world in its fullness was open to him, still full of possibility. Now the city cast a reflection of his present state: he was 156 Lada Panova not young, not alone, and no one and nothing was there to support him; he was without defense. (Berberova 1969: 208-209; with minor changes) Yet another fact of Chodasevič’s post-Russian life palpable in ‘Before the Mirror’ is his middle age. Although his precise age, 38, is not mentioned, the poem’s epigraph, Dante Alighieri’s famous formula “Nel mezzo del cammin di nostra vita” (1;5 “In the middle of the journey of our life” [Alighieri 1996b: 27]), as well as other details picturing the poet’s biological and existential changes, clearly refer to his actual age. To be sure, ‘Before the Mirror’ was not meant to be a true-to-life account of Chodasevič’s condition in his post-Russia years. While his increasing resolve not to return to Soviet Russia is definitely present, he omits other, no less important events, such as leaving his second wife, Anna Ivanovna, for Berberova. Moreover, despite his happy relationships with both women he portrays his persona as suffering from absolute loneliness if not abandonment, a necessary premise of his post-Revolutionary self-presentation. In both non-fiction and poetry, Chodasevič depicted himself as a Poet in peril who cannot count on the outer world. To begin with, Chodasevič contemplated a quick and tragic end in a semi-jocular letter to Anna Ivanovna from February 3, 1922: “Офелия гибла и пела” – кто не гибнет, тот не поет. Прямо скажу: я пою и гибну. И ты, и никто уже не вернет меня. Я зову с собой – погибать. Бедную девочку Берберову я не погублю [...] Я только обещал ей показать дорожку, на которой гибнут. Но, доведя до дорожки, дам ей бутерброд на обратный путь, а по дорожке дальше пойду один. Она-то просится на дорожку, этого им всем хочется, человечкам. А потом не выдерживают. (Chodasevič 1997: 441) “Ophelia was perishing and singing” – those who do not perish do not sing. Let me put it bluntly: I am singing and perishing. Neither you nor anybody else can reclaim me. I am calling [someone to come] with me – to perish. I won’t destroy this poor girl Berberova. […] I only promised to show her the path on which people perish. But after leading her up to this path, I will give her a sandwich for the way back, and will go further along this path alone. She is asking for this path, [as] all these [pathetic] people do. And then they can’t take it. Similar musings about a Poet’s destiny – with the same reference to Afanasij Fet’s Ophelia poem – may be found in his 1926-1927 poem ‘Skvoz’ dikij grochot katastrof’(‘Through the Wild Roar of Catastrophes’): “Но петь Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 157 и гибнуть нам дано, / И песня с гибелью – одно” (315; “But we have to sing and perish, / And a song and ruination are one”). By the way, in his early Parisian days Chodasevič did contemplate suicide: Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать он может только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России – и умоляет меня умереть вместе с ним. (Berberova 1983: 252) Chodasevič says that he cannot live without writing, that he can only write in Russia, that he cannot exist without Russia, that he can neither live nor write in Russia – and he pleaded with me to die with him. (Berberova 1969: 217-218; with minor changes) True, in ‘Before the Mirror’ he does not go this far. The Dantesque formula about the midway of the fatal earthly journey hints at either impending death or human mortality, and later on the persona’s image disappears from the mirror, but that is all. So far the death motif underlying ‘Before the Mirror’ has been ignored by Chodasevič scholars. 6 What they have thoroughly discussed, however, is its pessimistically sad atmosphere that contradicts the pattern of productive maturation characteristic of Chodasevič’s other poems of the same period. In them the speaker manages to reach a happy balance between the external signs of aging and internal spiritual illumination by undertaking a sort of quest. As a result, he gains insights into the mysteries of life and death and is awarded Orpheus’ lyre or a laurel wreath for his poetic achievement (Miller 1981; Kirilcuk 2002: 384-386). These poems describe a recoil, an arc that begins with a fall but ends with a rise. The fall corresponds to the physical deterioration of the hero’s body, while the rise results in the acquisition of divine creativity or a profound knowledge of life, death and, last but not least, art. This scenario had already been outlined by Chodasevič, with recourse to mirror imagery, in the 1919 sonnet “Net, ty ne prav, ja ne soboj plenen” (“No, you are not right, I am not captivated by myself”). 7 The persona, who is in a fallen state and feels like a tired mercenary (“наемник усталый”), then has a revelatory dream about his eventual triumph. While narcissistically examining himself reflected in water (“водное зеркало”), he suddenly discovers a divine wreath of stars (“венок из звезд”, 91-92) crowning his head. It is possible to read stanza I of ‘Before the Mirror’ as foreshadowing a similar process of maturation. The speaker’s grayish hair and yellowing complexion are richly compensated with serpent-like wisdom, a proof of inner illumination. Furthermore, stanza II turns the autobiographical narrative into a narcissistic description of his mother’s love for, and the younger fellow 158 Lada Panova poets’ fear of, the persona, which the poet enjoys. In the subsequent stanzas, however, the motifs of both wisdom and narcissism disappear. Instead, the speaker experiences an existential deadlock. Thus, in stanza V, his final gaze in the mirror proves that there is no one there. As Jurij Levin put it, “illusions about his ‘divine origin’ have not come true: his soul is no longer reflected in the mirror; it may not even exist anymore” (Levin 1998b: 569; the translation is mine – L.P.). A more general idea developed in Chodasevič scholarship is that in ‘Before the Mirror’ the poet deromanticizes his self-image. Indeed, the poem ends on the notion of truth told by the mirror, in opposition to the usual Romantic dissatisfaction with reality and the search, instead, for ideals, other worlds, transgressions – and the attempt to head inside the looking glass. Chodasevič’s mirror narrative does not cross the boundaries of reality, which would mean siding with the Russian Symbolists, his predecessors and rivals, famous for reviving Romantic topoi and lifestyles. As a post-Symbolist author, his artistic endeavor takes him in the opposite direction. He makes a point of fusing modernity with the classical repertoire, steering clear of big ideas and insisting on neo-classical harmony. True to Chodasevič’s antiSymbolist stance, the poem’s speaker courageously accepts the desperate situation he finds himself in. ‘Before the Mirror’ shows no signs of self-pity or Romantic/decadent demonization of one’s existential fall. In fact, Chodasevič goes as far as to deny the uniqueness of his fall by referring to Dante’s famous example in the epigraph. On the other hand, by putting himself in Dante’s shoes Chodasevič ushers himself into the pantheon of great poets and proclaims his allegiance to neoclassical aesthetics. One more layer of meaning can be found in Chodasevič’s citation of Dante when ‘Before the Mirror’ is seen within the context of his 1926 essay ‘Citaty’ (‘Quotations’). There he states what a man of letters does by openly quoting his predecessors: Мы, писатели, живем не только своей жизнью. Рассеянные по странам и временам, мы имеем и некую сверх-личную биографию. События чужих жизней мы иногда вспоминаем, как события нашей собственной. История литературы есть история нашего рода; в известном, условном смысле – история каждого из нас. (Chodasevič 2009, 2: 375) We, writers, do not live just our own lives. Dispersed in different lands and times, we have a certain suprapersonal biography. Sometimes we recall the events that happened in the lives of others as if they had happened in our own lives. The history of literature is a history of our [human] race; in a certain presumptive sense – it is the story of each of us. Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 159 This argument sheds light on the confluence of transparent autobiographical references and corresponding literary clichés that is so central to ‘Before the Mirror’. Indeed, Chodasevič drew his self-portrait by mentioning several recognizable features of his life (his mother’s love; children’s balls at Ostankino and his dancing skill; his career as a literary critic; his characteristic sallow complexion, the result of skin diseases and gallstones; his Parisian attic) and leaving out others (his precise age; his near-émigré status; his poetic career), which he dressed up into ready-made literary formulae. By this means he elevated his private experiences to the suprapersonal level of the life of an exemplary poet. In the case of his citation of Dante’s Divine Comedy, one might suggest that the two works share a courageous way of facing existential misfortunes. ‘Before the Mirror’ also contains hidden literary references that serve the same purpose of transforming the poet’s private biographical existence into a suprapersonal one. Chodasevič is known for his richly intertextual poetics, and this is confirmed in part by the intertextuality already identified in the poem. According to Levin, ‘Before the Mirror’ is a dialogue with Aleksandr Blok on the subject of biological changes (Levin 1998a: 219-220). Alexander Zholkovsky, in his turn, noticed echoes of two classical mirror scenes in it, from Lev Tolstoj’s ‘Smert’ Ivana Il’iča’ (‘The Death of Ivan Ilyich’) and Aleksandr Puškin’s ‘Skazka o mertvoj carevne i semi bogatyrjach’ (‘The Tale of the Dead Princess and the Seven Knights’; Žolkovskij 2014). In what follows, I will undertake a further examination of the poem’s Italian and Russian subtextual layers. 8 First of all, I am going to demonstrate that the Comedy’s influence is more extensive than is believed. Secondly, I am going to pinpoint the presence of the Italian classic number two, Petrarch, in ‘Before the Mirror’, although not as the poet of love but rather as the first humanist in the European tradition.9 Finally, I will try to show that the set of Russian authors whose “Italian”, “mirror”, and “aging” motifs were absorbed by Chodasevič to make his diction so well-rooted in the poetic tradition, comprises many more than just Puškin, Tolstoj, Blok and Innokentij Annenskij. Dante and especially Petrarch constitute the Italian amalgam of Chodasevič’s mirror poem, and for good reason. They authored influential interpretations of critical moments of the human condition. If Dante’s impact on ‘Before the Mirror’ is evident, Petrarch’s needs to be demonstrated. First of all, let us note that Chodasevič relied on Canzoniere in his love lyrics and the amorous episodes of ‘Žizn’ Vasilija Travnikova’ (‘The Life of Vasilij Travnikov’). Petrarch as a role-model can be seen in the already mentioned poem “Net, ty ne prav, ja ne soboj plenen”. The poem’s Petrarchism is evidenced by its sonnet form, its deeply psychological self-portrait and the image of the star wreath, which may be a reference to Petrarch as one of the most il- 160 Lada Panova lustrious of Europe’s early poet-laureates. In a number of poems, Chodasevič cherishes the idea of being crowned with a wreath – a laurel one.10 Yet another Petrarchan motif is the poet’s problematizing his middle age as he contemplates his reflection in the mirror. Needless to say, Dante and Petrarch’s reflections on the human condition in a moment of crisis were far from unique. Why then would Chodasevič choose them as his points of reference? As I have stated above, the reason for this is suggested by his essay ‘Quotations’, as it mentions Dante’s exile (Chodasevič 2009, 2: 381). Depicting himself as driven to his Parisian attic, though not by Dante’s panther, Chodasevič, an expatriate-to-be, identifies himself with Dante, the most famous of all expats. He may also have modeled his image after Petrarch, who saw himself as a Florentine without Florentine citizenship. In fact, it was Petrarch’s father who had been expelled from Florence, most probably, by the same edict as had exiled Dante. What is even more important is that both Dante and Petrarch were invited back – Dante on humiliating conditions and Petrarch on honorable ones – and that both refused. Life outside Florence was a real hardship for Dante but for Petrarch it had many pleasant sides. Gradually realizing that a temporary departure from Russia was developing into exile, Chodasevič started to rethink his mission in the terms of Dante’s (and possibly Petrarch’s) influence on Italian letters. A decade later, in his 1933 essay ‘Literatura v izgnanii’ (‘Literature in Exile’), he expressed this idea as follows: История знает ряд случаев, когда именно в эмиграциях создавались произведения, [...] послужившие завязью для дальнейшего роста национальных литератур. Таково [...] величайшее из созданий мировой поэзии, создание воистину боговдохновенное – [...] Божественн[ая] Комеди[я]. (Chodasevič 1991: 467) History knows several cases when it was in emigration that works were created […] which served as the embryo for the further growth of national literatures. This […] is true of The Divine Comedy, the greatest among world poetic creations, a truly God-inspired creation. Canzoniere could easily replace The Divine Comedy in this perspective, as this and Petrarch’s other works in Italian were no less formative for the Italian vernacular literary tradition than Dante’s. Chodasevič, who left Russia at the peak of his literary success, presumed that his émigré poetry and prose might influence Russian literature in the future when it would shake itself free of Communist ideology. Discussing the Italian sources of ‘Before the Mirror’ presupposes Chodasevič’s familiarity with the Italian language. In the absence of any conclusive information on the subject,11 I will assume that, in case he had no command of Italian, he could have achieved an adequate familiarity with the Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 161 works of Dante and Petrarch thanks to his high-school knowledge of Latin and French; the extant bilingual editions of the Comedy and Canzoniere; the famous essays about Dante and Petrarch by Aleksandr Veselovskij (Veselovskij 1939a; 1939b); and, last but not least, his intimate friendship with the Italophile Muratov, the author of Obrazy Italii (Images of Italy), and with Michail Geršenzon, the translator of Petrarch’s Latin prose and dialogues. 2. Midlife Crisis: A Dantesque Perspective So far it has been taken for granted that the dominant focus of ‘Before the Mirror’ is the speaker’s “I”, first split and then lost. In my view, this is a version of midlife crisis à la Dante. In Chodasevič’s time, which was also that of Sigmund Freud and Carl Jung, psychologists and psychoanalysts did not yet recognize midlife crisis as a subject of study. The term was only coined in the 1965 article ‘Death and the Midlife Crisis’ by Elliott Jaques (Jaques 1965). He analyzed 310 cases of prominent male writers, composers and artists, and discovered a turning point in their life trajectories: a midlife crisis happening in their late thirties. Jaques backed his observations with empirical data, which he collected during his séances with male patients not belonging to a creative milieu. Overall, his claim is as follows: At or soon after 35 men suddenly acquire a sense of their mortality, which in turn triggers depression. They feel like a traveler who has climbed a hill but while reaching its top has to contemplate his inevitable end. The anticipated tragedy of death divides adulthood into two stages, early and mature, each with its own perception of the world, and, as a consequence, its own type of creativity. In the early stage, creativity is intense and spontaneous (as in Mozart, Keats, Shelley, Rimbaud), while in the mature stage it is “sculpted” (see Beethoven, Goethe, Virgil). A genuinely mature artistic production is based on the artist’s testing of reality, experiencing the anticipated tragedy of his death, and obtaining a post-crisis integrity (of the ego) and a revised set of values. Keeping the ability to create is a positive outcome for a man in midlife crisis. But negative outcomes are possible as well. Some men cannot survive the midlife crisis and either die (statistically most often at 37) or lose their creative powers (see Rossini). Jaques’ major case study was Dante, who introduced the concept of “the middle of our life’s journey”. Jaques wrongly took this to mean 37 years of age (and not 35, implied by Dante, who proceeded from the Biblical estimate of human life lasting 70 years) and interpreted canto 1 of the Comedy in a psychoanalytical vein as an allegory of a midlife crisis with a 162 Lada Panova happy outcome. In general, he treated the Comedy as a perfect example of the mature, and thus, “sculpted”, creativity, to which Dante transitioned after creating The New Life, a clear example of the spontaneous creativity characteristic of early adulthood. In post-Jaquesean times, Tolstoj and the protagonist of his ‘Death of Ivan Ilyich’, a 45-year-old bureaucrat reinventing himself during incurable illness, have been added to the extant corpus of legendary figures and characters, corroborating the existence of the phenomenon in question. Nowadays Jaques’ theory is not universally accepted but is valid at least for some men and less frequently women, mostly Caucasian, who undergo a midlife crisis as they adapt to their bodily, intellectual and psychological change. ‘Before the Mirror’ can be read as a poetic reflection on a midlife crisis. To begin with, Chodasevič refers to Dante’s allegoric rhetoric of a midlife journey and Tolstoj’s realistic narrative about Ivan Ilyich examining his dying body in the mirror. Moreover, his poem brings up a set of typical midlife crisis symptoms: biological aging; identity problems (e.g., the failure to recognize himself in the mirror); а sharp awareness of youth being over, of mortality and the impending end; а focus on transition, triggering a crisis; dissonance with the world, rejection of its conventions (including such essential words as “I”) and of stereotypical cultural strategies such as those of Dante (to be discussed below). In lines 16-17, “так и всегда на средине [...] пути” (“it is always like that in the middle of a journey”), this psychological self-diagnosis is promoted to the level of a general law, once again with a reference to Dante. In a sense, Chodasevič can be said to have anticipated Jaques’ discovery by identifying this psychological phenomenon, albeit not in a scientific way. Compared to the Inferno’s first canto, ‘Before the Mirror’ depicts the midway deadlock more explicitly and in a psychologically sophisticated way, which is not surprising. Dante was part and parcel of the Middle Ages and shared that epoch’s allegorical way of thinking and the idea of human nature as corrupt but capable of redemption. Chodasevič, on the other hand, represented European Petrarchan Humanism that insisted on trying to understand human condition rather than to judge or reinvent it. So far it has been assumed that the epigraph from the Comedy and the first lines of stanza IV are the only parts with a Dantesque tinge. In fact, the entire stanza IV and lines 1-3 of stanza V use the Comedy’s repertoire. To begin with, as noted, Chodasevič’s autobiographical narrative (his mother’s role; children’s balls and passionate teenage disputes; criticism targeting younger poets; the search for identity) morphs into a suprapersonal Poet’s biography, prompted by the first line of the Comedy. This happens in lines 16-17, where the epigraph is restated as a general law: Dante’s pronoun “nostra” (“our”) turns into a more categorical adverb “всегда” (“always”). In passing off his personal experience for a replica of Dante’s and presenting Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 163 both of them as instances of a general law of human condition, Chodasevič relies on the poetry of grammar. The first-person pronoun “я” (I) in the nominative case, lavishly used in the first three stanzas, disappears from the text, making room for various impersonal verb forms (“глядишь”, “заплутался”, “не найти”). The pronoun “я” then reappears in stanza V – not in the nominative case (that would mark it as the subject), but in the accusative, indicating that it is the object of some other agent. As a result, the last two stanzas, especially the fourth, become “depersonalized” – they read as chapters in a generic biography of an ideal Poet. Moreover, for stanzas IV-V Chodasevič borrows those elements of the Inferno’s canto 1 that fit his biographical self. Dante’s scenario, pessimistic in the beginning, gradually offers some hope if not salvation. “Nel mezzo del cammin di nostra vita” (1; “in the middle of the journey of our life”; Dante 1996b: 27), or, according to commentaries, in 1300, the 35-year-old Dante had a dream: “mi ritrovai per una selva oscura, / ché la diritta via era smarrita” (1; “I came to myself in a dark wood, for the straight way was lost”; 27). The dark wood symbolizes erroneous life: “Tant’ è amara che poco è piú morte; / ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, / dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte” (1-2; “It is so bitter that death is little more so! But to treat of the good that I found there, I will tell of the other things I saw”; 27). As for the straight way, it stands for virtue and righteousness, which Dante no longer possesses: “la verace via abbandonai” (2; “I abandoned the true way”; 27). Then the symbolic darkness in which Dante finds himself in the forest gives way to a rising sun, the symbol of truth. In its light, he sees a deserted slope (3; “la piaggia diserta”). Realizing that by conquering it he will obtain righteousness and, possibly, entrance to Paradise, Dante starts the difficult climb. Suddenly three ferocious predators, one by one, block his way up. The first one is named by the Latinized word “lonza” (a wild cat from medieval bestiary), possibly a she-leopard or a panther: “Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, / una lonza leggera e presta molto, / […] // e non mi si partia dinanzi al volto, / anzi ‘mpediva tanto il mio cammino, / ch’i’ fui per ritornar piú volte vòlto” (3; “And behold, almost at the beginning of the steep, a leopard, light and very swift [appeared] [...] and it did not depart from before my face but rather so impeded my way that I was at several turns forced to go back”; 29). Dante’s other animal foes are a lion and a she-wolf. Allegorically, these three beasts represent his vices as well as places once hostile to him (Florence, France and Papal Rome). Dante feels very lonely and desperate for help when he notices the figure of Virgil hurrying towards him “nel gran deserto” (4; “in the great wilderness”; 29). He gratefully accepts Virgil’s guidance because he has adored and imitated his writings. The two poets decide to find the way to Paradise not by climbing the mountain but by making a detour through the Inferno and Purgatory, dangerous but instructive. 164 Lada Panova Chodasevič adopts the general outline of Dante’s scenario, including the metaphor of life as a path and the allegorical picture of existential impasse as straying from the straight road and into a deserted place. At the same time, he switches from the Comedy’s mode into a Biblical one. His words “заплутался в пустыне” (“has got lost in the desert”) clearly refer to the exodus of the Jews from Egypt and their forty-year long wandering in the desert before reaching the promised land under Moses’ guidance (Exodus 14:3). The Biblical rhetoric highlights one more facet to Chodasevič’s identity, a Jewish one. It may also hint at the approaching of his fortieth anniversary. Finally, the “Biblical” part of the poem, with its conspicuously unfinished and rather confusing rhetoric, can be seen as an iconic counterpart of the speaker’s getting lost in his discourse. Unlike Dante, who in the scary and disturbingly dark forest found (“trovai”; 1) some positive options, Chodasevič’s lyrical persona fails to find (“не нашел”) even the traces of his footprints (“следы”). On a symbolic level, this episode represents his identity being lost during the midlife crisis. From this line on, the poet will rhetorically deny his former self-identification with Dante. In stanza V, he employs two motifs from canto 1, the panther on the slope and Virgil as his rescuer, both in the negative. The absence of both a panther and a Virgil in his life means a situation of hopelessness, or a dreadful existential dead end without a way out. Chodasevič’s departure from Dante is also present in the way the two poets treat the notion of the top. While the Comedy’s upward slope connotes righteousness and Paradise, Chodasevič’s attic is associated with the poor life of Parisian bohemians familiar from literature and opera. Chodasevič does not specify the reason why his lyrical hero has ended up there, but to indicate the deviation from Dante’s midlife scenario he says that the Comedy’s panther is not to blame. When in that very attic the speaker takes a look in the mirror he does not see there a helpful Virgil. Interestingly, this absent Virgil is depicted not in Dante’s spatial terms but rather as a medieval Christianstyle angel. In the Comedy, Virgil bravely strides in front of Dante, who cautiously follows him (see the Inferno, canto 10: “lo mio maestro, e io dopo le spalle” [100]; “Now my master, [...] and I at his back” [lit.: after his shoulders – L.P.]; Alighieri 1996b: 155). In ‘Before the Mirror’, Virgil’s position behind the lyrical hero’s shoulders is that of a guardian angel, who secretly keeps a person out of trouble.12 Overall Dante, rescued from the three ferocious animals by Virgil, gets a chance to seek the second half of his adulthood, while the future of Chodasevič’s lonely speaker is at best iffy. The prototype of Chodasevič’s rhetorical figure of identification with Dante followed by a subsequent rupture can be found in Dante’s own argumentation in the Inferno, canto 2, but with a difference: their negative and positive parts are reversed. When Virgil tries to persuade Dante to Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 165 descend into hell, Dante initially refuses. He believes himself unworthy of undertaking the quest of visiting the nether world alive – in the footsteps of Aeneas, the legendary founder of Rome, or, for that matter, those of St. Paul: “Ma io, perché venirvi? o chi ‘l concede? / Io non Enea, io non Paulo sono; / me degno a ciò né io né altri ‘l crede” (13; “But I, why come there? or who grants it? I am not Aeneas, I am not Paul; neither I nor others believe me worthy of this”; Alighieri 1996b: 43). Virgil’s exhortations – his story about Beatrice who organized the rescue operation for Dante, as well as his promise that Beatrice will eventually meet Dante on his way to Paradise – do eventually convince him, and the two poets embark on their journey. Chodasevič’s rebellion against the Dantean cultural stereotype is in line with the nature of his midlife crisis. Yet another explanation, besides the psychological one, could be his rejection of reigning Silver Age fashions. Valerij Brjusov had identified himself with Dante in a number of poems, including ‘Dante’ (1898; “Na vsej zemle proobraz naš edinyj” [“Our single prototype on the whole earth”]), ‘Dante v Venecii’ (‘Dante in Venice’, 1900), ‘Poėtu’ (‘To a Poet’, 1907) and ‘Vskroju dveri’ (‘I will open the doors’, 1921). The same is true about Vjačeslav Ivanov’s ‘La selva oscura’ (1886) and ‘Mi fur le serpi amiche’ (1905)13 in the collection entitled Speculum speculorum/Zerkalo zerkal (Mirror of Mirrors). This pattern was used in Blok’s ‘Pesn’ Ada’ (‘A Song of Inferno’, 1909), written in terza rima (like the Comedy itself), also deploying travel and mirror motifs. Chodasevič was most likely aware of Blok’s essay ‘Nemye svideteli’ (‘Silent Witnesses’, 1909), insisting that the imagination of a modern traveler in Italy cannot help relying on Virgil: Хорошо, если носишь в душе своего Вергилия, который говорит: “Не бойся, в конце пути ты увидишь Ту, которая послала тебя.” (Blok 1962: 390) It is good if you carry in your soul your Virgil, who says: “Do not fear, at the end of your trip you will see The Lady who has sent you.” Thus, holding forth in the spirit of “I am Dante but Dante I am not”, Chodasevič broadcasts the anti-Symbolist identity of his lyrical persona. He will not follow Ivanov, Brjusov, Blok and the others in their mythmaking and culturally-oriented writings. He wants to pronounce the ultimate bitter truth about himself instead. 166 3. Lada Panova A Monologue in Front of a Mirror and its Petrarchan Halo Levin has made a number of semiotic observations on Chodasevič’s mirror imagery: В прямом контрасте с “Про себя” зеркало тут [in ‘Before the Mirror’ – L.P.] не мелиорирующее, не отражающее сущность, душу и т.д., а “говорящее правду”. Правда же горька и состоит в том, что внутренняя жизнь, память о прошлом и другие проявления души и духа иллюзорны, а реально лишь “желто-серое, полуседое” отражение и одиночество (подчеркнутое возможностью диалога лишь со своим отражением). (Levin 1998: 569) In direct contrast with ‘About Myself’, the mirror here is “speaking the truth” rather than ameliorating or reflecting the essence, the soul, and so on. This truth is bitter and consists in that the inner life, memory of the past and other manifestations of the soul and spirit are illusory; the reality is a “yellow-grayish, graying” reflection and loneliness (underscored by the possibility of a dialogue only with the mirror reflection). The theoretical framework for such a reading of ‘Before the Mirror’ is that the mirror is a “readymade object” with a preset number of properties. The writer makes use of some of them, and by reconciling them with the general design of his text, provides a new meaning for the image. What is missing in Levin’s approach is the major intertextual dimension of the poem. Converting his very personal self-portrait as a 38-year-old man examining his aged body in the mirror into a suprapersonal portrait of an ideal Poet, he relies on the experience of Petrarch, who at 38 also found himself looking into a mirror and seeking there the unbiased truth about himself. Chodasevič learned about Petrarch’s use of this image from his dialogues in Latin and his sonnets in Italian. The dialogues had been translated into Russian by Geršenzon, Chodasevič’s mentor, friend and beloved companion, whose words and deeds were characterized by “the purity of truth” (“чистота правды”);14 as for Petrarch’s two “mirror” sonnets, they remained untranslated. In ‘Frančesko Petrarka. 1304-1374’, his introduction to the translation of Petrarch’s works, including dialogues, known as Secretum in Latin and Franciska Petrarki kniga besed o prezrenii k miru, kotoruju on ozaglavil “Svoej tajnoj” in Russian, Geršenzon stated that the dialogues had been created when the writer was “in the years of full blossom, at 38” and that he had immortalized his split self in them: Звучат два спорящих голоса: борьба совершается перед нашими глазами. В мировой литературе не много документов такой глуби- Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 167 ны и тонкости, как эти диалоги раздвоившейся души. (Geršenzon 1915: 71) [In them] two voices are heard arguing: the struggle takes place in front of our eyes. In world literature there not many [human] documents of such depth and subtlety as these dialogues of a split soul. One voice of this dialogue belongs to Francesco, a Renaissance figure who is very preoccupied with himself, while the other is that of Augustine, a medieval ascetic. In a scholarly dispute with Augustine conducted in the presence of the Lady Truth, Francesco goes through a harsh examination of his faith, his inner world, and life. What ‘Before the Mirror’ and Secretum have in common is the mirror motif. Augustine urges Francesco to come to terms with his mortality and start mortifying his flesh, as this is the way to defeat his three sins (“acedia”, or pessimism/depression, vanity and sensuality). Observing that his interlocutor is not responsive, he resorts to a mirror maneuver: < А в г у с т и н > [...Г]ляделся ли ты недавно в зеркало? [...Н]е видишь ли ты, что твое лицо меняется с каждым днем, и не заметил ли, что на твоих висках местами серебрятся седые волосы? < Ф р а н ц и с к > [...Р]асти, стареть и умирать есть общая участь всего, что рождается. Я заметил на себе то же, что вижу почти на всех своих сверстниках […] < А в г у с т и н > […В]ид твоего изменившегося тела вызвал ли какое-нибудь изменение в твоей душе? [...] Что же ты почувствовал тогда и что сказал? < Ф р а н ц и с к > Что иное, по твоему мнению, я мог сказать, как не слова императора Домициана: “Спокойно несу стареющие в юности волосы” [...] Нашелся пример и среди поэтов, так как наш Вергилий, в своих “Буколиках”, написанных им, как известно, на тридцать втором году жизни, сказал о самом себе в лице пастуха: “В годы, когда под железом брада упадала, белея.” < А в г у с т и н > […Ч]то другое внушают эти примеры, как не пренебрегать скоротечностью времени [...]? Между тем единственная цель нашей беседы – чтобы ты всегда помнил о ней. (Petrarka 1915: 196-197) <A.> [...] Have you seen yourself in a mirror recently? [...] [H]ave you noticed how your face changes from day to day, and how some white hairs have already begun to appear on your head? <F.> [...] These are things that happen to everyone: growing up, growing old, dying. I only see in myself what I have seen in my contemporaries. […] 168 Lada Panova <A.> [...] Has the sight of your changing body made any changes at all in your mind? [...] But how did you react? What did you say to yourself? <F.> What do you think? Simply what the Emperor Domitian said: “My hair is growing old while I am still young and I bear that with fortitude.” [...] And we are not without an example from among the poets, since Virgil, in his Eclogues, which we know he wrote at the age of twenty-six [in Geršenzon’s translation the age is thirty two – L.P.], says speaking of himself in the person of a shepherd: “when white hairs began to fall from my beard as I shaved.” <A.> [...] What do these examples do but persuade you to ignore the passage of time […], while the whole aim of our conversation is to make you keep those things in mind? (Petrarch 2002: 77-78) < А в г у с т и н > [ . . . ] Дни бегут, тело дряхлеет, а душа не меняется; все портится и гниет, а она не достигает своей зрелости. Правду гласит поговорка: одна душа изнашивает несколько тел. Ребяческий возраст проходит, но ребячество, как говорит Сенека, остается; и верь мне, ты уже не настолько ребенок, как тебе, может быть, кажется: ведь бóльшая часть людей не достигает того возраста, в каком ты находишься. […] Оставь ребяческий вздор, погаси юношеское пламя, перестань вечно размышлять о том, чем ты будешь, сознай, наконец, чтó ты есть, не думай, что зеркало без надобности поставлено пред тобою, вспомни, что написано в “Quaestiones naturales” [by Seneca – L.P.]: “Ибо для того изобретены зеркала, чтобы человек знал самого себя […]: юноша – да познает, что в этом возрасте должно учиться и начинать деятельность мужа, старик – да откажется от плотских мерзостей и начнет наконец помышлять о смерти.” (Petrarka 1915: 200-201) <A.> [...] The days rush away and the bodies grow weaker, but the mind [in Geršenzon’s translation, the soul – L.P.] remains unchanged. Everything rots without reaching maturity, and it’s true what is generally said, that one mind can outlive many bodies. As Seneca says, childhood passes but childishness remains. And, believe me, you are not so young as you may think you are: most men don’t reach your present age. [...] Put away childish things; extinguish the fires of youth; stop thinking of what you used to be like; give some consideration to your present state. And don’t imagine that I mentioned the mirror to you without good reason. Remember how Seneca in his Natural Phenomena writes: “The purpose of mirrors is to allow a man to know himself: [...] the young man, to recognize that his time of life is for learning, and for getting to grips with the obligations of manhood; the old man, to give up whatever does not suit his white hairs, and to start to think about death.” (Petrarch 2002: 79-80) Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 169 Chodasevič could have found a similar mirror motif in two Canzoniere sonnets. Sonnet 168 features a mirror reflection of a middle-aged Petrarch, while sonnet 361 has a mirror reflection of the poet in his old age. Both soliloquies are musings about the persona’s changes in appearance and his split self being poor companions for love. Although both stages are to prepare the poet for a transition to the other world, the speaker’s passion for Laura drives his thoughts about death away: Sonnet 168 Amor mi manda quel dolce pensero che secretario antico è fra noi due, et mi conforta et dice che non fue mai come or presto a quel ch’io bramo et spero. Io, che talor menzogna e talor vero ò ritrovato le parole sue, non so s’il creda, et vivomi intra due: né sì né no nel cor mi sona intero. In questa passa ‘l tempo, et ne lo specchio mi veggio andar ver la stagion contraria a sua impromessa et a la mia speranza. Or sia che po: già sol io non invecchio; già per etate il mio desir non varia; ben temo il viver breve che n’avanza. (Petrarca 1996: 258) Love sends me that sweet thought, that one that is a confidant of old between us two, and comforts me, and says I never was so close to what I yearn and hope for now. I, who have found his words at time a lie, at times the truth, do not know if I can believe him, and I live between the two: not yes, not no, rings true within my heart. Meanwhile, time passes, and the mirror shows myself nearing the time that contradicts both what he promises and my own hope. So be it; but, not only do I grow old; and yes, my age does not change my desire; I do feel, though, the short time left to live. (Petrarca 1996: 259) 170 Lada Panova Sonnet 361 Dicemi spesso il mio fidato speglio, l’animo stanco, et la cangiata scorza, et la scemata mia destrezza et forza: “Non ti nasconder più, tu se’ pur veglio.” “Obedir a Natura in tutto è il meglio, ch’a contender con lei ‘l tempo ne sforza.” Subito allor, com’ acqua ‘l foco amorza, d’un lungo et grave sonno mi risveglio; et veggio ben che ‘l nostro viver vola, et ch’esser non si po più d’una volta; e ‘n mezzo ‘l cor mi sona una parola di lei ch’è or dal suo bel nodo sciolta, ma ne’ suoi giorni al mondo fu sì sola ch’a tutte, s’i’ non erro, fama à tolta. (Petrarca 1996: 504) I am told often by my faithful mirror and by my weary soul and changing skin, by my diminished strength and liveliness: “Admit it to yourself now, you are old;” “obey whatever nature says, it’s better, for time takes power from us to oppose her.” Then quick as water putting out a fire I wake up from a long and heavy sleep, and I see clearly that our life flies by and that you have only one life to live; and my heart there sounds a single word of her now loosened from her lovely knot but in her days upon the earth she was so unique that, if I am not mistaken, she outshone [lit.: stole fame from] all other [women]. (Petrarca 1996: 505; with minor changes) Adapting Petrarch’s repertoire of mirror imagery to his self-portraiture, Chodasevič suppresses its love component and moves its mortality motif into the subtext (as I will demonstrate below). But he follows Petrarch as he turns stanzas I-III and lines 4-5 of stanza V into a soliloquy in front of the mirror, which objectivizes his self-evaluation and pronounces the bitter verdict about his existential dead end. Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 171 Sonnet 361 “Dicemi spesso il mio fidato speglio…” was especially important for Chodasevič as it contained the metaphor of a speaking mirror. In ‘Before the Mirror’, it is fused with Puškin’s wording from ‘The Tale of the Dead Princess and the Seven Knights’. The Princess’ stepmother owns a magic speaking mirror, so that each time she asks who is the most beautiful woman in the world she gets the correct answer, sometimes favorable for her and other times favorable for her stepdaughter. The lexical indication of Puškin’s presence in ‘Before the Mirror’ are the words “стекло” (“glass”) and “говорить” (“speak”), both referring to the mirror. Another strong link between sonnet 361 and ‘Before the Mirror’ is their focus on the biological signs of aging, especially the complexion, as well as on inner changes. Both poems open with a self-portrait stressing the speaker’s appearance and psychology. Chodasevič also ends his poem with a focus on the reflection in the mirror. Interestingly, in this finale, the self-portrait, although actually absent, acquires the status of a painting. This effect is achieved by naming only parts of the mirror, which are its “рама” (“frame”) and “стекло” (“glass”), corresponding to the frame and canvas of a painted portrait. Thus Chodasevič creates a ring-like structure which iconically depicts an existential dead end as well as the image of a person incapable of escaping from himself. Like Petrarch in sonnet 361, Chodasevič uses the word “mirror” (“зеркало”) sparingly. In ‘Before the Mirror’, it appears only in the title. In the poem’s beginning, it is replaced by the speaker’s reflection, while in the ending it is split into two synecdoches: “frame” and “glass”. Chodasevič’s mirror scenario is as pessimistic as Petrarch’s, but there the similarities end. Overall, Chodasevič treats Petrarch exactly the way he treats Dante. The life and writings of his Italian predecessors are used as a background for depicting the modern poet’s own. There are two other characteristics that make the poem so typically Khodasevichian. First, ‘Before the Mirror’ features unique mirror effects, thus displaying his artistic originality. Second, in order to make his diction sound unmistakably Russian he involves the mirror vocabulary of the 18th and 19th century Russian tradition, from Gavriil Deržavin through Puškin and Tolstoj to Anton Čechov. The “mirror” in the title is semantically akin to such words as the pronoun “I” and the noun “footsteps”, which are replicas of the speaker. “Я” is a shifter, that is, a word that any speaker can use to designate himself. Indeed, the same is true about the mirror as a physical object: it reflects whoever is looking into it. By putting these two similarly functioning “readymades” together Chodasevič proves himself to be a master wordsmith. As for “следы”, they are a synecdoche for the person who left them. Distancing himself from the wild “я, я, я” (“me, me, me”), dissociating from his mirror reflection (referring to himself as “вон тот”, “that other”), failing to find his footsteps in the desert and, finally, discovering only “loneliness” in the 172 Lada Panova mirror’s glass, the poet eloquently varies the theme of the middle-age crisis. Having lost his self, the lyrical persona cannot identify his presence anywhere, be it in the language, the physical world or the mirror. As for the Russian predecessors of ‘Before the Mirror’, it was Nikolaj Nekrasov who coined this title in his 1866-1867 satire of a typical Russian bureaucrat. The plight of an aged person noticing changes as he contemplates his/her appearance in the mirror had also been treated in Deržavin’s poem ‘Razgovor s Anakreonom’ (‘A Conversation with Anacreon’), Ivan Krylov’s fable ‘Razborčivaja nevesta’ (‘The Scrupulous Bride’), Tolstoj’s Anna Karenina (Konstantin Levin before the mirror in Book 3, ch. 31) and the finale of Anton Čechov’s ‘Dama s sobačkoj’ (‘The Lady with a Lapdog’). In ‘Before the Mirror’, Chodasevič used this tradition, as well as the legacy of Petrarch and Dante, to portray himself, thus securing a place of honor in the tradition of European humanism. 4. A Conflict Between Literary Authorities (Clarifying Stanza V) When a poem quotes strong statements from several literary authorities, the reader can expect them to be reconciled with one another as well as with the poet’s own message. From this point of view, Dante’s medieval stance, openly declared in ‘Before the Mirror’, clashes with those of other authorities whose presence is hidden, and this results in a conflict both cultural and moral. Among those who are involved in the conflict, Petrarch should be mentioned first. To be sure, Chodasevič was aware of the contradiction, and, judging by the hermetic stanza V, tried to resolve it in a very sophisticated way. 4.1. Virgil “Behind the Speaker’s Shoulders” vs. the Speaker’s Loneliness This contradiction appears at the very moment the speaker realizes that Dante’s midlife crisis scenario does not apply to him. The reason is that Dante’s experience takes as its premise the medieval hierarchy, with God at the very top and the Virgin Mary, Santa Lucia, Beatrice and Virgil occupying lower rungs. As a result, the rescue, which occurs while he is on the deserted slope, reaches him while descending along the divine vertical axis. In stanza V, Chodasevič’s speaker realizes that his midlife crisis follows the opposite scenario, that of loneliness, which involves no rescue. He acknowledges that he sees no Virgil “standing at his shoulder” in the mirror. Instead, what he sees is loneliness. This latter statement sounds both metaphorical and paradoxical, as loneliness is a non-visible attribute of someone’s mode of existence. To be sure, in the context of the Comedy, loneliness reads as a negative Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 173 value, meaning abandonment, the absence of spiritual guidance from a higher force and, as a result, of salvation. Pessimism, however, is not the only aspect of Chodasevič’s loneliness. On the level of the plot, it can boast the status of a positive value that the speaker achieves thanks to his midlife crisis. In a sense, один- (“one”), the root of the Russian word “одиночество”, implies the newly found integrity of the speaker’s ego. I do not insist on this interpretation, as there are no other signs of Chodasevič explicitly proclaiming a happy outcome of his crisis. Moreover, the question whether the speaker’s split self finally obtains wholeness in stanza V remains open. A positive reading of loneliness accompanies the speaker’s switch from Dante’s allegories to Petrarch’s humanism and, perhaps, European existentialism of the modernist era with its acceptance of the human condition as the necessary basis for self-understanding. In Chodasevič’s earlier poem “Puskaj minuvšego ne žal’” (“Let’s Have no Regrets about the Past”, 1920-1921), the existentialist scenario of loneliness leading to self-respect is quite explicit. Its hero, a humble man, experiencing first loneliness and then pride, triumphantly achieves spiritual uplift. This process is compared to the grass reappearing each spring: “и одиночество взыграет, / и душу гордость окрылит / […] так нынче травка прорастает / сквозь трещины гранитных плит” (128; “and loneliness will play up, and pride will inspire [lit.: lend wings to] the soul […] it’s like [the way] the grass now grows through the cracks of granite slabs”). Existentialist loneliness requires the recognition of a single authority, which is the man’s self. Remarkably, Chodasevič promotes his loneliness to a suprapersonal level: the experience of an ideal Poet. He also manages to reinforce this modern condition with classical motifs, just as he relies, in stanza V, on Petrarch as an Apostle of Solitude. This intertextual link might have resulted from his acquaintance with Geršenzon’s introductory essay ‘Frančesko Petrarka. 1304-1374’, which affirmed “our consanguinity with Petrarch” (Geršenzon 1915: 4) because: “он любил свое ‘я’ во всех своих проявлениях” (33; “he loved his ‘I’ in all its manifestations”); “за мучительную борьбу, за раскаяние и томление он любил себя еще с удвоенной нежностью, как мать – больное дитя”, с тем “болезненн[ым] сладострастие[м]”, которым “человек бередит свои раны” (33-34; “[…] he loved himself with double tenderness for his agonizing struggle, repentance and vexation – the way a mother loves her sick child; he did it with the painful voluptuousness with which one relishes reopening one’s old wounds”); […] вообще, Петрарка “был первым [...] человеком нового времени, постигнутым тою болезнью внутреннего раздвоения, которою с тех пор [...] болеет культурное человечество” (51; “[…] overall, Petrarch was the first person [...] of the new era suffering from the same disease of 174 Lada Panova inner duality with which all civilized humanity has been infected ever since”). Thus, the clash between Virgil and loneliness is resolved in favor of loneliness, which means that Petrarch’s Humanism, leaving a man face to face with himself, takes the upper hand over Dante’s medieval hierarchy that places man at the very bottom. Petrarch’s stance as represented in ‘Before the Mirror’ requires further explication. To begin with, Petrarch isolated himself from the world not just for the sake of self-knowledge but also for the sake of artistic freedom. In dealing with the literary tradition, he took liberties the previous epoch did not allow. Moreover, he worked out a new concept of authorship, independent of existing groups, movements and fashions. He developed arguments in favor of the writer’s independence in his treatise ‘De vita solitaria’ and the Canzoniere poems. Sonnets 35 and 259 are of particular interest for the understanding of ‘Before the Mirror’, as they contain a hypogram of loneliness that was to be inherited by Chodasevič’s poem: Loneliness results in a man’s focus on his ego and the right life values, especially love. Love, in its turn, stimulates creativity, which is able to cement man’s split ego together and produce a (healthy) integrity. Sonnet 259 opens with a confession: “Cercato ò sempre solitaria vita” (Petrarch 1996: 362; “I’ve always sought a solitary life” [363]) in order to avoid company of those who – and Petrarch uses Dante’s wording here – have lost the path to Heaven (“la strada del Cielo ànno smarrita” [362]). The sonnet also touches upon Petrarch’s emigration: “fuor del dolce aere de’ paesi toschi” (362; “outside the sweet air of Tuscany” [363]). The same cluster of motifs – loneliness, lost way and emigration – are present in ‘Before the Mirror’. Sonnet 35, in its turn, may have suggested Chodasevič’s imagery of the desert and footprints, featured in stanza IV: Solo e pensoso i più deserti campi vo mesurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti ove vestigio uman l’arena stampi. (Petrarch 1996: 56) Alone and deep in thought I measure out the most deserted field, with slow, late steps, with eyes intent to flee at whatever sign of human footprint left within the sand. (57) In contrast to sonnet 259, which by 1924 had not yet been translated, sonnet 35 existed in several Russian translations. Gavriil Deržavin, Chodasevič’s Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 175 favorite predecessor, entitled his 1808 rather free version of it ‘Zadumčivost’’ (‘Pensiveness’): Задумчиво, один, широкими шагами Хожу, и меряю пустых пространство мест; Очами мрачными смотрю перед ногами, Не зрится ль на песке где человечий след. Увы! я помощи себе между людями Не вижу, не ищу, как лишь оставить свет […] Но нет пустынь таких, ни дебрей мрачных, дальных, Куда любовь моя в мечтах моих печальных Не приходила бы беседовать со мной. (Deržavin 2002: 498) Pensively, alone I walk and with wide steps measure empty places’ space; I look with gloomy eyes before my feet for a human footprint noticeable in the sand. Alas! I do not see nor search for help from among people but [only want] to leave [high] society […] But there are no such deserts or gloomy distant wildernesses where my love would not come to converse with me in my sad dreams. Geršenzon outlined the Petrarchan program of loneliness, both in everyday life and in creativity, in a way that suits Chodasevič’s poem very well: С первых дней своей зрелости и до конца Петрарка жил один, как в пустыне, наслаждаясь беседами с самим собою. Многие годы он действительно жил в полном уединении, но и при дворах князей он оставался одиноким. Ему никогда не бывало скучно в одиночестве. Он точно первый из людей открыл глаза на всю природу, – на себя, на людей, на мир, – больше всего на самого себя. (Geršenzon 1915: 4) From the earliest days of his maturity until the end Petrarch lived alone like in a desert and enjoyed talking to himself. For many years he indeed lived in complete solitude; even at princes’ courts he remained lonely. He was never bored while alone. He seems to have been the first to open his eyes on the whole of nature – on himself, the people, the world – but mostly on himself. [О]н умеет жить один. [...] [О]н выступил из сословной организации средневекового общества; формально он – клирик, в действительности он – вполне независимый человек, литератор. [...] Его индивидуальная свобода для него дороже богатств и почестей. (46) 176 Lada Panova He knows how to live alone. […] He has stepped outside of the class organization of medieval society; formally he is a cleric, but in fact he is a quite independent man, a man of letters. [...] His individual freedom is dearer to him than wealth and honors. О Петрарке верно сказали, что он был зеркалом самого себя. Его взор как бы поминутно обращается внутрь [...] Петрарка с любознательностью психолога изучил самые отдаленные закоулки своей души. (6) Petrarch is rightly said to have been a mirror of himself. Every moment his gaze turns inward [...] With a psychologist’s curiosity Petrarch studied the most remote corners of his soul. В противоположность средневековому писателю, которому понятие писательской индивидуальности так же чуждо, как и понятие литературной собственности, [...] Петрарка требует от писателей, чтобы они, заимствуя чужое, перерабатывали его самостоятельно, как пчела перерабатывает сок цветов; но еще выше он ставит самостоятельное творчество шелковичных червей. “Хочешь знать, какого мнения я держусь? – пишет он Боккаччио. – Я стараюсь идти по дороге, проложенной нашими предками, но не хочу рабски ступать в следы их ног. Я хочу не такого вождя, который на цепи рабски тащил бы меня за собою, а такого, который шел бы впереди меня, только указывая мне путь; я никогда не соглашусь ради него отказаться от моих глаз, свободы и суждения.” (45) Unlike a medieval writer, for whom the notion of literary individuality was as alien as the concept of literary property [...], Petrarch requires from writers that they rework what they have borrowed from someone else, like a bee processing nectar; but he values even higher the independent creative work of silkworms. He writes to Boccaccio: “Do you want to know what opinion I adhere to? I try to follow the road paved by our ancestors, but I do not want to slavishly follow in their footprints. I want not a guide who will pull me along by a chain, slavishly, but one who will walk in front of me, only pointing out the way; I will never agree to relinquish my own vision, freedom and judgment because of him.” Like Petrarch, Chodasevič deliberately kept a distance between himself and his fellow writers. He never belonged to any literary movement (such as Symbolism) or literary grouping (such as Acmeism or the “Poets’ Guild”) and proudly declared himself (as well as another outsider, Marina Cvetaeva) “wild”. In his mature poetry, he treated traditions freely, à la Petrarch, as has been shown in the above with respect to ‘Before the Mirror’. What should be emphasized in this discussion is that there are several keywords in the poem, Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 177 such as “desert”, “loneliness”, “mirror” and “footsteps”, that have a clearly Petrarchan tinge. Incidentally, in Russian there is no particular word to match Petrarch’s concept of loneliness, which Chodasevič suggested by the just listed words plus the references to Virgil. In fact, the concept of loneliness and the image of a non-appearing Virgil both oppose and at the same time complement each other. They paradoxically emblematize mutually exclusive lifestyles and different types of creativity. To express the dilemma of creativity, Chodasevič depicted the non-appearing Virgil in the classical pose of the Muse, hovering behind the Poet’s back, the better to move his pen and put ideas into his head. The absence of Virgil from the plot can be seen as targeting the Russian Symbolists, who cultivated an imitatio of Dante, including his type of creativity under Virgil’s guidance. In contrast, Chodasevič makes a gesture of solidarity with Petrarch’s loneliness as a basic principle of art, philosophy and life. For better understanding Petrarch’s presence in ‘Before the Mirror’, it is important to remember that Petrarch acknowledged Virgil as his mentor and the greatest poet that ever existed; thus he both followed Dante and at the same time refused to “slavishly imitate” any predecessor. To sum up, the image of “одиночество” (“loneliness”) in ‘Before the Mirror’ represents a telling antithesis highlighting a cultural and moral clash between Dante’s and Petrarch’s creative scenarios. The latter turns out to be preferable for Chodasevič as suiting his idea of truth. Reflecting on this conflict, readers come to understand the relationship between good and evil, pessimism and creativity, isolation and abandonment, as they figure in Chodasevič’s poetic world. They are also led to appreciate Chodasevič’s courage in choosing an outsider position in Modernist literature. 4.2. Midway of Life Trajectory vs. Possible Death in the Mirror This is another conspicuous contradiction in ‘Before the Mirror’. Referring to the Comedy, Chodasevič introduces the archetypal metaphor of life as a journey a man undertakes as an active subject endowed with free will. At the midpoint of this itinerary, he experiences difficulties, i.e. gets lost in a desert, which means that – alas – the second half does not merely depend on his free will. His destiny turns him into its passive object. The post-Dante intertexts of ‘Before the Mirror’, such as Secretum, the mirror sonnet 168, ‘The Death of Ivan Ilyich’ and some others, suggest the hidden motif of a possible death at the midpoint of man’s earthly travels. Let us first quote from Secretum: < А в г у с т и н > Ты горд добрыми качествами этого тела [...]? Но что тебе нравится в твоем теле? Мощность его, или цветущее здоровье? Но усталость, возникающая от ничтожных причин, и 178 Lada Panova приступы разнообразных болезней [...] доказывают, что ничего нет более хрупкого. (Petrarka 1915: 116) <A.> Do you boast of your physical attractions […]? What do you like about your body? Its health and strength? There is nothing more feeble. It can be destroyed by weakness which steals upon you for almost no reason at all, [and from] a variety of illnesses. (Petrarch 2002: 29) Another influential example of the same topos is Puškin’s “Pora, moj drug, pora! pokoja serdce prosit” (“It is Time, My Dear, it is Time! The Heart Begs for Peace”), a monologue about death waiting to interrupt a couple’s happy life: Летят за днями дни, и каждый час уносит Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем Предполагаем жить, и глядь – как раз умрем. (Puškin 1959: 387) The days fly past, and every hour carries off a fragment of existence: and you and I make plans together to live, yet watch out! suddenly shall we die. (Obolensky 1976: 115; with minor editing) Chodasevič clearly refers to Puškin’s poem with the colloquialism “и глядь”, – paraphrased as “а глядишь”. Stanza V, with its motif of the speaker not seeing himself in the mirror, might also be echoing Ivan Bunin’s ‘Zerkalo’ (‘The Mirror’, 1916), which developed the theme quite openly: […] и все, что отражалось, Что было в зеркале, померкло, потерялось... Вот так и смерть, да, может быть, вот так. В могильной темноте одна моя сигара Краснеет огоньком, как дивный самоцвет: Погаснет и она, развеется и след Ее душистого и тонкого угара [...] (Bunin 1993: 313) […] and all that had been reflected, what had been in the mirror – faded, got lost… And so death is, yes, perhaps, just like that. In the grave’s darkness there is only my cigar shining dimly red and twinkling like a wonderful gem: it will also go out, and the trace of its sweet and subtle intoxication will dissolve… Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 179 A similar situation, perhaps based on Bunin’s ‘Mirror’, is also featured in Chodasevič’s unfinished poem “Za štorami – sedogo dnja mercan’e” (“Behind the Curtains, the Hoary Day’s Twinkle”, 1918), which ends with the words: “Вот зеркало. В нем пусто. Нет меня” (284; “Here is the mirror. It is empty. There is no me in it”). In general, by abundantly citing various literary authorities’ treatment of such issues as midlife death, transition from middle (or old age) to the other world, and the mirror as a doorway into the other world, Chodasevič saturated the language of ‘Before the Mirror’ with intimations of mortality and death. Along with the motif of a fatal midpoint of life’s journey, these suggest two different readings of stanza V and, accordingly, the poem as a whole. The first envisions the speaker’s long life (up to Dante’s age of 56 or Petrarch’s nearly 70), despite the midlife crisis and foreseen future tragic end. The second is more impressive – and, perhaps, more controversial. The speaker’s life is going to be cut off in its middle (like Puškin’s, at age 37), and the final self-portrait in the mirror becomes reminiscent of Kazimir Malevič’s square, be it black or white, devoid of any picture. In the course of the plot, the mirror loses its inherent responsiveness, ceasing to reflect the speaker’s appearance. Instead, it obtains magic qualities – the ability to let a person in on something the ordinary person has no knowledge of. Incidentally, the figure of Virgil – as a mediator between a living human being and the other world, one who is responsible for Dante’s visits to Inferno and Purgatory and also for the transition from one period of adulthood into the next and eventually, for his salvation, – conveys the same idea. To be sure, stanza V defies the rules of ordinary realism, which suggest that a person looking into a mirror will necessarily see his/her reflection. It also avoids the Symbolists’ escape into the otherworldly looking glass (as in Blok’s ‘Song of Inferno’). Even Chodasevič’s own recurrent motif of finding his lost identity in the mirror, represented in poems other than ‘Before the Mirror’, is not tapped in stanza V. A possible clue to its understanding may be found in the finale of Chodasevič’s ‘Polden’’ (‘Noon’, 1918). Its lyrical persona immerses himself in his Venetian recollections, and, perhaps, by association with Venetian mirrors, dives inside himself, enjoying a narcissistic intoxication, and having regained his previously lost ego, returns to reality: И я смотрю как бы обратным взором В себя. И так пленительна души живая влага, Что, как Нарцисс, я с берега земного Срываюсь и лечу туда, где я один, В моем родном, первоначальном мире, 180 Lada Panova Лицом к лицу с собой, потерянным когда-то – И обретенным вновь... (106) And I am looking as if with a reverse gaze into myself. And the soul’s living moisture is so captivating that like Narcissus I hurtle and fly from the earthly shore to where I am alone, to my native, primeval world, face to face with myself once lost and now regained... What does this entail for the reading of stanza V? To begin with, this stanza implements the magic features of mirrors from Chodasevič’s other poems. In accordance with the pagan rituals of Christmas-time divinations, the mirror does not tell about the person’s current state but foretells his future; see for example ‘Ručej’ (‘A Creek’, 1916), whose lyrical persona “воду черпает рукой / И пьет – в струе, уже ночной, / Своей судьбы не узнавая” (86; “scoops water with his hand and drinks it – in the jet, already nocturnal, not recognizing his destiny”). In an earlier ‘Gadanie’ (‘Fortunetelling’, 1907), the speaker asks a mirror about his fate, and the mirror shows “Шута ль веселого? / Собаку, гроб или змею?” (35; “A merry jester? a dog, a coffin or a snake?”) In ‘Rjaženye’ (‘Mummers’, 1907) the lyrical persona in a crowd of mummers fearfully imagines that his soul can easily enter someone else’s body: “Я – не я? Вдруг да станется?” (35; “Me or not me? Suddenly, can [anything] happen?”). Read against the background of these lines, stanza V suggests that the speaker, who is trying to divine the truth about the second part of his adulthood with the help of a mirror, does get a truthful answer, which is his non-appearance in its glass, equivalent to his impending end. What he also understands while looking in the mirror is his loneliness, and, perhaps, his abandonment by higher forces. Hence in Chodasevič’s poem, this magic twist of the plot reconciles Dante’s midlife crisis with Petrarch’s. 5. Problems of Self-identification (Once Again Around Stanza V) On first reading, it may seem that the “I, I, I” theme, so powerfully present in stanzas I-III, disappears in IV-V. In fact, Chodasevič is engrossed in his problematic self-identification at every point in the poem, and what is taken for an absence of “I” is the result of the poet’s switch from openly lexical means to hidden structural ones. To begin with, the idea of a split personality is reenacted on the level of the poem’s composition. The discourse moves from the grammatical and rhetorical symmetry of stanzas I-III to a considerable rupture in stanza IV. Rhetorically, the rupture is evident in the unfinished phrase “Oт ничтожной причины – к причине” (“From one trivial cause to another”). Chodasevič begins it but then leaves off without a Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 181 predicate – for a reason. Its structure emblematizes the decomposition of the speaker’s speech, mind and body. In this sense, the phrase under scrutiny may also provoke associations with mortality or even the death of the lyrical persona. The place of “I” in the design of stanzas I-III is also telling. This pronoun opens the first line of stanza I, boosting the regular anapestic trimeter with two spondees, and closes the last line of stanza II as well as the last line of stanza III, this time hidden, as it were, in the last letter/syllable of the word “змея” (“snake”). This rhythm of repetitions demonstrates Chodasevič’s preoccupation with his self-identification, as well as his mastery in using the various levels of his poetic discourse to convey one theme. Furthermore, in stanzas I-III with their model symmetry Chodasevič equates various incarnations of his ego. The starting point of this mental operation is his physical body in the mirror introduced by the alienating formula “вон тот” (“that one there”). He questions whether this reflection is identical with his former states (such as boyhood and adolescence) and his former social roles (such as the scathing critic, the nemesis of debutant poets, or the silent or mocking participant of tragic conversations). In stanza IV the motif of non-recognizing himself is developed not through mirror imagery but through the image of the Biblical desert where the speaker cannot find his footsteps. The mirror reappears, however, in stanza V. This time it reflects the speaker’s loneliness, – his condition or, perhaps, destiny, – rather than his body. The poem consistently develops the idea of a man’s body/personality, first maturing and then declining. This theme is expressed by words referring to the speaker’s age, as straightforward as “мальчик”/“мальчишечью” (“boy”/“boyish”) and as sophisticated as shocking color adjectives. Thus, the inexperienced young poets are ironically called “желторотый” (literally: “yellow-mouthed”, like a baby chicken), while the wise middle-aged speaker presents himself as “желто-серый, полуседой” (literally: “yellow-gray”, concerning his complexion; half-gray, concerning his hair). Symbolically, all these words are meant to trace the speaker’s journey from one stage of life to another. Characteristically, the life Chodasevič portrays in ‘Before the Mirror’ is that of a poet. To emphasize this, he has the speaker going as it were through the process of acquisition of linguistic skills, given that language is the writer’s tool. In the beginning of the poem, the speaker relies on simple vocabulary including lexical primitives like “I” but gradually starts to saturate his diction with more complex vocabulary, e.g. compound words like “yellow-gray”. Another manifestation of the speaker’s gradual maturing is the motif of active motion. Intense in stanzas I-III, this comes to a standstill in stanza V. As a boy, the speaker used “to dance” at children’s balls, and as a young man he imparted a “мальчишечья прыть” (“boyish vivacity”, or, 182 Lada Panova literally, “impetuous movement”) to disputes. In middle age, he wandered in the desert. Compared to the two previous modes of movement, this is a pointedly meaningless activity, leading nowhere. In stanza V, the quality of “прыть” no longer characterizes the speaker. It is taken over by the panther, who jumps to follow its prey. Chodasevič underlines this switch of moving agency in several ways, first of all, by the alliteration of “p” in the words “прыть”, “пантера”, and “прыжками” (“bounces”),15 and also by the fact that the speaker is chased into a Parisian attic. Finally, it is emphasized by switching from the nominative case of “I” to the accusative (mentioned earlier). As a result, the speaker is no longer the master of his free will or even of his body. He is led by something else, be it destiny or a Dantesque panther. Moreover, in the finale of stanza V he seems to freeze in front of the mirror. At this moment, the subject-object boundaries are blurred to such an extent that the reader has to make an effort in order to understand who it is looking in the mirror and (not) reflected in it. 6. The Self-Portrait in the Mirror: The Metapoetic Dimension The weaker the lyrical persona of ‘Before the Mirror’ becomes, the stronger its metatextual reach. Characteristically, the only literary figure featured in the poem appears in the last stanza, not earlier, for instance, not in the epigraph. Chodasevič clearly outlined his cultural agenda by involving Virgil, Dante and Petrarch into the narrative and by ennobling his “дикое слово” (“wild word”) with references to various Russian writers from Deržavin to Bunin and from Tolstoj to Čechov. In his collection of poems European Night and especially in ‘Before the Mirror’, one of that collection’s major poems, he depicts himself as a Europeanized Russian keen on upholding the classical tradition. Moreover, not unlike Dante, who, in the Inferno’s canto 4 converses with the five greatest classics of antiquity and boasts that “[…] io fui sesto tra cotanto senno” (37; “I was sixth among so much wisdom” [Alighieri 1996b: 75]), Chodasevič considers the great writers as his most desirable interlocutors. As his ticket into that pantheon, he produces his selfportrait in the mirror in an homage to Petrarch’s similar undertaking. Chodasevič’s self-portrait, both personal and suprapersonal, pointedly visual in the first three stanzas and nearly invisible by the end, is true to life but at the same time makes a magic leap into the future. As a result, ‘Before the Mirror’ has earned the best possible reputation – that of “if not an immortal poem, then a non-mortal one” (“если не бессмертные, то вне-смертные стихи”; Ivask 1985: 129). Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam 183 NOTES The present article is an abridged and revised version of Panova (2012). The same year, 2012, Tomas Venclova published his three-page long essay on ‘Before the Mirror’, which also touches upon the semiotics of mirror and Dante’s relevance to the plot. Venclova considers Chodasevič’s poem in the context of such Russian modernist poets as Aleksej Kručenych, Boris Pasternak, and Sergej Esenin. I would like to thank Alexander Zholkovsky and Marcus Levitt for their help in editing my English. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Chodasevič’s poetry in the original is quoted from Chodasevič (2009: 1), citing pages in parentheses. On untranslatability of Russian razve and neuželi, see Alexander Zholkovsky’s essay in the present volume. See Berberova (1983: 249). See Berberova (1983: 248-249). Dante’s Comedy (Inferno) in the original is quoted from Alighieri (1996a), citing pages in parentheses. See Miller (1981: 171-173); Levin (1998a: 219-220; 1998b: 569); Kirilcuk (2002: 384-386); Postoutenko (2002). See Levin (1998b: 546-569) and some other works on ‘Before the Mirror’. On Dante’s presence in ‘Before the Mirror’, see for example Kirilcuk (2002: 385); Venclova (2012: 384-385). Similar medley of Dante’s and Petrarch’s repertoires can be found in other works of Chodasevič, such as Žizn’ Vasilija Travnikova (The Life of Vasilij Travnikov); for more detail, see Panova (2015a). See Panova (2015a; 2015b). I am grateful to Inna Andreeva, Nikolaj Bogomolov, John Malmstad, Robert Hughes and Valerij Šubinskij for their consultation on this issue. For a happy turn, the appearance of a trustworthy Guide in the mirror, see Michail Kuzmin’s collection of poems Seti (Nets, 1908), especially “Vzojdja na bližnjuju stupen’” (“Climbing the Nearest Step”): Взойдя на ближнюю ступень, Мне зеркало вручил Вожатый; Там отражался он как тень, И ясно золотели латы; А из стекла того струился день. Я дар его держал в руке, Идя по темным коридорам. К широкой выведен реке, Пытливым вопрошал я взором, В каком нам переехать челноке. (Kuzmin 2000: 102) Lada Panova 184 13 14 15 Their titles being borrowings from Comedy mean ‘The Dark Forest’ and ‘The Serpents were My Friends’ respectively. See ‘Geršenzon’ (1925) in Chodasevič (1991: 338). See also paronymy in lines 21-22: “ПантеРа ПРыЖКами [...] ПаРиЖсКий” (“PanteRa PRyŽKami […] PaRiŽsKij”). LITERATURE Alighieri, Dante 1996a Commedia. Inferno. Milano. 1996b The Divine Comedy. Vol. 1. Ed. and Transl. Robert M. Durling. Inferno. New York-Oxford. Berberova, Nina 1969 Kursiv moj. Avtobiografija. Vol. 1. New York. 1992 The Italics are Mine. Transl. Philippe Radley. New York. Blok, Aleksandr 1962 Sobranie sočinenij. 8 Vols. Vol. 5. Moskva-Leningrad. Bunin, Ivan 1993 Sobranie sočinenij. 8 Vols. Vol. 1. Moskva. Chodasevič, Vladislav 1991 Koleblemyj trenožnik. Moskva. 1997 Sobranie sočinenij. 4 Vols. Vol. 4. Moskva. 2009 Sobranie sočinenij. 8 Vols. Moskva. Chodasevič, Vladislav 1991 Koleblemyj trenožnik. Moskva. 1997 Sobranie sočinenij. 4 Vols. Vol. 4. Moskva. 2009 Sobranie sočinenij. 8 Vols. Moskva. Deržavin, Gavriil 2002 Sočinenija. Sankt-Peterburg. Geršenzon, Michail 1915 ‘Frančesko Petrarka. 1304-1374’. In: Petrarka 1915: 3-52. Ivask, Jurij 1985 ‘Pochvala rossijskoj poėzii’. Novyj žurnal, 159, 91-129. Jaques, Elliott 1965 ‘Death and the Midlife Crisis’. International Journal of Psychoanalysis, 46 (4), 502-514. Kirilcuk, Alexandra 2002 ‘The Estranging Mirror: The Poetics of Reflection in the Late Poetry of Vladislav Khodasevich’. The Russian Review, 61, 377-390. Kissin, Samuil (Muni) 1999 Legkoe bremja. Stichi i proza. Perepiska s V.F. Chodasevičem. Moskva. Kuzmin, Michail 2000 Stichotvorenija. Sankt-Peterburg. Chodasevič’s ‘Before the Mirror’: The Italian Amalgam Levin, Jurij 1998a 185 ‘O poėzii Vl. Chodaseviča’. Izbrannye trudy. Poėtika. Semiotika. Moskva [1986], 209-267. 1998b ‘Zerkalo kak potencial’nyj semiotičeskij ob”ekt’. Izbrannye trudy. Poėtika. Semiotika. Moskva [1988], 559-577. Miller, Jane Ann 1981 Creativity and the Lyric “I” in the Poetry of V.F. Khodasevich. Ph.D. Dissertation. The University of Michigan. Obolensky, Dmitri (Ed., Transl.) 1976 The Heritage of Russian Verse. With Plain Prose Translation of Each Poem. Bloomington and London. Panova, Lada 2012 ‘“Pered zerkalom” Chodaseviča: ital’janskaja amal’gama’. 8 meždunarodnaja letnjaja škola po russkoj literature. Stat’i i materialy. Kaukolempiälä (Cvelodubovo), 95-127. 2015a ‘Zapozdalaja popytka petrarkizma v russkom modernizme: recepcija Kancon’ere’. Stat’ja 1. Russkaja literatura, 3. 2015b ‘Zapozdalaja popytka petrarkizma v russkom modernizme: recepcija Kancon’ere’. Stat’ja 2. Russkaja literatura, 4. Petrarca, Francesco 1996 The Canzoniere or Rerum Vulgarium Fragmenta. Transl. Mark Musa. Bloomington and Indianapolis. Petrarch, Francis 2002 My Secret Book. Transl. J.G. Nichols. London. Petrarka, Frančesko 1915 Avtobiografija. Ispoved’. Sonety. Transl. M. Geršenzon and Vjač. Ivanov. Moskva. Postoutenko, Kirill 2002 ‘“Ja, ja, ja. Čto za dikoe slovo...”: Vladislav Xodasevič’s Deconstruction of the First-Person Personal Pronoun’. New Zealand Slavonic Journal, 36, 225-235. Puškin, Aleksandr 1959 Sobranie sočinenij. 10 Vols. Vol. 2. Moskva. Venclova, Tomas 2012 ‘Zerkalo v zerkale’. Sobesedniki na piru. Moskva, 383-385. Veselovskij, Aleksandr 1939a ‘Dante’. Izbrannye stat’i. Leningrad [1893], 140-152. 1939b ‘Petrarka v poėtičeskoj ispovedi “Canzoniere”’. Izbrannye stat’i. Leningrad [1905], 153-242. Žolkovskij, Aleksandr 2014 ‘Zerkalo ili trel’jaž? (“Pered zerkalom” Chodaseviča)’. A. Žolkovskij, Poėtika za čajnym stolom i drugie razbory. Moskva [2011], 186-207. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 187–199 www.elsevier.com/locate/ruslit ‘ПАМЯТИ КОТА МУРРА’ ХОДАСЕВИЧА: СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ (KHODASEVICH’S ‘IN MEMORIAM KATER MURR’: VERSES ABOUT RUSSIAN POETRY) ВСЕВОЛОД ЗЕЛЬЧЕНКО (VSEVOLOD ZEL’CHENKO) Abstract In Khodasevich’s poem ‘Pamiati kota Murra’ (‘In Memoriam Kater Murr’) the basic orientation towards the language and poetics of the Russian “Golden Age” is also manifested on the level of subtexts. These verses form a continuous chain of quotations and allusions that thus far have not been identified. The article shows reminiscences from poems by Del’vig and Fet, and also from a letter from Pushkin to Pletnev. These texts all play a role in the central motif of Khodasevich’s poem – “The Elysium of Poets”. Keywords: V.F. Khodasevich; ‘Pamiati kota Murra’; A.A. Del’vig; A.A. Fet; A.S. Pushkin; “Elysium of Poets” Чрезвычайно немногочисленные стихотворения, завершенные или только вчерне набросанные Ходасевичем за последнее десятилетие жизни, представляют особую страницу в его наследии. Декларативная близость поэзии Ходасевича к русской лирической традиции первой половины XIX в., то “родство с пушкинской школой” (Брюсов 1990: 448), которое и прежде единодушно отмечалось его поклонниками и критиками, в этих текстах доведены, кажется, до полного слияния: такие вещи, как ‘К Лиле’, “В последний раз зову тебя – явись…”, “Нет, не шотландской http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.010 0304-3479/© 2016 Published by Elsevier B.V. 188 Всеволод Зельченко королевой…”, “Не ямбом ли четырехстопным…” (не говоря, разумеется, о стихах из ‘Жизни Василия Травникова’) написаны в буквальном смысле слова на поэтическом языке “золотого века”. Это относится и к опубликованному посмертно стихотворению ‘Памяти кота Мурра’,1 черновой автограф которого помечен датой 2 февраля 1934 г.: В забавах был так мудр и в мудрости забавен – Друг утешительный и вдохновитель мой! Теперь он в тех садах, за огненной рекой, Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин. О, хороши сады за огненной рекой, Где черни подлой нет, где в благодатной лени Вкушают вечности заслуженный покой Поэтов и зверей возлюбленные тени! Когда ж и я туда? Ускорить не хочу Мой срок, положенный земному лихолетью, Но к тем, кто выловлен таинственною сетью, 2 Все чаще я мечтой приверженной лечу. Попробуем представить себе филолога будущего, до которого (absit omen!) эти стихи дошли бы без имени автора: пожалуй, одно лишь ударение “ускóрить”, неведомое пушкинской эпохе, поможет ему не ошибиться в датировке на целое столетие. Эта архаизирующая установка проявляется и на другом уровне: не превращаясь ни в центон, ни в образчик ученой поэзии, cтихотворение представляет собой почти непрерывную “таинственную сеть” из цитат и аллюзий.3 Обозначить и по мере возможности прояснить их – задача настоящей заметки. Комментаторы Ходасевича ограничиваются отсылками к ‘Ласточке’ Державина и стихам Катулла о птенчике,4 хотя уже последнее нуждается в уточнении. Воробушек Лесбии (чья посмертная участь, как помним, виделась римскому поэту в мрачных тонах)5 попал к Ходасевичу не из Catull. 2 и 3, но из стихотворения Дельвига ‘На смерть собачки Амики’ (1821): Уж Амика ушла за Меркурием За Коцит и за Лету печальную, Невозвратно в обитель Аидову, В те сады, где воробушек Лезбии 6 На руках у Катулла чиликает. ‘Памяти кота Мурра’ Ходасевича 189 Перед нами, однако, нечто большее, чем простое использование античного мотива через вторые руки. Дельвиг, первым в русской традиции создавший образ рая для поэтов и воспетых ими зверей,7 превращается, как мы сейчас увидим, в полноценного персонажа стихотворения Ходасевича, становясь рядом с Державиным и затмевая Катулла. Во второй строфе обращает на себя внимание сочетание “возлюбленные тени”, вызывающее в памяти хрестоматийное пушкинское ‘Заклинание’ (1830: “Явись, возлюбленная тень!”). Между тем Пушкин употребил эти слова еще раз – в письме П. А. Плетневу от 11 апреля 1831 г., чей зачин соединяет имена Державина и Дельвига в мимолетноироническом видении ‘Элизиума поэтов’ (XI: 161): Воля твоя, ты несносен: ни строчки от тебя не дождешься. Умер ты, что ли? Если тебя уже нет на свете, то, тень возлюбленная, кланяйся от меня Державину и обними моего Дельвига. Если же ты жив, ради Бога, отвечай на мои письма. Само по себе появление в стихах Ходасевича скрытых и явных цитат из прозы и даже писем Пушкина не должно удивлять: к примеру, строки “Ведь мы и гибнем, и поем / Не для девического вздоха” (“Играю в карты, пью вино…”, 1922) следует, по нашему мнению, сопоставлять с пассажем из статьи ‘О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова’ (1825) “но Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола” (X: 33), где выделенные курсивом слова – переиначенная цитата из очерка В. О. Корниловича ‘Об увеселениях российского двора при Петре I’. Прочитав в Одессе Полярную звезду на 1824 г., где был напечатан очерк, Пушкин в первые месяцы 1824 г. обыграл насмешившую его галантную фразу Корниловича еще трижды – в письмах брату Льву, редактору Полярной звезды А. А. Бестужеву-Марлинскому и П. А. Вяземскому (XIII: 86, 87, 89), причем всякий раз в связи с программной формулой “пишу для себя, печатаю для денег”, которая специально занимала Ходасевича-пушкиниста.8 В нашем случае гипотеза о реминисценции также подкрепляется обращением к Поэтическому хозяйству Пушкина (гл. 38): фразу из письма Плетневу Ходасевич приводит среди других примеров того, как Пушкин в переписке использовал собственные стихи. Далее он высказывает предположение о связи “возлюбленной тени” с “ombra adorata” – итальянской надписью, которую безумный Батюшков сделал на окнах своей комнаты: Возможно, что само выражение “возлюбленная тень” подсказано Пушкину тем же Дельвигом, который писал ему в июне 1826 г.: 190 Всеволод Зельченко “Гнедичу лучше, он тоже живет на даче и тебе кланяется. В комнатах, в которых он живет, жил в последнее время Батюшков: до сих пор видна его рука на окошках. Между прочим, на одном им написано “Есть жизнь и за могилой!”, а на другом: ‘Ombra adorata!’. Гнедич в восторге меланхолическом по целым часам смо9 трит на эти строки.” Мне думается, что связь этих строк Дельвига с “Заклинанием” – несомненна. (Ходасевич 1997-2014, I: 192; 1996-1997, III: 580)10 В книге 1937 г. О Пушкине (гл. “Стихи и письма”) соответствующий пассаж предстает сильно сокращенным. Ходасевич снимает не только весь процитированный выше абзац, но и – словно бы желая уничтожить последние следы гипотезы, прежде казавшейся ему “несомненной” – даже и само упоминание Дельвига в пушкинском письме: “Явись, возлюбленная тень!” – сказано в “Заклинании” (1830), а в письме Плетневу от 11 апреля 1831 года: “Если тебя уже нет на свете, то, тень возлюбленная, кланяйся от меня Державину.” (Ходасевич 1997-2014, III: 477; 1997-2014, III: 200). Как кажется, мы можем назвать причины этой редактуры. В 1927 г., после длительных издательских проволочек, увидела свет статья Б. В. Томашевского ‘Пушкин и итальянская опера’. В ее заключительной части назван, в прямой полемике с Ходасевичем, источник сочетания “ombra adorata” – начальные слова предсмертной арии Ромео из оперы Никола Цингарелли Giulietta e Romeo (1796): как показывает Томашевский, “молитва Ромео” была в 1810-е гг. гремевшим по всей Европе концертным номером, так что Пушкин скорее всего знал ее непосредственно (“В. Ходасевич упустил, что ‘Ombra adorata’ есть литературная цитата, известная Пушкину, конечно, не из письма Дельвига”; Томашевский 1927: 59).11 Познакомившись с этой критикой и оценив ее справедливость,12 Ходасевич прочел и полный текст знаменитой арии, приводимый Томашевским в оригинале и в подстрочном переводе (60): Ombra adorata, aspetta, Teco sarò indiviso, Nel fortunato Eliso Avrà contenti il cor. Là tra i fedeli amanti Ci appresta amor diletti Godremo i dolci instanti De’ piú innocenti affetti, E l’eco a noi dintorno Risuonerà l’amor. Дождись, возлюбленная тень, Я воссоединюсь с тобой, В счастливом Элизии Сердце обретает удовлетворение. Там среди верных любовников Нам готовит любовь наслаждения. Возрадуемся в тихие мгновения Чистейшего счастия, И эхо нам отовсюду Зазвучит любовью.13 ‘Памяти кота Мурра’ Ходасевича 191 Этот последний подтекст, окончательно скрепляющий связь “возлюбленной тени”14 с мотивом воссоединения в Элизиуме, отразился в отброшенной редакции заключительной строфы ‘Мурра’, которая вводила в стихотворение любовную тему и завуалированное упоминание Н. Н. Берберовой:15 И верится тогда: под элизейской сетью Дерев невянущих мы встретимся опять, Два друга любящих, две тени, чтоб<ы> третью, 16 Равно нам милую, любовно поджидать. Перечень реминисценций, однако, этим не исчерпывается. Слова “где черни подлой нет” в ст. 6 отсылают к еще одной картине поэтического рая – стихотворению Фета “Нетленностью божественной одеты...” (1863 или 1864): Нетленностью божественной одеты, Украсившие свет, В Элизии цари, герои и поэты, А темной черни нет. Впервые опубликованные только в 1900 г., в Полном собрании стихотворений Фета под редакцией Б. В. Никольского, эти стихи обратили на себя внимание современников Ходасевича. Так, Брюсов привел строку “В Элизии цари, герои и поэты” в докладе ‘А. А. Фет: Искусство или жизнь’, который был прочитан на заседании Московского литературно-художественного кружка 7 января 1903 г.17 и затем вошел в сборник Далекие и близкие (1911; Брюсов 1975: 212); а многолетний собеседник Ходасевича Б. А. Садовской, демонстративно-пылкий монархист и знаток Фета, цитировал слова “В Элизии цари, герои и поэты / А темной черни нет” в письме А. И. Тинякову от 10 июля 1913 г., рассказывая, как представлялся Николаю II в Нижегородском дворянском собрании (Садовской 2001: 370).18 Один из двух дошедших до нас автографов фетовского стихотворения находится на обороте списка послания Тютчева “Гуманный внук воинственного деда...”, которое защищало усмирителя польского восстания М. Н. Муравьева-Вешателя от петербургских либералов во главе с генерал-губернатором А. А. Суворовым; иначе говоря, триада “цари, герои и поэты” у Фета ближайшим образом подразумевает Александра II, Муравьева и Тютчева. Этих важных подробностей Ходасевич, впрочем, не знал,19 однако и без них его неожиданная аллюзия на Фета безусловно полемична: автор ‘Мурра’ оставляет в своем Элизии только поэтов, предрекая им, взамен царей и героев, совсем иных собеседников. Всеволод Зельченко 192 В статье 1987 г. ‘Рецепция поэзии пушкинской эпохи в лирике В. Ф. Ходасевича’ Н. А. Богомолов последовательно и убедительно разобрал эволюцию цитатной стратегии поэта,20 однако остановил изложение на Европейской ночи, не коснувшись стихотворений последнего десятилетия. Между тем стихи о коте Мурре, как представляется, демонстрируют новый виток этой эволюции. В самом деле, разобранные выше примеры не могут быть отнесены ни к числу тех вольных ассоциаций, что определяют движение стиха подчас неосознанно для самого автора,21 ни к содержательно-безразличному “строительному материалу”, призванному подкреплять общее впечатление стилистической ориентации на XIX век.22 Перед нами сложно устроенная система аллюзий, превращающая стихотворение в своего рода концентрированную антологию русских видений Элизиума поэтов – от Державина через Дельвига и Пушкина до Фета; этой традиции Ходасевич присягает на верность, в нее он встраивается “прочным звеном”. Как заметил Эммануэль Демадр, ‘Памяти кота Мурра’ непосредственно следует за наброском “Всe только смерти да поминки!..”23 о гибельной участи русских поэтов – теме статей Ходасевича ‘Цитаты’ (1926) и ‘Кровавая пища’ (1932), которая в январе 1934 г. оказалась для него актуализирована известием о смерти Андрея Белого. Соседство двух столь несхожих замыслов французский исследователь объясняет прихотями вдохновения (“Nous retrouvons ici les contrastes d’inspiration de Xodasevič”; Demadre 2000: 559-560); мы предпочитаем усматривать между ними внутреннюю связь. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Обретя бессмертие, кот Мурр заслуживает и биографической справки. Подобранный в Арти 14 августа 1930 г., он прожил у Ходасевича и Берберовой полгода и умер в ночь на 23 февраля 1931 г. (см.: Ходасевич 2002: 170). Его портрет дан в очерке ‘Младенчество’ (1933; 1996-1997, IV: 193); письмо Ходасевича Мурру от 29 октября 1930 г. опубликовано Дэвидом Бетеа (1988: 273). Ср. явление Мурра в финале интервью с Ходасевичем Н. Д. Городецкой, напечатанного в Возрождении 22 января 1931 г.: “В. Ф. склоняется и ловит черного котенка с зеленым галстуком (‘с бантиком’ сказать нельзя: вас поправят – он мальчик и бантиков не носит). Смотрит на него с большим одобрением. ‘Мой не хуже, чем у Куприна... Вы того хвалили... Правда, мой еще начинающий, но перед ним будущность.’ Я вижу, ему хочется, чтобы я согласилась, что кот ‘Памяти кота Мурра’ Ходасевича 2 3 4 5 193 неслыханно хорош...” (Янгиров 2003: 235; в комментариях кот ошибочно идентифицирован как Наль). “Когда Мур умер, – передает Ю. В. Мандельштам, – Ходасевич огорчился не на шутку. ‘Что вы, Владислав Фелицианович, ну околел кот’. – ‘Сами вы околеете’” (250). Впервые: Опыты, 1953, вып. 2, с. 5. Как вспоминала Н. Н. Берберова, “Ходасевич не дооценил этих своих стихов […], он считал, что они написаны ‘на случай’” (Ходасевич 1961: 223; ср. также: Берберова 1996: 407). Уже первые читатели рассудили иначе: так, В. А. Злобин в Возрождении, отмечая в целом слабый стихотворный раздел “Опытов”, оговаривался: “О Ходасевиче не говорю, он – особняком. Его стихотворение ‘На смерть кота Мурра’ [таково было заглавие первой публикации – В. З.] занимает по праву первое место. Оно действительно лучше всех. […] И как хорошо, что Ходасевич до наших дней не дожил. Судьба была к нему милостива, переправив его через ‘огненную реку’ до войны и… до мира” (цит. по: Злобин 2004: 75). Ср. парадоксальное на первый взгляд замечание Ю. И. Левина – первопроходца в изучении этого аспекта поэзии Ходасевича: “Реминисценции имеют у Ходасевича отчетливую тенденцию к концентрации […]. Причем именно эти повышенно реминисцентные стихи, как правило, принадлежат к лучшему и наиболее самобытному у Ходасевича” (Левин 1998: 219). Статья Л. Г. Пановой ‘“Живая поэзия слова-предмета”: О мандельштамовском инварианте “de rerum natura”’ (Сохрани мою речь навсегда: Мандельштамовский сборник, вып. 6), в числе прочего трактующая о мотиве “поэт и его домашнее животное” у Мандельштама, Ходасевича, Державина и Катулла (Жолковский 2014: 664, примеч. 29), к моменту завершения нашей работы из печати не вышла. У истоков мотива “рая животных” в европейской литературе стоит не Катулл, а Овидий, в своей пародийной элегии на смерть попугайчика Коринны (Amor. II: 6, 49-58) обыгравший топику погребального стихотворения-эпикидия: одним из непременных элементов этого последнего было описание заслуженного блаженства покойного в Элизии, в компании равных ему. Именно овидиевский образец определил трактовку темы в европейской галантной поэзии XVI-начала XIX вв., когда в меру шуточные стихи, оплакивающие домашних питомцев, сочинялись десятками. Совершенно иной, “мистико-экологический” извод этого мотива представлен стихотворением в прозе Франсиса Жамма ‘Le paradis des bêtes’ (1903): в раю Жамма среди прочих домашних животных обитают и коты, “mystérieux et délicats”, которые забавляются, играя с веревочкой, под умиленным взором Бога. Миниатюра Жамма, переведенная на русский язык Е. О. Шмидт (Жамм 1913: 119-121), в 1922 г. была предметом разговора Горького с Есениным (Горький 1974: 67; ср. также ее упоминание в Жизни Клима Самгина; Горький 1975: 25), а Маяковского, по предположению Н. И. Харджиева, вдохновила на ‘Хорошее отношение к лошадям’ (см.: Харджиев 1997: 198). В качестве возможного 194 6 7 8 9 10 Всеволод Зельченко претекста для стихов Ходасевича укажем и на стихотворение З. Н. Гиппиус ‘На Croisette’ (1929, опубл. 1930), обращенное к загадочному зверьку с каннской набережной (“Зверенок на веревочке, с круглыми ушами, / С предлинным и претонким тельцем шерстяным, / Откуда и зачем ты явился между нами / И как ты на веревочку попал – к чужим?”), с финалом “Ты все это расскажешь мне, свистом ясным, / Когда мы повстречаемся с тобой – в Раю”. Стихотворение вошло в подборку Гиппиус, которая открывала первый номер Чисел и была (полемически) отмечена в рецензии Ходасевича: “Откуда взяться здесь новизне, если одни из лучших стихов подписаны именем З. Н. Гиппиус?” (Ходасевич 1930). Мы повторяем здесь это уже опубликованное наблюдение (Зельченко 1997: 225, примеч. 12; см. также: Любжин 2007: 66, примеч. 1), поскольку оно будет важно для дальнейшего. Финал стихотворения Дельвига вызвал одинаково восторженную оценку как у одного из литературных знакомцев Ходасевича (“Последние стихи Дельвига запечатлены той же чертой Гения, что и заключительные два стиха Катулла. Они поражают такой же неожиданностью и так же мастерски замыкают пьесу непредвиденным уклонением и рождением нового образа”; Шервинский 1915: 311), так и у современного исследователя (“Вот где заключалось подлинное искусство! В двух завершающих строках полупародийного стихотворения вдруг с полной неожиданностью развертывался образ, излюбленный Батюшковым и его молодыми учениками: образ вечно продолжающейся жизни в античном Элизее, где живой Катулл держит на руках живого же, воспетого им некогда воробушка. […] Салонная поэзия становилась поэзией в точном и высоком смысле этого слова”; Вацуро 1989: 189). Интересно, что во втором послании цикла “Épîtres de l’Amant Vert” Жана Лемера де Бельж (1505; стт. 445-448), посвященного загробным досугам любимого попугайчика Маргариты Австрийской, список добродетельных животных, в сонм которых усопшего приводит Меркурий, открывается воробушком Катулла: “Entre lesquelz leans trotte et ambule / Le passeron de l’amye Catulle, / Lequel, quand Mort s’en fut à tort saisie, / Fut deploré par noble poesie” (Lemaire de Belges 1948: 33). Сходство с Дельвигом кажется разительным, но о возможных путях знакомства русского поэта со стихами Лемера мы судить не в состоянии. И, кроме того, автор юношеского ‘Элизиума поэтов’ (между 1814 и 1817). Ей посвящен отдельный экскурс в ‘Поэтическом хозяйстве Пушкина’, включающий цитаты из упомянутых писем: Ходасевич (1997-2014, I: 201-208; 2009-, III: 479-484). Ходасевич приводит приписку Дельвига к письму Вяземского Пушкину от второй половины июня 1826 г. (2009-, XIII: 285). “Есть жизнь и за могилой!” – цитата из ‘Певца во стане русских воинов’ Жуковского. Впервые: Беседа, 1923, кн. 3, с. 219. ‘Памяти кота Мурра’ Ходасевича 11 12 13 14 15 195 Музыка арии принадлежала не Цингарелли, но первому исполнителю заглавной партии в его опере, прославленному певцу-кастрату Джироламо Крешентини; стихи написал либреттист Ромео и Джульетты Джузеппе Мария Фоппа. Хотя сочетание “ombra adorata” многократно встречается в итальянских стихотворных драмах и оперных либретто (включая Орфея и Эвридику Глюка) на протяжении всего XVIII в. (см.: Starobinski 2005: 206-207), исключительная популярность именно “молитвы Ромео” делает вывод Томашевского неколебимым; к приводимым им пассажам добавим упоминание этой арии в Рославлеве М. Н. Загоскина (1831; ч. 2, гл. 1). Соответствующий выпуск Пушкина и его современников Ходасевич 31 декабря 1927 г. рецензировал в Возрождении (1997-2014, II: 105-111). В этой рецензии он расценивает как “любопытнейшее открытие” первую часть статьи Томашевского, устанавливающую влияние Сороки-воровки Россини на сцену в корчме из Бориса Годунова, а вторую (целиком посвященную полемике об “ombra adorata”) красноречиво обходит молчанием. Ср. также более раннюю (1924) пикировку Ходасевича и Томашевского в Русском современнике по поводу двукратного упоминания “возлюбленной тени” в Поэтическом хозяйстве Пушкина (отзыв Томашевского, резкий ответ Ходасевича – посчитавшего, что его мысль была злонамеренно искажена рецензентом, – и не менее резкая заключительная реплика Томашевского; 1997-2014, I: 439-443). Одновременно с Томашевским Ходасевичу возразил С. В. Штейн, также указавший на оперный источник сочетания “ombra adorata” – но вместе с тем и на одноименную главку Крейслерианы Гофмана (1814), в которой описаны впечатления слушателя “молитвы Ромео” (Штейн 1927: 232; о скандале, сопровождавшем эту диссертацию, и в целом о дерптской карьере Штейна см.: Пономарева, Шор 1999). Ходасевич, вообще говоря, следил за работами Штейна: ему принадлежит в целом сочувственный отзыв на его книгу Пушкин-мистик (Рига, 1931; см.: 1997-2014, II: 239241). Впрочем, как ни соблазнительно предполагать гофмановскую реминисценцию в стихотворении, посвященном коту Мурру, при отсутствии сколько-нибудь надежных доводов эту возможность благоразумнее отклонить. Отметим и еще одно эхо арии Ромео в русской поэзии – странный итальянско-латинский гибрид “Ombrae adoratae”, которым Ахматова предполагала озаглавить цикл стихотворений об умерших друзьях (он же “Венок мертвым” в Беге времени). В качестве возможных источников этого названия предлагались как Гофман (Жирмунский 1973: 181), так и – на наш взгляд, более правдоподобно – ‘Заклинание’ вкупе с письмом Дельвига Пушкину и статьей Томашевского (Тименчик 1986: 126, примеч. 38). Между прочим, мотив загробной встречи с возлюбленной представлен и в державинской ‘Ласточке’ – а именно в двух заключительных стихах, добавленных в 1794 г. после смерти первой жены поэта Екатерины Яко- 196 16 17 18 19 20 21 22 Всеволод Зельченко влевны. Ходасевич напоминает об этом в концовке статьи ‘Державин: К столетию со дня смерти’ (1916): “В самом бессмертии, ‘в бездне эфира’, жаждет он снова увидеть образ прочнейшей и глубочайшей любви своей – Плениры, земной жены” (2009-, II: 47). Нет нужды подчеркивать, что Catull. 2 и 3, ‘На смерть собачки Амики’ (написанное для альбома С. Д. Пономаревой) и пушкинское ‘Заклинание’ – также любовные стихи.. (2009-, I: 529); полная транскрипция черновика строфы: I: 565. Как Дж. Малмстад и Р. Хьюз, так и Н. А. Богомолов считают эти строки намечавшимся продолжением стихотворения; однако как бы ни располагались стихи в автографе, едва ли Ходасевич на каком-либо этапе работы предполагал использовать в двух соседних строфах одно и то же рифмующееся слово “сетью”. Речь должна идти, таким образом, о варианте заключительного четверостишия (Шубинский 2012: 467). То был первый визит шестнадцатилетнего гимназиста Ходасевича в Кружок; через тридцать с лишним лет он в подробностях воспроизвел свои впечатления о брюсовском докладе и последовавших за ним скандальных прениях (очерк ‘Московский литературно-художественный кружок’, 1937; см.: Ходасевич 1991: 374-375). С. В. Шумихин цитирует это письмо в связи с заглавием стихотворения Садовского ‘Цари и поэты’ (1917). Датировка и прояснение политически-злободневного контекста стихов Фета принадлежат Б. Я. Бухштабу (Фет 1937: 739; подробнее см.: Бухштаб 2000: 209-210). Богомолов (1999: 359-375). К неисчерпаемой теме “Ходасевич и русский XIX век” см. также: Левин (1986: 211 слл.); Успенский (2013; 2014: 131 слл.). Такого рода ассоциации – вослед Гершензону – охотно постулировал Ходасевич-пушкинист, объясняя, к примеру, выбор женского имени в строке “Веселье, Вакха и Дельфиру” тем, что Пушкин подумал в этот момент о Дельвиге, “певце Темиры” (1997-2014, I: 156). На их скромный герменевтический потенциал указывает, в связи с подтекстами из Садовского и Сологуба в ‘Памятнике’ Ходасевича, П. Ф. Успенский: “По большому счету цитатный план не вносит в понимание ‘Памятника’ как такового новых смыслов. Действительно, реконструкция, если она верна, обогащает наше представление о личности Ходасевича; в то же время смыслы, которые связываются со стихами Сологуба и Садовского, поэт вполне отчетливо выражает на лексико-синтаксическом уровне. Цитаты скорее подкрепляют заданные значения, чем вносят новые. Для читателя, по-видимому, совершенно не обязательно их ‘угадывать’. Итак, литературные аллюзии относятся прежде всего к области замыслов поэта” (Успенский 2012: 238). Напротив, к этой последней категории принадлежит сочетание “мой друг утешительный” из ст. 2 – восходящее к ‘Моей богине’ Жуковского, где так именуется персонифицированная Надежда (1809, вольный пере- ‘Памяти кота Мурра’ Ходасевича 23 197 вод ‘Meine Göttin’ Гете; в оригинале “meine stille Freundin, / […] Trösterin Hoffnung”). Тут же он был заново начат хореем: “Всe-то смерти, всe поминки…” (см.: Ходасевич 2009-, I: 317; 563). В рабочей тетради Ходасевича этот отрывок примыкает к черновикам статьи о Белом, которая печаталась в Возрождении с 8 февраля 1934 г. ЛИТЕРАТУРА Берберова, Н. Н. 1996 Курсив мой: Автобиография. Вступ. ст. Е. Б. Витковского, коммент. В. П. Кочетова, Г. И. Мосешвили. Москва. Богомолов, Н. А. 1999 Русская литература первой трети XX в.: Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск. Брюсов, В. Я. 1975 Собрание сочинений в 7 т., т. 6. Москва. 1990 ‘Продолжатели’ (1914). Среди стихов. 1894-1924: Манифесты, статьи, рецензии. Cост. Н. А. Богомолов, Н. В. Котрелев, вступ. ст. и коммент. Н. А. Богомолова, Москва, 444-452. Бухштаб, Б. Я. 2000 Фет и другие: Избранные работы. Cост., вступ. ст., подгот. текста М. Д. Эльзона при участии А. Е. Барзаха. Санкт-Петербург. Вацуро, В. Э. 1989 С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры. Москва. Горький, М. 1974, 1975 Полное собрание сочинений: Художественные произведения в 25 т. Москва, т. 20; 1975, т. 24. Жамм, Ф. 1913 Стихи и проза. Пер. И. Г. Эренбурга и Е. Шмидт. Москва. Жирмунский, В. М. 1973 Творчество Анны Ахматовой. Ленинград. Жолковский, А. К. 2014 Поэтика за чайным столом и другие разборы. Москва. Зельченко, В. В. 1997 ‘Сладчайшие преданья’. Древний мир и мы, Вып. 1. СанктПетербург, 221-226. Злобин, В. А. 2004 Тяжелая душа. Cост., примеч. Т. Ф. Прокопова. Москва. 198 Всеволод Зельченко Левин, Ю. И. 1998 ‘О поэзии Вл. Ходасевича’ (1986). Избранные труды: Поэтика. Семиотика. Москва, 209-267. Любжин, А. И. 2007 Римская литература в России в XVIII-начале XX века. Москва. Пономарева, Г.; Шор, Т. 1999 ‘Сергей Штейн: Миф и реальность’. К 40-летию “Тартуских изданий” (= Труды по русской и славянской филологии: Литературоведение, т. 3). Тарту, 317-331. Садовской, Б. А. 2001 Стихи. Рассказы в стихах. Пьесы. Cост., подгот. текста, вступ. ст. и примеч. С. В. Шумихина. Санкт-Петербург. Тименчик, Р. Д. 1986 ‘Ахматова и Пушкин: Заметки к теме. III’. Пушкин и русская литература. Рига, 119-135. Томашевский, Б. В. 1927 ‘Пушкин и итальянская опера’. Пушкин и его современники: Материалы и исследования, Вып. 31/32. Ленинград, 49-60. Успенский, П. Ф. 2012 ‘На перекрестке публицистики и поэтической традиции: К прочтению “Памятника” В. Ходасевича’. Вопросы литературы, № 5, 215-239. 2013 ‘Поэтическая техника Боратынского в стихах Ходасевича’. А. М. П.: Памяти А. М. Пескова. Москва, 525-534. 2014 Творчество В. Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900-е гг.-1917 г.). Tartu. Фет, А. А. 1937 Полное собрание стихотворений. Вступ. ст., ред. и примеч. Б. Я. Бухштаба. Ленинград. Харджиев, Н. И. 1997 Статьи об авангарде, т. 2. Cост. Р. В. Дуганов и др. Москва. Ходасевич, В. Ф. 1930 ‘Летучие листы. “Числа”’, Возрождение, № 1759 (27 марта), 3. 1961 Собрание стихов: 1913-1939. Ред. и примеч. Н. Н. Берберовой. [München]. 1988 ‘Письма В. Ф. Ходасевича к Н. Н. Берберовой’. Публ. Д. Бетеа. Минувшее, Вып. 5, Paris, 228-327. 1991 Колеблемый треножник. Cост. и подгот. текста В. Г. Перельмутера, коммент. Е. М. Беня. Москва. 1996-1997 Собрание сочинений в 4 т. Cост., подгот. текста, примеч. И. П. Андреевой и др. Москва. 1997-2014 Пушкин и поэты его времени, Т. 1-3 (= Modern Russian Literature and Culture: Studies and Texts, Vol. 42-44). Под ред. Р. Хьюза. Oakland. ‘Памяти кота Мурра’ Ходасевича 199 Камер-фурьерский журнал. Вступ. ст., подгот. текста, указ. О. Р. Демидовой. Москва. 2009Собрание сочинений в 8 т. Cост., подгот. текста, коммент. Дж. Малмстада, Р. Хьюза. Москва. Шервинский, С. В. 1915 ‘“In mortem passeris Lesbiae” и “На смерть собачки Амики”’. Русский архив, № 11/12, 306-314. Штейн, С. В. 1927 Пушкин и Гофман: Сравнительное историко-литературное исследование. Дерпт (Tartu). Шубинский, B. Владислав Ходасевич: Чающий и говорящий. Москва. 20122 Янгиров, Р. М. 2003 ‘“Живые черты Ходасевича”: Из откликов современников’. Вступ. ст., републ. и коммент. Р. М. Янгирова, Солнечное сплетение, № 5/6 [24/25], 232-261. 2002 Demadre, E. 2000 La quête mystique de Vladislav Xodasevič: Essai d’interprétation de l’œuvre du dernier symboliste russe. Villeneuve. Lemaire de Belges, J. 1948 Les Épîtres de l’Amant Vert. Éd. crit. publ. par J. Frappier. Lille et Genève. Starobinski, J. 2005 ‘Ombra adorata’. Les enchanteresses, Paris, 199-216. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 201–247 www.elsevier.com/locate/ruslit ХОДАСЕВИЧ В ДНЕВНИКЕ И. Н. РОЗАНОВА (1913-1923) (KHODASEVICH IN I.N. ROZANOV’S DIARY OF 1913-1923) Н. А. БОГОМОЛОВ (N.A. BOGOMOLOV) Abstract The article presents information from the diary of the literary scholar I.N. Rozanov, who was well acquainted with Khodasevich. They met regularly for more than ten years, both at literary manifestations and in private. In Rozanov’s notes we find details about Khodasevich’s personal life, his creative plans, his work on verse, poetry collections, articles and prose. Keywords: V.F. Khodasevich; I.N. Rozanov До недавнего времени все, что мы знали об отношениях этих двух людей, сводилось к четырем инскриптам, оставленным В. Ф. Ходасевичем на подаренных Розанову изданиях (Библиотека 1975: 212).1 В 2013 г. А. Л. Соболев процитировал два письма Ходасевича к Розанову (Летейская 2013: 301-302). Вместе с тем знакомство с архивом Розанова и прежде всего с его дневником показывает, что приязненные отношения между двумя людьми длились достаточно долго: познакомились они в 1913 году, последние известные нам упоминания относятся к 1922 году. Но самое, видимо, существенное, – что в значительной своей части эти записи очень содержательны и фиксируют важные, доселе неизвестные факты жизни и творческих устремлений Ходасевича. http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.011 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. Н. А. Богомолов 202 Иван Никанорович Розанов (1874-1959) после окончания историко-филологического факультета Московского университета долгое время служил в различных средних учебных заведениях, преимущественно женских (гимназиях Л. Ф. Ржевской, Н. П. Хвостовой, Е. Н. Головачевой, О. Ф. Протопоповой, Н. П. Щепотьевой, Л. А. Воскресенской),2 преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества, на Высших женских курсах В. А. Полторацкой, в Нижегородском университете, потом стал профессором в своей alma mater, преподавал какое-то время в Литературном институте. Возглавлял отдел истории книги в Российском историческом музее, сектор народного творчества в Союзе писателей, работал в Институте мировой литературы. Библиография его работ насчитывает более 300 названий (см. Новикова 1966). С другой стороны, он известен как выдающийся библиофил, собравший уникальную библиотеку русской поэзии (ныне находится в московском музее А. С. Пушкина), которой активно пользовался при своих научных разысканиях.3 Недавними публикациями продемонстрирована, хотя и весьма неполно, еще одна сторона его деятельности, развернувшаяся во второй половине 1910-х и в 1920-е (реже в более поздние годы), – собирание разнообразных рукописных и даже устных материалов, которые не могли быть использованы в рамках советской литературной действительности, но осознавались как важная составная часть литературного процесса (см. Летейская 2013: 300-319; Богомолов 2014: 179, 187). Приблизительно с 1913 года в подобном качестве начинает осмысляться и собственный дневник, который Розанов стал вести еще гимназистом, в 1893 г., но делал это довольно эпизодически: встречаются подробные известия о каких-то событиях (например, о поездках за границу), но целые годы бывают пропущены. С 1913 г., хотя все равно неравномерно, дневник ведется значительно подробнее и откровеннее, он фиксирует множество разнообразных событий из жизни литературной Москвы, и в этом качестве представляет серьезный интерес. При этом отношения с Ходасевичем составляют один из нервов этого дневника. 1. 1913-1917 Отсчет ведется от начала февраля 1913 г. К этому времени Розанов уже знал Анну Ивановну Гренцион, будущую вторую жену Ходасевича. Но не только ее упоминание заставляет нас начать рассказ днем ранее личной встречи, но и общая связь событий. Пока еще неведомая нить, ведущая Розанова к новому знакомству, своим началом имеет спектакль в Московском Литературно-художественном кружке, когда силами Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 203 “студии молодых актеров” С. В. Халютиной там была поставлена Незнакомка Блока. Это было одно из первых представление блоковской драмы на сцене (подробнее см. Блок 2014: 503-504). Розанов записывает: 3 февр. Воскр. Вечером с Бэлой в литер<атурно>-худож<ественном> кружке… “Незнакомка” Блока… В публике Брюсов (я с ним говорил о Маркевиче), Никольский (из IV гимн.), Серпинская, Квятковский (уч<еник> из Ж<ивописи> и В<аяния>), Жебровская (от Хвостова) и т. д. Михайловский. Играли плохо… Вещь сама по себе любопытна. [...] Именинниц – Анн (Гренцион) (Иконникова) поздравил 4 по телефону Никольский – по всей очевидности, Петр Никольский, выпускник той же гимназии, которую оканчивал Розанов, учившийся годом его старше. Нина Яковлевна Серпинская (1893-1955) – поэтесса, мемуаристка, ученица Розанова по гимназии Ржевской. Обстоятельства же, упоминаемые здесь, несколько проясняются более поздним рассказом из той же тетради про посещение Брюсова: В прошлом году мне пришлось оказать ему маленькую услугу… Неожиданно является ко мне А. М. Кожебаткин – издатель “Альционы” (я его сначала не узнал, т. к. он, раньше бритый, отпустил усы) и просит на короткий срок одолжить ему для В. Брюсова “Эротическ<ие> стих<отворения>” Маркевича, где много переводов из Парни. Я исполнил эту просьбу. Кожебаткин обещал вернуть книгу через 3-4 дня. Прошло около месяца. Как-то раз я с Б. З. Наркирьер был в Лит<ературно->Худ<ожественном> Кружке на представлении “Незнакомки” Блока. На лестнице встречаю Брюсова. Я спросил его, у него ли мой Маркевич. Он отвечал, что давно вернул ее Кожебаткину и что он, Брюсов, очень благодарен мне за эту услугу. (Там же; Л. 61об-62). Отсюда мы узнаем имя спутницы Розанова в Кружке (хотя никаких дополнительных сведений о ней нам найти не удалось),5 а также суть разговора с Брюсовым. Через издателя Александра Мелетьевича Кожебаткина (1884-1942), который сперва был секретарем издательства “Мусагет”,6 а потом руководил собственным издательством “Альциона”, Брюсов попросил у Розанова книгу: Н. А. Маркевич, Стихотворения эротические. – “Паризина” Байрона, Москва, 1829. Стоит отметить, что в печатном каталоге библиотеки Розанова мы этой книги не обнаруживаем. Вероятно, она понадобилась Брюсову для работы над сборником Французские лирики XVIII века. Сборник переводов, соста- 204 Н. А. Богомолов вленный И. М. Брюсовой; под редакцией и с предисловием Валерия Брюсова (Москва, 1914), куда вошли и переводы из Парни. Знакомство с Ходасевичем оказалось спровоцировано этими разговорами. 4 февр. Понед. После уроков зашел к Кожебаткину за книжкой (Маркевич), видел его жену, к<отор>ая вовсе не показалась мне такой привлекательной, как мне о ней говорили, и познакомился с Влад. Ходасевичем – поэтом. Разговор о конкурсе на стихи – я подсказал ему 2 рифмы: “сеней”, “Евгений” (12 из 14 у него уже были), о редких книжках (Милькеев), о рифмах в польск<ом> языке: Боже, morze, zorze (море, зори), о русских любовь-кровь. Кровь сделала карьеру на любви, по словам Брюсова. О сборн<ике> лирич<еских> стих<отворений> в изд<ательстве> Антика, об автографе мнимом Пушкина (“Евг<ений> Он<егин>” весь, переписан рукой Пушкина и ода “Вольность”, за 50.000). Ушел от Кожеб<аткина> часа в 3. Он дал мне “Orientalia” Шагинян. (3.16. Л. 18 и об) В этой записи примечательно то, что Розанов предстает перед Ходасевичем не только историком литературы, но и поэтом. В 1915 и 1916 гг. он издаст две книги стихов (Лаурин 1915; Розанов 1916), обе тиражом в 100 экземпляров. А Ходасевич через год выпустит в кожебаткинской “Альционе” второй сборник своих стихов – Счастливый домик.7 Но пока что они общаются практически на равных, Розанов не только обсуждает с ним историко-литературные, стиховедческие темы, но и дает советы, как лучше исполнить нелегкую задачу. Что это за задача, догадаться не так легко, но возможно. Ходасевич ищет 14 рифмующихся между собою слов, что может означать только одно: он собирается писать русский вариант старофранцузской баллады, и делает это неспроста. “Общество свободной эстетики” в это время выпустило объявление: ТРЕТИЙ КОНКУРС ОБЩЕСТВА СВОБОДНОЙ ЭСТЕТИКИ ОБЩЕСТВО СВОБОДНОЙ ЭСТЕТИКИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС БАЛЛАД Условия конкурса 1. В конкурсе могут принять участие как члены, так и не члены Общества. 2. Каждому участнику конкурса предоставляется прислать не свыше одной баллады. 3. Баллады должны быть доставлены без подписи, но под девизом. Под тем же девизом, вместе с балладою, должно быть доставлено закрытое письмо, содержащее в себе имя, отчество, фамилию и адрес автора. Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 205 4. “Баллада” разумеется здесь в том смысле, какой придавали и придают этому слову французские поэты. Желательно, чтобы баллада была написана в форме наиболее популярных баллад Франсуа Виллона. Примечание 1. Большинство баллад Фр. Виллона написано восьмисложным стихом (которому по-русски соответствует четырехстопный ямб) в трех строфах, каждая из восьми стихов, с посылкой (envoi) из четырех стихов. Во всей балладе допускаются только три рифмы, расположение которых обычно следующее в каждой строфе – a b a b b c b c, а в envoi – b c b c или – a c a c. Последний стих каждой строфы и последний стих envoi должны быть совершенно тождественны. Примечание 2. Допускаются на конкурс и более сложные формы баллады, напр., со строфами из 10 стихов каждая (при четырех рифмах) и с envoi в 5 стихов, с непременным условием, чтобы в балладе было не более трех строф и одной посылки. 5. Присланные баллады будут рассматриваться Комитетом Общества. 6. Общество ассигнует на выдачу премий за лучшие баллады 100 р., которые, по усмотрению Комитета, могут быть выданы одному лицу или распределены между несколькими (причем наименьший размер премии назначается в 25 р.). 7. Все премированные баллады будут прочитаны на очередном собрании Общества. 8. Авторам не премированных баллад предоставляется на выбор: или взять свои рукописи обратно (вместе с нераспечатанными конвертами, содержащими имя и адрес автора) или предоставить рукописи в распоряжение Комитета, который в таком случае имеет право прочитать присланные баллады (все или избранные) на очередном собрании Общества. 9. Рукописи должны быть доставлены на имя члена Комитета В. Я. Брюсова (Москва, 1 Мещанская, 32) не позже 15 марта с.г. После 21 марта авторам предоставляется в течение 5 дней получить обратно не премированные рукописи. 10. Конкурс будет считаться состоявшимся, если будет доставлено не менее 5 баллад. (РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 9) Через некоторое время членам Общества был разослан и пригласительный билет: Общество Свободной Эстетики Двадцатое собрание О-ва Свободной Эстетики сезона 1912-13 года имеет быть в четверг, 4 апреля, в помещении ЛитературноХудожественного Кружка (Б. Дмитровка, д. Востряковых) 206 Н. А. Богомолов I Программа 4 апреля 1913 года 1. Шотландская народная песня и ее гармонизация. Прочтет гр. С. Толстой. 2. Шотландские народные песни с фортепианным сопровождением гр. С. Толстого. Исполнят А. М. Ян-Рубан и Е. И. Арфина (Аккомпанирует автор) II Будут прочтены баллады, доставленные на III конкурс О-ва. Начало в 9 час. веч. Гости входят по записи гг. членов с платой 50 к. Возобновление членских билетов производится на всех очередных собраниях О-ва у секретаря Комитета. В виду тесноты помещения Комитет просит каждого из гг. членов вводить не свыше двух человек гостей. (РГБ. Ф. 746. Карт. 38. Ед. хр. 60) Лауреатами конкурса стали Е. Сырейщикова, Н. Львова, С. Шервинский и К. Липскеров (Янтарев 1913). Но Ходасевич баллады не написал. Вероятно, свой вариант баллады создал Брюсов, предполагая его прочитать как некий образец (подобным образом он поступил во время подведения итогов конкурса 1912 года, когда заданием было стихотворение на тему пушкинских строк: “А Эдмонда не покинет / Дженни даже в небесах”).8 Более или менее очевидно, что это какая-то из четырех ‘Баллад’, составивших раздел “В старинном замке” сборника Семь цветов радуги, которые все датированы 1913 годом (‘Баллада ночи’, ‘Баллада о любви и смерти’, ‘Баллада воспоминаний’ и ‘За картами’; все – Брюсов 1973: 172-175; помимо баллад в раздел вошла также ‘Секстина’). Сборник лирики – это, несомненно, Русская лирика 1914. Книга стихов М. С. Шагинян (одной из самых блестящих учениц Розанова по гимназии Ржевской; см. Библиотека 1975: 215). Orientalia – по всей видимости, первое издание, выпущенное “Альционой”. Второе последовало в том же году, но в библиотеке Розанова находится именно первое. Как любопытный курьез отметим инскрипт на 4-м издании той же книги: “Навсегда милым и близким / Жанне Евгеньевне и Александру / Мелетьевичу Кожебаткиным / Мариэтта Шагинян / 22-ое ноября / 1920 г. / Москва”.9 Библиографиями сенсационное предложение рукописей Пушкина не зафиксировано, так что это, скорее всего, слух, не дошедший до печати. Наконец, особо следует, как кажется, выделить упоминание книги Евгения Лукича Милькеева (1815-1855), поскольку оно проливает неко- Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 207 торый свет на источники сведений Ходасевича о малоизвестных русских поэтах конца XVIII-первой половины XIX в. Напомним, что в статье ‘Одна из забытых’, посвященной творчеству К. Павловой и опубликованной в 1916 году, он писал: […] так называемых “забытых поэтов” в литературе русской слишком много. [...] [Д]аже те лица, которые интересуются старой поэзией, принуждены по частям удовлетворять свое любопытство, роясь в старинных журналах и задыхаясь в музейной пыли; на то, чтобы ознакомиться с творчеством каждого отдельного поэта, им приходится затрачивать множество времени и труда. Поэтому создаются у нас специалисты “по Милькееву”, “по Попугаеву” и т. д. “Милькеевец” слушает “попугаевца” приблизительно как человека, побывавшего на полюсе. “Попугаевец” так же точно слушает “милькеевца”. (Ходасевич 2010: 192) Теперь почти безошибочно можно сказать, что эти строки восходят к разговорам с Розановым. О том же свидетельствуют вдобавок и воспоминания Розанова о свидании с Брюсовым 21 февраля 1914 г., оставленные в дневнике, когда Брюсов просматривает подаренную ему книгу: “Перед Попугаевым остановился в недоумении: ‘Совсем не знаю’. И спросил меня, что это за поэт” (3. 16. Л. 64об).10 Наше рассуждение подтверждается и дневниковой записью от 8 апреля 1913 г.: “Вечером был у меня Ходасевич (за книжкой Милькеева). Говорил о Ростопчиной, о Игоре Северянине” (3. 16. Л. 39об). Соседство имени Е. П. Ростопчиной с книжкой Милькеева обнажает связь хода мыслей Ходасевича относительно “забытых поэтов”. Игорь-Северянин и его творчество – постоянная тема размышлений и разговоров Розанова конца марта 1913 г., что было связано с его посещением вечера “всeков” и, видимо, с появлением первой большой книги стихов Северянина Громокипящий кубок. Ко времени дневниковой записи Ходасевич уже эту книгу стихов очень доброжелательно отрецензировал (см. Ходасевич 2010: 108-109). Следующая запись относится к известному событию. 5 мая 1913 г. в Россию вернулся К. Д. Бальмонт. В этот день его торжественно встречали на вокзале, а 7 мая чествовали в Обществе Свободной Эстетики, о чем Розанов и пишет: Вечер на Свободной Эстетике. Чествование возвратившегося после 7-летнего изгнания Бальмонта. Опоздал к началу. Бальмонт сам, его жена. Стихи Бальмонта и его манера чтения все те же, что и раньше. В публике здоровался с 1) Филатов 2) Ходасевич, 3) Охримович <так!>, 4) Илья Блох 5) Кожебаткин, 6) Каллаш, 7) Сулханова, 8) учит<ельница> от Рж<евской> Щербакова 9) б<ыв- 208 Н. А. Богомолов шая> уч<еница> Ковальская. Среди футуристов б<ывшая> учен<ица> Михайлова. Была и Серпинская. Выступление Маяковского. (3. 16. Л. 40об) Не обо всех упомянутых Розановым людях мы обладаем какими бы то ни было сведениями, но некоторых знаем. Охримович – это явно Витольд Францевич Ахрамович (псевд. Ашмарин; 1882-1930), литератор, революционный деятель, секретарь издательства “Мусагет”. О докторе Илье Самуиловиче Блохе см. Серпинская (2003), по указателю. Владимир Владимирович Каллаш (1866-1918) – литературовед, фольклорист, библиограф. Среди Михайловых мы знаем Клавдию Ивановну, художницу и владелицу художественного салона на Б. Дмитровке 11, где устраивались выставки левых художников. Однако даты ее жизни (1875-1942) заставляют усомниться, что она могла быть ученицей Розанова. Выступление Маяковского на этом чествовании многократно описывалось мемуаристами (подробнее см. Катанян 1985: 66-67). Ходасевич напечатал статью ‘Привет поэту’ (Ходасевич 2010: 109-111) в день встречи поэта на вокзале. После этого в интересующих нас дневниковых известиях наступает основательный перерыв: лето Розанов проводит в Симеизе, а потом до конца года обращается к дневнику очень редко. Следующие записи о встречах и разговорах с Ходасевичем относятся уже к 1914 году. 21 февраля Розанов был у В. Брюсова, подробно записал свои воспоминания о поэте и о визите к нему, а впоследствии, в переработанном виде, включил в свои мемуары (Розанов 1976). В связи с этим он упомянул и Ходасевича: “[…] я сам бы не мог назвать другого человека, к<отор>ый казался бы настолько компетентным в русской лирике, как В. Брюсов, собиравшийся когда-то писать ее историю и заявлявший об этом печатно на обложке одной из своих первых стихотворных книжек (сообщ<ил> Ходасевич)…” (3. 16. Л. 56об), и далее, передавая их разговор за чайным столом: “[…] о Теплякове сказал Бр<юсов> то, что я уже знал от Ходасевича” (3. 16. Л. 65об). О брюсовском замысле (лишь отчасти реализованном) “Истории русской лирики” см. Гиндин (1970), некоторые сохранившиеся фрагменты – Брюсов (1972). О грядущем ее выходе извещали объявления во втором издании Chefs d’oeuvre и в книге О искусстве. Второе известие расшифровывается воспоминаниями: “[…] Валерий Яковлевич очень бранил Теплякова, на стихотворения которого Пушкин написал сочувственную рецензию” (Розанов 1976: 769). 24 марта Розанов записывает: “Вечером был я у Ходасевича. Получил ‘Счастливый домик’. Разговор о аллитерациях у Пушкина и о реценз<иях> Ахматовой и футуристов” (3. 16. Л. 72). На экземпляре Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 209 своей второй книги стихов Ходасевич написал: “Глубокоуважаемому Ивану Никаноровичу Розанову – Владислав Ходасевич. 1914. Март” (Библиотека 1975: 212). Суть разговора об аллитерациях у Пушкина нам вряд ли удастся понять, но предположить, о каких рецензиях идет речь, – вполне можно. Одна вообще очевидна – это статья или рецензия размером всего в 2 страницы А. Ахматовой ‘О стихах Н. Львовой’ (Русская мысль, 1914, № 1, 27-28 второй пагинации).11 Судьба Львовой глубоко волновала Ходасевича, да и Розанову была небезразлична, о чем он неоднократно писал в дневнике, поэтому разговор был явно не случайным. К тому же в самом конце 1913 и начале 1914 г. Ходасевич последовательно рецензировал брюсовские Стихи Нелли (с упоминанием Ахматовой и Львовой), второе издание Старой сказки Львовой и Четки Ахматовой (Ходасевич 2010: 118-120, 125-128). Что же касается рецензий футуристических, то здесь, вероятно, имелись в виду те, что были помещены в только что вышедшем Первом журнале русских футуристов. Как справедливо отмечено в истории русского авангарда (см. Крусанов 2010: 158), положительно там были оценены только сборники В. Шершеневича и К. Большакова, – тех самых поэтов, о которых несколько позже заинтересованно писал и Ходасевич. Следующая запись связана с хорошо описанным в ряде отзывов вечером Игоря-Северянина 30 марта в Политехническом музее, где Ходасевич прочитал реферат, впоследствии напечатанный под заглавием ‘Игорь Северянин и футуризм’ (Ходасевич 2010: 149-160; отчеты собраны: Крусанов 2010: 108-187). Приводим сразу два связанных между собою фрагмента: 30 Воскр<есенье>. Вечером поэзо-вечер Игоря-Северянина со вступит<ельным> докладом о футуризме Ходасевича. Очень оживленно. Соседка О. А. М. Сидел во 2-ом ряду. В первом Н. А. Кемпе, в третьем Китти Гинер<?>. В фойе встретил Л. Брюсову-Киссин, ее мужа, М. С. Сергеева, З. Е. Модестову, Фишер, Блох, Борман, Ларинского, Ниночку с Молчановой, Белочку Наркирьер, Воробьева, Н. А. Базякину и т. п. Из чтиц хороша была одна Рындина – все остальные читали отвратительно. Сам Иг. Сев<ерянин> оч<ень> некрасив (губы, подбородок), держится как палка, мимики никакой… Читает стихи, растягивая последние стихи перед цезурой и рифм <так!>, как бы цыганские романсы поет. О. А. проводил до дому. 31 Пон<едельник>. Вечером был у Н. А. Баз<якиной>. Хорошо болталось… Делились впечатлениями вчерашнего. Б. призналась, что вчера с Белочкой расхваливали меня… Прочел несколько стихотворений Ходасевича. (3. 16. Л. 72а об-73об) 210 Н. А. Богомолов Из упоминаемых Розановым назовем Лидию Яковлевну Брюсову (в замужестве Киссину, 1888-1964), сестру В. Я. Брюсова, химика, и ее мужа Самуила Викторовича Киссина (псевд. Муни; 1885-1916), литератора, ближайшего друга Ходасевича. Михаил Сергеевич Сергеев – коллега Розанова по гимназии Хвостовой, преподавал также в гимназии Алферовой. Был женат на Татьяне Михайловне Багриновской (18921959), хорошо знакомой Розанову. 12 Фишер – то ли Владимир Михайлович (1885- до 15 декабря 1940), преподаватель литературы в гимназии А. Е. Флерова, переводчик, автор учебника по истории русской литературы, погибший в немецком концлагере, то ли его жена. Альвина Эдуардовна Борман служила в гимназии Ржевской вместе с Розановым. Надежда Алексеевна Базякина в справочнике Вся Москва числится как домашняя учительница, живущая по адресу: М. Харитоньевский, 9. Вероятно, ее можно отождествить с автором технических брошюр по очистке сточных вод Н. А. Базякиной (1887-?). Согласно отчетам, на вечере стихи Северянина читали В. Н. Ильнарская, Л. Д. Рындина, Л. В. Селиванова и М. Н. Морская. Из них известны Вера Николаевна Ильнарская (урожд. Ильинская, 1880-1946) и Лидия Дмитриевна Рындина (наст. фамилия Брылкина, 1883-1964), жена поэта и издателя С. А. Соколова (именно его издательство “Гриф” и выпустило Громокипящий кубок), адресат многих стихотворений Северянина. Отметим, что Северянин интересовал Розанова по крайней мере с марта 1913 года, когда он записал: “22 марта. Пятн<ица>. Читаю Игоря Северянина, к<отор>ый рядом с безвкусицей (груди нежные, как дюшес) дает много яркого и удачного” (3. 16. Л. 36 и об). И потом в конце марта и начале апреля он то и дело упоминает Северянина как фигуру самой актуальной литературной действительности. 18 апреля телефонный разговор был связан с работой Ходасевича над статьей ‘Игорь Северянин и футуризм’, где читаем: “Совершенно футуристический глагол ‘перекочкать’ встречаем в послании Языкова к Гоголю: ‘Я перекочкал трудный путь’” (Ходасевич 2010: 156). Это строка – цитата из стихотворения Н. М. Языкова ‘Николаю Васильевичу Гоголю’ (1841; Языков 1988: 331). В дневнике записано: “По телефону звонил Ходасевич – о стихе Языкова (к Гоголю), где встречается ‘перекочкать’” (3. 16. Л. 85об). Через два дня последовала одна из наиболее подробных и важных для творческой биографии Ходасевича записей, посвященная отношениям с В. Я. Брюсовым и вообще личности старшего поэта. Вот она: 20 Воскр<есенье>. Утром звонок от Н. А. Баз<якиной>. Совесть ее замучила. Был у нее до 5 час. Еще звонки от Сперанского В. Д. и Ходасевича. В 7 час. у меня был Ходасевич (говорил о натянутых отношениях с Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 211 Брюсовым). Ход<асевич> имел неосторожность <сказать>, что повесть, прочитанная Брюсовым, ему не понравилась: слишком много банальных и шаблонных фраз. Бр<юсов> резко повернулся и ушел. Затем, когда (другой раз) Брюсову хотелось прочесть свои стихи, он стал подговаривать других, чтобы они попросили читать стихи Вяч. Иванова, Вяч. Ив<анов> обещал, сказавши: только если будешь читать ты и Ходасевич. Это Бр<юсова> взорвало. Когда Ходасевич читал свои, Бр<юсов> бросил: “проза!”, было шумно и его не слышно; тогда он повторил еще громче: “Проза, говорю я!” Повредил Вяч. Иванов Ходасевичу и тем, что в речи Брюсову все время хвалил Ходасевича. Брюсов любит только себя. Он страшно мстителен и злопамятен. Но и его можно купить упорной и продолжительной лестью. Этого достигли два человека: Гумилев, к<отор>ого Бр<юсов> хвалил, пока тот увивался у Бр<юсова> и льстил, и теперь Шершеневич, очень ловкий и тонкий политик. С. Соловьев же, который в своей книжке превознес Брюсова, был им все-таки обруган. Ходасевич ждет, что и его Брюсов скоро выругает в рецензии. [...] По словам Ходас<евича>, у него есть корректурный лист одной статьи о Брюсове, данной на просмотр Брюсову, где Б<рюсов> собственноручно слово “талантливый” (в приложении к нему – Брюсову) заменил на “гениальный”. Бальмонт также обижается, когда его называют “талантливым”. Сам Ходас<евич> о своей второй книжке “Сч<астливый> домик” очень высокого мнения… Отзыв Садовского его возмутил: тот хотя и хвалит, но как бы хлопает его по плечу, как равного. Отзыв Георгия Чулкова был неприятен, “лучше бы он меня разругал”, т. к. Г. Чулк<ов> не понял того, что вторым отделом книги как бы зачеркивается первый, и говорил главным образом о стихах первого отдела… Говорил о сборнике гимназистов Кузиса, Миронова, Фохта. “Не такие-то уж я плохие стихи пишу теперь”, – сказал Х<одасевич> скромно (ждал, что я буду восхищаться – реплика не удалась… я молчал и слушал), – а когда я был гимназистом, то писал вроде вот этих, и он показал на книжку Кузиса и др… Рассказывал еще о Игоре Северянине, о его поездках с Маяковским, о его нужде… Ушел, попросивши у меня несколько сборн<иков> стихотворен<ий> для своего сборника. (3.16. Л. 86об-88) В качестве фактологического комментария сообщим: Виктор Дмитриевич Сперанский – педагог, автор книг об изучении литературы. Сборник гимназистов – книга: Первые песни: Сборник стихотворений, Ю. Кузис, А. Лобанов, Е. Миронов, В. Фохт, Москва, 1914. О столкновениях Ходасевича с Брюсовым, как они описаны здесь, у нас сведений нет. Но все же Счастливый домик Брюсов рецензировал кратко и в общем положительно (см. Брюсов 1990: 447-448). Стоит отметить, что рассказанное Ходасевичем противоречит позднейшей 212 Н. А. Богомолов оценке самого Розанова, в которой Ходасевич определен как литератор брюсовского лагеря: “[…] из стана Брюсова памятна, вероятно, еще более резкая статья Ходасевича против Айхенвальда о “пересахаренном Пушкине” (Розанов 1976: 763). О похвалах Вяч. Иванова в свой адрес Ходасевич писал Б. А. Садовскому 23 февраля 1914 г. (Ходасевич 1996: 345). Точнее, к сожалению, их определить возможности у нас нет. Отношения Брюсова с Гумилевым разобраны не раз (см. прежде всего: Тименчик, Щербаков 1996: 400-411). Основную их линию Ходасевич определяет верно: до 1912 г. Брюсов поддерживал младшего поэта, однако появление акмеизма привело к его резкому недовольству, отразившемуся в печатных отзывах. Первые, доимажинистские сборники стихов В. Г. Шершеневича регулярно заслуживали от Брюсова похвалы. Говоря о С. М. Соловьеве, Ходасевич явно имеет в виду его предисловие к книге стихов Цветник царевны, где автор писал: “[…] мнение Брюсова всегда мне дорого как мнение моего любимого поэта и учителя” (Соловьев 1913: IX). Печатный отклик Брюсова на эти строки нам неизвестен. Отзывы на Счастливый домик см. Садовской (1914); Чулков (1914). Самому Садовскому Ходасевич писал: “Спасибо за добрые слова, но, по совести говоря, Вы сделали меня лет на 7-8 моложе, погладили по головке” (1996: 345-346), а Чулкову более развернуто (19961997, 4: 389). Нынешняя публикация, как кажется, показывает, что рассуждения Ходасевича в этом письме о рецензии В. Пяста – на самом деле “выговор” Чулкову. О поездках Северянина с Маяковским см. Крусанов (2010: 380-394). Сборник здесь – конечно, уже упоминавшаяся выше Русская лирика. 21 апреля речь идет не о самом поэте, а о его первой книге: “Хотел купить ‘Молодость’ Ходасевича – пожелтевший экземпляр. Поэтому не взял. Обещали приготовить другой” (3. 16. Л. 88 и об). Чрезвычайно существенна запись от 7 мая. Мы не можем говорить с полной уверенностью, но весьма возможно, что это та самая встреча, которая описана Б. Л. Пастернаком: “Я увидал Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направленью к Страстному.”13 Вот что сохранилось в дневнике: “На Тверск<ом> бульваре еще компания с Ходасевич<ем>, его женой, Маяковским (сидели за столиком). Ходас<евич> разговорился” (3. 16. Л. 93). Наконец, последняя запись о Ходасевиче этого года (с началом войны Розанов прекращает вести дневник на довольно долгое время), датирована 11 мая: Утром у меня был Ходасевич. Взял Сурикова. Говорили о влиянии Лерм<онтова>, о отношении детей к поэзии и т. д. Он рас- Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 213 спрашивал, какие влияния я могу отметить в его книжке ‘Счастл<ивый> домик’ – Пушкина! – ответил я. – Ну, Пушкин это общее достояние и из него нельзя не заимствовать, а еще? Я указал, что при чтении некоторых стихов мне припоминался Блок и Брюсов. С влиянием того и другого в указанных мною местах он не согласен. Говорил о заимствованиях у Тютчева, Боратынского и Вяземского в поэзии Пушкина и о своем стихотворении ‘Ситцевое царство’. (3. 16. Л. 94 и об) Отметим, что среди бумаг Розанова сохранился беловой автограф не включавшегося Ходасевичем в книги “военного” стихотворения “У людей война. Но к нам в подполье…” с небольшими разночтениями по сравнению с печатным текстом (Аполлон, 1914, № 10, 8-9). Автограф датирован сентябрем 1914 г. (52. 32. Л. 1-2). В 1915 г. дневник возобновляется, и сразу же в нем появляются упоминания о Ходасевиче. 5 января: “По телефону говорил с [...] Ходасевичем” (3. 16. Л. 108об). На следующий день запись несколько более содержательная: “Днем был у меня Ходасевич. Говорил о Ростопчиной и ее муже, о Стражеве, Высоцком и Пуцято (ну, публика!) и т. д.” (3. 16. 109). Содержание беседы восстанавливается (хотя, конечно, и не в подробностях) довольно легко. Разговор о Ростопчиной был, видимо, связан с тем, что Ходасевич начинал переделку своей старой статьи о ней (опубликована через год: Русская мысль, 1916, № 1).14 Второй разговор относился к событиям сравнительно недавнего времени: Виктор Иванович Стражев (1879-1950), поэт, впоследствии педагог, литературовед, был достаточно хорошо известен в московском литературном кругу. В 1910 г. его гражданская жена О. Ф. Путята-Руссиновская (в некоторых источниках – Пуцято), уже разоблаченная Л. П. Меньщиковым, призналась В. Л. Бурцеву, что была агентом Охранного отделения и муж об этом знал. Газета Русские ведомости сообщила об этом, после чего Стражев потребовал разбирательства. Третейский суд состоялся весной 1911 и признал Стражева невиновным.15 Переводчик с польского Владимир Высоцкий был ее мужем (также гражданским) до Стражева. Следующие две записи фиксируют мимолетные контакты: “30 <января.> Пятн<ица>. Вечером ко мне позвонился Ходасевич, пригласил к себе, а я и сам собирался. 31 <января> Суббота. Вечером на Игоре Северянине. Поэзовечер. [...] Лекция С. Рубановича – бледно! [...] Впечатление от поэзовечера – слабо! Днем в этот день получил приглашение на вечер литературный к Герцык, а я и сам собирался звонить, как накануне Ходасевичу” (3. 16. Л. 114). О поэзовечере Северянина в Большой аудитории Политехнического музея подробнее см. Крусанов (2010: 531-534). Вечер у какой-то из сестер Герцык (Аделаиды или 214 Н. А. Богомолов Евгении), с которыми Розанов был знаком еще с давних пор, по крайней мере с 1895 года, состоялся 1 февраля и кратко зафиксирован в дневнике: “Вечер у Герцик <так!>. <М. О.> Гершензон с женой, Майа <Кудашева>, <С. Н.> Булгаков, <В. Ф.> Эрн, Ю. Верховский, Вяч Иванов, Марина Цветаева, Крандиевская Нат<алья>, Софья Яковл<евна> Парнок и т. д.” (3. 16. Л. 114об). Фрагмент от 5 февраля связан с довольно примечательным событием, о котором Ходасевич писал Б. А. Садовскому: “Только что послал с Рубановичем и Липскеровым коллективное заявление в Эстетику. Нас обидели, заставив в прошлый четверг писать стихи, а после нас выпустив Маяковского и Зданевича. [...] Будем требовать публичного извинения” (Ходасевич 1996: 349; подробное изложение всей истории см. в комментарии И. П. Андреевой: там же, 406-408, а также – Муни 1999: 355-358). У Розанова читаем: 5 Четверг. Вечером вечер свободной эстетики. Там первая меня узнала и сама заговорила со мной г-жа Брюсова. – Долгий разговор. – Затем В. В. Васильев, Ходасевич с женой, Серпинская, Там<ара> Бороздина. Читали стихи С Рубанович из Бодлэра Липскеров из Саади (Турк<естанские> стихи) (особым восточным напевом. Довольно однообразным). Ходасевич. Никто особенного успеха не имел. Затем футуристы. Зданевич и Маяковский, к<отор>ый по адресу Зданев<ича> сказал: “Мне эта гортанная ерунда надоела. Я теперь пишу хорошие стихи” и прочел “Наполеон и я”. Хотел читать “Мама и убитый войною вечер”. Но сорвали… Вышел с Брюсовой и Серпинской (3. 16. 115 и об). Иоанна (Жанна) Матвеевна Брюсова (урожд. Рунт; 1876-1965) – жена В. Я. Брюсова, находившегося в то время в Варшаве в качестве военного корреспондента. О Василии Васильевиче Васильеве известно только из мемуаров С. Д. Спасского: Другой кружок [...] был беспорядочен и стихиен. Проходной двор, гостиница, открытая всем. Квартира в московском “небоскребе”, что и сейчас торчит, как зуб, в Большом Гнездниковском. Хозяин квартирки, Василий Васильевич, давно умер от туберкулеза. Слабохарактерный и трогательный человек, днем он где-то преподавал литературу. [...] Поэты сваливаются к нему беспрестанно. Однако все же выделен день, когда сборища считаются законными. [...] Но случайно к Василию Васильевичу забрела футуреющая молодежь. [...] Безыменные, яростные футуристы превратили жилье Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 215 Василия Васильевича в свой штаб. Притащили они и сравнительно старших – Шершеневича и приехавшего в Москву Асеева. [...] Устраивались внезапные доклады, стихи читались бессистемно, но горячо. Хозяин не вмешивался ни во что. (Спасский 1940: 43-45) Об одном из таких вечеров см. ниже. Семен Яковлевич Рубанович (1888-1930) – поэт, переводчик. Константин Абрамович Липскеров (1898-1954) – также поэт и переводчик, с которым Ходасевич дружил, обменивался шуточными стихами (Ходасевич 1989: 258) и рецензировал первую книгу его стихов Песок и розы16 (Ходасевич 2010: 207-208). О “восточном напеве” его чтения И. М. Брюсова писала мужу: “Читал Липскеров монотонно, как музыка древних (как я себе ее представляю)” (1996: 406). Илья Михайлович Зданевич (в эмиграции публиковался под псевд. Ильязд; 1894-1975) – поэт, прозаик, драматург, теоретик авангарда. Стихотворения Маяковского точно называются ‘Я и Наполеон’, ‘Мама и убитый немцами вечер’. Следующие фрагменты дневника не слишком информативны. Таковы: “25 <февраля>. Среда. Достал Мицкевича. Разг<овор> по тел<ефону> с Ходасевичем” (3. 16. Л. 120);17 “5 марта. Четверг. Разговор по телефону с Васильевым, Любочкой, Ходасевичем” (3. 16. 121об); “8 марта. Воскр<есенье>. Хотел было прийти и Ходасевич, но потом по телефону сообщил, что у него разболелся зуб” (3. 16. 122об-123). Несколько более развернута информация в записи от 12 марта. Накануне Розанов прочитал реферат ‘Вяземский и Пушкин’ (Розанов 1915), и Ходасевич тут же на это отреагировал. “12 марта. Четверг. Вечером в четверг к Ходасевичу. Реферат мой ему чрезвычайно понравился. Сообщил, что наслышан уже о нем от Карповича (единств<енный> человек, к<отор>ого я не знал из присутствовавших). Прочел начало своей статьи о Ростопчиной. Указывал<?> ошибки Абрамовича” (3. 16. 123об-124). Упоминаемый здесь Михаил Михайлович Карпович (1888-1959) – историк, секретарь Российского посольства в США, впоследствии профессор Гарварда. Состоял с Ходасевичем в переписке (его письма – РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 65; послереволюционные письма Ходасевича – Oxford Slavonic Papers, 1986; Vol. XIX; публ. Дж. Малмстада и Р. Хьюза). “Ошибки Абрамовича” – видимо, имеется в виду раздел “К. Павлова и гр. Е. П. Ростопчина” в недавно вышедшей его книге (Кадмин 1914). 23-24 марта Розанов повествует о театральных разговорах: “По телефону весело говорил со многими: А. П. Мюллер (приглашала на ‘Толедо’), Ходасевич (представил мне по телефону Станиславского в роли Сальери, много рассказывал), О. А. Мюллер (о ‘Кривом Зеркале’)” (3. 16. 125об-126). “Толедо” – пантомима М. А. Кузмина Духов день в Толедо, поставленная 23 марта в Камерном театре (режиссер А. Я. Таи- 216 Н. А. Богомолов ров). “Кривое зеркало” – известный театр Н. Ф. Балиева, с которым Ходасевич часто сотрудничал. Наконец, Сальери – последняя роль К. С. Станиславского в неудачном спектакле МХТ Маленькие трагедии. Премьера состоялась 26 марта, так что Ходасевич, очевидно, был на генеральной репетиции. Потом следуют опять две малозначительные записи: “30 <марта>. Пон<едельник>. Вечером ждал звонка. Но не без удовольствия остался дома. Звал Ходасевич – тоже не пошел” (3. 16. Л. 128). “21 сент<ября>. Понед<ельник>. Вечером добился по телеф<ону> Ходасевича” (3. 17. Л. 27). Но зато 23 сентября, после визита к Ходасевичу Розанов занес в дневник важные подробности: “Вечером был у Ходасевича: он прочел мне два стихотворения, в первом, ‘Моисей’, ошибка против библии. Во втором образ – рискованный на общем сухом и строгом фоне стихотв<орения> – ‘русалочка, влекущая на дно’” (3. 17. Л. 27об). Над стихотворением ‘Моисей’ Ходасевич работал долго, с 1909 года, и завершил его лишь 30 мая 1915 г. “Ошибка против библии”, о которой пишет Розанов, состоит в том, что согласно Писанию Моисей иссек воду из скалы по воле Божией и вовсе не был покаран “за подвиг богоравный” (Исх. 17:1-6). Возможно, именно по этой причине стихотворение, вполне законченное, не было опубликовано при жизни поэта. Стихотворение ‘Уединение’ (1915) первоначально заканчивалось строками: “Русалочка, влекущая на дно, / Ты погуби меня, уединенье!”, которые были изменены (возможно, под влиянием мнения Розанова) на: “Про моряка, упавшего на дно, / Ты песенку мне спой – уединенье!” (Ходасевич 1989: 382, 123). Не менее содержательна, хотя и по-иному, страничка, посвященная событиям 7 ноября: Плохая погода… По возвращении с субботн<их> уроков читал “33 урода” – книжку, к<отор>ую мне дала Т. М. Звонила Дугачева – просила книжек по Тургеневу. Попросил позвонить завтра в 5 ч. Затем меня пригласил к себе Ходасевич… Когда уже уходил, опять звонок: приглашает к себе Цявловский. Решил идти к первому. У Ходас<евича> показывал альбом Штакеншнейдер. Были 1) Карпович, который, очевидно, хотел со мной познакомиться, т. к. ему очень понравился прочитанный мною реферат о Вяз<емском> и Пушк<ине>, о чем он еще весною говорил Ходасевичу. 2) Влад<имир> Герасим<ович> Терентьев об автографах. Его брат Игорь – поэт. Пишет поэму. Прислал письмо с Кавказа. После их ухода еще сидел. Говорили об оценке армян<ами> своей поэзии, о рус<ской> поэзии с точки зрения эволюции вкусов в напитках. О “последн<ем> спутнике <?>” и о Блоке… Блок моцартее всех. Просидел до 1 ч. дня (3. 18. Л. 18). Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 217 ‘Тридцать три урода’ – повесть Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (СанктПетербург, 1907), вызвавшая в свое время сенсацию. Т. М. – видимо, Татьяна Михайловна Сергеева, о которой см. выше. Дугачева – бывшая ученица Розанова; возможно, отождествима с Анной Федоровной (18961978), впоследствии искусствоведом, сотрудницей Литературного музея. Мстислав Александрович Цявловский (1883-1947) – пушкинист (к слову сказать, его высоко ценил и состоял с ним в переписке Ходасевич). Альбом Штакеншнейдер – имеется в виду литератор и мемуаристка Елена Андреевна Штакеншнейдер (1836-1897), дневник и записки которой Розанов впоследствии издал (см. Штакеншнейдер 1934). Ее альбом ныне находится в РГАЛИ (Ф. 923. Оп. 1. Ед. хр. 2). О М. М. Карповиче и его интересе к реферату Розанова см. выше. О В. Г. Терентьеве (1894-1968) см. Терентьев (1995: 545). Его присутствие не было случайным, т. к. он приходился Карповичу шурином. Игорь Герасимович Терентьев (1892-1937) – поэт, тогда традиционный, впоследствии заумник, член тифлисской футуристической группировки “41º”, театральный режиссер. О его отношениях с Ходасевичами см. Ходасевич (1996b: 402-403). Разговоры об армянской поэзии явно связаны с работой Ходасевича над переводами для брюсовской антологии Поэзия Армении (Москва, 1916). Последний спутник (если мы верно прочитали эти слова) – роман С. А. Ауслендера (Москва, 1913), имеющий прототипическую основу: отношения автора романа, Брюсова и Н. И. Петровской. Ходасевич также выведен в романе. Далее до конца 1915 года записи не слишком интересны и будут существенны лишь для будущей летописи жизни и творчества Ходасевича. Однако процитируем их. “12 <ноября,> четв<ерг>. Вечером звонил Ходасевич, обещал прислать свою ‘Рус<скую> Лирику’, а жена его просила меня одолжить ей сочинения Елизаветы Кульман” (3. 18. Л. 25). “4 <декабря>. Ходас<евич> звал к себе, сообщил о вечере в ‘Свободной Эстетике’, где читал Юр. Верховский о поэтах пушкин<ской> эпохи и возражал Шершеневич.18 Но к Ходас<евичу> не пошел: поздно” (3. 18. Л. 51). “20 дек<абря>. Днем у меня был Ходасевич. Читал свои стихи и взял Мицкевича” (3. 18. Л. 62). “22 дек<абря>. Вечером у Борич<евского> заседание. Чтение статьи Чудовского о ритме ‘Евг<ения> Он<егина>’ Были: Борич<евский>, я, Борис Грифцов и Фишер. Ходас<евич> и Майгур отсутствовали. Возвращался с Грифцовым, о журнале, о Брюсове, о В. Иванове” (3. 18. Л. 62об). “29 <декабря>, вторн<ик>. Вечером у Ходасевичей. Вл. Фел. в претензии, что я не показываю ему своих стихов, а он подозревает, что я пишу. А. И. об альбоме и просьба написать… Слушал чтение стихов его и ее. Вернулся поздно в 2 ч<аса> н<очи>” (3. 18. Л. 65). 218 Н. А. Богомолов Внесем некоторые пояснения. Сборник Русская лирика (о котором см. выше) ныне в библиотеке Розанова не числится. Он вышел с большим опозданием, только в ноябре 1915 г., поэтому не удивительно, что Ходасевич говорит о нем. Ср. в дневнике 30 ноября: “Днем писал еще рецензию на ‘Рус<скую> Лир<ику>’ Ходасевича” (3. 18. Л. 87). Эта рецензия нам неизвестна. Доклад Ю. Н. Верховского – вероятно, какойто вариант его предисловия к сборнику Поэты пушкинской поры (Верховский 1919; отзыв см. Ходасевич 1999: 98-99). Стихи А. Мицкевича Ходасевич начал переводить в октябре 1915 г. Какое именно издание польского поэта (о котором Розанов говорил ранее) он взял, мы не знаем. Евгений Иванович Боричевский (1883-1934 или 1935) – литературовед, в конце 1910-х и начале 1920-х годов близкий друг Розанова. Здесь идет речь о предприятии, так описанном в хронике: “В 1915-1917 гг. cуществовал в Москве ‘Пушкинский кружок’ историков литературы. В него входили: Б. А. Грифцов, И. Н. Розанов, В. М. Фишер, К. Г. Локс, Е. И. Боричевский, П. И. Майгуто <так! Следует читать: Майгур>. На собраниях бывали: В. Ф. Ходасевич, М. А. Цявловский, Д. С. Дарский. [...]. Когда в 1919 г. возник Пушкинский семинарий Вячеслава Иванова, часть членов, например, Е. И. Боричевский, ныне профессор Минского университета, и И. Н. Розанов, приняли в нем деятельное участие” (Хроника 1924: 319-320; в примечании сказано: “Сообщено И. Н. Розановым”). Ходасевич не был зачислен в члены кружка автоматически. См. запись Розанова от 14 ноября: “Пошел я к Борич<евскому> в 7½ веч. Там уже, кроме хозяина, Майгур и Фишер. [...] Вопрос о привлечении Ходасевича и Б. Грифцова” (3. 18. Л. 45). Статья Валериана Адольфовича Чудовского (1882-1937) – только что появившееся его выступление в Аполлоне (Чудовский 1915: 55-95). Борис Александрович Грифцов (1885-1950) – филолог, переводчик. Петр Иванович Майгур (ум. 1931)19 – филолог, преподаватель гимназии Ржевской, обозреватель русской прозы в газете Утро России. Альбом А. И. Ходасевич ныне находится в РГАЛИ. Автографов Розанова там нет. Стихи А. И. Ходасевич (под псевд. София Бекетова) изредка публиковались в альманахах эпохи. Изложение событий начала 1916 года продолжает фиксировать события, связанные все с тем же Пушкинским кружком, поэтому мы помещаем их рядом, давая общий комментарий. 9 янв<аря>. Суббота Вечером должно было быть заседание Пушкин<ского> кружка у Майгура – его доклад “Три лика Петра”. Ради этого я вызвал Ходасевича. Он, несмотря на головную боль, обещал заехать за мной. Приходила Мария Леонтьевна за книгой. Ходасевич явился несколько раньше, чем обещал. Звонок от Майгура – Б. Грифц<ов> Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 219 и Фишер быть не могут – предлагает отложить на следующ<ее> воскр<есенье> в 5½ ч. д. (через неделю). Ходасевич остался у меня. Говорили о статье Анненского в “Аполлоне”, о стихах Керубины, об ассонансах, читал свои стихи “За окном ночные разговоры” и перевод из латыш<ского> поэта. (3. 18. Л. 73об-74) 17 Янв<аря>. Воскр<есенье>. Вечером заседание Пушк<инского> кружка (в 5½ ч.) у Майгура. “3 лика Петра”. Были, кроме хозяина, Борич<евский>, Грифцов, Ходасевич, Фишер и я. Реферат слаб. Говорили еще о силлаб<ическом> стихосл<ожении> и цитировали итальян<ские> (Грифцов) и польские (Ходас<евич>, Фишер) стихи. Вышли в десятом часу с Ходас<евичем> и Фишером. С последним на одном трамвае Б. Фишер читал свои стихи. (3. 18. Л. 77об-78) Публикация доклада П. И. Майгура в пушкинских библиографиях 1910-х-1920-х годов не зафиксирована. Мария Леонтьевна – вероятно, сестра литературоведа Н. Л. Бродского. Статья Анненского в Аполлоне – ‘О современном лиризме’ (Аполлон, 1909, № 1-3). Керубина – без сомнения, Черубина де Габриак, большая подборка стихов которой была напечатана во втором номере Аполлона.20 Стихотворение, которое Ходасевич читал, было написано 1 января 1916 г. и к моменту разговора еще не напечатано (впервые – Утро России, 1916, 12 февраля). Для Сборника латышской литературы (Петроград, 1917) Ходасевич перевел 6 стихотворений пяти поэтов, о каком именно идет речь – мы не знаем. 9 ноября 1915 г. он писал Б. А. Садовскому: “Брюсов засадил меня переводить латышских поэтов. Ерунда сплошная. Перевожу только для того, чтобы не говорили, будто я лентяй” (Ходасевич 1996: 352). Трамвай “Б” ходил по Садовому кольцу (которое тогда еще не было замкнуто). 27 января Розанов фиксирует известие из сферы вовсе не литературной: “Звонила и звала к себе г-жа Ходасевич. Сообщила о Серпинской, что та флиртовала с Б. Садовским” (3. 18. Л. 84об). Справедливость известия подтверждается тем, что в письмах Ходасевича и его жены к Б. А. Садовскому фамилия Н. Я. Серпинской появляется неоднократно. См. также: Серпинская (2003: 92). Следующая запись полностью нами недавно опубликована (см. Богомолов 2015а), поэтому целиком воспроизводить ее не имеет смысла, мы сохраняем только то, что относится к Ходасевичу и его жене. 30 янв. Суббота Вечером мне звонил Ходасевич (о своем переходе из “Рус<ских> Вед<омостей>“ в “Утро России” и о вечерах у Васильева… Супруга его стала звать туда) [...] Некоторое время 220 Н. А. Богомолов был в нерешительности, идти ли на вечер к Васильеву, к<отор>ый должен читать “Лоза над ‘Зеленой улицей”’ и о ненужности критики. Все-таки пошел к половине десятого. Довольно много народу. Ко мне подошел хозяин и заявил, что я могу не здороваться, кого не знаю. А я, кроме хозяина, знал только А. И. Ходасевич. Я вошел в комнату. Десятки глаз испытующе впились в меня. Я подошел поздороваться к А. И. Ход<асевич>. Рядом с ней на диване, куда набилось много народу, сидел какой-то высокий офицер… Я несколько времени помялся посреди комнаты. Хозяин предложил мне стакан чаю, и я уселся за стол. Стал перелистывать сборник “Зеленая улица”… В 10 ч. началось чтение реферата Вас<ильева> о критике: бледно и банально. Интереснее стало, когда в связи с указанием недостатков в книге “Зел<еная> Ул<ица>”, сделанным <так!> Васильевым, заговорил Шершеневич. Это и был тот офицер, котор<ый> сидел рядом с А. И. [...] Кроме того, были тут поэты – некоторым из них предлагали читать [...] 5) Конст. Большаков – ни одного слова его не слыхал. Он был все с А. И. Ходас<евич>. Я его не узнал. Видел у Фрейберг несколько лет назад, он еще был гимназистом. Теперь он показался мне сильно вытянувшимся и грузнее. [...] 9) Ел. Бекетова, т. е. А. И. Ходасевич. С ней я в конце вечера разговаривал. Она рассказывала о попытке самоубийства хозяина по эпикур<ейскому> способу (в ванне), затем о ряде попыток самоубийства ее самой. Первый раз 13 лет, когда узнала, в чем заключается брак, затем о своих истериках, о том, что предпочла бы умереть и сейчас, если бы не сын, Гаррик, о том, что Владя дал спокойствие ее тревожно мятущейся душе, но последние дни опять со дна души встает то тяжелое, неудовлетворенное… Вы бы меня поняли, если бы знали лучше мою жизнь. (3. 18. Л. 86об-87, 89об-91) В качестве комментария предлагаем следующие сведения. Первая публикация Ходасевича в газете Утро России появилась 30 января 1916 г. 26 февраля он писал Б. А. Садовскому: “Я ушел из ‘Русских ведомостей’, где занимаются литературой, когда есть свободное время. Ушел, ибо ‘Утро России’ меня сманило. Теперь ведаю там критику стихов самодержавно и в очередь с Брюсовым пишу о театре” (Ходасевич 1996: 354). О В. В. Васильеве и вечерах у него см. выше. Зеленая улица – книга критических статей В. Г. Шершеневича. Поэт (а впоследствии и прозаик) Константин Аристархович Большаков (1895-1938) в это время находился в близких отношениях с А. И. Ходасевич. См. публикацию его писем к ней (Богомолов 2014). Называя псевдоним А. И. Ходасевич, Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 221 Розанов ошибся; видимо, он смешал ее действительный псевдоним “София Бекетова” с время от времени использовавшимся псевдонимом Ходасевича “Елизавета Макшеева”. Гаррик – сын А. И. Эдгар Евгеньевич Гренцион (1906-1957), впоследствии актер. Февральские записи не слишком развернуты, но кое-что в них представляется любопытным. Так, 2 февраля Розанов вносит в дневник: “Мне звонили Дугачева и Ходасевичи, приглашали к себе. Ходас<евич> очень заинтригован был моим рефератом” (3. 18. Л. 93). Этот реферат Розанов написал для заседаний кружка “Девичье поле”, о чем в тетради материалов этого кружка была сделана запись: “Вторн. 2 февраля. Собственный вечер поэтесс. [В д<оме> Князева, у Нат. М. Розановой]. Доклад И. Н. Розанова ‘Три победы русских поэтесс’. 21 Подробнее о кружке см. ниже. 4 февраля происходит встреча: “Вечером у меня Ходасевич. Написал стихи мне ‘Взгляни, как солнце обольщает’. Затем читал переводы из Верхарна Бэра. Вышел вместе с ним, и на Ник<итский> бул<ьвар>” (3. 18. Л. 95). Автограф стихотворения (в первой редакции) сохранился: 52. 33. Л. 17. Борис Владимирович Бер (1871-1921) – поэт, переводчик. Сборник его переложений из поэзии Э. Верхарна вышел в московском издательстве “Задруга” в 1917 году. Видимо, близко стоявший к издательству Розанов имел возможность ознакомиться с переводами еще до того, как они были опубликованы. Ходасевич был в них заинтересован, поскольку получил от В. Я. Брюсова заказ на переводы из Верхарна, из которых нам известен лишь один. 8 февраля следует только косвенно связанная с Ходасевичем запись: “Вечером была у меня (в 1-ый раз) Екат. Мих. Багриновская, принесла поклон от А. И. Ходас<евич>” (3. 18. 98об). Екатерина Михайловна Багриновская (Катишь; 1896-1978) стала переводчицей и литературоведом. Как можно понять из других записей, она очень нравилась Розанову. 19 февраля читаем: “По телефону кроме того говорил с Ходас<евичем:> болен туберкул<езом>? И и <так!> корь у Эдгару <так!>” (3. 18. Л. 104об). Примерно в то же время (22 февраля) Ходасевич писал Б. А. Садовскому: “Нашелся у меня на спине позвонок, который вздумал пухнуть, нашелся врач, пугающий меня туберкулезом позвоночника. Я же врачу не верю, но не унываю и лечусь во всю мочь” (Ходасевич 1996: 353). В приписке к этому письму А. И. Ходасевич говорила: “Сейчас у Эдгара корь” (355). К лету 1916 г. нездоровье Ходасевича дошло до крайней степени: “Дела мои чрезвычайно плохи: у меня туберкулез позвоночника. Надели на меня третьего дня гипсовый корсет, это довольно невыносимо. А придется в нем проходить лет пять, если не помру” (356-357). К счастью, то ли врачи оказались неправы, то ли помогли два лета в Коктебеле: корсет стало можно снять и считать себя практически здоровым. Наконец, 24 февраля: “Когда была у меня Дуг<ачева>, мне 222 Н. А. Богомолов звонил Ходас<евич>, спрашивал совета, как ему быть: ему предложили устроить вечер, посвященный его творчеству. Намекал, что было бы хорошо, если бы я взялся” (3. 18. Л. 107 и об). Сведений о таком вечере у нас нет и скорее всего он не состоялся. Первая мартовская запись про визит к Ходасевичу кратка, но любопытна: “1 марта. После уроков к Ходасевичу за книжкой Моравской ‘На пристани’” (3. 18. Л. 109). Трудно сказать, принадлежала эта книжка Розанову или Ходасевичу. Если второе, это может послужить дополнительным свидетельством о его интересе к польской теме в русской поэзии: совсем недавно он упомянул Моравскую как автора сборника Мы помним Польшу во вполне нейтральном тоне (Ходасевич 2010: 191). Однако нам наверняка известно, зачем книга понадобилась Розанову, так как непосредственное продолжение этой записи таково: “Вечером ‘Девичье поле’ [...] Вечер был посвящен Моравской”. В уже упоминавшейся тетради материалов кружка “Девичье поле” находим кратко сформулированные отзывы участников кружка (в том числе Розанова) о стихах М. Л. Моравской, более развернутую характеристику ее поэзии, принадлежащую В. Любимовой, а также три пародии на ее стихи (см. 53. 44. Л. 5 и об, 6 и об.). См. также комментарий к записи от 30 мая. Следующие два известия любопытны, поскольку сообщают новые факты. 14 <марта> Пон<едельник>. Вечером с Гиней на “Молодых поэтах”. Любовь Столица прочла реферат, “не отягощенный мыслями”. Затем выступили Юрий Верховский – бледно Журин – противен К. Большаков – сам не мог, по-видимому, не смеяться над собой и публикой. Проще, чем можно было ожидать. 22 Хотя… “Звезды натыкаются друг на друга впотьмах”. С. Рубанович читал “Фонтан” и имел, кажется, наибольший успех. Ходасевич – прочел “Ситц<евое> Царство”, о мышах и из Миц<к>евича. Липскеров – читал однообразным заунывным то23 ном, но это подходило к Востоку. (3. 18. Л. 113) Как видим, на этом вечере произошло нечто вроде реванша за неудачный вечер год назад, 5 февраля 1915: выступили те же Ходасевич, Липскеров и Рубанович, а в дополнение – Ю. Н. Верховский, К. А. Большаков (входивший в круг знакомых Ходасевича и получивший от него довольно высокие оценки за свои стихи, несмотря на футуристические их основания), а также совсем забытый ныне поэт Александр Иванович Журин (1878-после 1930). Незадолго до этого высту- Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 223 пления Ходасевич рецензировал вторую книгу его стихов Радостный круг, высказав немало претензий, но заключив в общем вполне ободрительными словами: “Все это – качества немалоценные и встречающиеся не так часто” (Ходасевич 2010: 186). 24 марта Дома опять стало грустно-грустно. Несколько успокоился после разгов<ора> по телеф<ону> с Тат. Мих., к<отор>ая благодарила за записку Общ<ества> Люб<ителей> Рос<сийской> Сл<овесности> на Брюсова (о армян<ской> поэзии). А особенно когда Боричевский по телефону же сообщил мне о том, что прибывают Ходасевичи и что Муни (Киссин) умер. Чужое и большее горе отодвинуло на второй план мое личное. (3. 18. Л. 118) Прибавим к этому незначительное: “31 марта Четверг. Говорил по телефону с Мадатовой и с Ходасевичем” (там же. Л. 120об). Татьяна Михайловна – Сергеева. Видимо, Розанов принес ей разрешение на вход в помещение Общества любителей российской словесности, где 26 марта Брюсов делал доклад о средневековой армянской поэзии. Сообщение о смерти Муни (он покончил с собой в Минске 22 марта 1916 г.) подтверждает предположение И. П. Андреевой о том, что Ходасевич узнал о его смерти с опозданием и запомнил именно его в качестве даты смерти, что потом попало в очерк ‘Муни’ в книге Некрополь (Муни 1999: 21). В начале июня Ходасевич уехал в Крым, и записи Розанова в апреле-мае ведутся уже как бы под знаком грядущего расставания с неопределенным исходом. 8 <апреля.> Пятница Вечером у Ходасевич. А. И. показывала альбом стихов, где уже есть стихи Брюсова и других. Читал В. Ф. мне “Каплю меда” (с армянского). Я прочел свой реферат о “Моц<арте> и Сал<ьери>” (без критич<еских> нелепостей и возражения). Ход<асевич> много спорил, но в конце концов признал, что согласен со мною во всем, кроме некоторых деталей. Ушел в лучшем настроении, чем 2 посл<едних> вечера, но все же сознание, что я вращаюсь во 2 или 3 ряду литераторов… Впрочем, я действительно не хочу популярности и боюсь профессион<ального> писательского клейма. (3. 18. Л. 122об-123) Об альбоме А. И. Ходасевич см. выше, а также: Наумов (1989). ‘Одна капля меда’ – стихотворение О. Туманяна, ставшее именно в переводе Ходасевича классическим для русского читателя. О судьбе ре- 224 Н. А. Богомолов ферата Розанова о ‘Моцарте и Сальери’ у нас сведений нет. Ходасевича он должен был интересовать, т. к. незадолго до того он сам писал о “маленьких трагедиях” (Ходасевич 1915). “10 апр. Воск<ресенье> Пасха. По телефону с Ходас<евичем> о стихах Пушкина, помещ<енных> в ‘Рус<ском> Сл<ове>’” (3. 18. Л. 123). Речь шла о публикации: П. Морозов, ‘Новые стихи Пушкина’ (Русское слово, 1916, 10 апреля, № 83). Было опубликовано 7 стихотворений Пушкина, в основном шуточных и неоконченных. 8 мая. Воскр<есенье>. Все дома. Вечером был у Ходасевича. Застал студента Смирнова, сына В. Зайцевой. Ан. Ив. не было. Ходас<евич> читал свои старые рецензии, говорил о своем здоровьи: ему вспрыскивают туберкулин, о предположениях на лето и о своей предполагаемой книжке стихов. Поздно приехала Ан. Ив., которая провожала сестру в СПб и “Костю Большакова” в Чугуев, поступает в Юнкер<ское> училище. Она была расстроена… И мне стало тяжело. (3. 18. Л. 123об) Алексей Смирнов – сын В. А. Зайцевой от первого брака, расстрелян красными в 1919 г. Судя по различным намекам, у Ходасевича был с В. А. Зайцевой роман. Лето 1916 г. Ходасевич провел в Коктебеле. У нас есть информация о двух готовившихся книгах стихов Ходасевича. В Счастливом домике среди книг “того же автора” значится: “Нож. Третья книга стихов (Готовится)”. А в 1917 г. он напечатал ряд стихотворений под общим названием “Из книги ‘Фарфоровый венок’”. Напомним, что вышедшая в 1918 г. книга была озаглавлена “Путем зерна”. Как следует из этой записи и из писем самого Большакова к А. И., он проходил ускоренный курс в Чугуевском пехотном училище. Сестра Анны Ивановны – Любовь Ивановна Рыбакова (1882-1973). Понедельник 30 мая. Духов день. Вечером у Ходасевича.. Его беспокойство, раздражительность и придавленность в связи с необходимостью выбрать к сроку франц<узскую> книжку для перевода (для Сабаш<никовых>). Посоветовал перевести Стендаля. Затем дважды говорил по телефону с М. С. Сергеевым, узнал, что книга Стендаля “Флор<енция>, Рим и т. д.” – на рус<ский> яз<ык> не переводилась и что он может дать мне самую книжку. Ходасевич после этого успокоился и стал шутить как нормальный. Я показал ему тетрадь “Девич<ьего> поля”. Он похвалил пародию на Моравскую (первую: “Хорошо бы наняться в горничные”). Мне было почему-то грустно, когда я возвращался домой. (3. 18. Л. 143) Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 225 Для издательства М. и С. Сабашниковых Ходасевич перевел оставшиеся неизданными Воспоминания итальянского дворянина Стендаля (РГБ. Ф. 261. Карт. 18. Ед. хр. 4). Книга же, о которой идет речь, точно называется Рим, Неаполь и Флоренция. Кружок “Девичье поле” был создан в 1916 году по инициативе поэтессы, в прошлом курсистки Серафимы Михайловны Мадатовой (1894-1966) и просуществовал под разными названиями до 1919 года. Однако его первый вариант прекратил деятельность 22 мая 1916 г., почему Розанов и решился поведать его историю Ходасевичу. Летопись собраний кружка первого полугодия его работы (которую Розанов, судя по всему, Ходасевичу и показывал) сохранилась. В ней находим три пародии Розанова на М. Моравскую, в том числе и понравившуюся Ходасевичу: 1. На пристани Хорошо бы наняться в горничные: Горничные не так одиноки: Они наряжаются и модничают И с господами уезжают в Териоки. А еще лучше уехать в Польшу: Поляки и польки так изысканны. Притворяться не хочу я больше, Но почему я одна должна быть искренней? (53. 44. Л. 7) Записи осени 1916 и начала 1917 г. находятся уже в другой тетради. Бóльшая часть первых посвящена очень резкому отзыву Ходасевича на второе издание книги Ю. И. Айхенвальда Пушкин (Москва, 1916). Розанов был с Айхенвальдом знаком еще с 1890-х годов и потому не мог оставаться в стороне от этой полемики. Отметим, что впоследствии, в 1920-е годы, отношения Ходасевича с Айхенвальдом нормализовались. Текст рецензии см. Ходасевич (1999: 56-61). 2 окт<ября>. Воскр<есенье>. Днем разговор по телефону с Ходасевичем (рецензия на Айхенвальда, он прочел мне). (4. 1. Л. 28) 16 Воскр<есенье>. Вечером был у Ходасевича. Книга “Аполлона” <?>. Рассказы <?> о Б. Садовском. О стихосл<ожении>. Общее впечатление – среднее. (Там же. Л. 31об) 226 Н. А. Богомолов 18 окт. Вторник. На заседании редакции “Голоса Минувшего”. [...] Рецензия Ходасевича “Сахарный Пушкин” (об 2 изд. книги Айхенвальда “Пушкин”) отклонена. Не понравился тон рецензии. (Там же, Л. 31об-32) 9 ноября. Среда Очень тяжелый день. Но вначале было интересное: во-первых, в “Рус<ских> Вед<омостях>” появилась рецензия Ходасевича “Сахарный Пушкин” [...]. (Там же, Л. 40) 11 ноября. Пятница. С Досей говорил по телефону. Справлялся о ее здоровьи. Она упомянула о рецензии Ходасевича. И когда я сказал, что там много верного, отвечала, чтобы я потише, т. к. она часть возмущения против Ходасевича перенесет на меня. (Там же, Л. 41). 17 ноября. Четверг. Упомянул о “болтовне”. Некоторые, в связи со статьей Ходасевича “Сахарный Пушкин”, могли подумать, что я намекаю на Ю. И. Айхенвальда. (Там же, Л. 43об) Некоторые комментарии. Книга Аполлона – возможно, имеется в виду восьмой номер журнала за 1916 год, где была опубликована репродукция портрета Ходасевича работы его племянницы, В. М. Ходасевич. Разговор о Б. А. Садовском мог быть связан со многими скандальными событиями двух последних лет: книгой Озимь, где Садовской резко выступил против В. Я. Брюсова и его “оруженосцев”, в том числе находившегося на фронте Н. С. Гумилева; с полемикой Садовского и А. И. Тинякова; наконец, с новой его книгой Ледоход, о которой Ходасевич писал автору: “Книга приятная, но кое-каких заметок я бы в нее не включал. Лермонтов, Фет и… Ауслендер. Не стоило” (Ходасевич 1996: 357). Голос минувшего – “журнал истории и истории литературы”, выходил в Москве в 1913-1923, потом был возобновлен в эмиграции под названием “Голос минувшего на чужой стороне”. Отличался внешней академичностью. Дося – так Розанов называл Евдокию (Евдоксию) Федоровну Богушевскую (урожд. Плотникова, во втором браке Никитина; 1895-1973), впоследствии прославившуюся как создательница “Никитинских субботников”. Как раз в это время Розанов был в нее влюблен. 8 декабря находим запись, позволяющую внести коррективы в хронологию работ Ходасевича: “Вечером у меня Аня Мартынова и Ходасевич. Последний читал свои ‘Египетские ночи’” (4. 1. Л. 50об). Статья ‘Египетские ночи’, посвященная брюсовскому опыту окончания пушкинского произведения, была опубликована в 1918 г. и согласно Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 227 наиболее авторитетному на нынешний день изданию этим годом и датируется (см. Ходасевич 1999: 65-75). Однако трудно себе представить, чтобы у Розанова читался совсем уж черновой текст; стало быть, в декабре 1916 г. статья уже существовала. Дневник 1917 года сохранился только до фиксации событий Февральской революции, и записей о встречах с Ходасевичем там не так много. 24 января читаем: “Вечером лекция Андрея Белого ‘Жезл Аарона’. Аня. Ольга Ник. Овсянникова с дочкой. Тат. Мих. и Таня Игнатова с мужем, т. е. девочками. Разг<овор> с Ниной Кирилловной, цитирует <?> Айх<енвальда> о Белом. Предложение Ходасевича принять участие в “Крит<ическом> Альманахе”. Эйхенхольц. Амирова (не узнал). При выходе Айхенв<альд> крепко трясет мне руку” (4. 1. Л. 71 и об). О лекции Андрея Белого в малом зале Московской консерватории подробно см. Глухова (2011: 57-60). Аня здесь – вероятно, та же неизвестная нам Аня Мартынова (видимо, бывшая ученица Розанова), что и в предыдущей из процитированных записей. Тат. Мих. – не раз упоминавшаяся Т. М. Сергеева (Багриновская). Таня Игнатова – скорее всего, дочь известного публициста И. Н. Игнатова Татьяна Ильинична, в замужестве Коншина (1892-1972), впоследствии сотрудница Исторического музея, знакомая А. А. Ахматовой и автор воспоминаний о ней. Нина Кирилловна – жена Ю. И. Айхенвальда, урожд. Томашева (ум. ок. 1943). Эйхенхольц – вероятно, Марк Давидович Эйхенгольц (1889-1953), литературовед. Об издании “Критического альманаха”, где бы сотрудничали и Розанов, и Ходасевич, у нас сведений нет. 7 февраля Розанов записывал: “Т. к. в 7 ч. должна была прийти Н. Герм., то не пошел в редакц<ию> ‘Гол<оса> Мин<увшего>’. Хотел ко мне прийти Ходасевич, я тоже ответил, что не могу. Он меня назвал Шаляпиным или Гельцер…” (4. 1. Л. 75). Надежда Германовна Витоль – посетительница второго кружка поэтесс (1916-1918). Имена Ф. И. Шаляпина и балерины Е. В. Гельцер Ходасевич использовал как символ бескрайней популярности. И, наконец, 11 февраля читаем: “Вечером (57½) я был у Ходасевич<ей> (отнес ему ‘Театр’ Блока). Разговор о прозаизмах, о заглавиях (‘Призраки Звезд’)” (4. 1. Л. 76об). Призраки звезд – название второй книги стихов Розанова (Москва, 1916). Последний известный нам предреволюционный документ относится к самому завершению “промежутка” между двумя революциями. Это письмо Ходасевича. Дорогой Иван Никанорович, стосковавшись по Вас, стосковался я и по Вашей библиотеке. Ах, если бы Вы проявили безмерную доброту и дали бы подателю сего, Г. К. Хрущову, моему хорошему знакомому, Языкова, кото- Н. А. Богомолов 228 рый нам нужен дня на 2-3. По истечении сего срока я Вам сам занесу книгу, ибо хочется Вас повидать. Плохо без телефона жить на земле. Будьте здоровы, нет, живы, хоть это и трудно по нынешним временам. Крепко жму Вашу руку. Сердечно Ваш Владислав Ходасевич. 24 нояб. 24 1917 (40. 76. Л. 1) Упоминаемый здесь (и в далее публикуемой одной из последних записей, касающихся Ходасевича) Г. К. Хрущов – Григорий Константинович (1897-1962), в то время студент Московского университета, впоследствии видный ученый-гистолог, член-корреспондент АН СССР (достоверность отождествления устанавливается по адресу).25 В описи его архива, хранящегося в Архиве РАН, документов, связанных с именем Ходасевича, обнаружить не удалось, но следует заметить, что вообще бумаг довоенного периода там чрезвычайно мало. 2. 1919-1922 Розанов то ли не вел дневника в 1917-1918 гг., то ли уничтожил его; во всяком случае, в архивном фонде он не отложился. Но первые же известия о Ходасевиче, занесенные в дневник 1919 года оказываются существенными: 21 <марта 1919> Пятн<ица>. Звонили мне еще Ек. Мих. Багрин<овская> и Ходасевич. Последний прочел мне по телефону стихи: “2 сонета самому себе” (это я знал уже и раньше), “Вечерние известия” и белыми стихами – “Обезьяна”. Последнее самое удачное. “Веч<ерние> изв<естия>” он сам назвал “хулиганскими стихами” с подраж<анием> Андрею 26 Белому. (4. 2. Л. 5) “Два сонета самому себе” впоследствии получили название ‘О себе’. Впечатление от ‘Обезьяны’ показывает, что не только современные исследователи придают этому стихотворению особую важность в поэтической системе Ходасевича (см. Богомолов 2011: 145), но это могли ощущать и современники. Наконец, определение “хулиганские стихи” и слова о подражании Андрею Белому в ‘Газетчике’ приоткрывают завесу над тем, почему это стихотворение не стало полноправным составным элементом книги Путем зерна: во второе издание книги (первое к тому Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 229 времени уже вышло) Ходасевич его включил, а в итоговое Собрание стихов 1927 года – нет. Следующую запись приводим только для полноты картины: “2 <апреля>. Среда. Вечером литер<атурный> <?> разг<овор> по телефону с Ходасевичем” (4. 2. Л. 9). Но за этим следует любопытное известие: “6 апр<еля>. От Ходас<евича> по тел<ефону> получил предл<ожение> <?> редакт<ировать> революц<ионную> эстраду <1 нрзб.>” (4. 2. 9об). Сборника под названием “Революционная эстрада” в это время не выходило, но идея витала в воздухе. В ноябре того же года ее провозгласил А. В. Луначарский: Я думаю, что следует повторить такой опыт в более широком виде, и предполагаю пригласить в ближайшем будущем пролетарских и крестьянских поэтов, а может быть, кой-кого из поэтов и старого поколения, не отрекающихся от революции, для создания большого обширного сборника, скажем, под названием “Революционная эстрада”, из которого могли бы черпать смело и декламаторылюбители, и настоящие артисты эстрады, и артисты драмы и оперы в тех случаях, когда они выступают на народных концертах; который мог бы вместе с тем быть до некоторой степени итогом завоевания революционной музы. (Луначарский 1919) Розанов в конце концов оказался не составителем, а рецензентом готовившейся книги. Так, 21 мая он писал: “Дома занялся ‘Революционной эстрадой’” (4. 2. Л. 22), 25 мая: “Целый день дома. Переписал рецензию на ‘Револ<юционную> эстраду’” (4. 2. Л. 24). Завершается известная нам часть истории 31 мая: “В репертуарной секции вел беседу с Балтрушайтисом – передал ему вороха ‘Революционной Эстрады’ со своим отзывом” (4. 2. Л. 28об). Очень характерно, что Ходасевич выступает как заказчик такой книги. Это подтверждает нередко кажущееся многим исследователям сомнительным положение о том, что в первые послеоктябрьские годы он активно сотрудничал с советскими инстанциями. Свидетельство Розанова может служить очевидным подтверждением того, что писал Ходасевич Б. А. Садовскому за три дня до этого разговора (Ходасевич 1996: 361-363). Следующий пассаж с Ходасевичем связан только косвенно, но по своей сути представляет большой интерес: 11 апр<еля>. Основные положения моего мнения о Эренбурге следующие: 1. Он прошел ту же эволюцию, что и Блок: от поклонения Мадонне (Прекрасной даме) к “ржавому болоту”, к кощунству и прозе <?> (“Будни”, “Стихи о канунах”), и потом выход в любви к России (“Молитва о Росс<ии>”). Но таланты несоизмеримы. Эренб<ург> 230 Н. А. Богомолов чужд мистицизма и символизма. Он не подражатель Блока. Его эволюция носит какой-то формал<ьный> характ<ер>. 2. Начал Эр<енбург> с “красивости”. Красоты не было в его первой книге, а потом “красивость” исчезла и стихи его стали голой прозой. Его самые сильные строки в первой книге – о скуке “умирать, зачем-то за людей”, о скуке Пилата и т. д. “Скука” всего менее поэтическое чувство. Самая лучшая часть “Молитвы о России” о том, как Антип за хозяином “бегал” – карикатура бойкая и талантливая, но не поэзия. Вся книжка “Мол<итва> о России”, как выразился Ходас<евич>, или еще не поэзия, или уже не поэзия. (4. 2. Л. 12) Розанов записывает основное содержание того, что он говорил на обсуждении реферата о поэзии И. Эренбурга, который только что сделала в собрании “Кружка поэтесс” его племянница Н. М. Розанова. Здесь интересно то, что мнения Ходасевича, даже как будто проходные, приобретают для Розанова несомненную авторитетность. Рецензия на Молитву о России И. Эренбурга была напечатана им в газете под довольно непрозрачным псевдонимом W (текст см. Ходасевич 2010: 242243), а Розанов цитирует последнюю фразу рецензии почти дословно. Мадонна – постоянный образ первой книги Эренбурга Стихи (Париж, 1910). Сочетания “ржавое болото” в названных Розановым книгах стихов Эренбурга нам отыскать не удалось. Болото – заметная деталь пейзажа в стихотворении ‘Вечер’ (Эренбург 2000: 162-163), “Болота дым” – слова из стихотворения ‘России’ (229), “ржавая вода” – из стихотворения ‘Предутренний сон’ (236-237). “Умирать зачем-то за людей” и “Сколько скуки было у Пилата” – строки из стихотворения “Так устали сомкнутые руки…” (103). “Как Антип за хозяином бегал” – стихотворение из книги Молитва о России (319-322). К тому же апрелю относится и такой фрагмент: 22 В<торник>. Вечером у Ходасевича. Он читал первую главу биогр<афическую> о Пушкине. Мои замечания были восприняты им болезненно остро. По словам Анны Ив., сказанным мне на другой день, он совсем расстроился. А. И. угощала пасхой. (4. 2. Л. 14) Ходасевич не единожды принимался за биографию Пушкина. Здесь речь идет о самом первом замысле, о котором он писал в автобиографии 1920 года: “[…] мною вполне или отчасти подготовлены, но не могли быть напечатаны по условиям переживаемого момента следующие: [...] Популярная биография Пушкина (Разм[ер] от 4-5 печ. листов)” (Ходасевич 1987: 228-229). Кажется справедливым предположение, что именно эти фрагменты Ходасевич представил издательству М. и С. Сабашниковых по договору от 25 марта 1922 г. Они опубли- Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 231 кованы: Ходасевич (1999а: 468-486; 1999b: 93-118). Ср. также в дневнике Розанова 21 мая: “Затем в Лавку писателей. Купил кое-что. Там Ан. Ив. удивлена, что я был в Кафе поэтов. Встретившийся Б. А. Грифцов сообщил, что был накануне у Ходасевича. Слышал 1 ½ главы о Пушкине и вынес другое впечатление, чем я. [...]” (4. 2. Л. 22). Очень показательна запись от 27 апреля. Она связана с активной работой Ходасевича в Пролеткульте, где он не только читал лекции, но и писал статьи о пролетарских поэтах (см. Ходасевич 2010: 250-253, 259-262; 1999b: 74-83). Для Розанова же, судя по всему, это был первый опыт знакомства с широко рекламируемой поэзией рабочих (или считавшихся рабочими) поэтов. Среди тех, кто читал стихи, упомянуты достаточно хорошо известные Василий Дмитриевич Александровский (1897-1934), Семен Абрамович Родов (1893-1968), о котором несколько лет спустя Ходасевич напечатал разоблачительную статью,27 Валериан Федорович Плетнев (1886-1942), Николай Гаврилович Полетаев (18891935), Михаил Гордеевич Сивачев (1887-1931), Иван Васильевич Грузинов (1893-1942), Василий Васильевич Казин (1898-1981). Зато очень мало сведений удалось собрать о поэтах Николае Семеновиче Дегтяреве, печатавшемся в изданиях Кузницы, соавторе Н. Полетаева, и об Александре Гуцевиче, названном в первом номере журнала Кузница среди рано погибших (умер в 1920 от тифа), а также о Екатерине Павловне Херсонской (1876-?). Вечером с 6 до 10 был на Собрании Моск<овского> Пролеткульта, куда меня в качестве гостя ввел Ходасевич. Читали свои стихи 1) Александровский 2) Семен Родов 3) Плетнев (колыб<ельные> песни, <2 нрзб>) 4) Дегтярев, 5) Гуцевич. В прениях принимали участие председатель Полетаев, в начале Ходасевич, затем еще Сивачев, Грузинов, Херсонская. Не выступал присут<ствовавший> здесь Казин. Очень я был доволен впечатлениями этого вечера. Наилучшее впечатление производит из говоривших Плетнев… Очень мил Гуцевич – мягко улыбающийся. Дехтерев – актер. Сивачев и Родов – противны, жалки и пришиблены. Но как поэты, кажется, талантливее других Казин и Александровский. Первый совсем еще мальчишка. (4. 2. Л. 14об-15; сохраняем разнобой в написании фамилии Дегтярев/Дехтерев) Далее следуют записи, которые если и обладают каким-то существенным содержанием, то нам его разгадать не удалось. “18 <мая 1919> Воскр. Мне звонили Ходасевич (справка о письмах Боратынского) и Боричевский” (4. 2. Л. 20об). В записи от 30 мая поначалу описывается встреча с Екатериной Сергеевной Урениус (ум. 1965; жена Б. А. Грифцова, потом П. П. Муратова), но затем вмешиваются семейные обстоя- 232 Н. А. Богомолов тельства Ходасевича: “Немного погодя, встретил другую мать с сыном – но какая разница! Несколько любезностей, но скорее чувствовалось не притяжение, а отталкивание. – Только сейчас показывала Эдгару, где Союз писателей, – сообщила А. И. Ход<асевич> – Он неизбежно должен стать поэтом. – И я этого ‘боюсь’, – засмеялась она” (4. 2. Л. 28об). Здесь же приведем и другие фрагменты этого и следующего года, касающиеся А. И. Ходасевич и ее обстоятельств. 4 декабря: “Из гимн<азии> в Книжную Палату, в новом помещении (быв<ший> Архив Мин<истерства> Юст<иции>). Анна Ив. Ходасевич уже на месте Александра Яковл<евича> Брюсова, а на месте Валерия Як<овлев>ича Владислав Фелицианов<ич>” (4. 2. Л. 127об). 6 декабря: “Был в Книжной Палате, где расписывался у Воронцова в получении книг, купил ‘Книжную летопись’ за 1918 у А. И. Ходасевич” (4. 2. Л. 128об). О работе в Книжной палате Ходасевич оставил воспоминания, но характерно, что люди, конкретно занимавшиеся книжными делами (а Розанов в это время в Историческом музее работал в книжном отделе) больше общаются с А. И., чем с ним. Отметим также отмеченную им “рокировку”: А. И. занимает место своего бывшего гражданского мужа, а В. Ф. – того поэта, отношения с которым приходится постоянно выяснять. Бегло упоминается А. И. в описании юбилея Ю. К. Балтрушайтиса 17 декабря: Вечером чествование Балтрушайтиса. Прекрасное впечатление, особенно от А. Белого, сказавшего большую речь, и от Бальмонта и его импровизации. Читал стихи Чулков (“Твоя душа – похожа на тайгу”), Ютанов из Ашукина, Саариварди (по-индусски). Много знакомых. Дам всего 6 человек: 1) Мар. Ив. Балтрушайтис, 2) Полякова, 3) Жилкина, 4) А. И. Ходасевич, 5) Муратова Е. В. 6) Гиляровская. Впервые видел Б. Пастернака и Ивана Аксенова (говорил приветствие от Центрифуги). После долгого промежутка видел С. Боброва. Юбиляр читал свои стихи. При уходе я имел беседу с Андр. Белым о его книжках, между прочим о “Королевне и рыцарях”. Общее впечатление – словно духовную ванну принял (4. 2. Л. 132-132об). Подробный комментарий к этой записи см. Богомолов (2015а). 19/6 февраля 1920 г. – еще одна запись о визите в Книжную палату: “Оттуда на Девичье Поле; сначала в Книжную Палату к Анне Иван. Ходас<евич> и Мих. Конст. Воронову” (4. 4. Л. 16). И, наконец, последняя запись о ней отдельно от мужа: “13/30 <июня 1920>. Сидел на Никитском. Встреча с А. И. Ходасевич и своей слушат<ельницей> Сперанской. [...] Вечером в Лит<ературной> студии. Там на заседании только В. Иванов, Рачин- Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 233 ский, Шпетт и я, не считая секретарей. Поэт-коммунист Мельников” (4. 4. Л. 52). Возвращаясь ко встречам с самим поэтом, обратим внимание на запись от 31 мая 1919 г.: “При входе в секцию встретил Нат<алью> Ив<ановну>, б<ывшую> Братцеву, при выходе Ходасевича. С обоими останавливался поговорить. С последним о современной ‘музе’, муза кафе-шантана и Вадима Шершеневича” (4. 2. Л. 28об). Последнее определение явно принадлежит не самому Розанову, а Ходасевичу. Розанов как раз в это время серьезно интересуется творчеством Вадима Шершеневича, при встречах подолгу беседует с ним, подробно записывает обсуждение романа Похождения электрического Арлекина (см. Дроздков 2014: 357-360; текст самого романа см. Шершеневич 1998, 5-44). Ходасевич же относится к нему (и особенно в эти годы) весьма скептически, что отразилось в рецензии на сборник От мамы на пять минут (Ходасевич 2010: 272-273). Далее Розанов несколько раз кратко фиксирует встречи с Ходасевичем в разных обстоятельствах, где содержательную сторону мы можем понять лишь отчасти. Так, под 1 июня следует: “День мужской, деловой [...] Мужской, п<отому> ч<то> все время был в мужском обществе, даже по телефону г<овор>ил только с одним Ходасевичем” (4. 2. Л. 30об). Через неделю, 8 июня: “В. Ф. Ходасевичу по телефону говорил о ‘Танках’” (там же). “Танки” здесь – явно сборник стихов Самуила Вермеля (Москва, 1916), написанных в этой не очень привычной для русской поэзии японской форме. 22 июня: “В 9 ч. все мы <с Боричевским и Майгуром> пришли к Грифцову. Там уже были Ходасевич и Степпун. Позднее подошел Герасимов. Степпун читал первую половину своего труда28 о Влад. Соловьеве. Он решил быть популярным nec plus ultra и объясняет такие слова, как ‘ученый’, ‘любовь’ и т. д. Хорошее впечатление. Ходасевич со мной о Дельвиге, хочет прийти как в музей. Степпун работает медленно: прочитанное писал 3 месяца по 829 ч<асов> в день” (там же, Л. 40об-41). О своем труде Ф. А. Степун рассказал в воспоминаниях: “Привлеченный Екатериной Дмитриевной Кусковой к просветительской работе какого-то нового издательства, я взялся написать популярную книжечку о Владимире Соловьеве. [...] Мне мечталось дать образ Соловьева во весь его рост и все же написать книжку, понятную каждому умному крестьянину. Для этого надо было нaйти не только особый язык, но и оттолкнуться в своем изложении от близких народу понятий” (Степун 1996: 547). Творчеством Дельвига Ходасевич занимался долгое время, работал и с его рукописями в Пушкинском Доме (несколько подробнее см. в комментарии Р. Хьюза: Ходасевич 1999: 415). Но, видимо, в данный момент речь могла идти о плане, который разъясняется в дневнике 27 июня, когда идет речь о 234 Н. А. Богомолов планах издательства “Задруга”: “[…] вопрос об издании избран<ных> соч<инений> поэтов [...] Несколько пререкались из-за редакт<ирования> Дельвига Ходасевичем. Оно его умалит” (там же, Л. 45об). См. также ниже запись от 5 октября. Чрезвычайно интересны две подряд записи от 17 и 18 августа. 17: “Вечером вышел погулять, встретил Боричевского. Довел его до Ходасевича. Тот в постели. Прочитал статью о Муни” (4. 2. Л. 77). 18: “Вчерашняя статья Ходасевича о Муни и его стремлении найти свою личность (Ал. Беклемишев) или по крайней мере наиболее подходящую позу, а также беседы с Боричевским о метафизической сущности его и моей и о моих стихах оказали свое влияние на умонастроение этого дня. Захотелось пересмотреть свои стихи с этой целью. Убедился, что не совсем был прав, говоря, что в стихах моих нет моего лица, а только ряд изменяющихся ликов, т. к. они биографичны” (там же, Л. 77об). Существенны они потому что, как давно было известно, Ходасевич пытался издать стихи Муни по крайней мере с 1918 г., дважды была подготовлена книга с его предисловием и оба раза не вышла. Данный фрагмент дневника позволяет судить, что и в раннем варианте статьи о ближайшем друге Ходасевич разрабатывал те же темы, что в воспоминаниях, напечатанных много лет спустя. Для текстологов будет интересна запись от 7 сентября: “Три посещения. Ходасевич о пушкин<ской> покупке <?> и о своем стихотворении в прозе (голубая кровь)” (4. 2. 87об). Этим днем, 7 сентября, датированы два верлибра (Розанов говорит о стихотворении в прозе) Ходасевича: “В городе ночью…” и “Высокий, молодой, сильный…” Второе из них кончается: Во время нашей беседы Я укололся перочинным ножом И, провожая гостя в переднюю, Высосал голубую капельку крови, Проступившую на пальце. (Ходасевич 1989: 286) В неавторизованной машинописи, по которой стихотворение печатается, оно снабжено пометой: “С немецкого”. Запись Розанова, как кажется, заставляет заподозрить здесь нечто вроде мистификации, поскольку он уверенно говорит о том, что стихи принадлежат самому Ходасевичу. Далее, начиная с 5 октября, развивается сюжет с книгой Дельвига, взятой у Розанова. “Воскр. 5 <октября>. Вечером были у меня Ходасевичи – супруги. Конечно, за Дельвигом. В. Ф. увидал одним глазком ‘Призраки звезд’ <?>” (4. 2. Л. 100). Напомним, что Призраки звезд – Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 235 книга стихов Розанова, изданная в 1916 году. 8 декабря: “Звонил по телеф<ону> Ходасевич. Его Гарри Гренцион собирается завтра в Ист<орическую> библ<иотеку>. Занесет и Дельвига” (там же, Л. 129об). Пасынок, однако, книги не принес, и сюжет завершился лишь 21 декабря: “После обеда, часу в 6-ом был у меня Ходасевич, к<отор>ый вернул мне наконец Дельвига. Речь зашла о возможных обменах книгами” (там же, Л. 133об). О книжном обмене с Ходасевичем см. ниже. Приведем еще два кратких упоминания. 11 декабря: “На обратном пути зашел в Лавку Писателей. Узнал, что собрания у Осоргина не будет. Встретил Ходасевича” (там же, Л. 130). 13 декабря: “Заходил еще из Музея в ‘Лавку поэтов’, смотрел антикварные книги – беседовал с Шершеневичем. В Лавке Художников слова опять встреча с Ходасевичем. Купил 3 неважных книжки” (там же, Л. 130об). Две первые записи 1920 года, связанные с Ходасевичем, относятся к вечеру памяти А. И. Герцена, который Союз писателей устраивал в Малом театре. 19/6 января: “Был в ‘Союзе Пис<ателей>’ – там Ходас<евич>, Макл<аков>, Степпун, О. Брик, Ю. Соколов. Взял билеты на Герц<еновский> вечер” (4. 4. 8об). Сам вечер прошел через день, 21/8 января: “Вечером на Герцен<овском> засед<ании> в Малом театре. Масса знакомых. [...] На вечере всего интереснее был Бальмонт. Сакулин, Львов-Рогач<евский> и особенно Мартов успеха не имели. Ходасевич сидел и ‘пыжился’” (там же, Л. 9). Для этого вечера Ходасевич написал стихотворение “Четыре звездочки взошли на небосвод…”, которое не стал публиковать. Другие сведения, в том числе схожую в оценках цитату из дневника близко знакомого Розанову Н. М. Мендельсона, см. Литературная жизнь (2005, ч. 1: 203). Еще две январские записи связаны с не вполне ясными для нас обстоятельствами: В. А. Монина (это она скрыта под буквами ВМ) просила влюбленного в нее Розанова о чем-то спросить Ходасевича. Но ее просьба ни к чему не привела. 28/15 января: “Дома 1 факт: разговор по телефону с ВМ, просившей о переговорах с Ходас<евичем> (смерть корнета Рильке)…” (4. 4. Л. 10об), и 29/16 января: “Ровно в 10 ч. у<тра> был у Ходасевича. Застал в постели: относит<ельно> перевода и А. Белого он не обнадежил” (там же, Л. 11). ‘Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке’ – прозаическое произведение Райнера Марии Рильке. Возможно, Монина хлопотала о помощи в публикации перевода своего жениха Якова Львовича Гордона с предисловием Андрея Белого.30 В феврале Ходасевич упоминается дважды. Впервые – в не очень понятном контексте 14/1 числа: “Вечером поэтич<еское> собр<ание> в гимн<азии>: Сережа Гуревич, Чулков, Ходас<евич>, Зандер <?>. Читали перевод из Гумилева…” (4. 4. Л. 15). Гимназия здесь – скорее всего, бывшая гимназия Хвостовой, теперь уже единая трудовая школа, где 236 Н. А. Богомолов Розанов служил долее всего. 24/11 февраля: “От Ходасевича получил ‘Путем зерна’” (4. 4. 17об). Эта книга сохранилась, на ней инскрипт: “Дорогому Ивану Никаноровичу Розанову на добрую память. Владислав Ходасевич. 1920, февр.” (Библиотека 1975: 212; воспроизведение – Шубинский 2011: 359).31 А затем встречи почти прекращаются: за 9 месяцев, оставшихся до отъезда Ходасевича из Москва в Петроград, на страницах дневника его имя встречается всего 4 раза, да и то сообщения мало информативны. 27/14 марта: “Вечером кончил дело с Кожеб<аткиным>. Отдал ему ‘Рус<лана> и Люд<милу>’ и Озерова. Затем в Дворце Иск<усств> сделал членский взнос и оттуда отправился к Ходасевичу, к<отор>ый болен 3-ью неделю и лежит в постели. У него до 6 <?> ч. были гости Борис <1 нрзб.> (?) и его жена?” (4. 4. Л. 25). С А. М. Кожебаткиным, судя по всему, был какой-то библиофильский обмен. “Дворец искусств” помещался на Поварской, 52 (так называемый “Дом Ростовых”, там до сих пор находится часть Союза писателей, которому в советское время принадлежал весь этот роскошный особняк). О болезни Ходасевича см. в письме к Б. А. Садовскому от 27 апреля: “[…] лишь 2-3 дня, как встал. Пролежал 7 недель. Был у меня фурункулез: 40 нарывов на всем теле, один за другим” (Ходасевич 1996-1997, 4: 418). Эта болезнь не оставляла его и впоследствии. При всем желании нам не удалось разобрать фамилию гостей Ходасевича, но на основании изучения круга их знакомств можно предположить, что это были Борис Александрович (18831942) и Александра Ионовна (1882-1962) Диатроптовы (см. примеч. 31). 26/13 апреля: “Вечером у Ходасевичей” (4. 4. 32об). 18/5 июня 1920: “Затем к Ходасевичу. Читал стихи. Собирается в Петроград переехать” (4. 4. 46). И, наконец, за два месяца до отъезда, 19/6 сентября: “Утром я к Н. В. Хвостову и Ходасевичу – с последн<им> кн<ижный> обмен, отдал ему ‘Вечерние огни’. От него получил ряд мелких книг” (4. 4. 69). Николай Вениаминович Хвостов был сослуживцем Розанова по гимназии Н. П. Хвостовой (и, судя по всему, сыном начальницы). Розанов с ним довольно близко дружил. Отъезд Ходасевича в Петроград 16 ноября 1920 г. разлучил знакомых надолго. Сменились, судя по всему, и их отношения. Если прежде они были практически на равных, то теперь Розанов смотрит на Ходасевича снизу вверх. Это не слишком отчетливо выражено вербально, но чувствуется по особой почтительности, похвалам, стремлению каким-то образом зафиксировать уходящее равенство. Одна запись сделана 10 октября 1921 г.: “Вечером у НБ ненадолго, затем в ‘Союз Писателей’ слушать Липскерова, Ходасевича и Сухотина. Стихи Ход<асевич>а хороши” (4. 5. 84об). НБ – дама, с которой у Розанова был серьезный роман. В Союзе писателей в этот день было Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 237 исполнительное собрание, где и выступали названные поэты (библиография отзывов – Литературная жизнь, 2005, ч. 2: 181). Видимо, в этот приезд (возможно, и прямо на вечере) Ходасевич надписал Розанову второе издание Путем зерна. После стихотворениячетверостишия ‘Пробочка’, написанного незадолго до этого дня, последовали еще слова: “Ивану Никаноровичу Розанову в память давней приязни. В. Х.” (Библиотека 1975: 212; воспроизведение – Ходасевич 1991: 26). В конце января 1922 г. Ходасевич снова приезжает в Москву и остается довольно надолго. Для него это был настоящий визит признания в качестве одного из первых поэтов современной России. Так, 31 января Ходасевич писал жене: “В субботу у Лосевой Г. И. [Чулков. – И. М.] читал свой рассказ, я стихи. Ахали. Вчера занимался тем же у Пахомова. Ахали. Скучал, п<отому> ч<то> кроме ахов ничего путного” (Муравьева 2010: 156). На это чтение у знаменитого музейщика, многолетнего директора музея “Абрамцево” Николая Павловича Пахомова (1890-1978), ставшего вторым мужем не раз упоминавшейся выше Т. М. Сергеевой (Багриновской), Розанов не попал (см. в дневнике 30 января: “У Пахомова должен был быть Ходасевич, но я не мог”; 4. 6. Л. 14), но в конце концов послушать удалось: “Утром занят был хронол<огией> Рус<ской> поэзии и […] дровами. Потом ряд посетителей: Монина, Корнеева, Сережа Головачев и Сережа Серпинский. Наконец В. Ф. Ходасевич, приехавший из СПБ. Читал много своих стихов. Очень опетербуржился” (12 февраля; 4. 6. Л. 15об). Известно, что в тот же приезд 6 февраля он читал на вечере в пользу нуждающихся литераторов, находящихся в Крыму (Литературная жизнь, 2005, ч. 2: 310). Из посетителей этого дня, помимо В. А. Мониной, мы с уверенностью можем сказать лишь о Елизавете Федоровне Корнеевой (1893-?; встречается дата рождения 1896) – поэтессе, авторе книги Жуть весенняя (Москва, 1917; см. Библиотека 1975: 167), участнице поэтических кружков, которыми руководил Розанов, впоследствии преподавательнице иностранных языков, специалистке по зарубежной литературе. И, наконец, последние их встречи пришлись на предотъездный визит Ходасевича в Москву. Н. Н. Берберова вспоминала: “С мая 1922 года началась выдача в Москве заграничных паспортов – одно из последствий общей политики Нэпа. У нас в руках появились паспорта на выезд: номера 16 и 17” (Берберова 1983: 166). В середине мая Ходасевич уже был в Москве. Внешние наблюдатели должны были знать только то, что он занят различными издательскими делами, прежде всего – устройством нового сборника стихов Тяжелая лира в какоенибудь издательство, но, видимо, давние друзья что-то чувствовали. 238 Н. А. Богомолов 18 мая Розанов записывал: “Были у меня Евг. Ив. <Боричевский> и Ходасевич. Последний сообщил, что убежал из Петерб<урга> от Анны Ивановны и т. д. Много читал стихов” (4. 6. 30об). А во время второго визита он пользуется случаем и фиксирует биографию Ходасевича – похоже, понимая, что видит его едва ли не в последний раз: “23 <мая>. Вторн<ик>. Был у меня вторично Ходасевич. Я заставил его рассказать свою биографию и кое-что записал” (4. 6. Л. 32). Вместе с тем рассказ о последнем чтении Ходасевича, на котором Розанов присутствовал, довольно хладнокровен: “29 <мая>. Пон<едельник>. Вечером был на Ходасевиче в ‘Союзе поэтов’, к<отор>ый читал ‘Тяжелую Лиру’. Хорошее впечатление от Андрея Соболя. В первый раз видел Серапионов<а> брата Никитина. Пастернак накануне в 1-ый раз был в кружке ‘Беллетристов’ и очень ругался, вспоминая (еще днем в ‘Задруге’. – Пришел вместе с Бобровым)” (4. 6. Л. 33). Вероятно, именно об этом вечере писала Берберова: “Пока мы были в Москве, в Союзе писателей на Тверском бульваре был литературный вечер, и там Ходасевич читал свои новые стихи [...] – стихи о любви, и Гершензон, и Зайцев, и Лидин, и Липскеров, и другие [...] с нескрываемым любопытством смотрели на меня” (Берберова 1983: 167). Розанов же свел с нею знакомство только 18 июня в доме № 40 на Арбате: “Был днем у 1) Ходасевича, в кв. Хрущова. Познакомился с Ниной Ник. Берберовой” (4. 6. 35об). 22 июня из Петрограда Ходасевич и Берберова уезжают за границу, откуда он уже никогда не приедет на родину. Последний след их общения – письмо Ходасевича с просьбами. Берлин, 1922, 29 октября Дорогой Иван Никанорович, Пишу Вам без особой уверенности, что письмо это до Вас дойдет, ибо не знаю, работаете ли Вы в Музее, а на дом писать не могу: забыл № Вашего дома. Поэтому, без уверенности, что письмо не затеряется, как-то лень писать о себе. Да признаюсь – и нечего. Живем помаленьку. Стихов пишу не много. Цел, относительно сыт – и то хорошо. Народу здесь много, как Вам известно, но знаюсь ближе всего с Белым, с которым зато видимся по 2-3 раза каждый день. В общем литература здесь какая-то случайная и тепличная. Гржебин издает 3-е изд. “Счастливого Домика” с ужасным моим изображением, Анненковым учиненным, – а также “Тяжелую Лиру”, кот<орая> выйдет здесь в ином виде, т. е. в ином составе и с иным порядком стихов, нежели в Москве. Московское изд<ание> Вам доставит Григ. Конст. Хрущов (Арбат, 40, кв. 5), а Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 239 здешнее, к<а>к и “Сч<астливый> Домик”, я Вам пришлю, когда выйдут, т. е. через 10-15 дней. Но – пришлите свой адрес. Кроме того, у меня к Вам просьба: в “Звезде” 1887 г. напечатано факсимиле стих<отворения> Пушкина: “Софья Михайловна слушает цыган”. Умоляю: поглядите, сообщите текст, кем сообщено и проч<ее> необходимое. Очень прошу Вас об этом. Посплетничайте: кто и что (кроме Асеева в “Крас<ной> Нови”) пишет или писал обо мне. Это нужнее, чем может казаться. Мне это нужно знать, а толковых людей, кроме Вас, нет. Потому Вас и затрудняю. М<ожет> б<ыть>, даже пришлете что-ниб<удь> заказн<ой> бандеролью? Не сердитесь. За это обязуюсь вести здесь агитацию за то, чтобы стихотворцы посылали Вам свои книги. Впрочем, это не Вам, а 32 Вашему собранию. (Оцените сей тончайший комплимент). Пока – всего доброго. Крепко жму руку. Сердечно Ваш Владислав Ходасевич. Berlin W 50, Passauer Strasse, 38, Pension Pauli. (40. 76. Л. 3-4об) В качестве комментария добавим, что статья Асеева, которую Ходасевич называет – Асеев (1922: 245-247). Ответ на нее – Ходасевич (1923: 185). Факсимиле псевдопушкинского стихотворения было опубликовано: Звезда (1887, № 4, 24 января, 11 особой пагинации). Публикатор не указан. 3-е издание Счастливого домика и московский вариант Тяжелой лиры в библиотеке Розанова есть, но получил ли он их от Г. К. Хрущова или просто купил, мы не знаем. Берлинской Тяжелой лиры в собрании не числится. Закончим публикацию выдержек из дневника Розанова записью о “Никитинском субботнике” 3 марта33 1923 года: “На субботнике С. Я. Парнок читала о Ходасевиче” (4. 6. 52). Эта статья 67 лет оставалась неопубликованной (см. ее текст: Ходасевич 1990: 477-484). Имя Ходасевича сначала в положительном контексте, а потом и вообще – становилось неупоминаемым в советской печати. Н. А. Богомолов 240 ПРИМЕЧАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Тексты надписей будут приведены в соответствующих местах нашей статьи. Пользуемся случаем, чтобы поблагодарить К. М. Азадовского, К. В. Яковлеву, А. Л. Соболева и Э. Вайсбанда за справки и соображения. О его службе в некоторых из этих гимназий см. альбом воспоминаний и фотографий (РГБ. Ф. 653. Карт. 9. Ед. хр. 3). Покойный В. Н. Топоров, учившийся у Розанова, в беседе с нами вспоминал, что в последние годы жизни тот находился в маразме, но как только заходила речь о книгах из его библиотеки – память оживлялась и начиналось увлекательное повествование. РГБ. Ф. 653. Карт. 3. Ед. хр. 16. Л. 17об. В дальнейшем при цитировании дневника ссылки будут даваться непосредственно в тексте без указания места хранения и фонда. Вероятно, это одна из бывших учениц Розанова. См. фотографию гимназистки с подписью “Наркирьер” (без инициалов): 9. 3. Л. 55. Об этом см. Малмстад (2004). См. также его обзор ‘Поэты “Альционы”’ (Ходасевич 2010: 114-116). Подробнее см. Ходасевич (1989: 369). http://www.gelos.ru/2010/January/15.01-dillers/book.shtml. Из дневника перенесено в воспоминания Розанова: Розанов (1976: 768). Ср. также запись в дневнике Розанова от 24/11 марта 1920: “Утром стал писать Милькеева и в библиотеке Ист<орического> Муз<ея> неожиданно для себя нашел 3 экз<емпляра> его стихотворений – редчайшей книги!” (4. 4. 24об). Этот поэт долгое время интересовал Розанова, он писал о нем, в 1923 сделал доклад, однако печатного варианта какой бы то ни было работы мы не знаем. Отметим, что в архиве существуют наброски статьи, выписки из писем Милькеева и письмо С. А. Переселенкова об изготовлении этих выписок (25. 29). Попытки приписать авторство этой статьи Н. С. Гумилеву (см. Черных 1996: 151-153) или совместно Гумилеву, Ахматовой и Н. В. Недоброво (Темненко 2006: 17-37) не представились нам убедительными и в любом случае не влияют на расшифровку дневниковой записи. С семейством Багриновских был связан и Ходасевич. См. фотографию 1899 года: Ходасевич (1991: 268). Пастернак (2004: 217). Основания для датировки: описываемая сцена произошла “на следующий день” после встречи редакций Первого журнала русских футуристов и альманаха Руконог. Письмо с вызовом на эту встречу было написано 2 мая, и она назначалась в течение ближайших четырех дней, т. е. 4, 5 и 6 мая. Подробнее см. Флейшман (2003: 391393); Пастернак (1997: 192-194). О браке и семейной жизни поэтессы см. Ходасевич (1996-1997, 2: 21-22). Отметим, что на отдельном оттиске статьи Ходасевич написал: “Доро- Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 гому Ивану Никаноровичу Розанову – с истинной приязнью Владислав Ходасевич” (Библиотека 1975: 212; воспроизведено – Ходасевич 1991: 219; Шубинский 2011: 159). Подробнее см. Зайцев (1999, 6: 54-60; 2001: 74-75, 77); Телешев (1980: 52-54). Отметим, что дурная репутация держалась у Стражева долго. См. в дневнике Розанова от 31 октября: “Затем ‘Задруга’. – ‘Школьный Лермонтов’ не получил одобрения из-за того, что дело это связано с именем (только именем) Стражева” (4. 1. Л. 36об). В 1922 г., при втором издании, была названа Туркестанские стихи, что нашло отражение в дневниковой записи. См., впрочем, дальнейшие записи о том, что Ходасевич берет у Розанова книгу Мицкевича, стихи которого в то время переводил. Собрать сведений об этом вечере нам не удалось. Он умер, читая газету, 13 февраля, о чем Розанов записал в дневнике 15 февраля 1931 (4. 8. Л. 45). Несколько ранее Розанов писал: “Поднимался в библиотеку. Взял ‘Аполлон’ за 1909-10 г.” (30 сентября; 3. 17. Л. 29об); “Ко мне пришла Наташа и Мадатова. Я рассказал о ‘Ночных плясках’. Затем ‘Аполлон’. Стихи Керубины, Бенедиктова, автограф Анны Ахматовой и о ее манере чтения” (8 октября; там же. Л. 32). Ночные пляски – спектакль театра В. Ф. Коммиссаржевской по пьесе Федора Сологуба, который Розанов смотрел накануне. Наташа – племянница, Наталья Матвеевна Розанова (1891-1959), впоследствии сотрудница Румянцевского музея. О С. М. Мадатовой см. в тексте ниже. 8 марта 1916 г. Н. М. Розанова на заседании кружка “Девичье поле”, о котором также см. ниже, читала реферат о Черубине де Габриак. Текст доклада см. ГЛМ. Ф. 367. Оп. 1. Ед. хр. 3. Обширная цитата из него – Тименчик (2013: 153-155). Имеются в виду строки из стихотворения ‘Зима’: “Звeзды на горизонте раскачались и поехали, / Натыкаясь друг на друга впотьмах” (Большаков 1991: 297). Объявление о вечере см. Утро России, 1916, 14 марта, № 74. Ср. отчет: Вчера в новой большой аудитории Политехнического музея состоялся вечер поэтов. Во вступительной “лекции” г-жа Любовь Столица отметила главные течения молодой современной лирики – нео-символизм, славянское возрождение, футуризм. Характеристика была рассчитана, очевидно, на широкий круг слушателей. Затем выступали со своими стихотворениями поэты. Г. Большаков расстался с прежним методом футуристического творчества стихов, в которых “неологизмы воспринимаются образно через звук”. Прочитанные им стихотворения отличаются остротой образов и переживаний. Г. Ходасевич прочел несколько удачных стихотворений из своего сборника “Счастливый домик”. Должны были понравиться 242 Н. А. Богомолов своей свежестью интимные образы – “Только нужно жить потише, не шуметь и не роптать” и “По вечерам мечтаю я, мечтают все, кому не спится”. Г. Липскеров удачно пользуется формой сонета, придающей его красочным восточным картинам выпуклость и резкость контуров. Слишком только монотонным было его чтение. Г. Верховский, к сожалению, выбрал для чтения не характерные для его поэзии стихотворения. Стихотворения г. Журина и г. Рубановича полны образов тусклых и шаблонных. Публики собралось немного, но “молодых поэтов” принимали тепло. (Там же, 15 марта, № 75. Подп. М.; возможно, автором является П. И. Майгур) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Тезисы выступления Л. Столицы см. Дворникова (2013: 638). Этому письму не повезло: при архивной раскладке оно оказалось датировано 1907 годом вместо 1917, а при публикации фрагмента сменилась дата: вместо 24 ноября, т. е. дня накануне известных событий (и тем самым словно предисловия к стихотворению Ходасевича ‘2-го ноября’), оно было датировано 21 ноября, т. е. значительно более нейтральным днем. Ср. также в дневнике Розанова за 1946 год: “Вечером был у нас проф. Григ. Конст. Хрущев, до этого бывший у меня в 1918 году. Я помню один раз, а он говорит, что был 3 раза” (5. 6. Л. 110; запись от 3 июля). В абсолютно превратном виде большая часть этой записи опубликована: Преображенский (2014: 95). О научной состоятельности этой публикации см. Богомолов (2015b). ‘Господин Родов’, Дни, 1925, 22 февраля, № 698. Сверху вписано и не зачеркнуто: работы. Написано неразборчиво. Возможно, следует читать 6. Перевод с предисловием Андрея Белого напечатан: Свиток, Москва, 1924, [кн.] 3. Об убитом в 1919 г. Гордоне см. Летейская (2013: 285293). В тот же день Путем зерна была подарена Б. А. и А. И. Диатроптовым (см. Богомолов 2010: 396). Видимо, намек на перекличку с широко известным: “Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу” (Пс. 113: 9). В тексте ошибка: мая. Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 243 ЛИТЕРАТУРΑ Асеев, Н. 1922 ‘По морю бумажному’. Красная новь, № 4. Берберова, Н. 1983 Курсив мой: Автобиография. New York. Библиотека 1975 Библиотека русской поэзии И. Н. Розанова: Библиографическое описание. Москва. Блок, A. A. 2014 Полное собрание сочинений: В 20 т. Т. 6, Кн. 1. Драматические произведения (1906-1908). Москва. Богомолов, Н. А. 2010 ‘Автографы писателей в букинистических аукционах’. Новое литературное обозрение, № 105. 2011 Сопряжение далековатых: О Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче. Москва. 2014 ‘Два советских Лермонтова’. Новый мир, № 10. 2015а ‘Пастернак в дневнике И. Н. Розанова’. Russian Literature, LXXVII-II. 2015b ‘В книжном углу-14’. Новое литературное обозрение, № 131. Большаков, Константин 1991 Бегство пленных… Стихотворения. Москва. Брюсов, В. Я. 1972 ‘Из “Истории русской лирики”’. Публ. и вст. ст. С. И. Гиндина. Русская речь, № 4. 1973 Собрание сочинений: В 7 т. Т. 2. Москва. 1990 Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии. Москва. Верховский, Ю. Н. 1919 ‘Поэты пушкинской поры’. Поэты пушкинской поры: Сборник стихов под ред. и со вст. ст. Ю. Н. Верховского. Москва. Гиндин, С. И. 1970 ‘Неосуществленный замысел Брюсова’. Вопросы литературы, № 9. Глухова, E. B. 2011 ‘Лекция Андрея Белого “Жезл Аарона”’. Пред., публ. и примеч. Е. В. Глуховой. Миры Андрея Белого. Белград; Москва. Дворникова, Людмила 2013 ‘Послесловие’. Любовь Столица. Голос Незримого. Т. I. Москва. 244 Н. А. Богомолов Дроздков, В. А. 2014 Dum spiro spero: О Вадиме Шершеневиче, и не только: Статьи, разыскания, публикации. Москва. Зайцев, Борис 1999 Собрание сочинений. Т. 6. Москва. 2001 Собрание сочинений: Письма 1901-1922. Москва. Кадмин, Н. [Абрамович, Н. Я.] 1914 История русской поэзии. Т. II. Москва. Катанян, В. А. 1985 Маяковский: Хроника жизни и деятельности. Изд. 5-е, доп. Москва. Крусанов, А. В. 2010 Русский авангард 1907-1932: Исторический обзор. В трех томах. Т. 1, Кн. 2. Москва. Лаурин, Евг. [Розанов, И. Н.] 1915 Только о ней: Стихи. Москва. Летейская 2013 Летейская библиотека: Очерки и материалы по истории русской литературы ХХ века. [Т.] II. А. Л. Соболев. Страннолюбский перебарщивает; Сконапель истоар. Москва. Литературная жизнь 2005 Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1, Ч. 1-2. Отв. ред. А. Ю. Галушкин. Москва и Петроград 1917-1922. Москва. Луначарский, А. В. 1919 ‘Новая поэзия’. Известия ВЦИК, 27 ноября, № 266. Малмстад, Дж. 2004 ‘“Кожебак!.. Да ведь это хуже, чем гусак!!!”: Письма Андрея Белого к А. М. Кожебаткину’. Пред., публ. и комм. Дж. Малмстада. Лица: Биографический альманах. Вып. 10. Москва; Санкт-Петербург. Муни (Киссин, Самуил) 1999 Легкое бремя: Стихи и проза; переписка с В. Ф. Ходасевичем. Изд. подготовила Инна Андреева. Москва. Муравьева, Ирина 2010 ‘Счастливый домик: Владислав Ходасевич, Анна Ходасевич и их переписка’. Звезда, № 11. Наумов, A. 1989 ‘Антология серебряного века’. Литературная учеба, № 2; ‘Несчастливый домик: Литературный альбом А. И. Ходасевич. Статья вторая’. Литературная учеба, № 4. Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 245 Новикова, A. M. 1966 ‘Иван Никанорович Розанов’. Выдающиеся ученые Московского университета. Москва. Пастернак, Борис 2004 Полное собрание сочинений: В 11 т. Т. III. Москва. Пастернак, Е. Б. 1997 Борис Пастернак: Биография. Москва. Преображенский, С. Ю. 2014 ‘Русский формализм глазами традиционалиста (И. Н. Розанов об О. М. Брике и МЛК)’. Методология и практика русского формализма. Бриковский сборник. Вып. II. Москва. Розанов, И. Н. 1914 Русская лирика: От поэзии безличной к исповеди сердца. Москва. 1915 ‘Кн. Вяземский и Пушкин’. Беседы: Сборник Общества истории литературы в Москве. I. Москва. 1916 Призраки звезд. Москва. 1976 ‘<Встречи с Брюсовым>’. Пред. и публ. Е. А. Кречетовой. Литературное наследство. Т. 85. Москва. Русская лирика 1914 Русская лирика: Избранные произведения русской поэзии от Ломоносова до наших дней. Сост. Владислав Ходасевич. Москва. Садовской, Б. 1914 ‘[Рец. на кн.: В. Ходасевич, Счастливый домик]’. Северные записки, № 3. Серпинская, Нина 2003 Флирт с жизнью. Москва. Соловьев, Сергей 1913 Цветник царевны: Третья книга стихов (1909-1912). Москва. Спасский, Сергей 1940 Маяковский и его спутники: Воспоминания. Ленинград. Степун, Федор 1994 Бывшее и несбывшееся. Москва; Санкт-Петербург. Телешев, Н. 1980 Записки писателя. Москва. Темненко, Г. М. 2006 ‘Критическая статья Ахматовой: обмен мистификациями или скрытая полемика?’. Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 4. Симферополь. 246 Н. А. Богомолов Терентьев, И. 1995 ‘Следственное дело Игоря Терентьева (1931)’. Публ. С. В. Кудрявцева; вст. ст. и примеч. Н. А. Богомолова и С. В. Кудрявцева. Минувшее: Исторический альманах, [Т.] 18. Москва; Санкт-Петербург. Тименчик, Р. Д. 2013 ‘Из Именного указателя к “Записным книжкам” Ахматовой’. Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Вып. 11. Симферополь. Тименчик, Р. Д.; Щербаков, Р. Л. 1994 Переписка <Брюсова> с Н. С. Гумилевым (1906-1920). Вст. ст. и коммент. Р. Д. Тименчика и Р. Л. Щербакова. Публ. Р. Л. Щербакова. Литературное наследство, Т. 98, Кн. 2. Москва. Флейшман, Лазарь 2003 Борис Пастернак в двадцатые годы. Санкт-Петербург. Ходасевич, Вл. 1915 Пушкин А. С. Драматические сцены. Москва. 1923 ‘Поэтическое хозяйство Пушкина’. Беседа, № 2. 1987 ‘Материалы к творческой биографии Вл. Ходасевича’. Вступ. заметка, публ. и комм. Евг. Беня. Вопросы литературы, № 9. 1989 Стихотворения. Вст. ст. Н. А. Богомолова. Cост., подг. текста и прим. Н. А. Богомолова и Д. Б. Волчека. Ленинград. 1990 Собрание сочинений. Т. 2. Под ред. Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. Ann Arbor. 1991 Колеблемый треножник: Избранное. Сост. и подг. текста В. Г. Перельмутера. Комм. Е. М. Беня. Подбор илл. А. В. Наумова. Под общей ред. Н. А. Богомолова. Москва. 1996 Некрополь. Литература и власть. Письма к Б. А. Садовскому. Москва. 1996-1997 Собрание сочинений: В 4 т. Москва. 1999а Пушкин и поэты его времени: В 3 т. Т. 1. Под ред. Р. Хьюза. Berkeley. 1999b ‘Владислав Ходасевич о Пушкине (Из архива И. И. ИвичаБернштейна)’. Публ., подг. текста и комм. С. И. Богатыревой. Вопросы литературы, май-июнь. 2010 Собрание сочинений: В 8 т. Т. 2. Москва. Хроника 1924 Хроника. Пушкин. Сборник Пушкинской комиссии Об-ва любителей российской словесности. Сб. I. Под ред. Н. К. Пиксанова. Москва; Ленинград. Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова (1913-1923) 247 Черных, В. А. 1996 ‘Ахматова или Гумилев? (Кто автор рецензии “О стихах Н. Львовой”?)’. Новое литературное обозрение, № 14. Чудовский, Валериан 1915 ‘Несколько мыслей к возможному учению о стихе. С примерным разбором стихосложения в I главе “Евгения Онегина”’. Аполлон, № 8-9. Чулков, Г. 1914 ‘[Рец. на кн.: В. Ходасевич, Счастливый домик]’. Современник, № 7. Шершеневич, Вадим 1998 ‘Похождения электрического Арлекина’. Вст. заметка и публ. С. В. Шумихина. Новое литературное обозрение, № 31. Штакеншнейдер, Е. А. 1934 Дневник и Записки (1854-1886). Ред., статья и коммент. И. Н. Розанова. Москва. Шубинский, Валерий 2011 Владислав Ходасевич: Чающий и говорящий. Санкт-Петербург. Языков, Н. М. 1988 Стихотворения и поэмы. Ленинград. Янтарев, Е. Я. 1913 ‘У эстетов’. Голос Москвы, 5 апреля, № 79, 2. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) www.elsevier.com/locate/ruslit CHODASEVIČ AND BELYJ: A PARODY REVISITED JOHN MALMSTAD Abstract This article examines the relationship between Andrei Belyi and Khodasevich, and focuses on an early parody of Belyi’s Second Symphony written by Khodasevich in 1907. The text, from a manuscript in the author’s hand, is published here. Keywords: V.F. Khodasevich; Andrei Belyi; ‘Simfonii’; Parody; Может быть, не менее, чем его книги, оказалась влиятельна самая личность этого человека, до крайнoсти сложного, очень часто не уживавшегося с общежитейским укладом, но таившего в себе обаяние единственное и незабываемое, лишь ему одному присущее. So Vladislav Chodasevič wrote in January, 1934 upon learning of Andrej Belyj’s death in Moscow on January 8. 1 Many people left memories of their encounters with the mercurial personality of Andrej Belyj, and the sheer number of them demonstrates the validity of Chodasevič’s assertion. 2 Among them, three stand out for their particular authority and probity: Klavdija Nikolaevna Bugaeva’s book length account of her husband’s final years, Marina Cvetaeva’s brilliant ‘Plennyj duch’, about her encounters with Belyj in Berlin, and the no less brilliant reminiscences that Chodasevič set down in January, 1934 and published in three issues of Vozroždenie on 8, 13 and 15 http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.012 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 250 John Malmstad February under the title ‘Andrej Belyj. Čerty iz žizni’.3 There he wrote: “он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей которых я знал.” Unlike either Bugaeva or Cvetaeva, Chodasevič knew Belyj at three very distinct periods of his biography. There is no need here for a detailed account of their relationship; Chodasevič has already given us that. Suffice it to say that he knew Belyj for nineteen years. They met in 1904 at the apartment of Valerij Brjusov, but did not become close until the early autumn of 1907, in Petersburg, where both had come after painful romantic reversals. That closeness, at a time of many of Belyj’s greatest accomplishments, lasted until the departure of Belyj and Asja Turgeneva for Western Europe in March, 1912. They met again in December, 1916, after Belyj’s return to Moscow and saw each other as often as the horrendous conditions of postrevolutionary Moscow permitted, when both men suffered from overwork, malnutrition, and illness. In November, 1920 Chodasevič moved to Petrograd and after Belyj came for a long stay in March, 1921, the two saw each other very frequently. In October Belyj left Soviet Russia for Berlin, and after Chodasevič arrived in the German capital in June, 1922, the two saw each other on an almost daily basis. It was in Petrograd and then Berlin that Belyj wrote two exceptionally thoughtful and insightful appraisals of the verse of Chodasevič; they have been equaled, but never bettered: ‘Rembrandtova pravda v poėzii našich dnej’ (Zapiski mečtatelej, 1922, 5) and ‘Tjaželaja lira i russkaja lirika’ (Sovremennye zapiski, 1923, XV). Chodasevič returned that critical favor, as it were, in 1927 when he wrote ‘Ableuchovy – Letaevy – Korobkiny’, one of the most penetrating analyses of Belyj’s prose ever penned, one which with time has lost none of its critical authority. 4 Their relationship came to a dramatic end on September 8, 1923 in an “incident” about which Chodasevič wrote only this in ‘Čerty iz žizni’: “Поссорился и со мной. Слишком сложные подробности этой ссоры, публичной и нелепой, сейчас рассказать не хочу.” In 1938 Chodasevič revisited his earlier reminiscences of Belyj (and others) for inclusion in the volume to be entitled Nekropol’ (1939). By then he had encountered the vicious caricature of himself that Belyj included in Meždu dvuch revoljucij: Я к Ходасевичу чувствовал вздрог; […] капризный, издерганный, самоядущий и загрызающий ум развивался за счет разложения этики. Жалкий, зеленый, больной, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи, мне казался порою юнцом, убежавшим из склепа, где он познакомился уже с червем; […] Только гораздо 5 поздней мне открылся до дна он. Chodasevič had earlier reviewed Na rubeže dvuch stoletij in Vozroždenie (1930, 29 May, No. 1822), as well as Načalo veka (1934, 28 June and 5 July, Chodasevič and Belyj: A Parody Revisited 251 Nos. 3312 and 3319). He had not reviewed the final volume of Belyj’s memoirs when it appeared in April, 1935; he turned to it now, probably prompted to do so by his work on the revisions of his reminiscences. In his review, entitled ‘Ot polupravdy k nepravde’, Chodasevič did not respond in kind to Belyj; he wrote only: Белый посвятил мне страницы две – и каких! Нынешняя брань по истине стоит былых похвал: столь же она неумеренна и незаслужена. По этой причине она меня и не огорчает, как похвалы не радовали: знаю, что истинное отношение ко мне – не там, и не здесь, потому что и там, и здесь – надсад, надрыв, самовзвинчиванье. […] Несчастье в том, что сказанное обо мне характерно для всей книги. Пусть бы Белый, понося не только меня, но, за ничтожными исключениями, все и всех, исходил из действительных фактов […] Но Белый фантазирует. 6 He concluded the review with: К славе Белого его последние книги ничего не прибавят. Они, конечно, свидетельствуют о его внутреннем распаде. Но не следует забывать, что этот распад именно потому трагичен, что в Белом было чему распадаться, что был он не только замечательным писателем, у которого, порой сами того не зная, учились многие строгие критики его писаний, но был еще и замечательным человеком, в истинной, неомраченной своей сущности – неизмеримо лучшим, нежели многие из тех, кто теперь злорадствует по поводу его жалких посмертных книг. И когда слышим теперь, как смакуют падение Белого, как радуются – “он мал, как мы, он мерзок, как мы!” – хочется ответить: “врете, подлецы! он и мал, и мерзок, не так, как вы – иначе!” Chodasevič did heavily revise ‘Andrej Belyj. Čerty iz žizni’ in the now starkly titled ‘Andrej Belyj’, but he did not allow Belyj’s nastiness to color the revision in any way, to alter the warmth and generosity of the earlier probing and deeply loving portrait of Belyj set down in 1934. He now gave a fuller account of the “incident” which lead to the break of his relations with Belyj in September, 1923, about which he had been so circumspect in 1934: В ту пору русские писатели вообще разъезжались из Берлина. Одни собирались в Париж, другие (в том числе я) – в Италию. Недели за полторы до отъезда Белого решено было устроить общий прощальный ужин. За этим ужином одна дама, хорошо знавшая Белого, неожиданно сказала: “Борис Николаевич, когда приедете в Москву, не ругайте нас слишком.” В ответ на это Белый произнес целую речь, в которой заявил буквально, что будет в 252 John Malmstad Москве нашим другом и заступником и готов за нас “пойти на распятие”. Думаю, что в ту минуту он сам отчасти этому верил, но все-таки я не выдержал и ответил ему, что посылать его на распятие мы не вправе и такого “мандата” ему дать не можем. Белый вскипел и заявил, что отныне прекращает со мной все отношения, потому что, оказывается, “всю жизнь” я своим скепсисом отравлял его лучшие мгновения, пресекал благороднейшие поступки. Все это были, конечно, пустые слова. В действительности он вышел из себя потому, что угадал мои настоящие мысли. Понял, что я знаю, что “распинаться” за нас он не будет. Напротив... По существу, он был не прав – даже слишком. Но и я виноват не меньше: я вздумал требовать от него ответственности за слова и поступки, когда он находился уже по ту сторону ответственности. Воистину мой поступок был вызван очень большою любовью к нему: я не хотел обидеть его снисхождением. Но лучше мне было понять, что нужно только любить его – несмотря на все и поверх всего. Это я понял, когда уже было поздно.7 Chodasevič also once again addressed Meždu dvuch revoljucij: В этой книге, окончательно очернив Блока, он еще безжалостнее расправился чуть не со всеми прочими спутниками своей жизни. […] Чем ближе был ему человек, тем необходимее было представить его тайным врагом, изменником, провокатором, наймитом и агентом капитализма. Он пощадил лишь нескольких, ныне живущих в советской России. Будь они за границей – и им бы несдобровать. И совершенно так же, как он демонизировал и окарикатуривал всех, кто окружал героя в его романах, теперь он окарикатурил и представил в совершенно дьявольскoм виде бывших своих друзей.8 A year later, Chodasevič was dying in Paris, and then, too, Belyj was a ghostly presence, as Nina Berberova remembered in her obituary of the writer: […] особо было его отношение к Андрею Белому: ни личная ссора в Берлине, в 1923 году, ни “горестное вранье” (по выражению Ходасевича) последней книги Белого – ничего не могло уничтожить или исказить ту огромную, вполне безумную, “сильнее смерти” любовь, которую он чувствовал к автору “Петербурга”. Это было что-то гораздо большее, нежели любовь поэта к поэту, это был непрерывный восторг, неустанное восхищение, которое дошло всей своей силой до последних бредовых ночей Ходасевича, когда он говорил с Белым сквозь муку своих физических страданий и с ним предвкушал какую-то неведомую встречу.9 Chodasevič and Belyj: A Parody Revisited 253 In his several writings about Belyj Chodasevič is silent about one work of his own – a deft parody of Belyj’s Simfonija (2-ja, dramatičeskaja) that he wrote in 1907. On August 15, 1907, he wrote to Belyj asking him if he would object to publication of the parody: Ответьте мне совсем искренно, не будет ли Вам почему-нибудь неприятно появление этой пародии в печати. Она написана (верьте) без всяких задних мыслей, но, повторяю, боюсь, что Вам покажется неприятным ее напечатание, хотя мне кажется, что там нет ничего “такого”. В этом случае мое письмо только излишняя предосторожность, за которую, надеюсь, Вы не будете сердиться. 10 Belyj did object, not to the parody per se (he was not without a sense of humor about himself), but to the intended place of publication, one indicated by Chodasevič in his letter: “Стражев просил у меня для 1 № своей газеты пародию на 2 симфонию.” Belyj intensely disliked Viktor Stražev and had suspicions that his new Literaturno-chudožestvennaja nedelja was to have an anti-Vesy and anti-Brjusov orientation. 11 Belyj made his objection known, either in a letter (which has not come down to us) or at a meeting with Chodasevič; the author, good to his word, did not publish the parody there or anywhere else. There the matter rested until 1987, when Robert Hughes published the parody in the context of his fine article ‘Belyj i Chodasevič: k istorii otnošenij’ (Vestnik russkogo christianskogo dviženija, 1987, 151, pp. 144-165). The source of the text published by Hughes was a copy in the Moscow archive of Aleksandr Ivič (Ignatij Ignat’evič Bernštejn); it is now possible to publish it from the manuscript, in the author’s hand, that Chodasevič sent to Belyj (it is part of the Belyj archive at Moscow’s RGALI. F. 53. Op. 1. Ed. chr. 346). There are some minor textual differences and several sentences in the original went missing in the Ivič copy, as did an entire section in the First Part (beginning “1. За всем […]” and ending “[…] уследить”). Why “пятая” in the parody’s subtitle (“перепевная” is obvious) when by 1907 Belyj had published only three of his “symphonies”? Chodasevič obviously knew from meetings with Belyj in 1907 that he was at work on a fourth and had finished it at the end of June (Kubok metelej. Četvertaja simfonija was published at the beginning of April, 1908). As for the signature “Kas’jan V.” an explanation eludes me. 254 John Malmstad МОСКОВСКАЯ СИМФОНИЯ (5-я, перепевная) (Посвящ<ается> Андрею Белому) Часть первая 1. Уже день горел над Москвой. 2. Уже неистовствовали дворники, кутаясь в пыльные клубы. Уже поливальщики поливали. 3. За всем этим следила Городская Управа.* 4. Но поливали они на улицах людных, а Сивцеву Вражку предстояло сохнуть. 5. Всем жаром своим обрушивался день на Сивцев Вражек. 1. За всем этим зорко следила Городская Управа. 2. И не могла уследить. 1. От жара спешил поэт укрыться в редакции. 2. Был поэт социал-демократом. 3. Мелкой рысцой бежал в редакцию. Боялся расплавиться в драповом пальто. Уже надоел ему бабушкин зонтик. 4. Ибо нельзя было в нем крыться от небесных костров: основательно был продран бабушкин зонтик… 5. Прилипали поэтически калоши к тротуару. 6. Но не унывал поэт, но покуривал папироску, но картинно сплевывал на сторону. 7. Ибо он был социал-демократом. 1. И вот теперь нес он под правой мышкой речи Жореса, а под левой – Бебеля. Поглаживал Жореса по корешку, входя в редакцию. 2. Говоря: “милый…” 3. А в сердце его входила радость. 1. Посмеиваясь, раскланиваясь, здоровался поэт с сотрудниками. 2. Смотря в окно, подмигивал. Намекал на Жену Облеченную в Солнце. 3. Скоро… Скоро… 1. На дворе Петрушка колотил Цыгана. 2. Он не знал, что будет съеден Заморским Чудищем. 3. А Чудище барахталось уже в ситцевом мешочке… Chodasevič and Belyj: A Parody Revisited 4. Глазели мальчишки на Петрушку, и высыпали на двор сотрудники. Давали пятаки Петрушечнику. 5. А иные – гривенники. Были и такие, что могли подать пятиалтынный. 6. Были и сотрудники, подающие только – надежду. 1. Но высунулся поэт в окно, погрозил им пальцем, закричал: 2. …“Неврастеники!”… 3. Восставал поэт против ужасов, восставал против расколов в душах сотруднических. Грозил балаганщикам. 1. Этого не знал Петрушка, доколачивая городового. 1. В конторе редакции розовое дитя позвякивало монетами, шелестело бумажками. 2. Выдавая сотрудникам – каждому по делам его. 3. Были нарочито сосчитаны строчки и записаны в Книгу. 4. Розовое дитя выдавало сотрудникам гонорары, каждому – по делам его. 5. И записывало в Книгу, и отчеркивало по железной линейке: 6. Ему предстояло пасти народы жезлом железным. 1. Но просчиталось дитя, но не хватало у него в кассе 3 рублей и 78 копеек. 2. И заплакало: ему предстояло пасти народы… 3. К лицу его прильнула голубая занавесочка. Ласково утирала слезы. Шептала: “милый!..” 4. Это был лоскуток небесной лазури… 1. На улицах катились поливальщики. Трясясь на бочках, вместе с землей уносились они в ледяной холод созвездий. Они поливали Кузнецкий Мост и Воздвиженку. 2. А Сивцеву Вражку предстояло сохнуть. 1. В тот час появился поэт в дверях конторы. 2. Посмеиваясь, раскланялся. Подмигнул, намекая. 3. И утешилось дитя, видя улыбку поэта. Догадалось о несказáнном. 4. Скоро… скоро… 5. Они понимали друг друга. Поэт смотрел в окно… Дитя выдавало гонорар поэту… 6. Это был воздушно-золотой фейерверк невинности. 255 John Malmstad 256 1. Уже день догорал над Москвой. Огненное вино тухло на горизонте. 1. Напившись чаю, выходил поэт из редакции. 2. Ибо не только получал он там гонорары, но и пил чай. Вознамерился он широко использовать печатное слово… 3. Был поэт социал-демократом. Часть вторая 1. Мелкой рысцой бежал он по Сивцеву Вражку. Бежал – заворачивал на Пречистенский бульвар. 2. Тот, которому надлежало пасти народы, обогнал его, неподвижно сидя на извозчике. Направляясь к издателю. 3. Извозчик сосредоточился на козлах. Понимал, чтó делает. 4. Дитя поклонилось поэту. Поэт подмигнул значительно. 5. Скоро… скоро… 6. И уже не видно было младенца. 1. Бежал поэт по пыльным тротуарам. 2. Попыхивал папироской, картинно сплевывая. Он был социалдемократом. 1. 2. 3. 4. Розовая зорька хохотала, как безумная. Бледная, умирала со смеху, кашляя и задыхаясь. Она была чахоточная, и ей вредна была московская пыль. И пока об этом не писали в газетах, – она хохотала, а Управа бездействовала. 1. Но хмурился редактор, читая статью поэта. 2. Статья была длинная, туманно-безмирная и подмигивающая. Она говорила о несказáнном. 3. Хмурился редактор, хмурился, – но сложил статью аккуратно. 4. Надписал над ней: Принято. Корпус. 1. Ибо петитом печатались только рецензии. 1. Поэт напивался домашнего чаю, в кабинете своем, близ Успенья на Могильцах. 1. Редактор пошел домой, неся портфель под мышкою. 2. Смилостивилось солнце над Москвой. Унылые граждане выбежали на улицу подышать свежим воздухом. 3. Это все были подписчики: действительные и предполагавшиеся. Chodasevič and Belyj: A Parody Revisited 4. Редактор похлопывал по портфелю рукой своей, говоря громко: 5. “О, сколь много интересного для г.г. подписчиков кроется в портфеле редакции!..” 6. Но его не слышали угрюмые подписчики. Затыкая носы, дышали они свежим воздухом. Безумцы наслаждались вечером, ласково-пыльным. 7. Но все же предстояло им прочесть статью поэта. 8. Она была длинная и подмигивающая, и говорила – о несказáнном. 1. Розовая зорька хохотала как безумная. 2. Но уже видно было, что не миновать ей смерти. 3. Она была чахоточная, и Городская Управа была бессильна спасти ее. 4. Как бы ни заботилась она об удовольствиях граждан. Часть третья 1. 2. 3. 4. 5. Вечером поэт пошел к приятелю. Оба молчали, намекая на несказáнное. Клали заплатку на крылатку Владимира Соловьева. Ибо приятель поэта был внук того и племянник этого. И вот затаскал он дядину крылатку, ибо был расточителен. 1. В тот самый момент черный кот выкарабкался-таки из-под серого и поколотил его. 2. Это был кошачий ужас, а назывался он возмездием. 1. Тогда пошел поэт от приятеля. 2. Задумчиво брел он по звонкому тротуару, картинно сплевывая: он был социал-демократом. 3. Но никто этого не знал и не видел, ибо и зорька умерла уже в тот час. 1. …Была зорька розовая и безумная. 2. Она одинаково хохотала и поэту, и редактору – прямо в лицо. Касьян В. * См. московские газеты за май мес<яц> 1907 г. 257 John Malmstad 258 NOTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 The obituary was published in Vozroždenie, 1934, 13 January, No. 3147; it is republished in Smert’ Andreja Belogo (1880-1934). Dokumenty, nekrologi, pis’ma, dnevniki, posvjaščenija, portrety (Sost. Monika Spivak, Elena Nasedkina), Moskva, 2013, pp. 501-502. See Vospominanija ob Andree Belom (Sost. V.M. Piskunov), Moskva, 1995; and Smert’ Andreja Belogo. They are republished in Smert’ Andreja Belogo, pp. 502-516. I published the rough draft of the 1934 reminiscences in ‘Chodasevič ob Andree Belom’, Andrej Belyj v izmenjajuščemsja mire. K 125-letiju so dnja roždenija, Moskva, 2008, pp. 152-178. Sovremennye zapiski, 1927, XXXI, pp. 255-279; the essay is republished in Andrej Belyj: Pro et Contra (Ed. A.V. Lavrov), Sankt-Peterburg, 2004, pp. 732-752. Andrej Belyj, Meždu dvuch revoljucij, Moskva, 1990, p. 223. Vozroždenie, 1938, 27 May, No. 4133; the review is republished in Andrej Belyj: Pro et Contra, pp. 867-871. Vladislav Chodasevič, Sobranie sočinenij, Vol. 4, Moskva, 1997, p. 64. Berberova gives a similar account in her Kursiv moj, Moskva, 1996, pp. 197-198. Belyj gave an entirely different interpretation of the break with Chodasevič in a letter to Maksim Gor’kij of April 8, 1924; see Alisa Krjukova, ‘M. Gor’kij i Andrej Belyj. Iz istorii tvorčeskich otnošenij’, Andrej Belyj. Problemy tvorčestva, Moskva, 1988, p. 302. Chodasevič, Sobranie sočinenij, Vol. 4, pp. 65-66. Nina Berberova, ‘Pamjati Chodaseviča’, Sovremennye zapiski, 1939, LXIX, p. 259. Compare with the following in Berberova’s autobiography: “После морфия он бредил – три темы бреда: Андрей Белый (встреча с ним), большевики (за ним гонятся) и я (беспокойство, что со мной)” (Kursiv moj, p. 417). Chodasevič used the phrase “горестное вранье” in a letter to Berberova of May 21, 1938: “[…] читаю по странице в час – сил моих нет, какое вранье ужасное, горестное” (‘Pis’ma V. Chodaseviča k N. Berberovoj’, Minuvšee: Istoričeskij al’manach, 1988, 5, p. 321). Chodasevič, Sobranie sočinenij, Vol. 4, p. 381. See my article ‘Koe-čto ob Andree Belom. I. Burja simvolistov v stakane vody’, Novoe literaturnoe obozrenie, 41, 2000, pp. 204-210. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 259–283 www.elsevier.com/locate/ruslit А. Я. БРЮСОВ И В. Ф. ХОДАСЕВИЧ. ПЕРЕПИСКА (A.IA. BRIUSOV AND V.F. KHODASEVICH. CORRESPONDENCE) А. Л. СОБОЛЕВ (A.L. SOBOLEV) Abstract The article serves as an introduction to the correspondence of Aleksandr Briusov (Valerii Briusov’s younger brother) and Vladislav Khodasevich, published in the present volume. It provides a detailed outline of the history of their relations, which were complicated by their enduring rivalry, both in poetry and in personal life. Keywords: V.F. Khodasevich; A.Ia. Briusov; A.I. Chulkova В корпусе сохранившейся эпистолярии Ходасевича переписка с Александром Яковлевичем Брюсовым1 (1885-1966) не занимает значительного места: подвергшаяся значительным утратам и/или изъятиям, почти не выходящая тематически за пределы сухой фактографии, хронологически ограниченная семью годами – она лишь в малой мере может служить подспорьем для реконструкции четвертьвековой истории их отношений. В свою очередь, сам их диалог исключительно принципиален в смысле взаимных жизнестроительных влияний: от явного параллелизма раннего периода биографий (одинаково чувствительного для обоих), до резкого разрыва начала 1910-х годов, увенчанного невольным примирением десятилетие спустя. Знакомство их, по всей вероятности, состоялось в 1896 году, когда оба они поступили в 3-ю московскую гимназию: весной, когда держали экзамены или осенью, когда приступали к занятиям. Фрагментарные http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.013 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 260 А. Л. Соболев воспоминания Ходасевича о гимназических годах рассеяны по мемуарным очеркам об однокашниках (прежде всего – В. В. Гофмане и Д. А. Черепанове);2 Брюсов полвека спустя начал набрасывать автобиографическую повесть, где несколько абзацев уделил доуниверситетским годам: АП шел пятнадцатый год. Его старший брат уже кончил университет и служил секретарем в “Русском архиве” Петра Ивановича Бартенева, старшая сестра Надежда кончала консерваторию, другая старшая сестра Евгения тоже училась в консерватории. Младшая сестра Лидия училась в частной гимназии Ржевской. Лето пролетело быстро, как будто его и не бывало. Наступила осень, а с ней и занятия в гимназии. И так без перемен шел год за годом. В старших классах занятия были серьезнее. Читали Овидия, Тита Ливия, Цицерона, Горация, а из греческих авторов Ксенофонта и Софокла. Появились занятия физикой и химией, раз в неделю был урок космографии. По закону Божию проходили богослужение и вероучение. Гимнастика заменена была военным строевым учением с палками вместо винтовок. Зато отменили географию и после 4 класса ее не преподавали и она даже не значилась среди предметов, по которым сдавали экзамен зрелости. И он наступил. Но до него дотянули только немногие из поступивших в первый класс; из числа более сотни поступивших до 8 класса дотянули только 29 человек. Остальные отсеялись, оставаясь в предшествующих классах на второй год или совсем прекратили учение после 6 класса, дававшего различные права. Некоторые переехали в другие города. В последнем 8 классе уроков уже не задавали. Повторяли пройденное за 7 лет. Поэтому экзамен зрелости не вызывал тревоги и не требовал большой подготовки к нему. АП был среди получив3 ших золотую медаль. В мемуарах А. И. Ходасевич, допущенной к устным отзывам обоих, среди прочего говорится: Гимназические годы В. Ф. мне мало известны. Знаю, что он учился в Московской III классической гимназии, где проходили греческий и латинский языки. В его классе учился брат Валерия Брюсова – Александр Брюсов. Очевидно, влияние старшего брата сказалось на младшем брате, и он стал писать стихи. Это объединяло В. Ф. с Александром Брюсовым, и они еще многие годы были в приятельских отношениях.4 Вероятно, какие-то анекдоты (в старинном смысле) из совместного гимназического быта приятелей циркулировали в литературной среде еще в А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 261 1910-х годах: за передачу одного из них Цветаева благодарила будущего мужа: “Спасибо, Lou, за историю с Брюсовым и Ходасевичем! Я безумно хохотала и наслаждалась [...].”5 В конспекте к автобиографии Ходасевича 1897 год помечен: “Останкино. Фотография. Балы. Малицкий. Брюсовы”:6 с этого момента он, на правах одноклассника младшего брата, делается завсегдатаем дома на Цветном бульваре. В мемуарном очерке Ходасевича о Валерии Брюсове, где акценты ретроспекции расставлены, повинуясь внелитературной задаче, Александр Яковлевич упоминается единожды (“Я учился в гимназии с его младшим братом”).7 В написанных много позже воспоминаниях Брюсова-младшего посетители обоих братьев противопоставляются – и Ходасевич причисляется к кругу гостей мемуариста: [...] начиная с 1903 года, Валерий стал приглашать меня на свои журфиксы, на которые приходили его литературные друзья. На этих встречах я познакомился с К. Д. Бальмонтом, Андреем Белым, Д. Мережковским и Зинаидой Гиппиус, Балтрушайтисом, Макс. Волошиным и другими поэтами. Позднее Валерий стал приходить и на мои журфиксы, в которых участвовали писатели другой московской группы – Бунин, Зайцев, Ходасевич, А. Койран8 ский, Соколов (Кречетов), К. Чуковский и другие. Атмосфера дружелюбного соперничества братьев запомнилась и одному из посетителей: “[...] являлся за чайным столом Саша Брюсов, еще гимназист, но тоже ‘поэт’; ставши ‘грифом’, он соединился с Койранским против брата: едкий, как брат, супясь, как петушок, говорил брату едкости; брат, не сердясь, отвечал.”9 В 1904 году, окончив гимназию, Ходасевич и Брюсов поступают в университет: первый – на юридический факультет, второй – на филологический (семестр спустя Ходасевич переведется сюда же). Краткий итог первого года обучения был подведен Брюсовым в беллетризованных мемуарах: Начались занятия. Филологический факультет, на который поступил АП, насчитывал около 300 студентов. Аудитории факультета находились в подвальном помещении старого здания, в настоящее время находящиеся [sic] под Антропологич. музеем Университета. В университет впускали по билетам, снабженным фотокарточкою, и субинспекторы отмечали в журнале приход и уход каждого студента. Занятия мало отличались от гимназических. На занятиях латинским и греческим языком после вступительной речи профессора о значении того или иного автора, произведения которого выбраны для разбора в этом году, студентов, как и в гимназии, вызывали и заставляли читать текст и переводить с соответствующим 262 А. Л. Соболев разбором, слегка отличавшимся от гимназических требований и немного напоминающим обычные комментарии. Некоторые профессоры более чем прохладно относились к своим обязанностям. Так, например, Бельский, читавший курс логики, произносил вступительную речь, после которой рекомендовал трехтомный учебник логики Троицкого и появлялся только весною для приемки экзаменов. Несколько оживленнее проходили занятия у молодого профессора Виппера, только что приехавшего из Германии и читавшего курс истории Греции. Совсем убийственно скучны были занятия у профессора Брандта, читавшего курс старославянского языка. В течение двухчасовой лекции (без перерыва) он стоял спиной к слушателям и писал на доске комментируя написанное. А в заключение нередко заявлял “я, кажется, что-то здесь наврал” и стирал написанное. Надо сказать, что он считал себя великим баснописцем и выпустил два тома басен. Между тем политическая обстановка в России все более накалялась, особенно по мере того, как развивалась русско-японская война, обнаружившая слабость царской России. Начались студенческие сходки. Университет был временно закрыт. АП решился. После довольно тяжелой сцены с родителями он расстался с родным домом, не желая подвергать свою семью неприятностям и переехал жить самостоятельно на другую квартиру. Пользуясь знакомством с некоторыми из своих товарищей студентов, имевших связи с с.д., он организовал в своей новой квартире партийную явку и принял на хранение некоторые партийные 10 документы. Упомянутая здесь “новая квартира” – снятая на паях с А. Койранским в районе Волхонки11 – была описана в стихотворении А. Я. Брюсова, посвященном Муни и Ходасевичу: “Большая комната. Осенний сад в окне. / Шуршат старинные, потертые обои, / И каждый вечер здесь в заснувшей тишине / Мы сходимся, нерадостные трое.”12 (Предложенное здесь автоописание дружеского кружка – “нерадостные трое” – было вариабельным, как и его состав; в это же время Муни очерчивал круг ближайших друзей, исключив, кстати, из него Ходасевича: “Саша Брюсов, Саша Койранский и Саша – я”.)13 Насколько мы можем судить, отношение к революционным событиям 1905 года и степень вовлеченности в них в этот момент сделалось для Брюсова-младшего центральным пунктом самоидентификации – в том числе и поэтической. Согласно одной из версий его мемуаров, именно недостаточный энтузиазм старшего брата сделался причиной их размолвки: “Подобно многим своим сверстникам, включился в революционную борьбу и я. Отделился от семьи, переехал на другую квартиру. А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 263 В те дни у меня произошла некоторая размолвка с братом.”14 В эти же дни Ходасевич посвящает бывшему однокласснику стихотворение-декларацию, фиксирующее свершившееся расхождение: Александру Брюсову – Владислав Ходасевич Ты изменил ненайденной отчизне. Бальмонт Меня роднят с тобою дни мечтаний, Дни первых радостей пред жертвенным огнем; И были мы во власти обаяний, И сон ночной опять переживали днем. Мы жили. Протекли мгновенья снов, И я остался прежним, чуждым искушений, Вдали от Дьявола Общественных Основ. Но, соблазненный, ты вступил на путь падений. Ты отошел от жертвоприношений, Богам Неведомым. Пошел к богам отцов, Вершить дела домашних устроений, – Заботы будущих и прежних мертвецов. Я вышел в жизнь. Быть может, мой удар, Защитник от Судьбы, и робок, и не меток. Но славлю жизнь за то, что я не стар, – И не герой – в театре марьонеток. 15 Москва, 12/IX 05 Взяв последние две строки в качестве эпиграфа, Брюсов отвечал ему встречным рифмованным памфлетом: Одному из спутников Но славлю жизнь за то, что я не стар, – И не герой – в театре марионеток. В. Х. Мы шли по неровным ступеням В глубины тюремного свода. Мы знали, что клятве изменим, Что нет нам отсюда исхода. 264 А. Л. Соболев Восторженно в глуби провала Ты бросился с факелом дымным И звал меня в блеск карнавала Молитвенно радостным гимном. Но смотрят в забытую просинь Былые мечтанные клятвы; А мысли, что в позднюю осень Колосья несобранной жатвы. Я бросил далеко оковы, Отторгнул невластные чары. Свободен! и снова, и снова Я с вами, о волны Сансары. Как в море открытом, не знаю, Куда и откуда плыву я. Я вольные ветры встречаю, Со встречным безумцем ликуя. Я вышел из тьмы подземелья, Из цепи танцующих масок. Да здравствует пьяность веселья 16 И блески предутренних красок. В практическом смысле эта смена жизненных устремлений проявилась в серии дальних путешествий, для того времени и круга беспрецедентных (десятилетием позже некоторые маршруты, освоенные Брюсовым, будут повторены Бальмонтом). Частично отображая увиденное в стихах (что дало основание старшему брату сыронизировать по поводу рифмованных травелогов: “[...] слишком мало стихотворений [...] Так мало, что чуть ли не каждое помечено новой частью света [...]”),17 за три года он объехал большую часть мира. В феврале 1906 года он был в Египте, в мае – в Индии; в том же году – в Константинополе;18 вероятно, тогда же он посетил Австралию.19 В ноябре 1906 года его видели в Москве (“И пьяная я говорила о постороннем, и пьяная я спокойно доехала с Александром Брюсовым. И даже без поцелуя руки расстались”),20 откуда он, оставив доверенность на управление имуществом,21 вновь отправляется в путь – сперва в Париж (сопровождаемый своеобразным рекомендательным письмом: “Был ли у вас мой брат по пути в Америку? и юноша Гумилев? Первого не рекомендую, второго да”),22 оттуда – в Соединенные Штаты.23 Лето 1907 года он проводит в России: 28 мая Нина Петровская письменно предваряет его появление на даче у Ходасевичей (“Вы спрашиваете о мальчиках – не знаю, почти не вижу, но они все же соби- А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 265 раются к Вам. Саша Брюсов и Муни”);24 сам Ходасевич в письме к общему приятелю упоминал его среди множества гостей: “У нас все лето масса народу. [...] Около 15 июня приехал Муня, который еще у нас, а вчера объявился А. Брюсов, до среды.”25 В начале 1908 года с интервалом в полтора месяца вышли дебютные книги Брюсова и Ходасевича: По бездорожью и Молодость;26 синхронность издания и известный параллелизм судеб определили неизбежность их сопоставления: “Владя издал свою книгу. Поэзии в ней мало, но есть боль, а это кое-что. Не такая пустота, как стишки Alexander’a.”27 В печатной рецензии Брюсова они хотя не соотносятся прямо, но объединяются в одном обзоре (‘Дебютанты’) приблизительно с теми же коннотациями: про Ходасевича сказано, что у него есть “острота переживаний”; про Александра Яковлевича – что его стихи “не из худших среди ежедневно появляющихся”, но с неутешительным выводом: “все же нам кажется, что автор не поэт и сделал бы лучше, если бы свои способности направил на другую область деятельности”.28 Сходным образом отозвался о них Блок: “Ловкие и ни к чему не обязывающие декадентские стихи, напоминающие, как большинство современных декадентских стихов, преимущественно Валерия Брюсова.”29 Вероятно, эти рецензии были им прочитаны с существенным опозданием: в первых числах марта 1908 года он был в Батуми,30 откуда, как кажется, отправился в новую поездку: точные подробности ее неизвестны, но среди бумаг сохранилось расписание рейсов “Добровольного флота” на первую треть 1908 года, где отчеркнут маршрут парохода “Тамбов”: выходя из Одессы 10 марта, он следовал через Константинополь, Порт-Саид, Коломбо, Сингапур и Нагасаки во Владивосток, куда должен был прибыть 23 апреля.31 От посещения некоторых из этих пунктов у него остались вещественные памятки (рекламный буклет гостиницы “Глоб” в Коломбо: “Единственная Русская Гостиница”, “Говорят ио [sic] Русски”; прейскурант лавочника из Нагасаки);32 иные не нашли отражения ни в архиве, ни в стихах. Обстоятельств завершения этой поездки мы не знаем; но твердо известно, что в следующее путешествие он отправился уже не один. Несмотря на то, что Анна Ивановна Чулкова по праву рождения сызмальства обладала кругом литературных знакомств, документальные данные о ее биографии, особенно ранней, крайне незначительны.33 Нам известны имя и род занятий ее первого супруга, Евгения Карловича Гренциона;34 в бумагах ее гражданского мужа, Б. А. Диатроптова, была обнаружена лаконичная записка: “Боря, я ухожу к Саше Брюсову, прости, если можешь. Прачка принесет рубашки, отдай ей 20 копеек. Нюра;”35 ее невестка делилась эхом семейных пертурбаций: “Нюра ездила к дядюшке и объявила ему, что она разводится с Евг<ением> и выход<ит> замуж за Брюсова.”36 Датировать это событие мы не можем; 266 А. Л. Соболев первый из разысканных документов, касающийся их совместной биографии – отчет о поездке в Италию начала 1909 года: Снежный занос! Лавины! Поезд отправляется может быть завтра, может быть послезавтра, может быть через неделю. 61 километр заносов! Отели переполнены. Станция заставлена поездами. Австрияки потеряли голову и не знают, что им делать со снегом; лопаты неприспособлены, руки не привыкли, работают на расчистке так, что московские дворники, увидав, умерли бы от смеха. Пока смешно и смеемся до колик в желудке. All-right – посидим в Villah’е [sic]. На станции кутерьма, служащие, начиная с начальника станции и кончая последним мальчиком, мечутся, как угорелые, под градом ругательств и укоризн. Вот те и чорт. Поехали в теплые страны а попали в снежную мятель. Плевать! Сейчас получили известие, что пробудем здесь три дня minimum. A maximum? Гостиница великолепная, номер чист и светел. Все в аккурате. Нюрка довольна и весела. Вот тебе и путь через Понтеббу, вот тебе и солнце Италии. А в Венеции, говорят, на коньках по каналам катаются, во Флоренции, как тоже говорят, в снежки играют. Чем южнее, тем холоднее – двадцать два несчастья. О Рим, Рим, не все дороги в тебя ведут. От ужаса даже я по-немецки заговорил. Они то, голопятые немцы, понимают меня, а вот я плохо соображаю, что мне отвечают. Тож на тож выходит, как если бы и не знал ни слова понемецки. Однако, пока все идет как по маслу. Вспоминаю Восточно-Китайское море, когда тайфун загнал нас в Натранга, место глухое и дикое: так и теперь приходится ознакомиться с Villah’ом [sic]. Взяли круговые билеты – дешево до глумления. Вена – Венеция – Флоренция – Рим – Анкона – Фиуме – Буда – Пешт – Вена второго класса 145 крон; удобно и на душе спокойно, билеты в кар37 мане. Вероятно, к первым месяцам после возвращения из этой поездки относится новое сближение Брюсова и Ходасевича: Я в то время была замужем за Александром Брюсовым. Познакомившись с Владей, я настаивала, чтобы он возобновил прежние приятельские отношения с моим мужем. Владя стал у нас часто бывать, даже гостил у нас на даче, совместно переводил с А. Б. ка- А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 267 кой-то испанский роман, писали шуточные стихи, эпиграммы, пародии, акростихи и тому подобные вещи. Я очень подружилась с Владей – он делился со мной своими новыми стихами, своими 38 душевными и любовными переживаниями. Первое из сохранившихся писем (оно датировано 1910-м годом),39 написанных Анной Ивановной к Ходасевичу, своим приятельским тоном и апелляцией к общим воспоминаниям фиксирует уже высокую степень дружества: Владя, пишу тебе еще письмо (только Бога ради не подумай, что я в тебя влюблена). Ты удивлен? Но представь себе, что у меня сейчас такое настроение, как у тебя было весною, а поделиться мне не с кем, ну вот я и пишу тебе – я ведь знаю, ты все пони40 маешь. Эпистолярный диалог возобновился летом следующего, 1911 года, когда Брюсов с женой на все лето уехали в Париж:41 несмотря на то, что поездка готовилась заранее (“О наших слыхала только, что Саша с Нюрой едут на днях за границу и что Саша осенью будет служить солдатом”),42 под ее пером она принимает вид экспромта: Пишу тебе это письмо в вагоне, который идет из Берлина в Париж. Надумали ехать в Париж внезапно, хотя я лично еду туда по делу: хочу учиться “маникюре, педикюре” вернувшись из-за границы […], но не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого. А Саша 43 едет потому, что любит ездить. В качестве обратного адреса Анна Ивановна оставляет Ходасевичу парижский адрес своего брата и его жены; много лет спустя последняя вспоминала: К концу наших прогулок по Парижу и его окрестностям в обществе русских наших знакомых приехала младшая сестра Георгия Ивановича, Анна Ивановна, только что вышедшая тогда за брата поэта Валерия Брюсова, Александра Яковлевича Брюсова. Он тоже, как и брат его, писал стихи, подписываясь “Александер”, но был более склонен к наукам. Это был еще очень молодой человек, увлеченный своей хорошенькой женой. Оба счастливые, они жаждали развлечений и веселились как дети, танцевали 14 июля, в день взятия Бастилии, на улице и даже катались на карусели на площади Сан-Мишель. Он гордо восседал на деревянном коне, она – в золотой коляске, похожей на колыбель для младенца. Оба от души смеялись, не меньше сидевших с ними рядом 44 детей и взрослых молодых французов. А. Л. Соболев 268 В середине лета Брюсов вернулся в Москву, а Анна Ивановна, как и предполагалось, осталась в Париже; из-за этого переписка этого лета, начинавшаяся как трехсторонняя,45 сделалась диалогом – 28 июля Анна Ивановна писала Ходасевичу: Живу в Париже одна, учусь beauté и предаюсь грустным думам. Думаю в сентябре вернуться в Москву, открыть “Институт красоты” и заработать кучу денег. Изволь присылать мне всех своих дамочек. Шурка очень доволен, что я стала большая. Чулковы 46 уехали на море. Знакомых у меня в Париже только Савиничи. Тот отвечал: Милый ты мой Нюреныш, большое тебе спасибо за доброе письмо. Прости, что отвечаю не сразу: жарко здесь и лениво. Дни провожу либо в кафе, либо в церкви, либо в постели. Учишься наводить красоту? Ладно: все мои цыпочки отныне принадлежат тебе. То-то разбогатеешь. Я уж для тебя присматриваю палаццо на 47 Canal Grande. Уехавшие в Нормандию Чулковы писали ей в Париж: “Здесь довольно глухо и пустынно, но все-таки без русских дело не обошлось. И еще беда: воняет рыбой во время отлива… Получаешь ли письма от Александра Яковлевича?”48 В конце лета она переехала к ним: “Сестра Анна Ивановна, муж которой уехал в Москву, приехала к нам в Ипор на несколько дней. Французы в пансионе m-me Morisse были от нее в восторге и заочно называли ее ‘cette miniature’: она была маленького роста, грациозная.”49 В ноябре того же года, когда все участники событий были уже в Москве, произошло решительное объяснение. 12 ноября. Инскрипт Ходасевича Анне Ивановне: “Милому Нюрику – спасибо за то, что он есть, за любовь, за небо и радость. – Ее Владислав.”50 13-16 ноября. Письмо И. М. Брюсовой к Н. Я. Брюсовой: В воскресенье на рождение Жени мама мне шепнула. – Нюра уходит от Саши и переходит к Владе. – Что Нюра уходит от Саши, меня не удивило, но что она переходит к Владе – это странно. Я ничего не знаю о их жизни, жизни Саши и Нюры, внешне они жили до последних дней очень мило. На мамино рождение Нюра и Владя очень пугали Маню Губкину своим отношением, я это заметила. Мне жаль Нюру, она сама кукла и ум у ней игрушечный. Я не стану узнавать, почему они разошлись, мне это ни на что не нужно. Сама Нюра мотивирует влюбленностью. “Мне не груст- А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 269 но потому что у меня большая радость на душе – я люблю и меня любит Вл.” Как люди живут по книжному! Но я лучше молчу, все мои слова склоняются к осуждению. Все же я Нюру не считаю такой идеалисткой. 17. Сегодня будет Эстетика. Повестку, должно быть, получили. Вечером не будет времени писать. Мой привет. [...] На Эстетике Женя была, спрашиваю как Саша и Нюра. Женя (удивившись, что я знаю*, что мне рассказала мама) говорит, что им обоим лучше, что и Саша доволен и Нюра тоже. Мне все же жаль Нюру. Сегодня Броня по поручению Н. спрашивала, не куплю ли я велосипед. Мама переселилась к Саше. Говорит, он весел и спокоен, мама, конечно, судит только внешности. Гаррик отдан отцу. Очень трогательно, что фрейлейн сегодня отыскивала по телеф<ону>. Нюру, что она, фрейлейн, мол тщетно приходит на условленное место с мальчиком, чтоб встретить Нюру, и ее все нет. * Знают об этом все в Москве. 51 24 ноября. Ходасевич – Нине Петровской: “Прошло с тех пор полторы недели. Сегодня я в силах сообщить Вам лишь факты, о коих Вы, пожалуй, уже знаете. Ныне под кровом моим обитает еще одно существо человеческое. Если еще не знаете кто – дивитесь: Нюра”.52 В тот же день. Н. Я. Брюсова – Анне Ивановне: Привет, Нюра милая, желаю тебе счастья в твоей новой судьбе. Жду, что ты напишешь мне, ведь ты и на последнее мое письмо мне не ответила. [...] А что Гарренышек? Напиши о нем. Устроились ли вы, нашли ли квартиру? Этот адрес, по которому я пишу, есть уже нечто прочное, или только временное? Лида мне писала о тебе, но все же я всего не знаю из этих подробностей. 53 2 декабря. Анна Ивановна – Н. Я. Брюсовой: Дорогая Надя! Спасибо тебе, родная, за письмо: было страшно немножко. Теперь уже лучше, есть еще страх, но уже за другое – за Гареныша. Не умею я писать писем, а тебе особенно – ведь ты строгая. Но все-таки попытаюсь рассказать, как было. Помнишь, еще весной между мной и Сашей были недоразумения? Потом, за границей, я вдруг почувствовала себя большой. Большой и приехала в Москву. А Саша все продолжал быть маленьким. Да еще ему дали новую игрушку – военную службу. Вот он и ушел с нею куда-то далеко от меня. А я осталась одна. Правда, было утешение – моя дружба с А. Л. Соболев 270 Владей. Помнишь, весной я не знала, куда пойти с моим горем, к тебе или к Владе? Мы давно были очень дружны. День ото дня Саша все дальше уходил от меня, а дружба с Владей – крепла. А вот как пришла и когда пришла любовь – не знаю. Знаю, что люблю Владю очень как человека, и он меня тоже. Нет у него понятия о женщине как о чем-то низком и благодаря этому все гораздо проще и понятней. Наша старая дружба позволила нам узнать друг друга без прикрас, которыми всегда прикрываются влюбленные. Все-таки перед уходом от Саши было у меня маленькое колебание: страшно, если Гарька будет голодать. Потом поняла, что гадко обманывать себя и Сашу даже из-за Гареныша. Ведь мне еще только 25 лет! Неужели же я не найду возможности как-нибудь заработать деньги для Гарьки? Пока не кончу курсы, будет мне трудно. Гареныш сейчас у отца с Fröulin [sic] и чувствует себя хорошо. Я его почти каждый день вижу. Я сейчас живу в одной комнате с Владей и питаюсь ресторанной едой. Мечтаю продать рояль и на эти деньги снять крошечную квартирку и купить кровать, стол и стулья и быть опять с Гаренышем. На курсах много занятий. Кроме того, помогаю Владе – выписываю ему стихи для какогото сборника. Знаешь, даже согрешила сама: написала два стихотворения, конечно, очень нескладно. Еще новость: научилась любить небо. Это большое счастье. Прости, дорогая Надя, что пишу так глупо и нескладно. Может быть, через год так вырасту, что научусь даже писать письма. Я теперь во все верю. Прощай, милая! Пиши мне пока на тот же адрес. Лидушу твою очень люблю. Владя шлет тебе сердечный привет. Твоя Нюра. 54 2 декабря 1911 г. Полвека спустя: Как раз в этот период времени я ушла от Александра Брюсова и мы стали жить вместе с Владей. Первый месяц нашей совместной жизни был печальный: нервы Влади были в очень плохом состоянии, у него были бессонницы и большая возбужденность к ночи. Врач посоветовал класть холодный компресс на голову и грелку к 55 ногам. В 1910-е годы А. Я. Брюсов практически отходит от литературы: библиографией учтена единственная его стихотворная публикация этого времени (на весьма оригинальном носителе: в отрывном календаре),56 одна водевильная сценка57 и несколько переводов, центральный среди которых – Ужин шуток Сема Бенелли.58 В 1912 году он (на паях с О. Г. А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 271 Кузнецовой) организовал киностудию;59 судя по тому, что никаких следов ее продукции до наших дней не дошло, эта инвестиция оказалась неудачной.60 Другое его коммерческое предприятие – магазин “Фотографические и электротехнические принадлежности” (Арбат, 51), в управление которым были вовлечены и другие члены семьи, несмотря на некоторые трудности, оказалось более успешным и просуществовало до конца войны.61 При этом круг его знакомств и интересов по-прежнему оставался в основном литературным; в частности, он принимал участие в московском диспуте об акмеизме.62 Один из его писательских контактов вызвал живое неудовольствие Ходасевича: Декольте-Маяковский (какая отличная фамилия для шулера!), пожалуй, не хулиган, а просто кабафут. Они теперь ходят табунком: Ал. Брюсов, Ал. Койранский, еще какая-то тля газетная и он. Говорят, рубаха-парень, выпить не дурак, человек компанейский и 63 “без претензий”. Вот бы нам с Вами сделаться без претензий! С первых дней войны Брюсов, будучи младшим унтер-офицером запаса (он служил в Таврическом 6-м Гренадерском полку), был призван на фронт. До начала сентября 1914 года его полк находился в тылу (письма помечены Камышловым);64 в середине месяца он пишет свояченице по-итальянски (вероятно, чтобы притупить бдительность цензора) о предстоящих маневрах;65 в начале ноября он участвует в боях близ Винницы.66 Дальше следует значительный перерыв в хронике; Карпатами и 12-м марта следующего года помечен один из его военных рассказов,67 после чего сведения обрываются надолго. 3 августа Муни пишет Ходасевичу: “Я очень рад: получил телеграмму, что Саша жив, а ведь из Москвы уезжал в полной уверенности в обратном.”68 Согласно воспоминаниям, у Брюсовых появился его денщик, сообщивший, что он попал в плен. Четыре с лишним года он пробыл в лагере для военнопленных близ города Neisse, написав и получив за это время несколько десятков писем, по которым без труда реконструируется и область его интересов, и круг занятий. Он выращивает овощи, переводит с испанского, итальянского, английского и провансальского; тренируется в кулинарии; оттачивает свою латынь; занимается электротехникой и собирается изучать археологию.69 Несмотря на уверения корреспондентов (среди которых в какой-то момент появляется другой военнопленный – С. А. Соколов),70 он был настроен пессимистически по поводу своего грядущего освобождения, почти не поддаваясь ностальгии, но порой недоумевая: “Случайно узнал о лекциях Ходасевича, Зайцева, Шершеневича и др. по поэтике. Следовательно все они в Москве?”71 272 А. Л. Соболев Он был освобожден лишь на рубеже 1918 и 1919 годов, с последними партиями возвращающихся домой пленных; 13 января он записывает в альбом бывшей жены ‘Не-альбомные стихи’: “На пороге разбитой халупы / Под осенним тоскливым дождем / Старый пес, одинокий и глупый / Сторожит обезлюдевший дом.”72 Три месяца спустя Ходасевич в сардоническом отчете петербургскому приятелю упоминает его в числе общих знакомых: Младший брат его <В. Я. Брюсова> вернулся из плена, изучив там шестьсот шестьдесят шесть языков, коим не может найти применения, ибо кроме него на сих языках говорят одни католические миссионеры, побывавшие в Центральной Африке. Но миссионеры съедены еще до введения карточной системы. Из сего благоволите 73 заключить, что я не подобрел, а Саша не поумнел. В 1919 году оба брата Брюсова работали в Книжной Палате, куда по их приглашению поступила и А. И. Ходасевич.74 Вскоре младший Брюсов был призван в Красную Армию,75 а Ходасевич – по протекции старшего – занял его место.76 Еще два года спустя, когда Ходасевич, уже будучи петербургским жителем, ненадолго приезжал в Москву, он последний раз навестил своего бывшего приятеля: Заходил я к Саше Брюсову, зайду еще к Лиде. Саша – совершенный идиот. Он говорил мне такое, что сказать невозможно. Очень увлечен – переводом англ. книг по портновскому ремеслу. Жену не видал. Впрочем, она живет в комн. Матр. Алдр. У нее урыльник с веночками, Empire; она старообрядка; чтоб жениться, Саша принял сию веру. Ты и представить себе не можешь, как сложно переходить: часа 1 ½ тяжелой работы. Саша мне все рассказал и, на всякий случай, научил меня отрекаться от Никоновой ереси. Так что, если я перейду в православие, то уж теперь мне ничего не 77 стоит сделаться старообрядцем. Дальнейшая биография Александра Яковлевича лежит за пределами нашего сюжета: в 1922 году он вернулся в университет, который закончил три года спустя. С 1925-го года – аспирант Института археологии и искусствознания и по совместительству – помощник хранителя ГИМ’а. В 1929-1931 гг. – старший научный сотрудник Института археологии и искусствознания. В 1931-1937 гг. – старший научный сотрудник Московского Отделения Государственной Академии истории материальной культуры. В 1937-1944 гг. заведующий 1-м археологическим отделом в Историческом музее. С 1944 года – старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Академии Наук СССР. Автор нескольких книг, заместитель ответственного редактора А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 273 журнала Советская археология, почетный член нескольких европейских ученых обществ. Умер 1-го декабря 1966 года. Разысканная часть переписки А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича, публикуемая в настоящем номере, печатается по автографам: РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 57 (письма Брюсова); РГБ. Ф. 708. Карт. 7. Ед. хр. 55 (письма Ходасевича); РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 40 (письма Ходасевича, адресованные одновременно А. И. и А. Я. Брюсовым); РГБ. Ф. 627. Карт. 28. Ед. хр. 46 (письмо Брюсова). Ради связности диалога в публикацию включены два письма Ходасевича, уже не раз появлявшиеся в печати. Хранящаяся в одной архивной единице с письмом Ходасевича к Брюсову открытка от 28 июня/11 июля 1911 года, напротив, из публикации исключена, поскольку она, вопреки атрибуции архивистов, адресована Муни.78 Последствия легкого легастенического дефекта, свойственного А. Я. Брюсову (в частности, он почти всегда опускает мягкий и твердый знаки на конце слов) исправлены безоговорочно. Пользуемся случаем выразить благодарность за ценные замечания Н. А. Богомолову, И. С. Булкиной, Е. В. Кассель, В. Э. Молодякову, Л. И. Соболеву, Н. Н. Соболевой, Р. Д. Тименчику и С. А. Чурилову. ПРИМЕЧАНИЯ 1 2 Источники к биографии А. Я. Брюсова немногочисленны и не систематизированы; к аккумулированным в словарной статье (К. М. Поливанов, ‘Брюсов Александр Яковлевич’, Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь, т. 1, А-Г, Москва, 1989, cc. 332-333) следует прибавить: ‘Александр Яковлевич Брюсов’, Советская археология, 1960, № 3, cc. 3-5; В. М. Раушенбах, ‘К 80-летию Александра Яковлевича Брюсова’, Советская археология, 1965, № 3, cc. 81-87; ‘Брюсов Александр Яковлевич’, Институт археологии: история и современность. Сборник научных биографий, Москва, 2000, cc. 60-62; Б. В. Каховский, ‘Брюсов Александр Яковлевич’, Краткая чувашская энциклопедия, Чебоксары, 2001, c. 93; ‘Брюсов Александр Яковлевич’, Исследователи этнографии и археологии Чувашии. Биобиблиографический словарь, Чебоксары, 2004, cc. 41-43 и др. В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, Москва, 1997, cc. 285, 294-295. 274 3 4 5 6 7 8 А. Л. Соболев РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 26. Л. 9 об.-10. Главный герой выведен под инициалами “АП”. Ср. там же: “Кончились вечные драки со ‘строгановцами’, учениками Строгановского училища, помещавшегося на Рождественке, недалеко от гимназии, в которой учился АП. Кончились бои “стенка на стенку” между классами. Кончились бессмысленные, но веселые шалости детства” (Л. 10 об.). Современники о Владиславе Ходасевиче, cост. А. С. Бергер, Санкт-Петербург, 2004, c. 19. ‘Письмо к С. Я. Эфрону от 7 июля 1916 г.’, М. Цветаева, Письма. 19051923, Мocква, 2012, c. 220. В том, что речь идет именно о младшем Брюсове убеждает нас появление на следующей строке имени Е. И. Сыроечковского, директора 3-й гимназии. Источником рассказа, по всей вероятности, послужил либо сам Ходасевич, либо А. И. Ходасевич, к которой Эфрон заходил в Москве в эти же дни, ср.: “С Эфроном мне не пришлось как-то хорошо поговорить. Сперва он меня не застал дома (по телефону), а утром я ему позвонила из Управы, но в это время ко мне подошел Борис с каким-то делом и стоял над душой и меня торопил, т. ч. я говорила и слушала как-то очень бестолково. Ужасно это было досадно” (Письмо А. И. Ходасевич к В. Ф. Ходасевичу от 11 июля 1916 г., РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 43 об.; Борис – вероятно, Б. А. Диатроптов, в прошлом – гражданский муж А. И. Ходасевич, а на этот момент – ее сослуживец по городской Управе); “Эфрон пишет, что ты так хорошо его приняла, что он опять к тебе собирается. Спасибо тебе за это: во-первых, он умный и хороший мальчик, а во вторых ты знаешь, как я рад, когда тебя любят и хвалят” (Письмо В. Ф. Ходасевича к А. И. Ходасевич от 20 июля 1916 г., РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 47). Цит. по комм. И. П. Андреевой: В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, c. 602. В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, c. 19. А. Я. Брюсов, ‘Из воспоминаний о брате (К девяностолетию со дня рождения В. Я. Брюсова)’, Ставрополье, 1964, № 1, c. 55. Александром Яковлевичем было доведено до печати четыре мемуарных очерка, посвященных собственной семье: ‘Воспоминания о брате’ (Брюсовские чтения 1962 года, Ереван, 1963, cc. 293-301); ‘Из воспоминаний о брате’ (Ставрополье, 1964, № 1, cc. 55-57); ‘Страницы из семейного архива Брюсовых’ (Ежегодник Государственного Исторического Музея на 1962 год, Москва, 1964, cc. 233-248) и ‘Литературные воспоминания’ (Север, 1965, № 4, cc. 128-135); отдельной заботой его были содержательные различия между версиями; ср.: Ваше предложение написать заметку с воспоминаниями о Валерии застало меня врасплох. Как Вы видели, я только что сдал аналогичную заметку в Армении. Следовательно, надо бы было написать теперь нечто иное, а это, конечно, уже труднее. А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 275 Я попытаюсь за эти праздничные дни сделать, что могу, но, если получится неудачно, то очень буду просить Вас, не стесняясь, бросить эту заметку в мусорный ящик. Этим Вы меня не только не обидите, но и обяжете. (Письмо к В. C. Дронову от 31 декабря 1962 г., РГАЛИ. Ф. 56. Оп. 3. Ед. хр. 26. Л. 1; речь идет о подготовке материала для Ставрополья) 9 10 11 12 13 14 15 16 А. Белый, Начало века, Москва, 1990, c. 186. РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 26. Л. 12 об.-13. Сведения об их совместном быте восходят к письмам А. Койранского к М. Вишняку, отреферированным в комментариях И. П. Андреевой: В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, c. 604. Ср. кстати реплику Н. И. Петровской: “Я скоро буду как Саша Койранский, который способен полсуток простоять около биллиарда, где играют Вл<адька?> с твоим братом, – не меняя позы, не меняя выражения бледно-бирюзовых стеклянных глаз” (‘Письмо к В. Я. Брюсову от 6/19 января 1909 г.’, Валерий Брюсов. Нина Петровская. Переписка, 19041913, вступительные статьи, подготовка текста и комментарии Н. А. Богомолова и А. В. Лаврова, Москва, 2004, c. 408). Alexander [А. Я. Брюсов], По бездорожью. Стихи, Москва, 1907, c. 27. И. Андреева, ‘Свидание у звезды’, С. Киссин (Муни), Легкое бремя. Стихи и проза. Переписка с В. Ф. Ходасевичем, Москва, 1999, cc. 282283. А. Я. Брюсов, ‘Литературные воспоминания’, Север, 1965, № 4, c. 129. Брат, в свою очередь, относился к революционным увлечениям мемуариста более чем скептически: “Мой брат делал вид, что он все знает, со всеми в сношениях, но все его известия оказывались вздором” (В. Брюсов, Дневники. Автобиографическая проза. Письма, Москва, 2002, c. 156); ср. в письме к отцу с отчетом о благотворительном вечере: “Вечер о Бодлэре был в пользу безработных. Хотя был уже вовсе не сезон, выручили 60 р. чистых. Не так, как Саша, который устраивал ‘вечер’ в Малаховке в пользу военной организации сд партии и понес 40 р. или 50 р. убытку!” (письмо от 3 июня 1907 г.; цит. по: И. Ямпольский, ‘Валерий Брюсов и первая русская революция’, Литературное наследство, т. 15, Москва, 1934, c. 212). Хранится среди писем Ходасевича к Брюсову (РГБ. Ф. 708. Карт. 7. Ед. хр. 55). В современном собрании сочинений предпочтение в качестве источника текста отдано записной книжке, где оно начертано с усекновением третьей строфы (см.: В. Ходасевич, Собрание сочинений в восьми томах, т. 1; Полное собрание стихотворений, Москва, 2009, cc. 251, 521). Alexander [А. Я. Брюсов], По бездорожью. Стихи, Москва, cc. 30-31. 276 17 18 19 20 21 22 23 А. Л. Соболев В. Я. Брюсов, Среди стихов: 1894-1924: Манифесты, статьи, рецензии, cост. Н. А. Богомолов и Н. В. Котрелев; вступ. ст. и коммент. Н. А. Богомолова, Москва, 1990, c. 265. Основной источник к реконструкции маршрутов – отложившиеся в архиве чеки, счета и телеграммы; так, 26 февраля 1906 г. (здесь и до конца этого примечания даты даются по новому стилю) он получил телеграмму в Александрии; 26 мая того же года – расплачивался в Бомбее; 28 июня останавливался в Eden Palace Hotel (Каир) (РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 2). В эту же поездку он запрашивал финансовой помощи у родственников: “Вчера пришла от Саши телеграмма, что чека он не получил. Сегодня я послала ему деньги телеграммой через Лионский Кредит. Они звери взяли очень дорого, – да еще отдельно пришлось телеграмму послать Саше, что деньги посланы. Так что я загубила понапрасну много денег, да и Саше все же дня 4, 5 пришлось ждать в Александрии, да того гляди начнется забастовка, когда он приедет в Россию!” (Письмо Н. Я. Брюсовой к И. М. Брюсовой 13 июля 1906 [год по п.ш.], РГБ. Ф. 386. Карт. 147. Ед. хр. 9. Л. 23 об.24). Константинополь и Египет нашли отражение в стихах: Alexander [А. Я. Брюсов], По бездорожью. Стихи, cc. 10-11; ср. также стихотворение ‘Каир’ с обилием египетских топонимов: “Мир вам, далекие пески моей пустыни, / Каиро и Мемфис, Булак и Гизерет. / Я, не забывший вас, влюбленный в вас, я ныне / Из дали и снегов приветствую вас всех, // Благословенны вы, и узкий, шумный Муски, / И в летнюю жару приют – Эзбекиэх. / Из дали и снегов, далекий, чуждый, русский, / Знакомые места, приветствую вас всех” и т. д. (РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 29. Л. 6). В его архиве отложилась реклама “Railway Club Hotel” из Мельбурна. Не этот ли случай припоминал Б. Садовской: “Юный декадент поехал в Австралию; на пристани в Мельбурне выпил стакан чаю и отправился обратно в Замоскворечье” (Б. Садовской, ‘Записки. 1881-1916. Публ. C. Шумихина’, Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. Альманах, т. 1, Москва, 1994, c. 154)? ‘Дневниковая запись Л. Д. Рындиной от 19 ноября 1906 г.’, Н. А. Богомолов, Вокруг “Серебряного века”. Статьи и материалы, Москва, 2010, c. 379. Датирована 23 ноября 1906 г.; доверитель титулован: “Студент Московского Императорского Университета А. Я. Брюсов”, РГБ. Ф. 386. Карт. 133. Ед. хр. 17. Л. 1. Письмо В. Я. Брюсова к З. Н. Гиппиус от 27 декабря 1906 г., ‘Письма к петербургским и московским литераторам. Публ. А. Н. Дубовикова’, Литературное наследство, т. 85, Москва, 1976, c. 689. Единственный сохранившийся документ, связанный с этой поездкой – реклама “Brodt’s Knickerbocker Hotel” в Нью-Йорке; ср., впрочем, помету “New-Iork [sic], 07” под антиурбанистическим стихотворением “Я исходил весь мир, все земли, все моря…” (Alexander [А. Я. Брюсов], По бездорожью. Стихи, c. 7). А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 24 25 26 27 277 Письмо к Ходасевичу от 28 мая 1907 г., ‘Из переписки Н. И. Петровской. Публ. Р. Л. Щербакова и Е. А. Муравьевой’, Минувшее. Исторический альманах, т. 14, Москва-Санкт-Петербург, 1993, c. 383. ‘Письмо к Г. Л. Малицкому от 7 июля 1907 г.’, В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, c. 380. Из того же письма известно об еще одном маршруте того же года: “Саша Брюсов был на Кавказе в одно время с тобой” (там же). Первая – в конце января (Книжная летопись Главного управления по делам печати, № 5, 2 февраля. Перечень в алфавитном порядке книг, поступивших с 25 января по 1-е февраля 1908 г., cc. 1); тираж 1000 экз. В ее полиграфической судьбе примечательны (и необъяснимы) два обстоятельства: а) 1907-й год на титульном листе (на обложке – 1908); б) то, что автор, будучи в хороших отношениях с владельцем издательства “Гриф”, издал ее без всякой марки. Молодость вышла в первых числах марта (Книжная летопись Главного управления по делам печати, № 11. 15 марта. Перечень в алфавитном порядке книг, поступивших с 6 марта по 13-е марта 1908 г, c. 21. Тираж 600 экземпляров. Брюсов преподнес Ходасевичу экземпляр своей книги с инскриптом: “В. Ходасевичу от Alexander’a, который убежден, что ‘Молодость’ будет лучшей книгой за последнее время” (В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, c. 601). ‘Письмо В. Я. Брюсова к Н. И. Петровской от 12 марта 1908 г.’, Валерий Брюсов. Нина Петровская. Переписка. 1904-1913, c. 268. Ср. кстати сходное обобщение, предпринятое Петровской: Ну что Вам делать с этими хамами вроде Владьки? Это ведь будущий “барон” из “Дна” Горького. Это несчастная, нищая и отвратительная душа. Ненави<жу> его здесь! Не написала ему ни строчки, и вообще моей дружбе с ним конец. Господи! Да лучше уйдемте в пустыню, будем питаться памятью о прекрасных прошлых днях, если им не суждено повториться, чем отдать себя на растерзание этим отвратительным дьяволятам с офортов Гойи. А ведь они не подходят просто, они вгрызаются в Вас, как могильные черви, как паразиты, которые должны питаться соками чьихто душ. Муни, Владька, Койранский, А. Брюсов всем им одна цена грош. Это отвратительная накипь литературы и жизни, о которой стыдно будет вспомнить. (Письмо к Е. Л. Янтареву от 13/26 апреля 1908 г.; цит. по: Н. А. Богомолов, ‘Вл. Ходасевич в московском и петроградском литературном кругу’, НЛО, № 14, 1995, c. 120) 28 29 В. Я. Брюсов, Среди стихов: 1894-1924: Манифесты, статьи, рецензии, cc. 264, 265. А. А. Блок, Полное собрание сочинений и писем. В двадцати томах. Том восьмой. Проза (1908-1916), Москва, 2010, c. 169. 278 30 31 32 33 А. Л. Соболев В бумагах сохранился билет для входа в Батумское общественное собрание, датированный 7 марта 1908 г. (РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 2. Л. 7); ср. также письма 6 и 7, представленные в настоящем номере. РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 2. Л. 27-30. Там же; Л. 34-37, 33. Среди сведений о ней, разбросанных по эпистолярии современников, особенно примечательными представляются нам отзывы Е. К. Герцык, сделанные в 1930-е годы; ср., например: В одну ночь, кот<орую> я проводила у А. И., она показала мне свои фотографии молодости (на нек<оторых> она оч<ень> хороша) и рассказывала свои бесчисленные любви. Мне не кажутся они значительными, трагическими, но в то же время как будто и не развратными. Она, скорее, привлекательна в них какой-то своей детскостью, непосредственностью. И через все – любовь к единств<енному> сыну [...]. Но сама она гов<орит>, что никогда не было такого счастья, такой полноты, как в этот год. И все ее молод<ые> фотогр<афии>, правда, скорбные. (‘Письмо к В. С. Гриневич от 16 июля 1936 г.’, Перекличка через “железный занавес”. Письма Евгении Герцык, Веры Гриневич, Лидии Бердяевой, Мocква, 2011, c. 245) 34 35 36 37 38 39 “Экон<ом> и завед<ующий> канц<елярией> Моск<овской> Глазн<ой> больн<ицы>; Чл<ен> правл<ения> и казнач<ей> гимн<астического> о<бщест>ва ‘Сокол IV’” (Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1913 год, Москва, 1913, c. 150). Реконструкция его биографии, вполне, кажется, посильная, лежит за пределами нашей нынешней задачи. Д. Б. Диатроптов, ‘О моих родителях’, Наше наследие, 1988, № 3, c. 94. Недатированное письмо Н. Г. Чулковой к Г. И. Чулкову, РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 399. Л. 58 об. Письмо к В. Я. Брюсову из австрийского Villah [sic], РГБ. Ф. 386. Карт. 78. Ед. хр. 20. Л. 5-5 об. Вернулись они не позже августа; их приезд приветствовал А. А. Койранский: “Как люди жалки и бессильны / И как над ними властен рок! / Я не могу удрать из Вильны, / А ты в Каире быть бы мог. / Я – для воинственной утехи, / Ты – для семейственных забот, / Забыли стран далеких вехи / И птиц свободный перелет. / Хотел бы я, как должно барду, / Перековать на кий свой меч, / Чтоб, возвратившись вновь к биллиарду, / С тобой искать жестоких встреч” (23 августа 1909 г. по н. с.; дата по п. ш., РГБ. Ф. 708. Карт. 7. Ед. хр. 73. Л. 1; в описи и каталоге – письмо неизвестного лица). Современники о Владиславе Ходасевиче, c. 22. Испанский роман – не вполне ясно. Единственный перевод, над которым они работали вместе – трактат ‘Молот ведьм’, издание которого было анонсировано “Грифом”. Корпус был, по всей вероятности, прорежен самой Анной Ивановной. Предлагая архив Ходасевича к продаже в Литературный музей в 1933 А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 279 году, она указывала в предварительной описи эпистолярии: “9. Письма поэта к жене. 170. 10. Письма жены поэта. 70” (РГБ. Ф. 369. Карт. 449. Ед. хр. 63. Л. 3). Письмо 14 декабря 1910 г. (дата по п. ш.), РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 1. Была еще одна, слабо документированная поездка в Париж на рубеже 1910 и 1911 годов, начальные даты которой (начало-середина ноября) определяются по письму № 8. К ней относятся сохранившаяся в бумагах Брюсова программа французского кинотеатра Cinéma des chefs-d’oeuvre с 26 декабря 1910 до 1 января 1911 (РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 2) и неожиданный привет мимолетного знакомца: “Пользуясь случаем, прошу Вас передать мой привет брату Вашему Александру Яковлевичу, с которым я познакомился в Париже у Елизаветы Сергеевны Кругликовой” (письмо А. Биска к В. Брюсову от 20 февраля 1911 г., цит. по: К. М. Азадовский, Рильке и Россия, Москва, 2011, c. 375). Письмо И. М. Брюсовой к М. А. Брюсовой от 18 июня 1911 г., РГБ. Ф. 708. Карт. 5. Ед. хр. 56. Л. 2. В эти же дни И. М. Брюсова писала Анне Ивановне: “Есть у меня к вам просьба, Нюра, если вы действительно на все лето уедете в Париж, то не отдадите ли мне на прокат ваш велосипед, который верну в целости и аккуратности” (недатированное письмо, РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 59. Л. 1). Недатированное письмо Ходасевичу, РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 2. Н. Г. Чулкова, ‘Воспоминания о моей жизни с Г. И. Чулковым и о встречах с замечательными людьми’, РГБ. Ф. 371. Карт. 6. Ед. хр. 1. Л. 137138. См. письма 9, 10 и 11, помещенные в настоящем номере. Письмо от 28 июня 1911 г. (н. с.; дата по п. ш.), РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 3. Борис Павлович Савинич – журналист, критик и поэт (единственная разысканная публикация стихов – вместе с А. Я. Брюсовым и Муни – в альманахе Кристалл, Харьков, 1908); зять Б. Диатроптова; в 1912-1915 гг. редактор газеты Красноярск; позже – сотрудник Утра России и Народоправства. ‘Письмо от 3 августа 1911 г.’, И. Андреева, Неуловимое созданье, Москва, 2000, c. 172. Недатированное письмо Г. И. Чулкова из Yport, РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 29. Л. 1. Н. Г. Чулкова, ‘Воспоминания о моей жизни с Г. И. Чулковым и о встречах с замечательными людьми’, Л. 138. В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, c. 612. Письмо И. М. Брюсовой к Н. Я. Брюсовой, РГБ. Ф. 386. Карт. 145. Ед. хр. 35. Л. 52-53. Воскресенье – 13 ноября. Женя – Евгения Яковлевна Брюсова (1882-1977). Маня Губкина – Мария Александровна Губкина, певица, двоюродная сестра Брюсовых. Эстетика – заседание Общества 280 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 А. Л. Соболев свободной эстетики. Гаррик – Эдгар Евгеньевич Гренцион (1906-1957), сын А. И. и Е. К. Гренциона; впоследствии – актер. В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, c. 386. РГБ. Ф. 371. Карт. 2. Ед. хр. 60. Л. 1, 2. Гарренышек – Э. Е. Гренцион (см. прим. 51). В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, c. 612 (приводится в комментариях И. П. Андреевой). Современники о Владиславе Ходасевиче, c. 24. ‘Метель’ (“Дрожью бешеного бега…”) [листок отрывного календаря за 18 февраля 1913 года]’, РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 30. ‘Живые портреты. Роман в 1 действии’, Утро России, 5 июля 1914, № 154, c. 2 (на отложившейся в архиве вырезке помета рукой автора: “Сценка эта шла в театре ‘Летучая мышь’ и написана была по заказу Балиева”; там же, Л. 19). Сем Бенелли, Ужин шуток: Драматическая поэма в 4 д., пер. Александра Брюсова, Москва, 1911. “Брюсов и Кузнецова. Учред. младший унтер-офицер запаса, бывший студент Императорского москов. университета Александр Яковлевич Брюсов и москов. мещ. Ольга Григорьевна Кузнецова Т-во полное с капиталом в 1000 р. подписывают учредители (производство синематографических лент, Нащекинский пер. д. № 3-й)” (‘Московские торговые дома. Новые’, Коммерсант, 1912, 26 октября, № 932, c. 3). Следы его более ранних коммерческих проектов, безусловно, существовавших (ср. раздражение старшего брата по поводу реализации общего имущества: “Не знаю, я ли безнадежно торможу дело или мой брат только прикидывается деловым человеком, но только предприятие наше безнадежно не подвигается вперед”; ‘Письмо к Н. И. Петровской от 8/21 ноября 1908 г.’, Валерий Брюсов. Нина Петровская. Переписка. 19041913, c. 334) до нас не дошли. Рассмотрение финансовой стороны биографии семейства Брюсовых может составить тему увлекательного расследования, несколько затрудненного явно намеренным изъятием из архива перед передачей его на государственное хранение большинства деловых бумаг. Фотомагазин был основан А. Я. Брюсовым на паях с Болеславом Густавовичем Сабинским (?-1919?), братом его однополчанина, Николая Густавовича; позже компаньон был уличен в злоупотреблениях: Я был бы бесконечно рад, если бы, как Вы пишете, дошедшие до меня слухи оказались в действительности лишенными основания. Поверьте, что мне меньше, чем кому либо, хотелось бы видеть Болеслава в той роли, каковую ему приписывают. Но […] более детальные сведения (или слухи, – как хотите) говорят о следующем: 1) товар, покупаемый в кредит, заносится, как купленный за наличные (в данном случае получается разница в обороте денег и соответственно заминки в платежах и необходимость учета век- А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 281 селей). 2) Цена купленного товара ставится выше действительной. Отсюда вывод: цифры в книгах и даже счета (если они сохранились) не могут этого обнаружить. Еще один пункт выдвигаемого обвинения опять таки поддается проверке только свидетельскими показаниями. Это – уменьшение цифры дневной выручки путем непробивания в кассе суммы (более относится к Ольгерду). Все это я сообщаю теперь уже только для объяснения моего письма. Я не хочу приводить сообщенные мне конкретные случаи подобного рода, потому что уже позднее я получил известие, что с момента участия в делах мамы и Лиды случаи эти прекратились. Если мне удастся побывать весною в Москве, я обязательно зайду и покажу Вам эти письма, чтобы доказать, что я действовал bona fide, когда писал Вам и Жене. (Письмо А. Я. Брюсова к И. М. Брюсовой от 20 февраля 1915 г., РГБ. Ф. 386. Карт. 144. Ед. хр. 49. Л. 4 об.-5) 62 63 64 65 66 67 68 69 Апрельский диспут в Московском литературно-художественном кружке; в хронике указано: “Кроме того, выступали А. Я. Брюсов, Ф. Ф. Коммиссаржевский и Я. Новиков” (‘Литературный диспут’, Русское слово, 1913, № 83, 10 апреля, c. 6). ‘Недатированное письмо к Б. А. Садовскому’, В. Ходасевич, Некрополь. Литература и власть. Письма Б. А. Садовскому, предисл. и коммент. Н. Богомолова, примеч. к письмам и заключ. ст. И. Андреевой, Москва, 1996, c. 439. О своих встречах с Маяковским Брюсов рассказал в мемуарном очерке ‘Литературные воспоминания’ (Север, 1965, № 4, cc. 131132). См., например, письмо к Б. М. Рунт от 8 сентября 1914 г.: “Моим молчанием не смущайтесь: абсолютно некогда и не о чем писать. Но зато очень хотелось бы узнать обо всех знакомых; вероятно Вы имеете о них какие-нибудь сведения. Поклон всем” (РГБ. Ф. 386. Карт. 144. Ед. хр. 52. Л. 1). “Oggi ho conosciuto, che il nostro battaglione partira tutto per le piccolo parte prima le Novembre” (“сегодня я узнал, что наш батальон малыми частями начнет двигаться вперед в ноябре”); ‘Письмо к Б. М. Рунт от 19 сентября 1914 г.’, там же, Л. 2. См. его письмо к И. М. Брюсовой, приведенное в: С. Киссин (Муни), Легкое бремя. Стихи и проза. Переписка с В. Ф. Ходасевичем, c. 251. Входит в незаконченную и неизданную книгу Под лучом прожектора (РГБ. Ф. 708. Карт. 2. Ед. хр. 5). С. Киссин (Муни), Легкое бремя. Стихи и проза. Переписка с В. Ф. Ходасевичем, c. 251. Приведенные в этой фразе сведения агрегированы из писем А. Я. Брюсова к В. Я., И. М., М. А. и Н. Я. Брюсовым (РГБ. Ф. 386. Карт. 78. Ед. хр. 20; РГБ. Ф. 386. Карт. 144. Ед. хр. 49; РГБ. Ф. 386. Карт. 144. Ед. хр. 282 70 71 72 73 74 75 76 77 А. Л. Соболев 50; РГБ. Ф. 386. Карт. 144. Ед. хр. 51; РГБ. Ф. 708. Карт. 5. Ед. хр. 5; РГБ. Ф. 708. Карт. 5. Ед. хр. 7). “А вот С. А. Соколов (он находится в лагере Гютерсло) прислал мне сюда открытку, где пишет, что уже более полугода не имеет ни одного известия из России” (Письмо к Н. Я. Брюсовой от 13/16 июля 1918 г., РГБ. Ф. 708. Карт. 5. Ед. хр. 7. Л. 14). Письмо к В. Я. Брюсову от 31 октября 1918 г. (РГБ. Ф. 386. Карт. 78. Ед. хр. 20. Л. 18 об.). РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 127. Л. 111-111 об. ‘Письмо Б. А. Садовскому от 24 марта 1919 г.’, В. Ходасевич, Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, cc. 412-413. Поселился Александр Яковлевич вместе с сестрами Надеждой и Лидией: “Недалеко от меня, в Могильцевском переулке, в старом полуразрушенном особняке живут сестры Брюсовы, Надежда Яковлевна и Лидия Яковлевна, а также их брат Александр Яковлевич. Что-то я давно не был у них. Последний вечер был шумным и людным. Была Бронислава Матвеевна, сестра Жанны Матвеевны. Очень некрасивая. Прощаясь с нею, Ходасевич сказал: ‘целую вас’, потом сделал паузу и прибавил ‘мысленно, конечно’” (К. Локс, ‘Повесть об одном десятилетии (1907-1917). Публ. Е. В. Пастернак и К. М. Поливанова’, Минувшее. Исторический альманах, т. 15, Москва-Санкт-Петербург, c. 144). Об этом подробно рассказано в ее воспоминаниях: Современники о Владиславе Ходасевиче, c. 32. Трехлетняя карьера А. Я. Брюсова в Красной Армии восстанавливается по удостоверениям-эфемеридам, сохранившимся в его архиве: “[…] состоит на действительной военной службе в Радиоотделе Управления Связи Красной Армии” (14 апреля 1920); “Помощник начальника информационной части Управления Отдельной учебно-опытной Радиотелефонной Бригады” (1 марта 1922); “Помощник Начальника информационной части 9-го Отдельного Радиотелеграфного Батальона” (19 октября 1923; РГБ. Ф. 708. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 1-5). См. мемуарный очерк Ходасевича ‘Книжная палата’ (Собрание сочинений в четырех томах, т. 4, cc. 229-240). Письмо к А. И. Ходасевич от 6 октября 1921 г., РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 4 об. Жена А. Я. Брюсова – Серафима Семеновна Брюсова (1895-1958) – первая женщина-профессор-нейрохирург в Советском Союзе (о ней см.: Л. Н. Вербова, ‘Женщины в нейрохирургии’, Украïнський нейрохiрургiчний журнал, 2011, № 1, c. 77; A. N. Konovalov, ‘Russian Women in Neurosurgery’, Women’s Neurosurgical Association of Japan, 2009, Vol. 39, cc. 1-4). Известное нам ее участие в литературе ограничивается членством в Кружке памяти В. Я. Брюсова (см.: Н. Ашукин, ‘Заметки о виденном и слышанном. 1914-1933. Публ. и комм. Е. А. Муравьевой’, Новое литературное обозрение, № 38, 1999, c. 203). Согласно данным анкеты, она развелась с А. Я. Брюсовым в 1930 г. (РГБ. Ф. 708. А. Я. Брюсов и В. Ф. Ходасевич. Переписка 283 Карт. 1. Ед. хр. 12. Л. 1), чему противоречит появление ее в мемуарном отрывке о первом дне войны: Я был готов к выезду через несколько дней на раскопки в Вологодскую область, а моя жена, Серафима Семеновна, должна была назавтра выехать вместе с маленьким нашим сыном, Борисом, в Одессу для лечения грязями. За день до ее отъезда я поехал на дачу к своему шурину, архитектору Б. C. Сидорову, у которого в то время жил наш сын. Все казалось хорошо налаженным и никто из нас не ожидал, что произойдет через несколько часов. Как громом поразило нас переданное по радио известие о вероломном нападении гитлеровцев на нашу Родину. (РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 13. Л. 1) 78 В архиве А. И. Ходасевич сохранилось принадлежащее, вероятно, ее перу письмо от 13 августа 1935, подписанное “С. Брюсова” (РГБ. Ф. 627. Карт. 28. Ед. хр. 47). Последняя жена Брюсова – искусствовед и реставратор Вера Григорьевна Брюсова (1917-?). Матрена Александровна Брюсова (урожденная Бакулина, 1846-1920) – мать Александра, Валерия, Надежды, Евгении и Лидии Яковлевичей. С. Киссин (Муни), Легкое бремя. Стихи и проза. Переписка с В. Ф. Ходасевичем, c. 227. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 285–307 www.elsevier.com/locate/ruslit ПЕРЕПИСКА А. Я. БРЮСОВА И В. Ф. ХОДАСЕВИЧА (THE CORRESPONDENCE OF A.IA. BRIUSOV AND V.F. KHODASEVICH) А. Л. СОБОЛЕВ (ПОДГОТОВИЛ К ПЕЧАТИ) (A.L. SOBOLEV – EDITING AND NOTES) Abstract The present publication comprises the complete collection of the extant correspondence of Vladislav Khodasevich and his secondary-school mate, as well as literary companion, Aleksandr Briusov, younger brother of the famous poet. See the preceding article in this volume for more background information. Keywords: V.F. Khodasevich; A.Ia. Briusov; A.I. Chulkova 1. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу 15 декабря 1904. Тульская губерния. 15/XII Дорогой Владислав Пишу тебе, как обещал. Стихи есть, но мало, только два, оба написаны здесь, в Антоновке, и в один день. Вот они оба. Воскресенье! Возрожденье в счастьи и любви. Нет! Былого, прожитого к жизни не зови! http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.014 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 286 А. Л. Соболев (подг. к печати) Обновленье! Возрожденье! Новые мечты. Счастье, счастье, упоенье! В мире я и ты. Воскресенье. Возрожденье. В мире только мы Прочь сомненье, опасенье, слуги черной тьмы! Мы с тобою, мы с тобою! Все забудь, забудь! Смейся, смейся над судьбою! Вольно дышит грудь. Воскресенье! Обновленье. Снова счастлив я. Опьяненье, упоенье. Ты моя, моя! А вот второе, совсем в другом роде. Называется оно “Призраки”. Есть духи демоны, созданья впечатленья, Мгновенные приспешники мечты. Они куют тревоги и сомненья, Они плетут невидимые звенья, И с ними вечно, всюду ты. Они опутывают ложью; Они, как марево, горят; Они пронизывают дрожью, Они приводят к бездорожью И в жизнь мешают тонкий яд. Ты опьянен сплетенным дымом, Спеши к намеченной мечте, Но то, что было исполнимым, То стало призрачным и мнимым, Его черты – уже не те. Напрасно ловишь тень, мелькая, Она скользит, – и новый бред! – Зовет и манит, увлекая, Казалось, близко счастье рая, Но миг… И вновь миража нет. Сам сознаю недостатки и того и другого, но отделывать нехочется1 (пишу нарочно вместе в параллель глаголу нельзя), да и неудобно: живем мы, – я и один товарищ,2 – в сторожке у сторожа, две комнаты и кухня, очевидно никуда деваться нельзя, чтобы работать в одиночестве, но не унываю. Думаю, что в Москве обработаю все, что здесь напишу. Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича Если будешь писать, – надеюсь напишешь, хоть несколько строчек, – то пришли то, что есть новенького, думаю, что написал что-нибудь. Если будешь писать “хорошему мальчику” (конечно Жоржу),3 то напомни и ему написать мне. Буду очень благодарен. Сижу здесь без газет, даже в городе не продают! Чорт знает что такое. Как только ты выносишь, не читая газет, не зная, что, где и как? Сегодня едва не замерз. Мороз свыше 25о, а мне пришлось ехать за 7 верст по полю. Едва оттер лицо. Прости, что пишу эпизоды из здоровой жизни, но здесь нет ничего под руками; ни книг, ни журналов, ни людей не здоровых. Только и спасаюсь, читая Л. Толстого, – хорошо, что захватил. Думал заниматься лекциями. Взял Троицкого (Логика), Брандта (старо-церковно-славянский) и Виппера (История Греции), ничего.4 Думал переписать Любавского (записки по рус. Ист.)5 – ничего! Думал заняться итальянским – ничего! Думал читать английских поэтов в подлиннике – ничего! Только и делаю, что шатаюсь по лесу да по Оке (она почти замерзла). Гляжу, как мой спутник бьет уток, сам <ж>е стрелял в цель – ничего, попадаю редко, хотя к этому ружью и не привык. Расписался я здорово, да делать по вечерам нечего, вот и пишу. Прости если неразборчиво и скучно. Как идет альманах Грифа.6 Вышел ли и если вышел, то когда. Если тебе не трудно, то перепиши кстати (прости за слово) твое стихотворение, которое должно было быть в нем.7 Если есть еще какие журнальные, газетные или книжные новости, то напиши, пожалуйста. Может быть знаешь что-нибудь об университетской истории, тоже сообщи.8 Боюсь, что надоел и потому кончаю. А. Брюсов Год проставлен по контексту. 287 288 А. Л. Соболев (подг. к печати) 2. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу Конец декабря 1904-начало января 1905. Москва. Вот я и в Москве. Приехал 25-го и тотчас узнал самые неутешительные новости. Говорят, что университет будет закрыт все второе полугодие. Удружили! Этого я никак не ожидал.9 Вести с дальнего востока еще неутешительнее, но ты, кажется, ими не интересуешься вовсе. Однако есть и такие, которые будут любопытны для тебя. Немецкие газеты пишут, что Вильгельм предлагал Николаю взорвать П. Артур до основания, когда еще был цел флот, посадить на него всех жителей и прорваться через японскую эскадру, если будет это возможно; во всяком случае хуже того, что произошло, не было бы. Николай отказался. Куропаткин просил Стесселя продержаться всего месяц, после которого он обещал освободить П. Артур, но…10 Еще менее утешительно в литературе. Пшибышевский прислал в Скорпион письмо (по русски!), где он сообщает, что сам по русски ничего не понимает (!), а письмо (первое, помещенное в печати) написано Высоцким, что слов “разбой на большой дороге” он не говорил, что исключительного права на перевод никому не давал, что все зависит от платы, а плата зависит от честности издателей. Хорошо?11 Скорпионы хотят перевести это письмо на польский язык и послать его назад Пш<ибышевскому> спросить то ли он теперь сообщил, что хотел, или опять будет отговариваться незнанием русского яз<ыка>. “Руси” запрещена розничная продажа издания.12 Видишь какие новости. Даже погода была отчаянная. В Тульской губ., где мы были, доходило до 37 ниже нуля. Дыханье перехватывало с первых шагов на воздухе. Как то у вас в Петербурге было. Что нового. Да… Изадора (а не Айседора) Дункан (Isadora Dunkan<sic>) приезжает в Москву в январе и мы тоже увидим ее…13 У меня есть много нового, но лень писать; приедешь – покажу. Хотя ты и обещал написать мне, но так и не сдержал слова. Может быть найдешь время и напишешь хоть в Москву. Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича Поклон Марине Эрастовне14. А. Брюсов Датируется по содержанию. 3. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу Середина июня 1905. Акулово. Ну, Владислав, переехал я на дачу в Акулово,15 поэтому не успел за хлопотами по перевозке написать тебе раньше. Теперь уже пишу обстоятельнее (прости, что на такой бумаге, почтовую забыл в Москве). Приехав, набросился я на книги, признаюсь, удивлен: Нижегородский сборник – плох,16 газеты (оставшиеся в живых) – ниже критики, хорошие газеты – поголовно запрещены.17 Перечел Альманах (Сев<ерные> цв<еты>)18 – Иванова совсем не могу понять. Валерий понравился меньше, чем до отъезда, или, вернее, совсем не понравился. Проза – ни к чорту. Бог знает что. Прочел в первый раз “Пана” – не вполне хорошо.19 Вопросы жизни (июнь) – гадость.20 Вообще от литературы прихожу в отчаяние, с отчаяния и принялся за Эдгара По в подлиннике. Посылаю тебе стихи. Знаю, что плохи, но не могу собраться отделать (там такое, кое-где слова вставлены наспех, какие придется, вообще писал я это в дороге и начисто). Спасибо за приглашение. Приеду я только не ранее 15. Во всяком случае еще спишемся. Письма твои оба получил и третье в Москве. Поклон М. Э. А. Брюсов P.S. Прости за воровство солнца – знакомца.21 Как кольца цепи бесконечной, Как ряд испуганных теней, Идут, дрожа, в тревоге вечной Войска невольные людей. Им не дано успокоенья: Безмерно длинною толпой Влачатся в смене поколений За ускользающей мечтой 289 290 А. Л. Соболев (подг. к печати) Играя в царства, мир и войны, Они не видят – замкнут круг, И лишь часами беспокойно В них просыпается испуг. Тогда душе ожившей внятен Гул набегающих часов. Но смысл пророчеств непонятен Для долго скованных рабов. Им что-то шепчет близко, близко Конец томительных времен, Но светом огненного диска Глаз непривычно ослеплен. “Идти навстречу? Страшен, страшен Гигант-Сварожич впереди. Туда, туда, где свет погашен Скорей туда! иди! иди! Мы не привыкли к свету солнца, Оно сожжет, испепелит! Пойдемте к старому знакомцу В прохладу серых, скользких плит. Пойдемте к старой жизни в кручах, К холодным ласкам одалиск… Из-за горы, прорезав тучи, Горит громадный красный диск!” *** Неумолимый рок влечет к желанной цели Но рушатся мечты о ряд немых преград. И каждый миг и час от самой колыбели Вдыхаю я в себя щемящий сердце яд. И каждый новый час и каждое мгновенье Дороги спутников расходятся с моей. И вновь растет в душе былое убежденье Что скоро я один пойду среди степей. И жду теперь, когда приду на берег крайний И встречу солнца луч в начальной чистоте, И, скрытые теперь, мне явны будут тайны И подойду в упор я к избранной мечте. Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича 4. В. Ф. Ходасевич – А. Я. Брюсову 26 июня 1905. Лидино. Лидино, 26.VI.05 Дорогой Саша! Не знаю твоего акуловского адреса. Пишу в Москву. Думаю, – перешлют. Очень рад буду видеть тебя. Сообщи только тогда заранее точно день и поезд. Напрасно ты так огорчаешься о литературе. Газеты – не искусство, Нижегор<одский> сборник – хуже всякой газеты.22 Относительно В. Иванова для меня давно решен вопрос о его праве на существование. Терпению и труду не всегда удается перетереть искусство.23 Что же касается твоего брата, как он представлен в Сев. Цв., – мне кажется, – ты не прав. Стихи его очень хороши, как всегда. Драма – изумительна. Впрочем, я с ним (пока – между нами) – затеваю полемику, вне чистой литературы. Как и чтò – объяснять долго, но советую тебе прочесть в № 4 Весов его заметку о Литургии Красоты,24 а после, когда выйдет № 5 Искусства – в нем мою заметку о том же.25 Но пока – прошу никому ничего об этом не говорить. На тебя полагаюсь. Посылаю некоторые стихи. Не все, написанные за это время. Впрочем, последние дни я их не пишу, ибо начал еретическую драму, которая должна быть закончена, не в пример другим моим начинаниям.26 Надеюсь прочесть тебе ее в необработанном виде, когда приедешь. I. У людей. О, как мне скучно, скучно, скучно! Как неустанна суета! Как всё вокруг спешит докучно И бредит сонная мечта. Как будто кто-то, грозный темный, Крылами навевает жар… В провалах мысли исступленной Горит невидимый пожар. Я не хочу сгорать незримо! Незримый жар стократ страшней, Чем тот, что мчит неугасимо Безумства блещущих огней… 291 А. Л. Соболев (подг. к печати) 292 О нет, спасите! К краю кубка Припасть устами… Пью! Мое!.. Опять измена!.. Уксус, губка — И ненавистное копье!.. 15 мая. II. Deo Ignoto О mon Dieu, votre crainte m’a frappé. P. Verlaine О, Творец ослепшей жизни, Погрузивший нас во мглу, В пир рожденья и на тризне Я пою Тебе хвалу. Неизведанный губитель Вечно трепетных сердец, Добрый пастырь, правый мститель, Ты – убийца, Ты – отец. Если правда станет ложью, Бог, тебя я восхвалю И молитвы смутной дрожью Жажду сердца утолю. О, поставь слепую душу На таинственный рубеж! Я смиренья не нарушу, Погуби – или утешь. Был я робок и опаслив, Но на радостной заре Буду светел, буду счастлив Жертвой пасть на алтаре! 17 мая III. Диск Чело в лучах и члены гибки… Бросаю в воздух звонкий диск. Кружась, летит, и блески зыбки. В струях зефира – свист и визг. Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича Смотрю: взметнулись в синем небе Два солнца: диск и Аполлон. Я посвящаю юной Гебе Размах руки и меди звон. Взлетел. Дрожит. Сейчас сорвется. И вот – упал к моим ногам. Еще удар – опять взовьется Навстречу блещущим лучам. 23 мая IV. *** Ухожу. На сердце – холод млеющий; Высохла последняя слеза. Дверь закрылась. Злобен ветер веющий, Смотрит ночь беззвездная в глаза. Ухожу. Пойду немыми странами. Знаю: на пути – не обернусь. Жизнь зовет последними обманами. Больше нет соблазнов. – Не вернусь. 23 мая V. Жизнь – полководец Marche funèbre Тяжки шаги моих солдат. Мерно идет за рядом ряд. Едкая пыль… “Вперед! Вперед!” Каждый из вас убьет, умрет. Гром барабанов. Стук костей. Жизнь неустанна… “Марш, смелей!” Пройдены версты. Смерть не ждет. Призрак возник… “Вперед! Вперед!” 293 А. Л. Соболев (подг. к печати) 294 Верны шаги слепых солдат. К смерти идет за рядом ряд. 24 мая Все; извиняюсь за рифму: темный – исступленной. Вольность. Из твоих стихов мне больше нравится 2. Пока – прощай. М. Э. благодарит за память и шлет привет с приглашением. Сообщи свой дачный адрес. Твой В. Ходасевич. P.S. Что скажешь о стихах. 5. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу 20 июня 1907. Симбирск. Волга 20.VI.1907 Дорогой Владислав, ты наверное изумишься получив мою телеграмму раньше этого письма. Убедительно прошу тебя (думаю это возможно) выслать мне в Астрахань рублей 300 из долга.27 Если не сможешь, то телеграфируй: может бы<ть> успеешь к 27 июня выслать в Новороссийск (почтамт до востреб<ования>) или к 29 в Севастополь (тоже почт. до вост.). А то я сяду на мели без денег. Привет всем. Alexander Открытка. П.ш. Симбирск (20.6.07), Бологое (25.6.07). Адрес: Николаевская ж.д. Ст. Бологое. Имение Лидино. Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича 6. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу 7 февраля 1908. Батуми. 7/20 февр. 1908 Привет Владиславу, живущему в “Новом Париже”28 от Alexander’a, живущего в старой “Франции”.29 Совершенно незаметно прошло уже более недели, как я выехал из Москвы. Время года перемещалось мало по малу и дошло до весны; теперь остается ждать Марта, когда для меня наступит лето. “Так день за днем по бездорожью, В мгновенной смене стран и лиц”.30 двигаюсь я по меридианам и параллелям. Странное чувство является в дороге. Кажется, что все оставшееся позади было только длинной лентой Кинтопа (перемена еженедельно).31 Не знаю, как другие, а я в дороге всегда испытываю ощущение слитости с окружающим, действительно живу, а сидя в Москве, чувствую себя зрителем в гигантском кинематографе. Правда, изредка видишь в числе посетителей знакомого, здороваешься, обмениваешься несколькими фразами, но вот снова звонок, лампочки гаснут, новое неустанное слежение за картиной, и часто в новом антракте уже не видишь случайно встретившегося знакомого “скопофонщика”;32 он вышел из залы. Прости за лирические излияния. С утра занимался долбежкой арабского склонения и теперь в ожидании обеда чувствую желудочную потребность поговорить “хорошими словами”. Как дела московских “пассажиров” (объяснения слова требуй у Муни)?33 Зашел сегодня на почту, но не нашел ни одного письма, а хотелось бы знать, что происходит с моей “распутицей”, по которой я семь верст киселя хлебал.34 Напиши хоть ты (Батум, гостиница “Франция”, мне). Когда выйдет “Юность”, то есть “Молодость”. Ей-Богу, перемени название,35 уж очень неприлично выходит, хуже курьей тропы.36 Пока всего лучшего, приветствую всех. Alexander Батум 295 А. Л. Соболев (подг. к печати) 296 7. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу 12-14 февраля 1908. Батуми. 12/25 II 1908 Батум Владислав, посылаю тебе два стих<отворения>; если будет у тебя время, напиши, что ты о них мыслишь. 1. Еще один отвержен день, Еще один – бесследно минут. Часы бегут. Мой жребий вынут, И жизнь мою в глухую тень, Как хлам ненужный, боги кинут. Как страшен сон небытия! Единый раз, лишь на мгновенье. О темный призрак откровенья Коснулся смерти острия И с криком снова встретил день я Порвалось тесное кольцо. О нет, то не было ошибкой! Я встретил смерть на грани зыбкой; Она впилась лицом в лицо И подмигнула мне с улыбкой. II. В сердце мучительность пытки Прежней тоскою зажглась. Жду я тебя у калитки, Жду я в назначенный час. Скрипнули тихо ступени, Дрогнул проснувшийся гад. Тени! Вечерние тени! Темные дали оград! Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича Сон убегающей ночи. “О, говори, говори! Бледные тени короче, Вестники близкой зари!” Пишите почаще из Москвы. А то ни один тип ни звука. Просто досадно становится. Пока что практикуюсь здесь на биллиарде. Здесь недурной биллиард в общественном собрании.37 Надеюсь по приезде обыгрывать и тебя и Ефимка,38 ибо играю каждый день, и уже нередки случаи, когда кладу от двух бортов. Приветствую всех. Жду писем. Alexander Адр. Батум. Гостин. “Франция”. А. Брюсову 14/27 ф. 1908 Так как еще не отослал письма, то приписываю еще 3-е стих. Далекий призрак минарета. И силуэты тополей. В окно вплывают волны света, Зеленый отблеск фонарей. И в этот вечер, грусти вторя, Ты снова ждешь. О, верь же, верь! Шаги услышишь в корридоре И тихо, тихо скрипнет дверь. Любовь раскинет длинный свиток Ненужных, милых, быстрых слов; И будешь жадно пить напиток Любовных тихих, тихих снов. А утром, приподнявши штору, Лучами комнату зажги. И прозвучат по коридору Стихая медленно, шаги. Alexander 297 А. Л. Соболев (подг. к печати) 298 8. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу 9/22 ноября 1910. Берлин. 22 ноября 1910 г. Берлин. “Noi siamo seduti”39 и ждем поезда. Сегодня вечером “в порядке исключительной скорости”40 будем в Париже. Делать до поезда нечего, поэтому пишу тебе малороссийское письмо. Извиняюсь за это письмо и подписуюсь Алекс. Брюсов Открытка. Berlin. Palais Kaiser Wilhelm I. П.ш. Берлин <нрзб>; Москва (30.11.10). Адрес: Москва. Балчуг. Ново-Моск. Подворье. В. Ф. Ходасевичу. 9. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу 14/29 декабря 1910. Каир. 29 декабря 1910 Пан Владислав! Только что исполнил я твой совет и послал Муни “цвет дальней пустыни”.41 Теперь исполняю свою вторую обязанность и пишу тебе двустишие из “Г. от У.”: “Муж мальчик, муж слуга из жениных пажей – Высокий идеал московских всех мужей”. А исполнив обе свои обязанности могу почить от трудов своих. Скажи Жене Муратовой, что перо ей купили и привезем, а кстати кланяйся ей.42 Нюра просит написать, что она целует тебя и жаждет сыграть в “препиранец”43 (о Малороссия!). Узнай, как идет “Сема”44 и если были (вещь это невероятная!) рецензии, то набери и для меня коллекцию <?>. В Москву мы приедем перед Татьяниным днем, числа 8-9, и пойдем справлять Татьяну;45 надеюсь, что ты присоединишься и следовательно пусть этот день будет у тебя занят нами; тащи и Муни. Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича Если не лень, напиши письмецо в Константинополь, адресуя его на пароход русского Общества Пароходства и торговли. Прощай Alexander На бланке: The National Hotel. Cairo. 10. А. Я. Брюсов – В. Ф. Ходасевичу 24 июня/7 июля 1911. Париж. 7/VII 1911 Paris Приветствую переселенца в Италию! Вот уже три дня, как мы находимся в Париже. Никакой разницы с Москвой не замечаю – те же лица (Чулковы, Савиничи46 и пр., и пр.), вместо Грека47 – кафе Паскаль,48 вместо русского биллиарда – карамболь. Последнее время даже погода стала московской – 40о. Никаких новостей нет, – у нас, по крайней мере. Главная новость (если <это> можно назвать новостью) то, что я осенью буду отбывать воинскую повинность в Серпухове, а Нюра по делам (не наверное, а только вероятно) останется в Париже до Рождества. Однако сообщать еще что-либо не намерен, пока ты сам не напишешь чего-нибудь. Теперь мы с тобой в одинаковых положениях, за границей, и ты не можешь ссылаться на то, что уехавшему труднее писать, чем оставшемуся дома. Пиши Paris. Rue M-eur le Prince. 63 Привет твоей спутнице. А. Брюсов 11. В. Ф. Ходасевич – А. Я. Брюсову, А. И. Брюсовой 29 июня/12 июля 1911. Флоренция. Дети! Я во Флоренции, один, к<а>к перст. Женя вам кланяется.49 Она уехала в Россию, танцовать. Завтра утром буду в Венеции, где проживу целых 3 недели, не меньше. Если 299 300 А. Л. Соболев (подг. к печати) Нюра останется в Париже – Алдр, приезжай за мной: вместе поедем в третий Рим. Ну-ка, покажи прыть! А то приезжайте оба: возле Риальто есть чудесные кабачки, где можно играть в преферанс. Кроме того – я вас люблю, вы меня: почему же нам не быть счастливыми? Пришлю вам Венец<ианский> свой адрес, а пока пишите poste restante. Целую вас нежно. Сколько я стихов написал! Боже мой! Владислав. Флоренция, 12, 7, 911 Открытка (Firenze. Palazzo Reale (Pitti)). Адрес: Francia. Parigi. France. Paris. 50 Rue Meur le Prince, 63. A Mr. George Tchoulcoff pour Mr. A. Brussoff. П.ш. нет. 12. В. Ф. Ходасевич – А. Я. Брюсову, А. И. Брюсовой 9/22 июля 1911. Венеция. Venezia, 22/7 911 Бесстыдники! Что же вы ничего не пишете? Алдр, это не благородно! Нюрка, ты мне изменяешь? Я пробуду здесь до 13 августа по новому стилю. Пишите, телеграфируйте, приезжайте, – все что хотите, – но не исчезайте с горизонта. Мой адрес: V., Rio Terrà degli Assassini, № 3692A. Владислав. Открытка (Venezia. Ponte di Rialto). Адрес: Francia. Parigi. France. Paris. Rue Meur le Prince, 63. A Mr. George Tchoulcoff pour Mr. Alexander Brussoff. П.ш. Венеция (23.7.1911) Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича 301 ПРИМЕЧАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Здесь и далее курсивом передается подчеркивание в оригинале. Личность спутника установить не удалось. Подразумевается Георгий Леонидович Малицкий (1886-1953), одноклассник, друг и корреспондент Брюсова и Ходасевича; библиограф (см. сделанный им обзор: Г. Малицкий, ‘Библиографические справочники по музейному делу’, Казанский музейный вестник, 1922, № 1, cc. 47-54); архивист (автор кропотливого описания: Г. Л. Малицкий, В. Н. Щепкин, Рукописи Елпидифора Васильевича Барсова, Москва, 1915; отдельный оттиск из Отчета Российского исторического музея за 1914 г.); этнограф (Г. Малицкий, Бытовые мотивы и сюжеты народного искусства [В росписи и резьбе]. С 25 рисунками, Казань, 1923); поэт (единственное разысканное стихотворение: Круговая чаша. Русская поэзия “Серебряного века”. Антология, т. 6, Рудня-Смоленск, 2008, c. 248); впоследствии ученый секретарь Московского исторического музея, музеевед; приятель В. К. Шилейко (ср. регулярные его появления в эпистолярии последнего: В. Шилейко, Последняя любовь. Переписка с Анной Ахматовой и Верой Андреевой и другие материалы, Москва, 2003). Имеются в виду книги: М. М. Троицкий, Учебник логики с подробными указаниями из истории и современное состояние этой науки в России и в других странах (Москва, 1886; менее вероятно, чтобы это было литографированное изданиe лекций “Логика” [Москва, <1884>] того же автора); Р. Ф. Брандт, Старо-церковная грамматика, Москва, <1901> (или одно из предшествовавших изданий); Р. Ю. Виппер, Лекции по истории Греции, ч. 1, Москва, 1905. Вероятно, подразумеваются конспекты лекций Матвея Кузьмича Любавского (1860-1936), поскольку первое издание его обзорного курса по русской истории появилось только в 1911 году. Альманах книгоиздательства “Гриф”, Москва, 1905. В альманахе напечатаны три стихотворения Ходасевича: ‘Зимние сумерки’ (“Сумерки снежные. Дали туманные…”); ‘Осенние сумерки’ (“На город упали туманы…”); “Схватил я дымный факел свой…”: его первое выступление в печати (у его корреспондента было к этому времени напечатано как минимум два стихотворения – в газете Русский листок). Подразумеваются последствия студенческой сходки, состоявшейся в аудитории Физического факультета университета; среди прочего на ней было принято решение о прекращении занятий до Рождественских каникул (см.: В. И. Бовыкин, О. И. Латышева, ‘Московский Университет в революции 1905-1907 годов’, Вопросы истории, 1955, № 4, cc. 49-50; Летопись Московского Университета, Москва, 1979, c. 144). Еще в декабре студентами-активистами было принято решение “прекратить занятия до конца рождественских каникул с тем, чтобы после них 302 10 11 А. Л. Соболев (подг. к печати) установить дальнейший способ действий сообразно обстоятельствам” (цит. по: П. C. Гусятников, Революционное студенческое движение в России. 1899-1907, Москва, 1971, c. 136); 19 января 1905 г. Совет университета принял решение о временном закрытии университета (Летопись Московского Университета, Москва, 1979, c. 145). Подразумеваются новости о сдаче крепости Порт-Артур; хронику событий см. в новейшем издании: Из истории русско-японской войны 1904-1905 гг., т. 1, Порт-Артур; Сборник документов, Москва, 2008, cc. 374-388; там же – сведения о коменданте крепости Анатолии Михайловиче Стесселе (1848-1915) и военном министре Алексее Николаевиче Куропаткине (1848-1925). Дискуссия по поводу авторских прав на русское издание Пшибышевского началась осенью 1904 года; первый ее этап зафиксирован в ноябрьском номере Весов: Когда, в начале ноября, появился изданный г. В. Саблиным перевод романа Ст. Пшибышевского “Сыны Земли”, мы с удивлением увидели на книге помету “издание с разрешения автора”. Между тем еще в апреле этого года нами было приобретено у г. Троповского, переводчика этого романа и доверенного г. Пшибышевского, право на единственное разрешенное автором русское издание “Сынов Земли” с позволением даже выпустить книгу в свет до появления польского оригинала. Далее приводится письмо Пшибышевского от 11 ноября: Я поражен тем, что какой-то московский издатель объявил о полном собрании моих сочинений. Единственно, кто был у меня, это г. Высоцкий, которому я представил право издания моих поэм, – исключительно поэм. [...] В настоящее время я разрешаю издать мои драмы в единственно одобренном мною для общего издания переводе Ал. Вознесенского и всякое другое издание сочту разбоем на большой дороге, которого, я надеюсь, никто из честных издателей себе не позволит. (‘Pro domo sua’, Весы, 1904, № 11, c. 73) 12 Продолжение спора см.: ‘От книгоиздательства “Скорпион”’, Весы, 1905, № 1, cc. 84-85. Владимир Алексеевич Высоцкий (по др. свед.: Александрович) – переводчик, по преимуществу с польского. Подробности приостановки и возобновления издания петербургской газеты Русь отчасти восстанавливаются по библиографическому описанию комплекта: Л. Н. Беляева, М. К. Зиновьева, М. М. Никифоров, Библиография периодических изданий России. 1901-1916, под общей редакцией В. М. Барашенкова, О. Д. Голубевой, Н. Я. Морачевского, т. 3, Ленинград, 1960, c. 90. Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 303 Выступления Айседоры Дункан в Москве состоялись в январе 1905 г.; см.: Айседора: гастроли в России, Москва, 1992, cc. 84-87, 381-385. Марина Эрастовна Рындина (1887 [по др. свед.: 1886] – 1973) – первая жена Ходасевича; впоследствии (с 1910 до 1925 г.) жена С. К. Маковского. Акулово – дачная местность на северо-восток от Москвы. Нижегородский сборник (Cанкт-Петербург, 1905) был составлен по преимуществу из произведений авторов либерального направления (аннотацию см.: О. Д. Голубева, Литературно-художественные альманахи и сборники. 1900-1911 годы, Москва, 1957, c. 72). См. также прим. 21 к письму 4. Ср. сделанное современником описание состояния периодической печати в середине 1905 года: “Была запрещена розничная продажа: ‘Русских Ведомостей’, ‘Руси’, ‘Вечерней почты’, ‘Русского Слова’, ‘Новостей’ и ‘Слова’. Сделаны были предостережения в первый раз: ‘Вечерней Почте’, ‘Новостям’, ‘Русским Ведомостям’ и ‘Русскому Слову’; во второй раз ‘Нашей Жизни’ и в третий раз, с приостановкой издания на 3 месяца ‘Нашим Дням’ и ‘Нашей Жизни’. Приостановлены были: ‘Новости’ (на 2 месяца), ‘Русь’, ‘Вечерняя Почта’, ‘Слово’ и ‘Русское Дело’ (на 1 месяц)” (Е. А. Валле-де-Барр, “Свобода” русской печати. (После 1 октября 1905 г.), Самара, 1906, cc. 5-6). Северные цветы ассирийские. Альманах книгоиздательства “Скорпион”, Москва, 1905. Среди прочего там помещены упомянутые далее циклы стихов В. Я. Брюсова и Вяч. Иванова, а также их трагедии – Земля первого и Тантал последнего. Роман Кнута Гамсуна. Для Брюсова логичнее было бы воспользоваться изданием: К. Гамсун, Пан. Из записок лейтенанта Томаса Глана, предисл. К. Д. Бальмонта, перев. с норвежск. C. А. Полякова, Москва, “Скорпион”, 1901. В июньском номере журнала Вопросы жизни помещены продолжение романа Ремизова Пруд, начало Мелкого беса Сологуба, рассказы Мирэ и Лундберга, фрагмент ‘Эллинской религии страдающего бога’ Вяч. Иванова, стихи Блока, С. Соловьева, В. Пяста, Вяч. Иванова и др. Ни в одном из стихотворений Ходасевича, написанных до 1905 года включительно, подобной рифмопары не обнаружено. Отрицательный отзыв Ходасевича на Нижегородский сборник был напечатан в журнале Искусство, 1905, № 5/7, c. 171. Эволюция взаимоотношений Ходасевича и Вяч. Иванова описана в: Н. А. Богомолов, Сопряжение далековатых. О Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче, Москва, 2011, cc. 144-152. В. Брюсов, [Рец. на:] ‘К. Бальмонт. Собрание стихов, т. 1…, Книгоиздательство “Скорпион”, Москва, 1905, ц. 2 р.’; ‘К. Бальмонт, Литургия красоты. Стихийные гимны. Книгоиздательство “Гриф”, Москва, 1905, ц. 2 р.’, Весы, 1905, № 4, cc. 50-52. Центральная идея рецензии: 304 А. Л. Соболев (подг. к печати) Трагедия Бальмонта в том, что его юношеское бессознательное миросозерцание не изменилось и не могло измениться; его детские, глубоко заложенные в душе верования были даны ему на всю жизнь; но сознательность увлекла его к идеалам прямо противоположным. Бальмонт рожден, чтоб жить под Северным небом, чтоб видеть божественное лишь в сопутствии скорби, но современность подсказала ему гимны Огню и Солнцу, прославления Смерти и Ужаса, навязала ему героем Художника-Дьявола. [...] Силой своего стихийного дарования Бальмонт до известной степени торжествовал в этой борьбе против самого себя, он насильно вырвал у своей поэзии несвойственные ей звуки надменных ликований; эта борьба психологически глубока и замечательна, но никогда преувеличенно опьяненные гимны Бальмонта и его всегда несколько риторические проклятия не достигнут той же художественной высоты, как его грустные признания и тихие жалобы. (c. 51) 25 Именно этот пункт был оспорен Ходасевичем. В рецензии Ходасевич, полемизируя с неназванным Брюсовым (“Бальмонту тщатся указать его ‘истинные’ пути, хотят вернуть его к ‘нежным напевам’, заставить, как эльфа, качаться на ветке ‘сиреневого куста’”), называет Литургию красоты вершиной творчества Бальмонта: Здесь нет уже отдельных звуков плача, отрывистых приступов больного отчаяния, нет восхитительной озаренности “восторгов и падений”, – и снова печали, и снова грустной задумчивости. Здесь все эти основные мотивы творчества Бальмонта, раньше то приходившие, то вновь удалявшиеся, сливаются в одну изумительную по стройности симфонию; мало уже заметны так любимые им “измены”, когда один порыв почти бесследно вытеснял другой. В “Литургии Красоты” каждая струна звучит в совершенной гармонии со всеми другими, ни на мгновение не прекращая своих колебаний. (Искусство, 1905, № 5/7, c. 165) 26 27 28 Следы этого замысла не сохранились. Ввиду оживленности движения по Волге на участке между Нижним Новгородом и Астраханью, мы не можем точно установить название парохода, на котором плыл А. Брюсов. 20 июня 1907 г. падало на среду, а в этот день в Симбирске швартовался и пароход фирмы “Кавказ и Меркурий”, и общества “Надежда”. Дорога от Симбирска до Астрахани занимала 2-3 дня. См.: Вся Волга. Коммерческий справочник и общий адрес-календарь, Казань, 1907, c. 100. Меблированные комнаты “Новый Париж” (Леонтьевский пер., д. 16), где одно время жил Ходасевич. Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича 29 30 31 32 33 34 35 36 37 305 Гостиница располагалась по адресу: Михайловская ул., д. 8. В рекламном проспекте сказано: “В самой центральной части района торговопромышленных предприятий, правительственных учреждений, пароходных пристаней и приморского бульвара. Гостиница обставлена полным комфортом. Номера ценою от 1 руб. и дороже. При гостинице имеется ванна и роскошный ресторан, снабженный лучшими Европейскими и Азиатскими кушаньями” (Батум и его окрестности в описании И. А. Веру, Батум, 1910, cc. 73-74). Ср.: “Обычно после пристани папа заводил нас в набережную гостиницу, лучшую в городе; ее держал один француз и дал ей сладостное слуху моему имя ‘Франция’. Гостиница ‘Франция’ – ‘Отель де Франс’ – значилось на вывеске. Мне казалось, Франция есть предел утонченности и культурной остроты; во Франции все элегантно, все выдержано, и значительнее языка французского быть ничего не может, в противоположность немецкому, который я презирал, и Германии, о которой слышать не хотел. [...] Перед этой гостиницей, на широчайшей асфальтовой террасе, под парусиновым навесом, среди кадок с апельсинными деревьями и ящиков с вьющимися растениями, стояли столики, прямо на улице. Мы присаживались туда, а папа заказывал нам наших неизменно любимых креветок” (Священник Павел Флоренский, Детям моим. Воспоминанья прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание, Москва, 1992, cc. 57-58). Автоцитата: строки из стихотворения “Едва мелькнула мысль о чуде…” (Alexander < А. Я. Брюсов>, По бездорожью. Стихи, Москва, 1907, c. 9). Малоупотребительное название синематографа (от немецкого “Kintopp”), пропагандируемое А. Койранским, слышавшим его в Берлине: “Кинтоп! Это слово понравилось мне. Это короче и звучнее парижского кинемо-хромо-фоно-мега-скопо-графа. Кинтоп! Вот прекрасное название! Рекомендую его вам” (А. Койранский, ‘Кинтоп’, Наш понедельник, 1907, 26 ноября, № 3, c. 5). “Перемена еженедельно” – регулярно встречающийся элемент кинорекламы, обозначающий тотальное обновление репертуара с указанной периодичностью. Вероятно, “скопофон” – одно из неприжившихся названий для киноаппарата, см. в той же заметке А. Койранского: “Новый, усовершенствованный кинемо-хромо-фоно-мега-скопо-граф” (там же). Ср. название раннего рассказа Тэффи, посвященного неудаче с демонстрацией анимированных (вероятно) изображений: ‘В стерео-фото-кине-мато-скопо-био-фоно и проч.-графе’. Этот пассаж остается непонятным. Подразумевается сборник По бездорожью. Ходасевич, как известно, не внял этому совету. Намек неясен. В архиве Брюсова сохранился билет для входа в Батумское общественное собрание, датированный 7 марта 1908 г. (РГБ. Ф. 708. Карт. 1. Ед. хр. 2. Л. 7). 306 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 А. Л. Соболев (подг. к печати) Возможно – Ефим Львович Янтарев (наст. фам. Бернштейн) (1880-1942), поэт и журналист, знакомый адресата и адресанта, но возможно, что речь идет о клубном маркере, личность которого мы установить не в силах. Мы сидим (ит.) Вероятно, аллюзия на делопроизводственный термин “в порядке исключительной срочности”. Неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского ‘При посылке “Бала” С. Э.’ (“Тебе ль, невинной и спокойной…”). Евгения Владимировна Муратова (1884 или 1885-1981) – жена П. Муратова; близкая подруга Ходасевича. Ее биографию и сохранившиеся тексты см. в кн.: И. Андреева, Неуловимое созданье, Москва, 2000. См. также: А. Устинов, ‘Венецианский роман Владислава Ходасевича’, Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана, Москва, 2010, cc. 92-117. Т. е. преферанс. Подразумевается книга: Сем Бенелли, Ужин шуток: Драматическая поэма в 4 д., пер. Александра Брюсова, Москва, 1911, вышедшая в конце ноября 1910 года. “Татьянин день”, день почитания св. Татианы Римской (12 января ст. ст.) – традиционно отмечаемый как праздник студентов Московского университета. См. прим. 46 к предыдущей статье в настоящем номере. Ср.: “Греком” называли небольшой, восьмигранный, деревянный павильон на Тверском бульваре. Здесь размещалось кафе, хозяин которого по национальности был грек. Кафе находилось против здания, где теперь помещается драматический театр имени Пушкина. [...] Кафе внутри восьмигранника работало только в дождливую осеннюю, зимнюю и ранне-весеннюю пору. С наступлением же теплых дней кафе переезжало на бульвар. От аллей оно огораживалось невысоким барьером с полотняной крышей. [...] За столиками кафе ели мороженое, тянули через соломинки всевозможные прохладительные, с солидной примесью коньяка, напитки и приготовленный “по-турецки” ароматный черный кофе. Но особой приманкой были не хорошо сваренный кофе, не по особым рецептам приготовленные кушанья, а установившаяся за кафе слава места встреч художественной и артистической молодежи Москвы. Известность “Грек” приобрел в начале Века. Первыми завсегдатаями кафе была “скорпионовская” молодежь во главе с С. А. Поляковым, Юргисом Балтрушайтисом, Львом Эллисом, Переписка А. Я. Брюсова и В. Ф. Ходасевича 307 В. Я. Брюсовым, А. Белым и примыкавшие к ним еще более молодые писатели и художники-символисты. (В. М. Лобанов, Кануны: Из художественной жизни Москвы в предреволюционные годы, Москва, 1968, cc. 80-81) 48 49 50 В путеводителях по Парижу начала ХХ века кафе с названием “Паскаль” не обнаружено. Вероятно, речь идет о кафе “Le Petit Pascal” (33, rue Pascal), существующем и поныне. В телефонной беседе нынешняя владелица подтвердила, что кафе работает на этом месте и под этим именем как минимум с Первой Мировой войны. Е. В. Муратова. Впервые: И. Андреева, Неуловимое созданье, Москва, 2000, с. 171. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 309–319 www.elsevier.com/locate/ruslit НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНЕНИЙ К БУДУЩИМ “ТРУДАМ И ДНЯМ ХОДАСЕВИЧА” (SOME ADDENDA TO A FUTURE “KHODASEVICH’S WORKS AND DAYS”) А. Ю. БАЛАКИН (A.IU. BALAKIN) Abstract The article describes Khodasevich’s copy of Pushkin’s Works and Days (1910) by N.O. Lerner with the author’s inscription. This copy contains notes to Khodasevich’s historical and literary works: the plan of Pushkin’s biography and the remarks on the book Baron Del’vig (1922) by Iurii Verkhovskii; they are published and commented in the article. Keywords: V.F. Khodasevich; A.S. Pushkin; A.A. Del’vig; N.O. Lerner; Iu. Verkhovskii Как неоднократно отмечалось, 1921 год стал переломным в литературной судьбе Ходасевича.1 Переехав из Москвы в Петроград поздней осенью 1920 года, он после нескольких лет служебной рутины не только нашел относительный покой, но и получил громадный интеллектуальный и творческий импульс, который позволил ему обрести новое, мощное поэтическое дыхание – выдвинув в первый ряд русских поэтов. Кроме того, именно в Петрограде Ходасевич осознал себя как профессиональный историк литературы, именно здесь его занятия поэзией Пушкина и пушкинского времени потеряли статус хобби и приобрели систематический характер. http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.015 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 310 А. Ю. Балакин О планируемом переезде Ходасевич писал 3 октября 1920 г. П. Е. Щеголеву, спрашивая о возможности академических занятий: Обстоятельства разных порядков – житейские и психологические – гонят меня из Москвы. [...] как Вы думаете, сыщется ли мне в Петербурге работа порядка историко-литературного, самого кабинетного, самого кропотливого? Это как раз то, чем я давно мечтаю заняться, и это единственное, что меня сейчас может “среди мирских печалей успокоить”. Если бы оказалась возможность работать в непосредственной близости к Вам – это было бы мне всего приятнее. Кое-какой навык у меня есть, самая близкая мне область – поэзия Пушкинского века. (Ходасевич 1997b: 419-420) Ответное письмо Щеголева неизвестно, но, как свидетельствует жена Ходасевича, М. Горький вскоре прислал ему приглашение на работу в Пушкинский Дом,2 и уже с декабря поэт планировал начать там работу над описанием рукописей, в частности, альбомов пушкинской эпохи, о чем он сообщал 24 ноября М. О. Гершензону (Переписка 1993: 24). Тема “Ходасевич и Пушкинский Дом” еще ждет своего исследователя: в опубликованных материалах по истории Пушкинского Дома имя его не встречается; возможно, в делопроизводственных бумагах сохранились документы, которые позволили бы прояснить характер занятий Ходасевича, круг его интересов и объем выполненной работы. И хотя атмосфера Академии наук оказалась поэту чужда,3 он получил своеобразную прививку академической пушкинистики: почувствовав вкус к факту и документу, Ходасевич до конца дней нетерпимо относился к небрежности и неряшливости в обращении с первоисточниками – примеры тому можно найти в его многочисленных рецензиях 19201930-х годов на текущую пушкиноведческую литературу. По роду своих занятий Ходасевич познакомился с петроградскими пушкиноведами. Об одних (как о Б. Л. Модзалевском) он будет всегда отзываться с уважением и симпатией, другие (как М. Л. Гофман) станут на долгие годы его постоянными врагами-оппонентами. Но был среди них человек, стоявший особняком, не примыкавший ни к каким группировкам и не работавший в официальных учреждениях – Николай Осипович Лернер. Живя исключительно литературным трудом, Лернер был в полном смысле слова (воспользуемся современным термином) “независимым исследователем”. В кругу пушкинистов он пользовался весьма сомнительной репутацией – как из-за своих методологических принципов (вернее, их отсутствия),4 так и благодаря чрезвычайно резким (и почти всегда несправедливым) полемическим выпадам в адрес коллег. Главным трудом Лернера была книга Труды и дни Пушкина, летопись жизни и творчества великого поэта, вышедшая первым изданием в 1903 году, а Дополнения к будущим “Трудам и дням Ходасевича” 311 в 1910 году значительно дополненная и удостоенная полной премии Пушкинского Лицейского Общества (как горделиво сообщалось на ее титульном листе). Разумеется, она не была лишена недостатков: оппоненты и недоброжелатели Лернера (которых всегда было большинство), в частности, отмечали, что он некритически относился к упоминаемым источникам и почти не обращался к архивным материалам. Но несмотря на все недочеты, при отсутствии альтернативы Труды и дни на несколько десятилетий вынуждены были стать настольным справочником любого пушкиниста. Представляла эта книга интерес и для Ходасевича. А. И. Ходасевич вспоминала: Он любил Пушкина, как живого человека, и ему доставляли огромное наслаждение каждая строчка, каждое слово и малейшее переживание Пушкина. Он знал каждый день жизни его, можно было В. Ф. разбудить ночью и спросить, где Пушкин был в 1802 году [sic! – А. Б.] 14 февраля и что он в это время писал, и В. Ф. не 5 задумываясь отвечал. Еще в 1920 году Ходасевич задумал написать небольшую популярную биографию Пушкина; хотя сам поэт называл ее среди работ, которые “вполне и отчасти подготовлены, но не могли быть напечатаны по условиям переживаемого момента”,6 однако никаких ее следов в бумагах поэта не сохранилось. Замысел этот не канул в Лету: уже осенью следующего года М. О. Гершензон заказывает Ходасевичу для издательства М. и С. Сабашниковых пушкинскую биографию уже значительно большего объема – до 10 печатных листов.7 Рукопись должна быть представлена в издательство 1 июля 1922 года, но она так и не была завершена.8 Разумеется, и для этой работы книга Лернера была просто необходима. В библиотеке Пушкинского Дома среди книг М. А. Цявловского, поступивших туда в апреле 1979 года, хранится экземпляр второго издания Трудов и дней, принадлежавший Ходасевичу (шифр 97 4/53). На титульном листе его имеется дарственная надпись: “Дорогому брату в Пушкине – Владиславу Фелициановичу Ходасевичу обещает преподнести третье издание этой книги сердечно ему преданный [Н. О. Лернер]. СПб. 30 (17) июля 1921”. Книга была переплетена, видимо, еще в первой половине 1910-х годов; возможно, что Лернер не преподнес ее Ходасевичу в дар, а просто надписал принадлежавший тому экземпляр. Владельческих помет немного: чернилами аккуратно исправлены все ошибки и опечатки, перечисленные в разделе “Errata”, в списке сокращений около двух изданий П. И. Бартенева уточнено “Бартенев” (Лернер 1910: 8). Самая же существенная и развернутая маргиналия нахо- 312 А. Ю. Балакин дится рядом с записью от 23 мая 1827 г.; Лернер пишет: “А. В. Никитенко отмечает в своем дневнике свое знакомство с А. П. Керн, у которой шел разговор о Пушкине (Никит<енко> I, 225-227)” (Лернер 1910: 156); внимательный Ходасевич справедливо поправляет: “Разговора о П<ушкине> в этот день не было. Был разговор 24-го, а 23-го Керн провела весь день с П<ушкиным> у С. Л. Пушкина (Ibid.).”. Впрочем, для пушкиноведческих работ это наблюдение ему, кажется, не пригодилось. Лернер не исполнил данное им Ходасевичу обещание: третье издание Трудов и дней так и не появилось, хотя он его готовил много лет. Тому были виной субъективные причины: автор никак не мог завершить доработку своей главной книги, возможно, сознавая ее недостатки и будучи не в силах их исправить.9 Разумеется, Ходасевич с нетерпением ждал выхода в свет нового издания уже будучи в эмиграции, но, не зная всех обстоятельств, приписывал задержку неповоротливости и косности советского книгоиздания. Так, в 1934 году, в запоздалой рецензии на сборник Лернера Рассказы о Пушкине, вышедший пятью годами ранее, Ходасевич вспоминал о Трудах и днях и о разговоре про готовящееся третье издание: Еще в те времена, когда пушкинская наука находилась в зачаточном состоянии, молодой одесский ученый Н. О. Лернер предпринял важный труд: [...] он решил собрать хронологические данные о Пушкине [...]. Результатом работы Лернера явилась книга “Труды и дни А. С. Пушкина”, изданная в 1903 году московским издательством “Скорпион”. Успех книги, удостоенной полной премии Пушкинского лицейского общества, и быстрое развитие тогда еще юного пушкинизма заставили автора не остановиться на достигнутых результатах. Второе, исправленное и дополненное издание Трудов и дней, выпущенное в 1910 году, уже не частным издательством, а Императорской Академией Наук, содержало почти шестьсот страниц текста. Оно вскоре сделалось библиографической редкостью. Между тем автор продолжал собирать и регистрировать новый материал для своего труда. В 1922 г. Н. О. Лернер говорил пишущему эти строки, что в предстоящем третьем издании книга разрастется еще больше чем вдвое, по сравнению с предыдущим. К сожалению, это третье издание, давно подготовленное к печати, и сейчас еще только анонсируется издательством “Academia”. 10 (Ходасевич 2001: 408-409) Еще позднее, в заметке об анонсе подготовки новой летописи жизни и творчества Пушкина он также вспоминал про разговор с Лернером, уточнив его дату: В 1903 г. издательством “Скорпион” была выпущена книга “Труды и дни А. С. Пушкина”, составленная Н. О. Лернером и сразу вы- Дополнения к будущим “Трудам и дням Ходасевича” 313 двинувшая составителя в первые ряда тогдашних пушкинистов. [...] Уже в 1910 году Императорской Академией Наук было выпущено второе, исправленное и дополненное издание “Трудов и дней”, по сравнению с первым изданием разросшееся раза в три. Эта книга и до сих пор составляет необходимейшее подспорье для всех, занимающихся Пушкиным. Однако, наука о Пушкине шла столь быстрыми шагами, что и второе издание “Трудов и дней” вскоре потребовало огромнейших добавлений и коренного пересмотра. Этот труд взял на себя сам автор, и как он сообщал пишущему эти строки, в 1921 году им была сдана Государственному издательству новая рукопись “Трудов и дней”, [...] содержавшая почти в три раза больше материала, нежели академическое издание. Почему Государственное издательство так и не выпустило этой книги, нам неизвестно. По-видимому, однако, через несколько лет рукопись поступила в издательство “Academia”, в проспектах которого третье, дополненное и переработанное, издание “Трудов и дней” значилось в числе книг, которые должны выйти в ближайшее время. Однако, и это издание не состоялось. Нужно думать, что одною из важных причин было то, что за время более чем десятилетнего пребывания в издательских “портфелях” труд Лернера опять успел устареть и требовал новой переработки. (Ходасевич 2014: 388) В принадлежавший Ходасевичу экземпляр Трудов и дней вложены два листка с записями его владельца. Первый – план пушкинской биографии, вероятно, той, что предполагалась для издательства Сабашниковых. Нет сомнения, что этот план представляет собой самый краткий конспект книги Лернера: I. II. III. IV. Предки. Детство. Лицей. (Июнь 1811 – 9 июня 1817). От Лицея до ссылки. (9 июня 1817 – 6 мая 1820.) От начала ссылки до Михайловского. (6 мая 1820 – 9 авг. 1824). V. Михайловское. (9 авг. 1824 – 3 сент. 1826.) VI. От Михайловского до возвращения с Кавказа (3 сент. 1826 – 21 сент. 1829) (М. б. – разбить на 2 главы). VII. От возвр<ащения> с Кавказа до свадьбы. (21 сент. 1829 – 18 февр. 1831). VIII. От свадьбы до возвращения из Болдина (18 февр. 1831 – 20 нояб. 1833). IX. От возвращ<ения> из Болдина до кончины (20 нояб. 1833 – 29 янв. 1837) А. Ю. Балакин 314 Второй лист – бланк страховой квитанции Центрального банка Обществ взаимного кредита № 5542, на обороте которого есть несколько записей. Сначала – два зачеркнутых стихотворных наброска, насколько нам известно, не развитых в законченные стихотворения: Довольно мне стихами торговать Когда-нибудь дорожную клюку Мне в руки даст Затем после отчеркивания записано следующее: 1) Яковлев: М. Лук. – М. А. (не Алексеевич). Нет доказ<ательств>, что не опечатка. Хотя не верю в авторство М. Л. [2) На взятие Парижа. Тексты разные. М<ежду> пр<очим>, есть изд<ание> с музыкой Теппера. Упомянуть о музыке.] 3) Письмо к Гн<едичу> – в П<ушкинском> Д<оме>, – не черновик ли? а не в П<убличной> Биб<лиотеке> Текст 4) <Письмо> к Ос<иповой> — подл<инник> М.б. разница в П<ушкинском> Д<оме> 5) Реальн<ые> прим<ечания> к письмам к Борат<ынско>му. IIе – 26 ли год? Не конец ли 25-го? Не о смерти ли А<лександра> I? Нет сомнения, что это заметки, которые делал Ходасевич при чтении книги Ю. Н. Верховского Барон Дельвиг, увидевшей свет в Петрограде в начале 1922 года. О том, что он держал корректуру этой книги, поэт вспомнит в письме к А. И. Ходасевич от 10 июля 1924 года, сетуя на безобразное издание своего Поэтического хозяйства Пушкина: “Неужели, если не ты, то хотя бы Верховский не мог прочитать корректуру. В былое время я два вечера просидел над корректурой его книги о Дельвиге и по целым часам слушал его слонеты” (Переписка 11 1993: 49). Очевидно, для чтения корректуры своей книги Верховский привлек Ходасевича не случайно, поскольку наверняка знал, что последний был автором так и не увидевшей свет работы о Дельвиге; она упомянута в цитированной выше автобиографии: “Бар[он] А. А. Дельвиг. Биография с подробной канвой и примечания к стихам и письмам” (Материалы 1987: 228).12 И дотошный Ходасевич действительно сделал полезные замечания, которые в печатном вариантe книги были учтены. Первое касается личности составителя знаменитого сборника Опыт русской анфологии, или Избранные эпиграммы, мадригалы, эпитафии, надписи, апологи и некоторые другие мелкие стихотворения (Санкт-Петербург, 1828), на титульном листе которого стояло: “Собрано Михаилом Яковлевым”. Забегая немного вперед скажем, что вплоть до Дополнения к будущим “Трудам и дням Ходасевича” 315 середины XX века личность составителя сборника идентифицировалась неверно: честь его издания приписывалась лицейскому товарищу Пушкина Михаилу Лукьяновичу Яковлеву, и лишь в 1962 г. А. П. Могилянский убедительно показал, что им был поэт Михаил Алексеевич Яковлев (Могилянский 1962). Однако, впервые правильно назвал издателя Опыта русской анфологии именно Верховский, хотя в научной литературе его суждение не было учтено. В своей книге он перепечатал, атри13 бутировав Дельвигу (впрочем, с оговорками), приписку к статье П. А. Плетнева ‘О стихотворениях Баратынского’, опубликованную в Северных цветах на 1828 год, где есть следующая фраза: “Русская Анфология, составленная М. А. Яковлевым из всех лучших мелких стихотворений, напечатанных прежними и новейшими русскими поэтами, уже печатается и скоро появится” (Верховский 1922: 21). В конце комментария к этой заметке Верховский указывал: “Русская Анфология не раз приписывалась Михаилу Лукьяновичу Яковлеву, лицейскому товарищу Дельвига и Пушкина, несмотря на ясное указание этой статьи: Михаил Алексеевич Яковлев” (105). Поскольку в заметке Северных цветов инициалы не развернуты, дотошный Ходасевич счел необходимым на это указать; но Верховский не исправил свой текст и не развил аргументацию. Второе замечание зачеркнуто, потому что является ошибочным: стихотворение Дельвига ‘На взятие Парижа’ было опубликовано единственный раз при жизни автора и не имеет других редакций. С музыкой же лицейского учителя пения В. П. Теппера де Фергюсона была издана в 1835 году дельвиговская ‘Прощальная песнь воспитанников Царскосельского Лицея’. Замечание про разные тексты, очевидно, должно былo указать на то, что в одной из тетрадей Дельвига, хранившихся и хранящихся в Пушкинском Доме, есть текст ‘Прощальной песни’, от14 личающийся от печатного; именно он ныне принимается в качестве основного. Следующие два замечания касаются местонахождения подлинников двух писем Дельвига, о которых, очевидно, первоначально Верховский не знал; в окончательном варианте книги указания на них присутствуют. Письмо к Н. И. Гнедичу от 2 августа 1827 года он напечатал “впервые с чернового подлинника, хранящегося в Российской Публичной Библиотеке”, указав при этом, что “чистовой – в Пушкинском Доме, отличается только отсутствием зачеркнутой фразы” (111), саму эту фразу не обозначив. По какому же источнику печатается письмо к П. А. Осиповой от 15 сентября 1826 года Верховский не указал, ограничившись следующим: “Подлинник в Пушкинском Доме. Напечатано в Русском Архиве 1894 г., III, 143” (111). Тем не менее письмо он напечатал именно по подлиннику, так как небольшие погрешности публикации “Русского архива” в книге не отражены. 316 А. Ю. Балакин Наиболее существенно пятое замечание. Верховский впервые публиковал три письма Дельвига к Баратынскому, два из которых датированы в подлиннике – первое числом, месяцем и годом, второе только числом и месяцем, но год его написания легко определяется по содержанию. Третье же письмо не датировано вовсе, и на первый взгляд в нем нет примет для локализации датировки. Судя по тексту замечания, Верховский первоначально датировал его 1826-м годом, а Ходасевич обратил внимание на следующую фразу письма: “Дни через два все дамы сошьют траурные платья и последний источник разговоров иссякнет” (31), связав ее с трауром по новопреставленному императору Александру I и предложив перенести датировку на конец 1825 года. Правда, в книге это письмо стоит не вторым, а третьим, но можно предположить перестановку при окончательной верстке. Далее начерчена еще одна линия, после которой стоят две записи, выполненные почти на одной строке, но не одновременно: Варианты к ненапечатанным стихам? Ценить – параллели и проч. Вероятно, после этого листок был отдан Верховскому, так как последняя запись на нем принадлежит уже ему: Письмо к Пушкину 1826: Здравия желаю Александру милому. Напеч. Щеголевым в Былом 1904? Возможно, в последний момент Верховский вспомнил еще об одном письме Дельвига – к Пушкину, напечатанному без указания имени публикатора в журнале Былое, одним из редакторов которого был Щеголев, правда, не в 1904, а в 1906 году (№ 5), но вставить его в свою книгу уже не успел. Интересна судьба ходасевичевского экземпляра Трудов и дней. Поэт уехал за границу весной 1922 года, всерьез намереваясь продолжать свои занятия Пушкиным. 27 августа 1923 года, он сообщал М. А. Цявловскому: “Я пишу работу о Пушкине, об его автореминисценциях, а кстати еще о некоторых вещах. Книг – никаких, кроме ефремовского Пушкина, да Лернера, да нескольких выпусков ‘Пушк<ина> и его совр<еменников>’” (Ходасевич 1999a: 218). Едва ли можно предположить, что осевшая в библиотеке Пушкинского Дома книга побывала в эмиграции, а затем вернулась на родину: скорее всего, в Германии у Ходасевича был другой экземпляр. Экземпляр же с дарственной надписью Лернера Ходасевичу в конце концов оказался у Верховского: именно он дрожащей старческой рукой вносил на страницы Трудов и дней даты Дополнения к будущим “Трудам и дням Ходасевича” 317 смерти лиц, так или иначе связанных с Пушкиным. Хотя зачем ему это понадобилось, мы, очевидно, уже никогда не узнаем. ПРИМEЧАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сердечно благодарю А. С. Бодрову, В. В. Зельченко, Л. А. Тимофееву и особенно А. Л. Соболева за помощь в работе и ценные консультации. См., к примеру, Ратгауз (1991). См.: Ходасевич (1990: 401). Отметим, впрочем, что в эпистолярии Горького это письмо отсутствует, к тому же в то время он не имел к Пушкинскому Дому никакого отношения. См. об этом: Сурат (1994: 38-40). См. об этом: Оксман (2005: 190-191). Цит. по: Сурат (1994: 40). В опубликованном варианте воспоминаний А. И. Ходасевич вторая фраза отсутствует (Ходасевич 1990: 399). Материалы (1987: 229; автобиография, 23 ноября 1920 г.). Публикатор сообщает, что эта автобиография “очевидно, была написана по просьбе какого-то учреждения” (227); мы вправе предположить, что этим учреждением был Пушкинский Дом (ср. дату названного выше письма Ходасевича к Гершензону). См.: Ходасевич (1997a: 527; примеч. И. З. Сурат). Написанные три с небольшим главы опубл.: Ходасевич (1999b: 468-486). См. об этом: Гиллельсон (1962: 394-400); Оксман (2005: 201, 212; примеч. С. И. Панова). О Трудах и днях Ходасевич упомянул также в написанном несколько месяцев спустя некрологе Лернера, несколько уточнив сказанное ранее: Собирание и проверка материалов для Трудов и дней стали предметом постоянных забот Лернера до самого последнего времени. В 1922 г. он сдал Государственному издательству рукопись третьего издания, которое, по его словам, должно было быть вдвое больше предыдущего. Книга, однако же, до сих пор не появилась. Судя по анонсам издательства “Академия”, выход ее ожидался только теперь. Несомненно, за последние двенадцать лет она должна была еще разрастись. Но и в том виде, как они существовали с 1910 г., Труды и дни давно сделались настольной и необходимой книгой у всех, кому случалось заниматься Пушкиным. (Ходасевич 2001: 573-574) 11 “Слонеты” – стихи Верховского, которого с легкой руки А. М. Ремизова друзья называли “Слон Слонович”. А. Ю. Балакин 318 12 13 14 Ср. в статье ‘Парижский альбом. V’ (1926): “[…] мной было подготовлено к изданию собрание сочинений Дельвига и написана его биография” (Ходасевич 2010: 640; подробнее см.: Ходасевич 1999b: 415, примеч. Р. Хьюза; Богомолов 2016). Также в 1922 г. Ходасевич откликнется на книгу Дельвига Неизданные стихотворения, подготовленную М. Л. Гофманом (Ходасевич 1999b: 103-104), а позднее напишет краткую популярную биографическую статью о Дельвиге к столетию со дня его смерти и строгую рецензию на издание его стихотворений в серии “Библиотека поэта” (Ходасевич 2001: 232-239, 444-448). “Мы только предположительно можем приписать статью Барону Дельвигу. Быть может, она написана О. М. Сомовым” (Верховский 1922: 104). В современное, наиболее полное издание Дельвига (1986) заметка не включена. См. примечания Б. В. Томашевского в кн.: Дельвиг (1934: 437, 470). ЛИТЕРАТУРА Богомолов, Н. А. 2016 ‘Ходасевич в дневнике И. Н. Розанова’. Russian Literature, 8384, 201-247. Верховский, Ю. Н. 1922 Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные, собранные Ю. Верховским. Петербург. Гиллельсон, М. И. 1962 ‘Из материалов к III изданию книги Н. О. Лернера “Труды и дни Пушкина”’. Пушкин. Исследования и материалы, т. 4. Москва-Ленинград, 394-400. Дельвиг, А. А. 1934 Сочинения. Ред. и примеч. Б. Томашевского; вступит. статьи И. Виноградова и Б. Томашевского. Ленинград. 1986 Сочинения. Сост., вступит. статья и примеч. В. Э. Вацуро. Ленинград. Лернер, Н. О. 1910 Труды и дни А. С. Пушкина. Изд. 2-е. Испр. и доп. Санкт-Петербург. Материалы 1987 ‘Материалы к творческой биографии Вл. Ходасевича’. Публ. Евг. Беня, Вопросы литературы, 9, 225-245. Могилянский, А. П. 1962 ‘Пушкин и М. А. Яковлев’. Пушкин и его время. Исследования и материалы. Вып. 1. Ленинград, 270-273. Дополнения к будущим “Трудам и дням Ходасевича” 319 Оксман, Ю. Г. 2005 ‘Николай Осипович Лернер’. Вступит. статья и публ. С. И. Панова, Пушкин и его современники. Вып. 4 (43). Санкт-Петербург, 164-214. Переписка 1993 ‘Переписка В. Ф. Ходасевича и М. О. Гершензона’. Публ., подгот. текста, предисл. и прим. Инны Андреевой, De visu, 5, 12-51. Ратгауз, М. Г. 1991 ‘1921 год в творческой биографии В. Ходасевича’. Блоковский сборник. Вып. 10. Тарту, 117-130. Сурат, И. З. 1994 Пушкинист Владислав Ходасевич. Москва. Ходасевич, А. И. 1990 ‘ Воспоминание о В. Ф. Ходасевиче’ . Вступ. статья и подгот. Текста Л. В. Горнунга, Ново-Басманная, 19, 386-410. Ходасевич, В. Ф. 1997a Собрание сочинений в четырех томах, т. 3. Москва. 1997b Собрание сочинений в четырех томах, т. 4. Москва. 1999a ‘Письма к М. А. Цявловскому’. Публикация Р. Хьюза, Русская литература, 2, 214-230. 1999b Пушкин и поэты его времени, т. 1. Под ред. Р. Хьюза. Oakland. 2001 Пушкин и поэты его времени, т. 2. Под ред. Р. Хьюза. Oakland. 2010 Собрание сочинений в восьми томах, т. 2. Москва. 2014 Пушкин и поэты его времени, т. 3. Под ред. Р. Хьюза. Oakland. Available online at www.sciencedirect.com Russian Literature 83–84 (2016) 321–325 www.elsevier.com/locate/ruslit RE-CHECKING FOR THE KEY (A NOTE ON GANDLEVSKIJ AND CHODASEVIČ) OLEG LEKMANOV Abstract In this note the poems of Vladislav Khodasevich “Pereshagni, pereskochi…” (“Step over, jump over…”) and of Sergei Gandlevskii “‘Ili – ili’ – ‘I – I’ ne byvaet” (“‘Either – or’ – ‘both – and’ do not happen...”) are compared. Keywords: V.F. Khodasevich; Sergei Gandlevskii Timur Kibirov and Sergej Gandlevskij – two contemporary Russian poets often perceived by readers in tandem – clearly have developed their poetical strategies, respectively, from Aleksandr Blok and Vladislav Chodasevič. The trajectory of Kibirov’s poetical art is traceable in his books, which retain and represent chronologically the stages of his creative career. 1 On the other hand, Gandlevskij works in sets of two or four (more rarely, three) poems, which, as it were, are offshoots of his collections Prazdnik (Holiday, 1995) and Konspekt (Summary, 1991), which constitute, each in their turn, extended versions of his earlier book Rasskaz (Story, 1989). As is always the case, the method both authors use to present their poems to the reader stems from the profound properties of their individual poetics. Setting aside Kibirov’s verse for the time being, 2 we shall explore http://dx.doi.org/10.1016/j.ruslit.2016.08.016 0304-3479/© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. 322 Oleg Lekmanov below a component of Gandlevskij’s poetic paraphernalia that is derived from Chodasevič. Gandlevskij has devoted an essay, ‘Orfej v podzemke’ (‘Orpheus in the Underground’, 1997), to the author of Tjaželaja lira (Heavy Lyre). There he writes, in particular: The extraordinary impression produced by the lyrics of Chodasevič, to my mind, can be explained by the totally relaxed and breathtaking tone of his verse, as well as by his combining the incompatible: an elevated style with every-day matter like a lost pince-nez or the funeral of a 3 common floor-polisher named Savelyev (Gandlevskij 1998: 82) Although the poem about a lost pince-nez is among Chodasevič’s best known, let us recall the text: Перешагни, перескочи, Перелети, пере- что хочешь – Но вырвись: камнем из пращи, Звездой, сорвавшейся в ночи… Сам затерял – теперь ищи… Бог знает, что себе бормочешь Ища пенсне или ключи. Step over, jump over, Fly over, over… anything you wish – But break free: like a stone from a slingshot, Like a star breaking loose and falling in the night… You lost it – now go and look for it… God knows, what you’re muttering to yourself As you look for your pince-nez or keys. We consider it appropriate to interpret the following poem by Gandlevskij as a reply to what Jurij Tynjanov called this “almost Rozanov-like message” from Chodasevič (Tynjanov 1977: 173): “Или – или” – “и – и” не бывает. И, когда он штаны надевает, Кофе варит, смолит на ходу, Пьет таблетки, перепроверяет Ключ, бумажник, электроплиту И на лестницу дверь отворяет, Старый хрен, он уже не вздыхает, Эту странность имея в виду. A Note on Gandlevskij and Chodasevič 323 “Either – or” – “both – and” do not happen. And, when he’s putting on his pants, Making coffee, smoking like hell on his way out, Taking his pills, checking and re-checking For his key, his wallet, is the stove off, And opens the door onto the staircase, An old fogey now, he never even breathes a sigh At such a strange state, while of course minding it. The beginning of the poem turns on a famous phrase of Kierkegaard’s: Either/Or is the title of his first magnum opus, published in 1843. The name of the Danish philosopher, we recall, figures in Gandlevskij’s poem “Kogda ja žil na ėtom svete…” (“While I was living in this world…”): И вот теперь, когда я умер И превратился в вещество, Никто – ни Кьеркегор, ни Бубер – Не объяснит мне, для чего, С какой – не растолкуют – стати, И то сказать, с какой-такой Я жил и в собственной кровати Садился вдруг во тьме ночной… And now when I am dead And changed into mere matter, Neither Kierkegaard, nor Buber – no one Can tell me why, for what reason, It can’t be explained, For what purpose, if any, I was ever alive, and in my bed Sat upright in the dark of night... The situation in “‘Ili – ili’ – ‘I – I’ ne byvaet” (“‘Either – or’ – ‘both – and’ do not happen…”) is almost undoubtedly a variation of the one in “Perešagni, pereskoči…” (“Step over, jump over…”). In both texts, the lyric hero appears to be immersed in his own everyday troublesome problems, but he establishes a message that is common to both reader and self. While Chodasevič aggregates his verbal phrases with “пере-” (“across”, “over”, “through”), Gandlevskij sets his tone with a longer verbal construction, “перепроверяет” (“checks and re-checks”). When reading this aloud in Russian, a pause must be observed between the constituent parts of the verb. Essential too is the fact that, between “pince-nez” (empirical evidence connoting loss of sight) and “keys” (a lost sense of existence), Gandlevskij keeps 324 Oleg Lekmanov only “keys”. Strictly speaking, this is in accordance with the principle he declares in the first line of the poem: either a pince-nez or a key. In doing so, the younger of the two poets completely changes the elder’s, Chodasevič’s, sense of proportion between low and high style in favour of the low. Thus Gandlevskij descends from the cosmic (biblical) imagery entirely, and ends up with a notion of “have your cake and eat it too” (in the sense of the Russian obscenity “И рыбку съесть, и на хуй сесть”). That, if we go Gandlevskij one further, must mean: either this or that is possible; but both – and cannot be realized. The key antithesis of the poem is reduced by the younger poet to a most economic formula: “either – or” vs. “both – and”. Further, the author introduces words and phrases that are hardly euphonic: “штаны” (“pants”), “смолит” (“smokes like hell”), and the very low-style, colloquial “старый хрен” (“old fogey”). Let us be reminded of another poem of Gandlevskij’s, one in which an ageing person is wandering around the kitchen in search of his pills: В это время вдовец Айзенштадт, сорока семи лет, Колобродит по кухне и негде достать пипольфена. Есть ли смысл веселиться, приятель, я думаю, нет, Даже если он в траурных черных трусах до колена. At the time, the forty-seven-year-old widower Aizenshtadt Messes about in the kitchen, no antihistamine to be found anywhere. Is there any sense in making fun, buddy? No, I don’t think so, Even if he is wearing funeral-black shorts down to his knees. This poem by Gandlevskij – as well as the one above – is densely saturated with the low realities of everyday Soviet life. However, its title is ‘Stansy’ (‘Stanzas’) – and this places it at the highest level of style and genre, precisely among classic samples of elevated poetry: from Puškin to Mandel’štam, and next to Chodasevič. To achieve the same objective in terms appropriate to the author’s ratio between “low reality” and “high style”, the poem is replete with reminiscences from “Perešagni, pereskoči…”. A Note on Gandlevskij and Chodasevič 325 NOTES 1 2 3 On the meaning of the “poetic path” formula for Aleksandr Blok, see: Maksimov (1972). A short comparative analysis of Kibirov’s and Blok’s poetry is to be found in our essay: Lekmanov (2006). Chodasevič’s “Perešagni, pereskoči…” (“Step over, jump over...”) and ‘Sorrentinskie fotografii’ (‘Photographs from Sorrento’) are implied here. See also Gandlevskij’s poem “O-da-se-vič – peresprosil privratnik…” (“O-da-se-vich? – the Gate-Keeper Asked…”) about the poet’s visit to Chodasevič’s grave in a Paris cemetery. LITERATURE Gandlevskij, Sergej 1998 Poėtičeskaja kuchnja. Sankt-Peterburg. Lekmanov, Oleg 2006 ‘Timur Kibirov glazami čeloveka moego pokolenija’. Novyj Mir, 9, 174-177. Maksimov, Dmitrij 1972 ‘Ideja puti v poėtičeskom soznanii Al. Bloka’. Blokovskij sbornik, 2. Tartu, 25-121. Tynjanov, Jurij 1977 Poėtika. Istorija literatury. Kino. Moskva.